Николай Михайлович Коняев Подлинная история Дома Романовых. Путь к святости
© Коняев Н.М., 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
* * *
Сотворите же достойный плод покаяния; и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
Евангелие от Матфея,гл. 3, ст. 8–9Книга первая Захарьины становятся Романовыми (путь к власти)
Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие; ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос.
А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков…
Апостол Павел. Первое послание к коринфянамГлава первая Царский путь
Я весьма доволен Муромом… Не ошибся тот архитектор, который располагал этот город…
Император Павел I«Прекрасную и новую повесть эту следует нам выслушать, о христиане, радуясь и дивясь славным делам, совершенным в нашей земле и в дни наши – во времена православного, и благочестивого, и державного царя и великого князя Ивана Васильевича, Богом возлюбленного и Богом избранного, и Богом венчанного, скажу же, Владимирского и Московского, и всей Великой России самодержца»…
Мы начинаем эту книгу начальными словами «Казанской истории», созданной в 60-х годах XVI века, потому что именно там начинается и наша история…
В середине июля 1552 года тесно стало в старинном русском городе Муроме. Одно за другим – Сторожевой полк, полк Левой руки, Государев полк – подходили сюда войска.
Здесь, в Муроме, был устроен смотр, и это отсюда, из Мурома, Иоанн Васильевич Грозный отправил стрельцов во главе с князем Юрием Михайловичем Булгаковым водным путем в Свияжск, а 15 июля перешли Оку летучие отряды князей Юрия Ивановича Шемякина и Федора Ивановича Троекурова. Они должны были готовить путь основным силам армии.
Молодой государь тщательно готовился к предстоящей войне, но одними только организационными распоряжениями его деятельность в Муроме не исчерпывалась. Не менее важная часть подготовки казанского похода – духовные прозрения Иоанна Грозного, произошедшие в Муроме накануне выступления в казанский поход.
1
Царствование Иоанна IV Васильевича различно трактуется историками, но и самые откровенные критики признают, что государь всегда стремился соотнести свои планы с тем Путем, который определен Богом державе. Он всегда стремился увидеть этот Истинный путь, и иногда ему удавалось различить его.
Будущему царю было двенадцать лет, когда ушел из жизни отец русской идеологии «Третьего Рима»[1] старец Спасо-Елеазаровского монастыря Филофей.
«И да весть твоя держава, благочестивый царю, яко вся царства православныя христианьския веры снидошася в твое едино царство: един ты во всей поднебесной христианом царь, – писал Филофей отцу Иоанна Грозного московскому великому князю Василию III Иоанновичу. – Подобает тебе, царю, сие держати со страхом Божиим»…
В 1542 году двенадцатилетний Иоанн IV Васильевич еще не венчан был на царство, и подлинная власть в Москве принадлежала князьям Шуйским, но мысль Филофея об ответственности перед миром, которая лежит на его державе, – «Два Рима пали, третий стоит, и четвертому не бывать» – обожгла юного государя.
Своей кончиною отец русской идеологии «Третьего Рима», умирая, словно бы торопил юного царя понять, кем он должен стать.
И действительно, словно очнувшись от замороченности, Иоанн IV Васильевич уже не желает «больше терпеть того, что бояре бесчиние и самовольство творят», и берет власть в свои руки.
«И начали с того времени бояре страх иметь к Государю»…
Первым из русских государей Иоанн IV Васильевич 16 января 1547 года венчается на царство по византийскому чину. Взятие Казанского царства должно было закрепить это новое достоинство Российской державы.
Уже дважды, начиная в 1549 года, предпринимал Иоанн IV Васильевич попытки взятия Казанского царства, теперь пришло время третьей попытки.
Всё было учтено в предстоящей войне. Огромная была проделана подготовительная работа. Оставалось только помолиться, и можно было выступать в поход…
Трудно запечатлеть в камне духовную подготовку к военному походу, но в Муроме это удалось сделать.
На берегу Оки, где стоял царский шатер, поставили после казанского взятия шатровый храм Святых Космы и Дамиана.
Как известно, православная церковь почитает Косму и Дамиана Асийских, Косму и Дамиана, пострадавших в Риме, Косму и Дамиана Аравийских. Все они были врачами, но жили в разное время и в разных странах. В разные дни совершается и память им.
Понятно, почему муромскую церковь, возведенную на месте царского шатра, решили посвятить именно римским мученикам. Государь прибыл в Муром 13 июля, а на утрене 14 июля совершалась память братьям, пострадавшим в Риме, и Иоанн IV Васильевич счел это знаком их небесного покровительства.
Как известно из жития, «безмездные врачи» Косма и Дамиан хотя и подвергались преследованиям в Риме, но приняли свою мученическую кончину не от императора Карина, которого они вылечили, а от своего наставника, научившего их врачеванию. Наставник этот стал завидовать славе братьев и, пригласив их для сбора редких лекарственных трав, завел далеко в горы и убил…
В судьбе римских «безмездных врачей» можно нащупать некую параллель с жизненным опытом самого Иоанна IV Васильевича. Государь, видимо, чувствовал это. Не случайно именно в его царствование римские мученики Косма и Дамиан заметно потеснили столь почитаемых на Руси Косму и Дамиана Асийских[2]. Большинство храмов, посвященных Косме и Дамиану, которые были построены в правление Иоанна Грозного и после него, посвящены уже римским мученикам.
Для строительства Космодемьянского храма в Муроме царь прислал из Москвы не только деньги, но и бригаду мастеров под руководством Постника Яковлева, строившего вместе с мастером Бармой собор Василия Блаженного в Москве, как бы определяя тем самым архитектурное единство начала и завершения «казанского взятия».
Иоанн IV Васильевич знал, что после крещения Руси равноапостольный князь Владимир отдал Муром в удел своему младшему сыну Глебу, который, приняв вместе с братом Борисом мученический венец, стал первым канонизированным русским святым. Помнил он и о помощи, которую оказали князья-страстотерпцы Александру Невскому, когда тот вывел свою дружину на сражение со шведами Ярла Биргера, чтобы защитить Русь от западной экспансии.
И, обращая молитву к страстотерпцам Борису и Глебу, Иоанн Грозный яснее прозревал значение предстоящего похода, который осознавался как прямое продолжение дела, начатого Александром Невским.
Об этом, проходя через Владимир, молился Иоанн IV Васильевич у мощей святого благоверного князя Александра Невского.
В поэме «Россияда» Михаил Матвеевич Херасков описал эту молитву:
О боже! – вопиет, – венчаемый тобой, Мамая сокрушил Димитрий, предок мой, У невских берегов тобой попраны шведы, Там храбрый Александр пожал венцы победы. Коль благо мы твое умели заслужить, Дай помощь нам Казань, о Боже! низложить…«Низложение» Казани по замыслу Иоанна IV Васильевича становилось историческим рубежом, за которым собирание Русских земель – соединялись не княжества, а два царства! – преображалось в строительство Российской империи.
В память об осуществившемся прозрении по повелению Иоанна Грозного на месте, где находился княжеский двор Глеба Владимировича, высоко над Окой вознес свои купола каменный Спасо-Преображенский собор.
Иоанн IV Васильевич и потом жертвовал на муромские церкви, закрепляя в их куполах и шатрах идеологическую составляющую казанского похода.
И ходишь по муромским монастырям, свидетелям монарших прозрений, и, кажется, воочию видишь это.
2
«Душа русского народа, – утверждал И.А. Ильин, – обретает свои формы в результате национально-духовного акта». Инстинкт нации становится реальным действующим лицом истории тогда, когда он отождествляет себя с высокой и могучей идеей – с христианской верой. Крещение Руси превратило русский народ в субъект всемирной истории. Русский народ именно в православии обрёл самого себя, утвердил себя в собственном бытии в том, что стало его самобытным историческим существованием.
По мнению И. Ильина, только духовный акт может преобразовать инстинкт нации, сложившийся под влиянием внешней географической среды и внутренних свойств русского племени – расы, темперамента – в национальный характер.
Православие сформировало язык нашего народа и его национальный характер, православие определило законы нашего государства и его культуру.
И так и выстраивалась святыми князьями Русь, что совпадали пути спасения и устроения русским человеком своей души с путями спасения и устроения государства. Поэтому все русские святые, о политических взглядах которых мы хоть что-то знаем, были патриотами.
Не случайно, что почти все муромские монастыри устроены на месте бывших княжеских дворов.
Спасо-Преображенский монастырь поднялся на месте двора князя Глеба Владимировича, Благовещенский – на месте двора Константина Святославича, ну а Троицкая обитель, что напротив Благовещенского монастыря, расположена на месте двора муромского князя Юрия Ярославича.
Здесь покоятся мощи святых чудотворцев Петра и Февронии[3] – православных покровителей любви и брака.
О семейной жизни их, о высокой любви, которая соединяла их, можно прочитать в «Повести о житии святых новых чудотворцев муромских: благоверного и преподобного, и достохвального князя Петра, нареченного во иноческом чине Давидом, и супруги его благоверной, и преподобной, и достохвальной княгини Февронии, нареченной во иноческом чине Ефросинией».
Повесть эта, написанная в середине XVI века протопопом Спасского собора в Московском Кремле Ермолаем Прегрешным[4], пользовалась на Руси огромной популярностью.
Интересно, что, хотя и писалась повесть для «Великих Миней Четьих», в состав их не включалась. Митрополит Макарий посчитал, что протопоп Ермолай Прегрешный поддался в повести фольклорному влиянию. Святителя Макария можно понять. Начальные сцены «Повести о Петре и Февронии» кажутся списанными из народных сказок.
Вопрос, почему так случилось, достаточно важен для дальнейшего повествования, и необходимо разобраться в нем. Невозможно объяснить это литературной неопытностью автора. Протопоп Ермолай входил в кружок книжников, группировавшихся вокруг митрополита Макария, и достаточно хорошо разбирался в агиографических вопросах.
И искус литературного новаторства – под влиянием «Повести о Петре и Февронии» действительно возникло в русской литературе новое литературное направление – тоже ничего не объясняет. Протопоп Ермолай готовился к принятию монашеского пострига, и едва ли его занимало мирское тщеславие.
Думается, что оригинальность «Повести» определило не авторское своеволие, а та муромская сказочность, в которой жили святые Петр и Феврония. Фольклорная стихия вопреки воле автора ворвалась в «Повесть» и захлестнула традиционную житийную канву.
Поразительно, но эта стихия народной сказки продолжает ощущаться в Муроме и поныне. И если это происходит после десятилетий советской пропаганды, то насколько остро ощущали ее в середине XVI века протопоп Ермолай или царь Иоанн IV Васильевич в июле 1552 года?! Кстати, вполне возможно, что государь был лично знаком с Ермолаем-Еразмом. Совершенно определенно известно, что в 1549 году тот написал для Иоанна IV Васильевича трактат «Благохотящим царем правительница и землемерие» – развернутое руководство по управлению государством и измерению земли[5].
В любом случае историю жизни Петра и Февронии – они были канонизированы на Соборе 1547 года! – Иоанн IV Васильевич знал.
И конечно же, он не мог – в июле 1552 года царица Анастасия Романовна находилась на последних месяцах беременности царским первенцем Дмитрием! – не молиться им, испрашивая их помощи и покровительства.
Исполняя свои обеты, данные в Муроме, Иоанн IV Васильевич воздвиг после Казанского взятия над мощами Петра и Февронии церковь Рождества Богородицы.
3
И конечно, знал Иоанн IV Васильевич, что в Муроме родился былинный богатырь Илья Муромец.
Из того ли из города из Мурома, Из того ли села да Карачаева Была тут поездка да богатырская. Выезжает оттуль да добрый молодец, Старый казак да Илья Муромец,В сказочно-православной атмосфере Мурома легко соединялись разделенные веками князья, что принесли сюда свет православия, православная семья Петра и Февронии, ставшая образцом для Руси, рожденный в православной любви и смирении богатырь, который способен защитить православную жизнь, что породила и наделила его богатырской силой…
Многие исследователи отождествляют былинного героя со святым преподобным Ильей (Муромцем), мощи которого покоятся в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры[6].
В Муроме, не опровергая факта святости былинного богатыря, в карачаровском происхождении[7] его не сомневаются и твердо знают и сейчас, что дом, где тридцать лет лежал Илья на печи, находился на месте дома номер 279 по Приокской улице.
Впрочем, лежал на печи Илья Муромец не из-за лени, как утверждают насмешники, а из-за болезни.
Любопытно, что в 1988 году Межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу мощей святого Ильи Муромца и при осмотре выявила дефекты позвоночника, свидетельствующие, что в юности святой перенес паралич конечностей.
Былинный Илья Муромец тоже тридцать лет на печи лежал, ни рукой, ни ногой не шевелил. И ростом богатырем был, и умом светел, и глазом зорок, а ноги его не держали.
И вот однажды, когда родители ушли в лес пни корчевать, корни выдирать, готовить поле под пахоту, а Илья один на печи лежал, подошли к избе калики перехожие[8].
Постояли у ворот, постучали железным кольцом и сказали:
– Ай же ты, Илья Муромец, крестьянский сын! Отворяй каликам ворота широкия, пусти-ка калик к себе в дом.
– Злые шутки вы, странники, шутите… – ответил им Илья Муромец. – Тридцать лет я на печи сиднем сижу, встать не могу.
Опять говорят калики перехожие:
– Выставай-ка, Илья, на резвы ноги, отворяй-ка ворота широкие, пускай-ка калик к себе в дом.
Забыл Илья Муромец о своей болезни, спрыгнул с печи, а ноги-то, оказывается, не подогнулись, выдержали его.
Обрадовался Илья, отворил ворота широкие и пустил калик к себе в дом.
Зашли калики, поднесли Илье Муромцу чарочку питьица медвяного.
«Как выпил-то чару, богатырско его сердце разгорелося, его белое тело распотелося, почуял в себе Илья силу богатырскую»…
Так и началось богатырское служение Ильи Муромца.
Скоро положил он «на коня войлочки, а на войлочки – потнички, а потом седло черкасское с двенадцатью подпругами шелковыми, а с тринадцатой – железной не для красы, а для крепости. Захотелось Илье свою силу попробовать. Он подъехал к Оке-реке, упёрся плечом в высокую гору, что на берегу была, и свалил её в реку Оку. Завалила гора русло, потекла река по-новому. Взял Илья хлебка ржаного корочку, опустил ее в реку Оку, сам Оке-реке приговаривал:
– А спасибо тебе, матушка Ока-река, что поила, что кормила Илью Муромца. На прощанье взял с собой земли родной малую горсточку, сел на коня, взмахнул плёточкой…
Видели люди, как вскочил на коня Илья, да не видели, куда поскакал.
Только пыль по полю столбом поднялась».
А из-под копыт коня богатырского родники забили.
Сам Илья Муромец вернулся в Муром уже в наши дни, когда здесь начали восстанавливать храмы.
Созданный скульптором В.М. Клыковым, стоит он сейчас в городском парке, на высоком берегу Оки. В правой руке богатырь держит поднятый меч, а левой, покрытой плащом рукой прижимает к груди крест.
Смотришь на этот памятник и думаешь, как много разных книг написано о русской истории! И все мы читали разные книги, но есть та История, которая дана была России Богом и которая, если вглядываться в минувшие события без атеистического ожесточения, без злобы на родное, открывается каждому русскому человеку одинаково.
Илья Муромец на памятнике Вячеслава Клыкова стоит на высоком берегу и смотрит в открывающуюся заокскую даль, как смотрел отсюда на уходящие в казанский поход полки Иоанн IV Васильевич.
Войска его переправились через Оку в Муроме в Ильин день 1552 года…
4
Сохранилась икона, написанная в честь взятия Казани.
Называется она «Благословенно воинство Небесного Царя», и стояла эта икона в Успенском соборе, рядом с Царским местом.
На иконе изображено триумфальное шествие православного воинства от объятой пламенем Казани к Небесному Иерусалиму.
Предводительствует православное воинство сам Архистратиг Михаил. В рядах воинов – знаменитые русские князья. Во главе верхней колонны воинов – Дмитрий Донской со своим небесным покровителем Дмитрием Солунским.
В среднем ряду во главе всего русского воинства с огромным красным стягом сам Иван Грозный.
Нижнюю колонну возглавляют Александр Невский и Георгий Победоносец.
В центре композиции, в царском венце и с крестом в руках, – император Константин. За ним – Владимир Святой с сыновьями Борисом и Глебом.
Повсюду пение, повсюду фимиам. Где Тартар ликовал, ликует вера там; Безбожие, взглянув на святость, воздохнуло. И солнце на Казань внимательно взглянуло, Спустились ангелы с лазоревых небес, Возобновленный град главу свою вознес…—писал Михаил Матвеевич Херасков.
Наверное, подобная этой иконе и открывалась перед духовным зрением Иоанна IV Васильевича картина, когда в молитвенном сосредоточении смотрел государь на войска, которые, переправляясь через Оку, уходили в икону…
Начинался поход, где молитвенное обеспечение играло не меньшую роль, чем вооружение…
«В иконе “Благословенно воинство Небесного Царя”, – отметил С.В. Перевезенцев, – символически представлен весь религиозно-мистический и всемирно-исторический смысл бытия России на Земле, тот великий духовный смысл, который придавали бытию России древнерусские книжники. На иконе представлена панорама всемирной и русской истории – от битвы византийского императора Константина с его противником Максенцием до взятия Казани. Таким образом, победа над “бусурманской” Казанью приравнивается к великим битвам христиан во имя Христово, во имя защиты святой веры. А сам Иван Грозный ставится в один ряд с императором Константином, который почитается как равноапостольный святой, ибо первым признал христианство государственной религией в 304 году».
Русь окончательно осознавала духовный смысл своего земного существования и цель своего исторического развития – стремление в Царствие Небесное.
Стяг Спаса возвышался над полком Иоанна Грозного.
Совершалось великое чудо Преображения.
Величествен и прекрасен его духовный смысл, и особенно отчетливым становится он, когда думаешь о Муроме, превращенном по замыслу Иоанна Грозного в икону древнерусской святости.
Всё, что было в Муроме до Иоанна Грозного, – и княжение страстотерпца Глеба, и святительская деятельность Константина и его сыновей, и высокий, на века отлитый образ православной русской семьи Петра и Февронии, и сам былинный богатырь Илья Муромец – всё это было высоко и прекрасно, но всё это – поразительное свойство русской истории! – существовало на зыбкой границе были и небыли, истории и сказания, как народное мечтание о Святой Руси.
Деяние великого царя, постигающего духовный смысл русской истории и осуществляющего этот смысл, преображало не только действительность, но и предшествовавшую историю. Монаршая воля, воплощая народные мечтания в прекрасных и величественных храмах древнего Мурома, делала их фактом истории Святой Руси и сама укреплялась сказочной силой.
Смысл этих свершений монарха не осознавали, вернее, не желали осознать в полной мере даже такие талантливые и выдающиеся его сподвижники, как князь Андрей Курбский…
Зато русский народ постиг эту царскую правду сразу.
Как он, грозен Царь Иван Васильевич. Скоплял силушку ровно тридцать лет, Ровно тридцать лет, еще три года: Сокоплемши свою силушку, воевать пошел Он под славное царство Казанское… —запел он, изменяя возраст двадцатидвухлетнего государя, но зато соединяя подвиги Ильи Муромца с Казанским взятием Иоанна Васильевича Грозного…
Когда проезжаешь сейчас через Муром на поезде, конечно же, на железнодорожном ходу не разглядеть былинного, сказочного обличья города, но вот выносится поезд на железнодорожный мост, и сразу распахивается окская даль. Прямо за окнами – ширь реки, усеянная рыбацкими лодками, а сзади, по ходу поезда, панорама Мурома с сияющими на солнце куполами церквей.
Видение это мимолетно…
Позади остается древнерусский Муром, впереди – земли новой России, новой святости, которая, словно разбуженная казанским походом Иоанна Васильевича Грозного, так ярко разгорится здесь в последующие века…
5
Как свидетельствует летопись, 20 июля 1552 года, на память Ильи Пророка, отстояв службу в храме Рождества Богородицы, Иоанн Васильевич Грозный переправился на низкий берег Оки и «поиде на Саконский лес. И того дня ночевал на лесу на реке Велетьме – от города 30 верст».
Иоанн Васильевич Грозный шел по «Царской сакме»[9] – дороге, что вела из Волжского Понизовья к Мурому, и станы его становились сёлами и деревнями.
Второй стан был устроен на берегу реки Шилокши.
Здесь, в деревне Новая Шилокша, еще в прошлом веке можно было услышать песню о Калейке-мужике, который был тут царским вожатым.
Третий стан Иоанна Грозного устроили на возвышенном берегу Тёши возле запустелого мордовского городища. Здесь царь приказал выстроить церковь, вокруг которой разрослось село Саканы…
Историки, анализируя поход Иоанна IV Васильевича Грозного на Казань, лишь скороговоркой обозначают, как муромское сидение государя, так и движение его по заокским лесам.
Понятно, конечно, что никаких примечательных боевых действий в это время не происходило, но, с другой стороны, разве не в Муроме окончательно оформилась духовная составляющая идеологии предстоящего похода? Разве не по дороге, через глухие мордовские леса, началось практическое осуществление этой идеологии?
Совершенно определенно известно, что в обозе Иоанна IV Васильевича помимо военных грузов значительное место занимали предметы церковного обихода, предназначенные для приобщения к вере местных жителей.
Крещение мордвы – это не военная операция, но, превращая ее в важную, если не важнейшую составляющую казанского похода, двадцатидвухлетний полководец и сам превращался по дороге из Мурома на Казань в святителя.
Писатель П.И. Мельников-Печерский, повторивший летом 1851 года путь Иоанна Грозного от Мурома до Казани, наносил на карту курганы, оставшиеся на местах его станов, и записывал старинные песни. Записал он и песню эрзян Терюшевской волости, в которой местные жители послали царю мед, хлеб и соль, но молодые посланцы из озорства съели посланные дары, а чтобы не являться к царю с пустыми руками:
Земли и желта песку в блюда накладали Наклавши поднесли…Государь, однако, не разгневался на посланцев, а принял и землю, и песок.
Слава тебе, Боже-Царю, Что отдал в мои руки всю мордовскую землю… —перекрестившись, сказал он.
«Затем, – пишет П.И. Мельников-Печерский, – следует замечательное место народной мордовской песни – память о строении русских городов по рекам в приобретенных мордовских землях. Царь берет в руки принесенную в дар мордовскую землю и начинает разбрасывать ее:
Где бросит горсточку — Там быть градечку, Где бросит щепоточку — Там быть селеньицу»…Из трех щепоток земли, высыпанных Иоанном Васильевичем на месте четвертого Иржинского стана, выросли три деревни, получившие свои названия по именам трех вожатых царского войска – мордвинов Ардатки, Кужендея и Торша[10]. Пятую горстку Иоанн Васильевич Грозный бросил «на Авшечь реке»…
«Авшечь… – размышляет арзамасский историк Ю.А. Курдин. – Как попало на страницы русской истории это загадочное слово? Представитель какого рода-племени сообщил придворному летописцу название тихоструйной речки? Эта тайна, очевидно, останется нераскрытой. Булгары и кипчаки, мордва и татары-мишари – все перемешалось в суровой круговерти времен, оставив память о себе в названиях реки. Древнемордовское “Авша” и татарское “Аксу” привычное, но ничего не говорившее русскому уху слово “Акша”, – все эти названия по-своему пытались передать ее удивительную красоту. “Чистая”, “белая”, “светлая”, “белая вода” – только эти эпитеты невольно срываются с языка при виде чудом сохранившегося уголка древней реки при впадении ее в Тёшу. Светлые, прозрачные воды, вобравшие в себя белесые отраженные облака, белые звездочки лилий среди солнечных бликов на чистой зеркальной поверхности – такой предстала Акша перед изумленным царем Иоанном 24 июля. Наверное, не один раз припоминалась ему в тот вечер красавица Анастасия, оставшаяся в далекой теперь Москве».
Незабываемое впечатление производила и громада заросшего темным бором правого берега Тёши, словно полукруглый остров, возвышавшийся над ровной поверхностью лугов, плавно переходящих в безбрежную степь. Вид этих гор, впоследствии увековечивших его имя в своем названии («Ивановские бугры»), живо напоминал окрестности города Свияжска, основанного за год до этого, уже третьего похода на Казань.
«Быть здесь граду» – в этой мысли укрепился юный государь, когда на следующий день, переправившись на противоположный берег Тёши, взобрался по крутому склону на холм. Остановившись, чтобы перевести дух, он оглядел раскинувшуюся у ног равнину. Шумное, беспокойное войско разлилось по окрестным лугам, словно большая, вешняя вода Акши. Однако, поднявшись на холм, где с незапамятных времен переживало разрушения и отстраивалось вновь «Орземасово городище», Иван Грозный увидел еще шире распахнутые степи, да и место для крепости было весьма подходящее. Поэтому он, видимо, решил не строить новый город на Ивановских буграх (как поведало предание), а восстановить, отстроить заново старый город. Прежнее название было сохранено, но главные ворота, выходившие прямо в сторону устья Акши, были названы им Настасьиными.
Эта историческая реконструкция Ю.А. Курдина, хотя она и не лишена поэтической красивости, достаточно верна с научной точки зрения. И тем не менее мы должны привести и народное предание об основании города Арзамаса, сохранившееся в записях другого арзамасского историка Н.М. Щеголькова.
«Из сведений видно, что царское войско шло с юга на север по берегу речки Акши, впадающей в Тёшу против самого села Ивановского, расположенного на горе, с которой открывается прекрасный вид на всю окрестность.
Невольно представляется воображению – царский шатер, стоящий на самом возвышенном месте, вокруг него палатки воевод царских, а кругом по берегам Тёши и Акши огромный воинский стан… ржанье коней и гул человеческих голосов… чудная теплая июльская ночь, а всего в версте на север мордовское сельбище, жители которого с трепетом ожидают – что-то скажет наступающий день»…
На другой день собрался у царя совет, на который были призваны и местные мордовские вожди Арзай и Масай с их старейшинами. На этом совете государь объявил, что принял решение построить здесь город.
Совет избрал место для сооружения крепости.
Тут же начались строительные работы, заложили острог и церковь во имя Архистратига Михаила.
Иоанн Васильевич предложил собравшимся местным жителям принять христианскую веру.
Все молчали, и только когда государь сказал, что назовет будущий город именем первого, кто примет крещение, из толпы вышли мордовские предводители Арзай и Масай.
Их окрестили и назвали Арзая – Александром, а Масая – Михаилом.
А языческие имена их составили имя нового города – Арзамас.
Мы уже говорили, что деяния великого царя, постигающего духовный смысл русской истории и осуществляющего его, преображает не только действительность, но и предшествовавшую историю. И это касалось всех народов, входящих под его царскую руку.
Записанное предание хотя вроде бы и противоречит исторической правде (на месте Арзамаса ранее существовала крепость, а название города происходит, вероятно, не от имен старейшин Арзая и Масая, а от мордовских слов «арзя» («эрзя») – название племени и «масса» – город), но в духовном отношении оно гораздо точнее.
Старейшины Арзай и Масай, принимая Святое Крещение, становятся Александром и Михаилом. Они оставляют свои прежние языческие имена городу, который забывает, как уходящий из памяти сон, прежнюю историю и просыпается для истории православной страны… Монаршая воля – это не индивидуальная воля пусть и чрезвычайно мудрого и талантливого человека или коллективная воля группы тоже пусть и мудрых, и талантливых лиц, монаршая воля – это Божия воля.
Если монарх не рассеивает своего внимания на лукавые соблазны и советы, он осуществляет Божию Волю, и свершения его выходят за пределы возможного даже для самых одаренных личностей.
Честолюбивые сподвижники Иоанна IV Васильевича Грозного зачастую не могли разглядеть, как преображает пространство и время Монаршая воля. Охваченные реформаторским восторгом, они досадовали, отчего государь не следует их мудрым советам, им казалось, что Божия воля – это нечто отвлеченное, не имеющее прямого отношения к текущей жизни и если как следует обдумать всё и не жалеть средств, то можно обойти любое препятствие.
Они ошибались, но в своих ошибках и заблуждениях упорствовали, жертвуя при этом и верностью государю, жертвуя Родиной и даже самой своей жизнью.
Другое дело – народ…
Если и можно было заморочить его сладкой ложью и лукавыми посулами, то только на время. Рано или поздно душа народа просыпалась и начинала ясно различать ту Божию Правду, которую исполнял государь…
6
Царской сакмой шел Иоанн Грозный, и не было никаких боевых столкновений на избранном Пути, местные жители узнавали в Иоанне IV Васильевиче своего государя.
Топонимические предания, которые записывались в этих местах, сохранили лишь добрую память, что осталась в народе от первой встречи со своим царем.
«Это было во время трудного похода на Казань. Царь и его дружина, уставшие от долгого перехода, увидели небольшую деревню и направились к ней. В деревне Ивана Грозного встретили очень тепло, приветливо. Накормили его и дружину, подлечили раненых, снабдили всем необходимым на дорогу. Это гостеприимство так поразило царя, что он велел назвать деревню “Теплый Стан”»[11].
И так было почти везде.
«Мордва в нашем краю жила раньше родами… – рассказывают в Дивееве. – Старейшину здешнего рода звали Вичкинз, и жил этот род вдоль той самой речки, на которой сейчас стоят села Дивеево и Череватово.
Сюда пришли русские – люди мирные, работящие – из владимирских земель и поселились по соседству с мордвой. А речку они назвали по имени здешнего мордовского рода – Вичкинзой…
У русских и у мордвы был в ту пору один общий враг – Казань. Во время набегов на наши края татары опустошали деревни, грабили, убивали, уводили пленных. И когда Иван Грозный отправился воевать против татар, то здешняя мордва решила ему помочь. Землями в ту пору тут владел потомок Вичкинза Дивей. Был он хорошим воином, отважным и верным, за это Иван Грозный сохранил ему в Российском государстве княжеский титул и дал во владение всю здешнюю округу. Вот и назвали соседи самое крупное село на Вичкинзе, где жил Дивей, – Дивеево».
Интересно, что хотя стараниями преемников князя Андрея Курбского имя Иоанна IV Васильевича Грозного и превращено в воплощение зла и беспричинного тиранства, хотя сам он оказался изгнанным с памятника Тысячелетию России, но народная память не приняла этого злобного очернения государя.
Среди народных рассказов, собранных в сборнике «Россия XVI века: Казанский поход Ивана Грозного», изданном под редакцией Ю.А. Курдина в Арзамасе, нет ни одного, говорящего о жестокости государя, но зато довольно много преданий, свидетельствующих о том, как народ спасал его в минуту опасности.
В Болдинском районе есть село Девичьи Горы, названное так в честь спасительницы царя Иоанна IV Васильевича Грозного, предупредившей его о готовящемся заговоре.
А с восьмым станом Иоанна IV Васильевича в районе Панова-Леонтьева Гагинского района связана легенда о явлении царю Пресвятой Богородицы.
Во время остановки у мордовской деревни Мушек, на горе, ныне называемой Троицкою, прибыли к царю посланники князя Курбского и возвестили, что передовые отряды, шедшие на Казань, потерпели сильное поражение от татар, которые очень многих людей полонили. Царь опечалился этим известием и задумался, не прервать ли ему поход, однако во сне в образе, запечатленном на Тихвинской иконе, явилась ему Божия Матерь, сопровождаемая прапрадедом царя – князем Дмитрием Донским.
Божия Матерь повелела Иоанну IV Васильевичу Грозному идти на Казань и взять ее.
Немедленно был совершен благодарственный молебен Божией Матери, после которого поход на Казань был продолжен.
7
«Когда царь Иоанн Васильевич Грозный шел с войсками на Казань, надо было ему своих стрельцов свежей лосятиной да олениной кормить, чтобы они от мяса яростного зверя такой же силы и храбрости набрались… – говорит народное предание. – Вот и послал царь своих охотников в Нижегородские леса, чтобы этого самого мяса добыть. Долго бродили они по лесам, да никакого зверя поймать не могли.
Вдруг видят: сидит на полянке возле костра паренек да оленью кость гложет. Спрашивают они у него, где и как он оленятины добыл.
А он и говорит, что рода он холодаева, племени голодаева, принадлежит сам себе и промышляет охотой на дичину – тем и живет.
Вот и говорит ему царь, что надо бы ему свежатинки оленьей, чтобы в воинах своих силу да храбрость преувеличить.
Говорит ему Холодай-Голодай, что, мол, надо тебе, царь, научиться лосихой кричать и добудешь мяса, сколь тебе надобно.
Любопытно царю стало, и просит он его с собой взять поохотиться. Так и пошли они, царь да Холодай-Голодай, в лес ночью. Научился царь лосихой кричать.
Долго они охотились. Много свежего мяса добыли. Когда они в царский стан вернулись, поставил царь Холодая-Голодая начальником над всеми своими охотниками.
Дело ладно пошло.
Стрельцы царские свежей олениной питались, силы да храбрости набирались»…
Это больше похожее на сказку предание тем не менее тоже имеет под собою достаточно прочную документальную основу, поскольку известно, что в обозе царской армии провианта было немного и его явно не могло хватить на пятинедельный поход.
Как утверждает «Царственная книга», армию – «Черемиса и мордва вся потребная приношаху, хлеб и мед и говяды, ова дарованием, оная же продаваху» – снабжали продуктами местные жители, но территория была малонаселенной, и едва ли ее обитатели способны были кормить в течение пяти недель 150 тысяч воинов.
Очевидцы похода утверждают, что важной составляющей снабжения царского войска являлась охота. Та же «Царственная книга» сообщает: «И таковое многое воинство всюду яко Богом уготованну пищу обретаху на поли; от животных же лоси яко самозванни на заколение прихождаху; в реках же множество рыб ловяху; от воздуха же множество птиц прилетаху, яка сами дающеся в руце»…
Мордовские леса тогда действительно изобиловали дичью, а реки, как отметит чуть позже Сигизмунд фон Герберштейн, «белугой, удивительной величины, без костей, с огромной головой и пастью; стерлядью, севрюгой, осетром и белорыбицей»…
И вместе с тем надо отметить, что обретение «Богом уготованной пищи» было избирательным. Например, отряд князя Курбского, двигавшийся южнее основных сил армии, снабжался «Богом уготованной пищей», говоря современным языком, совсем по другой категории.
«С великим трудом, изголодавшись, недель через пять добрались мы до Суры, куда и он (Грозный) пришел в тот же день с главным войском, – свидетельствовал Курбский. – В тот день с большим удовольствием наелись мы сухого хлеба, либо купив по дорогой цене, либо заняв у знакомых: дней на девять недостало нам хлеба».
Разумеется, и Иван Васильевич Грозный готов был к трудностям, и подарок в виде рыбного и мясного изобилия он воспринимал тоже как чудо, как знак правильности выбранного Пути.
Как чудо, судя по преданию, воспринимало это и местное население.
Не случайно процитированный нами рассказ о Холодае-Голодае связывает с мясными заготовками в мордовских лесах и происхождение герба Нижнего Новгорода. «И подумал царь, что нет герба никакого у Нижнего Новгорода. И приказал грозный царь, что быть Нижнему Новгороду под гербом оленя, рогача яростного, что помог ему татар одолеть и город их неприступный взять».
8
Некоторые историки утверждают, что высказанная псковским старцем Филофеем идея «Москва – Третий Рим» имела влияние практически только в северо-западных русских землях и ни в одном сочинении Ивана Грозного нет ни одного упоминания об этой идее, тем более уподобления «Третьему Риму» Московской Руси.
«В этом смысле идея “Нового Иерусалима” имела гораздо более расширительный и общий характер, напрямую связывала Московскую Русь с наследием Православного Востока, – говорят эти историки. – И не случайно сразу же после появления в общественном сознании идеи России как “Третьего Рима” начинается дальнейший поиск – уже аналогий Москвы и России с “Новым Иерусалимом”».
В принципе, идеология, принявшая на себя вселенскую ответственность в противостоянии мировому хаосу, без Нового Иерусалима, о котором в Откровении Иоанна Богослова сказано:
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего», – обойтись не могла.
Можно согласиться и с тем, что идея «Нового Иерусалима» имела более расширительный характер, нежели идея Третьего Рима, и напрямую связывала Московскую Русь с наследием Православного Востока.
Только при чем тут «дальнейший поиск»?
О Новом Иерусалиме, называя его Вышним, говорил в послании великому князю Василию III Иоанновичу сам старец Филофей перед тем, как произнести слова о «Третьем Риме»: «Да аще добро устроиши свое царство – будеши сын света и гражданин вышняго Иерусалима, якоже выше писах ти и ныне глаголю: блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся христианская црьства снидошася въ твое едино, яко два Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не бытии».
Легко объяснимо и то, почему сам Иоанн Грозный в своих посланиях не оперирует термином «Третий Рим». Вопервых, он был реальным политиком и вел активные переговоры с римскими послами и эмиссарами, хотя бы по поводу организации антитурецкой коалиции, и говорить в официальных документах, а именно таковыми и были послания Иоанна Грозного, о совершившейся гибели продолжающего существовать Рима избегал. Во-вторых, понятный в кругах книжников высокопатриотичный и мессианский смысл идеи «Третьего Рима» в широких православных массах мог быть воспринят как капитулянский призыв к принятию разработанной в Риме некоей новой унии.
В этом смысле аналогия Москвы и России с «Новым Иерусалимом» была более приемлемой и для дипломатического, и для пропагандного употребления. Ну а о том, что в результате возникнет идеологическая путаница, не подумали.
Уже в первых редакциях «Казанской истории», по наблюдению М.Б. Плюханова, взятие Казани оказалось представлено как взятие Царьграда, а сама Казань представлялась тем царственным градом, овладение которым привело к окончательному воцарению Иоанна IV Васильевича.
Через воспоминания о гибели Русской земли в годы монголо-татарского нашествия вводилась в «Казанскую историю» и тема гибнущего Иерусалима: «Осироте бо тогда и обнища великая наша Руская земля, и отъяся слава и честь ея… и предана бысть, яко Иерусалим в наказание Навходоносору, царю вавилонскому, яко да тем смирится».
При этом сам поход Ивана IV сравнивался с приходом римлян к Иерусалиму, и русский царь уподоблялся Антиоху, пришедшему «пленовать Иерусалим».
Сравнивая зримые символы иконы «Благословенно воинство Небесного Царя» с «Казанской историей», историк С.В. Перевезенцев пишет, что «русские мыслители XVI века четко осознавали, что полная духовная победа русского воинства означает одновременно и гибель Русского государства в его земном воплощении. Иначе говоря, спасение и обретение вечной жизни в Небесном Иерусалиме невозможно без прекращения земного существования Русского царства… И автор иконы, и автор “Казанской истории” видели эту сложную диалектику победы-гибели, выраженную в идее христианского подвига, видели и стремились донести ее до сознания современников».
Сама по себе мысль эта достаточно глубока, но она лишена пассионарной энергетики задуманного молодым царем строительства новой империи, и поэтому истоки ее следует искать не в эпохе Иоанна Грозного, а в предшествующих веках.
Исследователи уже неоднократно обращали внимание, что идея «Третьего Рима» непосредственным образом связана с ветхозаветными эсхатологическими текстами, введенными в оборот при работе над Геннадиевской Библией. Реже говорится, что сама Геннадиевская Библия создавалась в ходе развернувшейся на Руси борьбы с ересью жидовствующих и святитель Геннадий относился к переводу библейских текстов как к действенному оружию в борьбе с ересью.
Рожденная в ходе борьбы с ересью идея Московской Руси как «Третьего Рима», – это успех, достигнутый в результате этой борьбы. Вернее, проект успеха, который необходимо было достигнуть, чтобы закрепить победу…
Любопытно, что сторонник ереси жидовствующих митрополит Зосима еще в 1492 году пытался перехватить формулу «Москва – Третий Рим» и, таким образом, выхолостить ее, но это не удалось ему.
Любопытно было бы и трансформацию идеи «Третьего Рима» в идею «Нового Иерусалима» рассмотреть так же в связи с неизжитыми последствиями ереси жидовствующих.
Ведь очевидно, что авансированное признание богоизбранности Российского государства, реализуемое в сочинениях древнерусских книжников в поиске все новых и новых аналогий Московской Руси с городом, где «спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов», из-за недостатка конкретных знаний начинало «плыть». Богословские конструкции прикрывались сказочной, поэтической вуалью, позволяющей производить разрушающие саму идеологическую конструкцию подмены[12].
9
Впрочем, эти тенденции, в том числе и негативные, проявятся позднее, и мы еще поговорим об этом, а во время продвижения армии к Казани и во время осады и штурма ее практическая конкретизация образов-символов сдерживалась реальными обстоятельствами похода.
Государь осознавал, что с покорения Казани начинается Путь Московской Руси как защитницы истинной веры, но осознание это благополучно уживалось в нем с уважительным отношением к исламу.
Приступая к строительству своей империи, Иоанн IV Васильевич Грозный, пусть и не всегда осознавая это, всегда учитывал опыт созданной на этой земле империи Чингисхана.
Как утверждает «Казанская история», государь обещал осажденным казанцам «большую льготу – жить по своей воле, по вашему обычаю, и законов и веры вашей не лишу вас, и из земли вашей никуда не разведу вас по моим землям, чего вы боитесь».
И хотя «не послушали казанцы доброго царского совета», сопротивление их не подвигло Иоанна IV Васильевича на изменение своего монаршего плана строительства Русской империи.
Л.А. Тихомиров справедливо заметил, что на Руси не столько подражали действительной Византии, сколько идеализировали ее и в результате монархическая власть создавалась в гораздо более чистой и более строго выдержанной форме.
Царствование Иоанна IV Васильевича Грозного в полной мере подтверждает мысль Л.А. Тихомирова, если, конечно, расчистить это царствование от напластований лжи и клеветы.
«В чем смысл духовной победы? – анализируя значение казанского похода, задается вопросом историк С.В. Перевезенцев. – Дело в том, что духовная победа – это победа не над внешним врагом, а над собой. Иначе говоря, смысл духовной победы – в преодолении собственной слабости, собственного страха, собственной греховности».
В казанском походе собственную слабость, собственный страх, собственную греховность преодолевал и Иоанн IV Васильевич, и вся страна. И нужно специально перекашивать глаза[13], чтобы не видеть небывалого величия свершений этого царства, начинающегося взятием Казани и завершающегося присоединением (поход Ермака) Сибири.
Это и есть материальное воплощение той духовной победы, которая была одержана в царствование Иоанна IV Васильевича Грозного и подлинная значимость которой приоткрылась – «российское могущество прирастать будет Сибирью» – только в последующие столетия, которая продолжает раскрываться и сейчас.
Ни сподвижники государя, ни летописцы не сохранили нам подробностей тех пяти недель, что разделяют Ильин день, когда войско выступило из родного города Ильи Муромца, и день прибытия армии к Казани.
Не запечатлены разговоры, которые вел в эти недели молодой царь, мысли, которые он думал…
Но зато в народных преданиях о Царском Пути, как драгоценные камни, сверкают слова: Саров, Болдино, Дивеево, которые станут символами высочайшей духовности…
Словно дивное сияние осуществленных монарших замыслов о Небесном Иерусалиме, матушке Александре в селе Дивееве на пути из Мурома в Саровскую пустынь будет даровано видение Божией Матери.
– Вот то самое место, которое Я повелела тебе искать на севере России… – сказала тогда, в 1760 году, Богородица. – И вот здесь предел, который божественным промыслом положен тебе, живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих, и Я всегда буду с тобой и всегда буду посещать место это, и в пределе твоего жительства Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете: это четвертый жребий Мой во вселенной.
Так и был основан Дивеевский монастырь, где, как известно, находится Канавка, границы которой совпадут, по предсказанию преподобного Серафима Саровского, в конце Света с границами богоспасаемой Руси…
Глава вторая Шурьё
В походе на Казань и взятии ее участвовали и новые родственники молодого государя Захарьины-Юрьевы.
И хотя особыми подвигами здесь они не отличились, но победный 1553 год можно смело считать годом крещения рода Захарьиных-Юрьевых в дворцовой борьбе за власть, которую повело «шурье» с «ближним окружением» царя – Алексеем Адашевым, протопопом Сильвестром и их приближенными.
Впрочем, само возвышение Захарьиных-Юрьевых началось раньше, еще 13 декабря 1546 года, когда Иван IV Васильевич объявил митрополиту Макарию, что решил жениться.
«Великому Князю исполнилось 17 лет от рождения, – пишет Н.М. Карамзин. – Он призвал Митрополита и долго говорил с ним наедине. Митрополит вышел от него с лицом веселым, отпел молебен в храме Успения, послал за Боярами… Еще народ ничего не ведал, но Бояре, подобно Митрополиту, изъявляли радость. Любопытные угадывали причину, и с нетерпением ждали открытия счастливой тайны.
Прошло три дни. Велели собраться Двору: Первосвятитель, Бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, который, помолчав, сказал Митрополиту: “Уповая на милость Божию и на Святых заступников земли Русской, имею намерение жениться: ты, отче, благословил меня. Первою моею мыслию было искать невесты во иных Царствах; но, рассудив основательнее, отлагаю сию мысль. Во младенчестве лишенный родителей и воспитанный в сиротстве, могу не сойтись нравом с иноземкою: будет ли тогда супружество счастьем? Желаю найти невесту в России, по воле Божией и твоему благословению”. Митрополит с умилением ответствовал: “Сам Бог внушил тебе намерение столь вожделенное для твоих подданных! Благословляю оное именем Отца небесного”. Бояре плакали от радости…»
16 января 1547 года в Успенском соборе Ивана IV Васильевича венчали на царство, а 3 февраля «царя всея Руси» обвенчали с юной Анастасией, дочерью вдовы Захарьиной.
1
Так получилось, что после свадьбы зашумели на Москве пожары…
12 апреля погорели Китай-город и Торг, а 20 апреля пожары забушевали уже за Яузой. Но главные пожары были впереди, и, словно бы предвещая их, зазвенела земля – упал с колокольни Благовещенского собора большой колокол. Еще появились на Москве «сердечники» – чародеи, «вынимавшие из людей сердца»…
И вот наступил страшный день – 24 июня…
«Загорелся храм Воздвиженья Честного Креста, – говорит летописец, – за Неглинной, на Арбатской улице, на Острове, и бысть буря велика, и потече огнь якож молния, и пожар силен промче во един час Занеглименье. И обратися буря на град больший»…
«Больший град» – это Кремль. Вспыхнули кровли на палатах и деревянные избы, в огне погибли казна, оружейная палата, царская конюшня. Сгорел расписанный фресками Андрея Рублева Благовещенский собор.
Святитель Макарий руководил спасением особо чтимых икон из горящих храмов, потом огонь окружил и митрополита, отрезая пути к отступлению, и пришлось спускаться из Тайницкой башни на веревках. Веревка лопнула, святитель «разбился»…
Опустошив Кремль, пожар с новой силой набросился на уцелевшие районы города. Железо там «яко олово разливашеся, и медь яко вода растаяваше». Всего сгорело в июньском пожаре 25 тысяч дворов, погибло около двух тысяч жителей.
И поползли, поползли распускаемые князем Скопиным-Шуйским и дядей молодой царицы Григорием Юрьевичем Захарьиным слухи, что виновниками пожаров являются Глинские.
Говорили, что это бабка царя Анна Глинская со своими детьми и людьми «волхвала: вынимала сердца человеческие да клала в воду, да той водой, разъезжая по Москве, кропила, и оттого Москва выгорела, а у самих Глинских усадьбы не пострадали в огне».
26 июня в Москве уже не пожар вспыхнул – восстание…
Убили дядю царя – князя Юрия Глинского. Михаил Глинский бежал в Литву. Хотя мятежную чернь царь и велел покарать, но зачинщиков бунта не тронули, предав, как пишет Н.М. Карамзин, одному суду Божию…
Еще тверже, еще увереннее встали у престолацарские «шурьи» – Захарьины-Юрьины…
Отметим, что это был первый совместный проект Шуйских и Захарьиных-Юрьиных-Романовых. На протяжении ближайших десятилетий этим родам предстоит действовать то сообща, то друг против друга, но все время в пространстве возле трона, борясь за место у трона и за сам трон.
И Шуйским, и Романовым суждено будет сидеть на русском троне…
Их противостояние завершится в 1612 года в Варшаве, где встретятся в польском плену царь Василий Шуйский и патриарх Филарет Романов. Василий Шуйский, завершая правление своей династии и саму династию Рюриков, умрет в польской тюрьме, а Филарет (Романов) вернется в Москву, где начнет со своим сыном Михаилом правление династии Романовых…
Восстание в Москве 26 июня 1547 г. Убийство Юрия Глинского. Миниатюра Лицевого летописного свода
Но это еще впереди, а пока Захарьины-Юрьины только еще утверждаются возле трона…
Как говорят историки, утверждались они в борьбе с «мятежным господством Бояр» за Царское единовластие, «чуждое тиранства и прихотей»… Заметим, что борьба эта с самого начала была не совсем чистой…
Любопытно и другое…
Возвышение династии Захарьиных-Юрьиных совпало с началом реформ Иоанна IV Васильевича Грозного.
Правда, тогда реформы назывались «переменами» в царе.
«Господь наказывал меня за грехи то потопом, то мором, и все я не каялся, наконец, Бог наслал великие пожары, и вошел страх в душу мою и трепет в кости мои, смирился дух мой…»
2
Немного в нашей истории деятелей, относительно которых, по словам биографа, «нельзя подобрать, кажется, свидетельства не в его пользу».
Но окольничий Алексей Федорович Адашев был именно таким человеком. И в этой оценке его едины и современники, и историки…
«И был он, – говорит о нем Андрей Курбский, – общей вещи зело полезен, и отчасти в некоторых нравех, ангелом подобен»…
«Сей знаменитый временщик явился вместе с добродетелию царя и погиб с нею…» – утверждает Н.М. Карамзин.
Время, пока Адашев вместе с благовещенским попом Сильвестром пользовались доверием государя, было временем великих и благотворных свершений. Можно тут назвать и созыв 1-го земского собора для утверждения судебника в 1550 году, и созыв церковного собора Стоглава в 1551 году, и покорение Казани в 1552 году, и взятие Астрахани в 1556 году, и дарование уставных грамот, определивших самостоятельные суды общин, и большое разверстание поместий, упрочившее содержание служилых людей в 1553 году…
Жалуя в 1550 году Алексея Федоровича Адашева в окольничии, Иоанн IV Васильевич сказал ему: «Поручаю тебе принимать челобитные от бедных и обиженных и разбирать их внимательно. Не бойся сильных и славных, похитивших почести и губящих своим насилием бедных и немощных; не смотря и на ложные слезы бедного, клевещущего на богатых, ложными слезами, хотящего быть правым: но все рассматривай внимательно и приноси к нам истину, боясь суда Божия; избери судей правдивых от бояр и вельмож».
Вот с этим человеком, по праву считавшимся образцом древнерусского филантропа и гуманиста, и схлестнулось «шурьё» в борьбе за влияние на царя.
После взятия Казани Адашев советовал царю постоять там с войском до весны, чтобы окончательно усмирить татар, мордву, башкир и черемисов, но Анастасия была на последних месяцах беременности, и царь, как горестно сообщает Андрей Курбский, «совета мудрых воевод своих не послушал, послушал же совета шурьи своих, они бо шептаху ему во уши, да споспешитца ко царице своей, сестре своей…»[14].
4 октября Иван IV Васильевич заложил в Казани церковь во имя Благовещения Богородицы и вернулся с войском в Москву.
Казанского победителя встречало такое множество народа, что поля не вмещали людей…
«От реки от Яузы и до посаду и по самой град по обе страны пути бесчислено народа… велиими гласы вопиющий, ничтоже ино слышати токмо: “Многа лета царю благочестивому, победителю варварьскому избавителю христьянскому”».
Радость обретения Казанского царства слилась с семейным торжеством в царском доме. 11 октября царица Анастасия благополучно разрешилась от бремени сыном Дмитрием.
«Как скоро Анастасия могла встать с постели, Государь отправился с нею и с сыном в Обитель Троицы, где Архиепископ Ростовский, Никандр, крестил Димитрия у мощей Святого Сергия, – пишет об этих днях Н.М. Карамзин. – Насыщенный мирскою славою, Иоанн заключил торжество государственное Христианским (выделено нами. – Н.К.): два Царя Казанские, Утемиш-Гирей и Едигер, приняли Веру Спасителя. Первого, еще младенца, крестил Митрополит в Чудове монастыре и нарек Александром: Государь взял его к себе во дворец и велел учить грамоте, Закону и добродетели. Едигер сам изъявил ревностное желание озариться светом истины, и на вопросы Митрополита: “Не нужда ли, не страх ли, не мирская ли польза внушает ему сию мысль?” ответствовал решительно: “Нет! люблю Иисуса и ненавижу Магомета!” Священный обряд совершался на берегу Москвы-реки в присутствии Государя, Бояр и народа. Митрополит был восприемником от купели. Едигер, названный Симеоном, удержал имя Царя; жил в Кремле…»
Однако, как и бывает всегда, когда правитель стремится заключить торжество государственное Христианским, враг рода человеческого ополчился на Иоанна Грозного.
Пришли из Казани печальные вести о восстании «луговых» людей и гибели вместе со своим воеводой войска Бориса Салтыкова, выступившего на усмирение бунтовщиков.
От огорчения Иван IV Васильевич серьезно занемог «огненным недугом»…
3
Братья царицы, то ли действительно опасаясь, что царь не выживет, то ли развивая интригу, предложили ему написать духовную и потребовать, чтобы все бояре, а главное – двоюродный брат царя – удельный князь Владимир Старицкий присягнули их племяннику, младенцу Димитрию.
Трудно сказать, насколько сам Иван Грозный опасался своей смерти…
Скорее всего, и опасения были, было и желание испытать бояр, но главное, очень хотелось избавиться от опеки слишком мудрого Алексея Адашева, слишком прозорливого протопопа Сильвестра… Мысль шурьев Ивану Грозному понравилась.
Насколько велик был страх перед шурьями, показывает донос окольничего Михаила Михайловича Салтыкова на князя Дмитрия Ивановича Немого-Оболенского, сказавшего Салтыкову:
– Бог знает, что делается! Нас бояре приводят к присяге, а сами креста не целовали, а как служить малому мимо старого? А ведь нами владеть Захарьиным.
– Я вас привожу к крестному целованию, велю вам сыну моему Дмитрию присягнуть, а не Захарьиным! – вкрадчиво увещевал бояр Иоанн Грозный. – Но более с вами я не могу много говорить. Дмитрий и в пеленах для вас есть Самодержец законный, но коли вы не имеете совести, то будете ответствовать Богу…
– Мы не целовали креста, – попытался отговориться осторожный князь Иван Михайлович Шуйский, – потому что Государя не видели перед собою… Как присягать, если Государя тут нет?
Ну а отец царского любимца Алексея Адашева окольничий Федор Адашев отговорок искать не стал.
Приведение бояр к присяге во время болезни царя Ивана Грозного в 1553 г. Миниатюра Царственной книги. XVI в.
– Тебе, государю, и сыну твоему царевичу князю Дмитрию мы усердствуем повиноваться, – сказал он. – Другое нас заботит… Сын твой еще в пеленках, а владеть нами будут Захарьины – Данила братиею. А мы ведь от боярского правления уже в твое малолетство беды видели многие!
Шум возник немалый.
Князья Иван Федорович Мстиславский, Владимир Иванович Воротынский, Дмитрий Федорович Палецкий целовали крест Дмитрию. А с ними и Иван Васильевич Шереметев, и Михаила Яковлевич Морозов, и дьяк Иван Михайлович Висковатый, и, конечно же, Захарьины – Данило Романович и Василий Михайлович.
Беспрекословно присягнул, к огорчению Захарьиных, и Алексей Федорович Адашев, разгадавший направленную против него интригу.
Однако Захарьины поспешили донести царю, что принимал присягу Алексей Адашев с неохотою, а протопоп Сильвестр и вообще попытался защищать от нападок бояр князя Владимира Андреевича Старицкого.
Это известие и огорчило Иоанна Грозного, и порадовало…
Обидно было, что любимцы, которых он и поднял к вершинам государственного управления и которые только ему обязаны были всем, что имели, с неохотою поддержали его… Ну а порадовало тем, что теперь у него появилось моральное право избавиться от опеки, отдалиться от высокомудрых друзей. На что нужны друзья, когда рядом шурьи есть?
Между тем удельный князь Владимир Андреевич Старицкий прямо отрекся целовать крест.
– Знаешь сам, что станется на твоей душе, – сказал ему Иоанн Грозный. – Если не хочешь креста целовать, мне до того дела нет.
И когда ушел брат, обратился Иоанн Васильевич к боярам:
– Бояре! Болен я, мне уж не до того, а вы, на чем мне и сыну моему Димитрию крест целовали, потому и делайте. Если станется надо мною воля Божия и умру я, то не забудьте, на чем вы мне и сыну моему крест целовали. Не дайте сына моего извести, лучше бегите с ним в чужую землю, куда Бог вам укажет…
Теперь уже и самые упорные противники Захарьиных-Юрьевых сообразили, что дело нечисто и надобно бояться не шурьев, а царя, который, выздоровев, припомнит, кто супротивничал его воле. На этот раз отправились присягать все. И там-то, в передней избе, и ждало долгодумов очередное унижение. Князь Иван Иванович Турунтай-Пронский даже заплакал, увидев, кто стоит у креста.
– Твой отец, – сказал он Воротынскому, – первый изменник был, а ты теперь к кресту приводишь!
– Я изменник, – отвечал Воротынский, – а тебя привожу к крестному целованию, чтобы ты служил государю нашему и сыну его, царевичу Димитрию; ты прямой человек, а государю и сыну его креста не целуешь и служить им не хочешь.
Турунтаю оставалось только молча поцеловать крест.
Похоже, что Захарьины уже и не рады были своей затее. Больно круто заворачивалось дело.
Иоанн Грозный заметил этот страх и сказал, обращаясь к ним:
– А вы, Захарьины?! Чего испугались? Или думаете, что бояре вас пощадят? Вы от них будете первые мертвецы!
Не рискнем трактовать эти слова как пророчество, но некий магический смысл явно присутствует в них.
Из причудливой смеси царевичей Дмитриев (первого и второго), Лжедмитриев (первого и второго) и выплавлялась династия первых мертвецов…
4
Иоанн Васильевич Грозный выздоровел.
Исполняя данный во время болезни обет, он отправился с царицею и сыном Дмитрием на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь.
Вначале царь заехал в Троицкий Сергиевский монастырь и провел здесь три дня, беседуя с Максимом Греком.
Преподобный попытался отговорить государя от столь дальней поездки.
– Аще, – сказал он, – и обещался ехати, просить святого Кирилла о заступничестве перед Богом, но обеты таковые с разумом не согласны. И вот почему… Когда доставал ты прегордое и сильное басурманское царство, немало христианского воинства храброго тамо от поганых падоша. Жены и дети осиротели и матери обнищали, во слезех многих и скорбех пребывают. Будет гораздо лучше наградить их и устроить, собрав в царственном граде, чем исполнять неразумные обряды. Бог везде сый, все исполняет и всюду зрит недреманным своим оком…
Долго беседовал преподобный Максим с Иоанном Васильевичем Грозным о том, что не только святого Кирилла душа, но души всех прежде бывших праведников, которые изображены на небесах и которые предстоят теперь Престолу Божиему с очами духовными самого острого, особенно сверху, зрения, молятся Христу о всех людях, живущих на земле, особенно о тех, кто раскаивается в грехах, кто по собственной воле отвращается от беззаконий своих к Богу, ведь Бог и святые Его внимают молитвам нашим не по месту их творения, но по нашей доброй воле и по усмотрению.
– Если послушаеши меня, – сказал преподобный, – здрав будеши и многолетен со женою и отрочати…
Но замкнуто было сердце царя для слов святого. Шурья «нашептаху ему во уши», что Максим Грек говорит так, исполняя заказ «ближнего круга» – Алексея Адашева и протопопа Сильвестра.
Между прочим, историки тоже замкнули свой слух для глаголов святого, доверившись «нашептанным» словам Захарьиных-Юрьевых. Даже Н.М. Карамзин пишет, что Максим говорил «вероятно по внушению Иоанновых советников».
Между тем, как сообщает Андрей Курбский, преподобный Максим Грек не успокоился. Через пресвитера Андрея Протопопова, князя Ивана Мстиславского, постельничего Алексея Адашева и его, князя Андрея Курбского, велел передать царю главное свое предсказание…
Максим Грек. Рисунок на рукописи 1590-х гг.
«Аще, – рече, – не послушаеши мене, по Бозе советующаго, и забудеши крови оных мучеников, избиеных от поганов за правоверие, и презриши слезы сирот оных и вдовиц, и поедеши со упрямством, ведай о сем, иже сын твой умрет и не возвратится оттуды жив».
Но и эти слова святого прошли мимо загороженных шепотом шурья ушей Иоанна Грозного.
Не испугавшись грозного пророчества, Иван IV Васильевич велел ехать в Песношский Николаевский монастырь. Там, в Дмитрове, уже ждали суда, на которых и поплыли реками Яхромою, Дубною, Волгою, Шексною в Кирилло-Белозерский монастырь…
Назад в Москву возвращались уже через Ярославль и Ростов…
Возвращались в слезах…
Везли тело умершего в дороге царевича Дмитрия.
Мы выделили названия городов, потому что эти города напрямую связаны с «дмитриевским» эпизодом предстоящей русской истории.
Словно грозное эхо пророчества преподобного Максима Грека звучит повторение этих имен в годы Смуты…
Забегая вперед, скажем, что местное почитание преподобного Максима Грека началось еще в конце XVI века после чудесного спасения на войне царя Федора Иоанновича, многие поклонялись мощам старца, но прославление состоялось почти четыреста лет спустя – в 1988 году…
Почему так задержалось прославление святого? Помимо семидесяти лет большевистской власти, было тут и триста лет правления династии Романовых, отцы-основатели которой так старательно пытались развести – и развели! – своим шепотом преподобного с царем, святость с властью.
Портрет Ивана Грозного. XVII в. Национальный музей. Копенгаген
5
Попробуем разобраться, что же произошло тогда.
Иоанн Васильевич Грозный, следуя своеволию и нашептыванию Захарьиных-Юрьевых, пренебрег благословением святого и, не вняв даже его пророчеству, потерял сына царевича Дмитрия, которому, между прочим, уже присягнули все как царю.
И «не стало царевича Дмитрея, назад едучи к Москве, и положили его в Архангеле, в ногах у В.К. Василья Ивановича…» – говорит Никоновская летопись.
Царевич Дмитрий был первым сыном Иоанна Грозного.
Последним сыном тоже был царевич Дмитрий.
Его убьют в Угличе. Одни считают, что произошел несчастный случай и царевич сам себя зарезал, упав на свой ножичек во время игры, другие – и таких историков большинство! – полагают, что было совершено убийство. Одни винят в этом преступлении Бориса Годунова, другие – таких очень мало! – Романовых.
Об этом убийстве разговор впереди, а пока скажем, что на престоле ни одному из настоящих Дмитриев не суждено было сесть. Сел на русском престоле назвавшийся царевичем Дмитрием человек со двора бояр Романовых – Григорий Отрепьев…
Такое невозможно рассчитать и устроить, но и отнести такое к категории случайного тоже не получается. Жесткая и неумолимая закономерность прослеживается в смене кандидатов на царский престол…
Царевич-младенец, которому уже была принесена боярами присяга, умирает по предсказанию святого…
Царевич-отрок, которого убили, чтобы открыть – Годуновым или Романовым? – путь к Престолу, прославлен как святой…
Самозванец, объявивший себя царевичем, садится на русском троне…
Власть… Святость… Обман…
Призрачность власти…
Кажущееся бессилие и неизбежное торжество святости…
Неодолимость лжи и обмана, которая неизбежно рассыпается в результате в прах.
Можно бесконечно выстраивать подобные ряды, вглядываясь в череду этих Дмитриев нашей истории.
Это не случайность. Это знак…
Знак той истории, которая создается вопреки всем интригам и своеволиям…
И бессмысленно рассуждать, что, дескать, напрасно Захарьины-Юрьевы побуждали Иоанна Грозного принуждать бояр и удельных князей к той присяге…
Может быть, и не напрасно…
На судьбе Захарьиных-Юрьевых-Романовых, кандидатов в первые мертвецы, присяга племяннику отразилась очень благотворно. Эта интрига еще сильнее приблизила их к Иоанну Грозному.
Ну а смерть что ж…
На все, как говорится, воля Божия…
6
Иногда и обида делает сердце зорким.
В каком-то дивном озарении печально знаменитый князь Андрей Курбский назвал Захарьиных-Юрьевых клеветниками и нечестивыми погубителями всего Русского царства.
Он говорил это, основываясь на собственных наблюдениях и пользуясь весьма ограниченным материалом начального периода правления Иоанна Грозного. Что же дало ему основание для такого вывода? Интрига, связанная с присягой царевичу Дмитрию?
Едва ли…
Курбский был слишком умен, чтобы не понимать, что многие царедворцы, оказавшись в положении Захарьевых-Юрьевых, повели бы себя таким же образом.
Кроме того, на положении страны эта присяга никак не отразилась…
Ответ, как нам кажется, надо искать в происходившей тогда в окружении Иоанна Васильевича Грозного борьбе за стратегию внешней и внутренней политики России на будущее.
Некоторые исследователи предполагают, что разногласия между Захарьиными и Адашевым начались, когда решался вопрос, с кем вести войну.
«Адашев и Сильвестр не одобряли войны Ливонской, – пишет Н.М. Карамзин, – утверждая, что надобно прежде всего искоренить неверных, злых врагов России и Христа; что Ливонцы, хотя и не Греческого Исповедания, однакож Христиане и для нас не опасны; что Бог благословляет только войны справедливые, нужные для целости и свободы Государств. Двор был наполнен людьми преданными сим двум любимцам; но братья Анастасии (выделено нами. – Н.К.) не любили их, также и многие обыкновенные завистники, не терпящие никого выше себя».
Это подтверждается и другими историками. Алексей Адашев настаивал на войне с Крымом, в то время как выходцы из Пруссии Захарьины всегда, подобно стрелке компаса, указывающей на север, ломились к Балтийскому морю зачастую вопреки реальным интересам и возможностям Руси.
Алексей Адашев и священник Сильвестр. Рисунок XIX в.
Как показало самое ближайшее будущее, трудно было найти более трудный и более мучительный для России путь, чем тот, который избрал Иоанн Грозный в результате интриг Захарьиных-Юрьевых…
Разумеется, роль их тут преувеличивать не надо.
Иоанн Васильевич Грозный с каждым годом все более совершенствовался в искусстве «перебирания людишек», и смешно было бы надеяться, что он будет относиться как-то иначе даже и к своему любимому «шурью».
Чтобы удержаться у власти, Романовичи должны были научиться угадывать тайные помыслы грозного царя и требовать осуществления именно их, а не каких-то других планов.
Тем более что подошло 13 июля 1560 года, когда в день Собора Архангела Гавриила, словно в напоминание о пожарах, бушевавших в Москве в год свадьбы Иоанна Грозного и Анастасии Захарьиной, снова загорелся Арбат…
Анастасия так испугалась повторения «свадебного» пожара 1547 года, который тоже начался в церкви Воздвижения на Арбате, что слегла.
7 августа 1560 года царицы не стало…
7
Тринадцать лет «смирялся дух» грозного царя, тринадцать лет рядом с ним была царица Анастасия.
«Предобрая Анастасия, – извещает нас летопись, – наставляла и приводила Иоанна на всякие добродетели»…
Есть, однако, и другие суждения. Андрей Курбский, к примеру, сравнивает Анастасию с Евдокией, женой византийского императора Аркадия, устроившей злые гонения на Иоанна Златоуста… Так это или иначе, судить трудно, но влиянием на царя Анастасия действительно пользовалась. И сейчас, когда она умерла, Романовичи уже постигли все тайны дворцовой жизни и, угадывая, что государю хочется освободиться от стесняющей его добродетельности Алексея Адашева, саму смерть сестры сумели использовать для окончательного свержения наскучившего государю фаворита.
Романовы уверили царя, что это протопоп Сильвестр и Алексей Адашев и извели своими чарами царицу Анастасию…
«Что мне от вас бед, всего того не исписати, – писал Иоанн Васильевич Грозный Андрею Курбскому. – А и с женою вы меня про что разлучили? Только бы у меня не отняли юницы моей, ино бы Кроновы жертвы не было».
Иоанн Васильевич Грозный через несколько дней после потери тридцатилетней «юницы» начал вести переговоры о сватовстве к Екатерине – сестре Сигизмунда-Августа, а когда сватовство не удалось, женился на дочери черкесского князя Темрюка, принявшей в крещении имя Мария.
Эта стремительность в устройстве свадебных дел не очень-то сходится с переживаниями Иоанна Васильевича по поводу потери «юницы» и заставляет заподозрить, что его горесть была рассчитана на публику и выказывалась она, когда уже «воскурилось гонение великое», чтобы оправдать жестокость расправы над прежним любимцем.
Имения Адашева описали на государя, а самого его заключили в тюрьму и начали розыск, закончившийся истреблением всех Адашевых и их родственников. Любопытно, что, когда митрополит Макарий[15] потребовал призвать и выслушать обвиняемых, Данила Романович Захарьин со своими приспешниками сумел убедить всех, что Сильвестр и Адашев «…ведомые сии злодеи и чаровницы велицы, очаруют царя и нас погубят, аще придут!». В результате ему удалось так запугать бояр, что Адашева и не допрашивали, а осудили заочно вместе со всей его многочисленной родней.
Так прирастало после кончины царицы Анастасии влияние Захарьиных-Юрьевых-Романовых. Н.М. Карамзин утверждает, например, что хотя и оставались Захарьины-Юрьевы возле Иоанна Грозного во все время правления, но в кровь опричнины они не замарались.
«Никиту Романовича Юрьева уважали как брата незабвенной Анастасии и дядю Государева, любили как Вельможу благодушного, не очерненного даже и злословием в бедственные времена кровопийства»…
Может быть, это и верно, но с той только оговоркой, что все ужасы правления Иоанна Грозного отчасти благодаря интригам Захарьиных и начались. Именно тогда, когда удалось окончательно устранить от царя сторонников протопопа Сильвестра и Алексея Адашева, и приблизились к трону Алексей Данилович Басманов и сын его Федор, Афанасий Иванович Вяземский, Григорий Лукьянович Малюта-Скуратов…
Ну а влияние Романовичей и их место у трона упрочилось…
Теперь они были родными дядями наследников престола царевичей Ивана и Феодора. В 1562 году, когда по указу Ивана Грозного при семилетнем царевиче Иване образовали регентский совет, в него вошли и Романовичи.
8
Даниил Романович умер 27 октября 1564 года, и место царского дворецкого занял его младший брат, любимый шурин царя Иоанна Грозного – Никита Романович Захарьин-Юрьев.
Он был дважды женат.
Первый раз на Варваре Ивановне Ховриной, но она умерла 18 июня 1552 года, и Никита Романович женился во второй раз – на княжне Евдокии Александровне Горбатовой-Шуйской.
От первого брака сыновей не было[16], зато Евдокия Александровна Горбатова-Шуйская, на которой Никита Романович женился в 1555 году, подарила любимому «шурью» Иоанна Грозного шестерых наследников.
Появление первых детей Никиты Романовича совпало по времени с наиболее масштабными успехами (укрепление Казани, взятие Астрахани, Полоцка…) правления Иоанна Грозного…
Никитичи были детьми русских побед Иоанна Грозного…
И это не просто поэтическая метафора, но и констатация реалий той жизни, когда успешность течения государственных и ратных дел определяла успешность течения частной жизни сановников…
В судьбах Никитичей и Никитичен слышатся отзвуки победных литавр…
Анна вышла замуж за князя Федора Ивановича Троекурова…
Евфимия – за князя Ивана Васильевича Сицкого…
Марфа – за двоюродного брата царицы Марии Темрюковны, князя Бориса Канбулатовича Черкасского…
Ирина – за Ивана Ивановича Годунова…
Анастасия – за боярина, князя Бориса Михайловича Лыкова.
Запомним этот список…
Фамилии зятьев Никиты Романовича будут встречаться каждый раз, когда речь пойдет об осуществлении романовских планов…
Пятеро[17] сыновей Никиты Романовича: Федор, Александр, Михаил, Иван, Василий – еще при царе Федоре закрепили свое высокое положение…
Боярин Федор Никитич – будущий патриарх Филарет – был необыкновенно красив, осанист и служил, как утверждают современники, образцом для подражания московским щеголям… Александр Никитич, получивший великолепное образование, уже в двадцать лет сиживал «в кривой лавке» во дворце во время приема послов, был он на Соборе, избиравшем царем Бориса Годунова, который и пожаловал его в бояре, а потом сослал умирать в Усолье-Луду на Белом море…
Михаил Никитич, окольничий, был высоким и отличался удивительной силой. Когда его привезли в Ныроб, жилища для него не нашлось, и пристав приказал сторожам рыть яму прямо на том месте, где они остановились. Валил снег. Шестеро стражников пихали тяжелую кибитку и не могли сдвинуть с места. Тогда Михаил Никитич вылез и «в порыве горести» схватил возок и отбросил его от себя шагов на десять. Это происшествие так поразило ныробцев, что они особенно тщательно укрепили настил над вырытой ямой, в которую и поместили несчастного ссыльного. В этой яме и просидел Михаил Никитич, не покидая ни в дождь, ни в страшные морозы, целый год, а потом умер, и на могиле его «израстоша два древа кедри, – едино у главы, второе же у ног».
Ивана Никитича в бояре пожаловал уже самозванец Григорий Отрепьев, когда венчался на царство. Иван Никитич входил в печально знаменитую Семибоярщину, участвовал он и в возведении на престол своего племянника – Михаила Федоровича Романова…
Василий Никитич до ссылки успел дослужиться только до стольника. Был он смел, отважен и непокорен. Когда стрелецкий сотник Иван Некрасов по дороге из Яренска в Пелым начал выговаривать: дескать, «кому Божиим милосердием, и постом, и молитвою, и милостыней Бог дал царство, а вы злодеи изменники хотели достать царство ведовством и кореньем», Василий Никитич оборвал его:
– Свята та милостыня, что мечут по улицам, добра та милостыня, дати десною рукою, а шуйца бы не слыхала…
За непокорство и держал его стрелецкий сотник в цепях и в дороге, и в избе в Пелыме. Прикованным цепями к стене и умер он…
Вот эти Никитичи и начали называть себя не Захарьиными, не Юрьевыми, а Романовыми. Старшему из них – Федору – предстояло возвести на престол своего сына Михаила – первого царя Романова.
Потребовалось на это почти тридцать лет…
И были эти годы, когда Романовы восходили на престол, может быть, самыми страшными в истории России…
9
Корни и стебли…
Род, из которого вышла царская династия Романовых, происходил от Андрея Кобылы, выехавшего со своим братом Федором Шевлягою из Пруссии в XIV веке…
Пятый сын Андрея Кобылы был боярин Федор Кошка, оставивший четверых сыновей. У старшего из них, Ивана Кошки, тоже было четверо наследников, последний из них, Захарий, дал своему потомству наименование Захарьиных.
Сыновья среднего сына Захария, Юрия, носили название Захарьиных-Юрьевых. Роман Захарьин-Юрьев и был отцом царицы Анастасии и брата ее Никиты. Сыновья его, Никитичи, звались уже просто Романовыми…
Кобылины… Кошкины… Захарьины-Юрьевы… Романовы…
Поражает легкость, с которой меняются эти прозвища…
Она сродни решительности, с которой изменяли свои фамилии наши революционеры.
И как тут не вспомнить снова уже поминавшийся нами разговор А.С. Пушкина с великим князем. Поэт рассуждал, что наиболее революционно настроены в России дворяне.
– Кто были на площади 14 декабря? – сказал Пушкин. – Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много… Nous, qui sommes aussi bons gentilhommes que I'Empereur et Vous[18]…
Великий князь, как замечает сам Пушкин, был очень любезен и откровенен…
В чем заключалась его откровенность, высказанная в ответ на весьма сомнительный комплимент поэта, что и император, и великий князь являются хорошими дворянами, поэт не говорит, но как-то, видимо, эта откровенность приводила к ключевым пушкинским словам:
– Vous etes bien de votre famille, tоus les Romanof sond revolutionnaires et niveleurs[19].
– Спасибо… – сказал великий князь, – так ты меня жалуешь в якобинцы! Благодарю, voila une reputation qui me manquait…[20]
Говоря о Романовых революционерах и уравнителях, Пушкин не знал, какой жестокой насмешкой будут казаться его слова два столетия спустя…
Романовым еще суждено было пройти путь к своей Голгофе, но и тот, что они прошли к власти, был сходен с путем, которым прошли русские революционеры.
Не об этом ли говорит в «Борисе Годунове» предок поэта, Гаврила Пушкин?
Нас каждый день опала ожидает, Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы, А там – в глуши голодна смерть иль петля. Знатнейшие меж нами роды – где? Где Сицкие князья, где Шестуновы, Романовы, отечества надежда? Заточены, замучены в изгнанье…В словах этих, как и во всей драме Пушкина, почти нет авторского вымысла…
Александр Никитич Романов был сослан в Усолье-Луду на берегу Белого моря, где и скончался в 1602 году.
Василий Никитич Романов умер 15 февраля 1602 года в Пелыме…
Иван Никитич Романов, сосланный в Пелым, три месяца был прикован к стене.
Михаил Никитич Романов умер в земляной яме в Ныробе Чердынского уезда.
Кажется, что речь идет не о родоначальниках царской династии, а о самых настоящих революционерах. Впрочем, ведь и с захваченной ими Россией Романовы поступили тоже как самые настоящие революционеры…
Вглядываешься в события истории и поражаешься не столько ее причудливости, сколько прихотливой закономерности случайностей…
Все Никитичи – в том числе и родоначальник царской династии – от второго брака. Их могло и не быть, но они рождаются и рождаются, как мы говорили, в период наиболее ярких успехов Иоанна Васильевича Грозного (от взятия Казани до начала Ливонской войны)…
Интересно и то, что «демографический взрыв» в семье царского «шурья» совпадает с прекращением (после кончины Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой) чадородия в Царской Семье, с долгой полосой политических и военных неудач…
Учитывая, что речь идет не просто о семьях, а о династиях правителей России, одна из которых (Рюриковичи) завершается, а другая (Романовы) начинается, не отметить этого совпадения нельзя.
И тут надо снова вернуться к вопросу о выборе Романовыми фамилии.
В принципе, если уж не хотелось братьям называться ни Захарьевыми, ни Юрьевыми, можно было назваться Никитиными… Они же были сыновьями Никиты Романовича. Но родоначальник будущей династии и его братья, самоотверженно помогавшие ему, взяли для фамилии имя деда, а не отца.
И это тоже понятно.
Федору Никитичу Романову (патриарху Филарету) хотелось, чтобы династия будущих царей начиналась от царицы Анастасии… Хотелось, чтобы все помнили, что они были рождены братьями (двоюродными) последнего царя из династии Калиты. И все это верно, за исключением того, что новая династия начиналась от царицы…
Нет, она начиналась возле царицы…
Глава третья Убиение Святого царевича
Тиранство Иоанна Грозного, пробудившееся после падения Сильвестра и Адашева, летописцы называли чуждою бурею…
«Была она послана, – добавил Н.М. Карамзин, – как бы из недр ада»…
1
Первые казни Грозного обрушились на родственников и друзей Алексея Адашева.
Казнили его брата, Данилу Адашева, талантливого полководца, героя Крымского похода и Ливонской войны, казнили с двенадцатилетним сыном…
Казнили трех шуринов Адашева – Сатиных…
Казнили некую Марию, жену знатную с пятью сыновьями…
Казнили Ивана Шишкина с женой и детьми…
Зарезали князя Дмитрия Оболенского-Овчину. Царь прямо за обедом вонзил ему в сердце нож…
А князя Михаила Репнина зарезали в церкви…
Казнили князя Юрия Кашина… Удавили воеводу Никиту Шереметева…
Перечень можно продолжать, но это было только начало. Спустя четыре года пришла, как говорит Н.М. Карамзин, «вторая эпоха казней».
Открыла ее казнь князя Александра Борисовича Горбатого-Шуйского. Знаменитому воеводе надлежало умереть с семнадцатилетним сыном Петром.
– Да не зрю тебя мертвого! – сказал отец и первым шагнул к плахе.
Сын его поднял отсеченную голову отца, поцеловал и сам шагнул к плахе…
Гробница Ивана Грозного и его сыновей в Архангельском соборе Московского Кремля
В тот же день казнили шурина Горбатого – Петра Ховрина, окольничего Петра Петровича Головина, князей Ивана Ивановича Сухого-Кашина и Петра Ивановича Горенского…
А князя Дмитрия Шевырева посадили на кол, и он целый день, пересиливая муку, пел канон Иисусу…
Когда привычными стали самые страшные казни, пришло время казнить города…
Новгородцев избивали палицами, жгли составною мудростью огненною, целыми семьями сбрасывали с моста в Волхов… Воистину чуждою бурею, как бы из недр ада посланною возмутить, истерзать Россию, пронеслись над страной эти казни…
Можно рассуждать, что, вырезая старинные роды и целые города, Иоанн IV Васильевич пытался сломить и фактически сломил хребет удельной и местнической психологии…
Наверное, это так…
Но вместе с тем есть в этом рассуждении и изрядная доля лукавства.
Что толку уничтожать удельную психологию, если на смену старой знати поднималась новая, цепко держащаяся за власть аристократия? Она отличалась необыкновенным честолюбием, но при этом умела жертвовать честью, когда этого требовали обстоятельства карьеры…
Местничество было злом для России, а эти люди?
При Иоанне Васильевиче Грозном не удержался ни мудрый Алексей Адашев, ни святитель Филипп Колычев, ни лиходеи Басмановы…
Зато поднимались и крепли роды Романовых и Годуновых…
Иоанн Васильевич не подобрал их, а вывел, «перебирая людишек».
2
Путь Годуновых в царские «шурья» был труднее, чем у Романовых.
Брак родственницы Годуновых Евдокии Сабуровой с царевичем Иваном оказался неудачным.
Меньше года длилось замужество Евдокии…
Грозный свекор, по совету «любимого шурья» Никиты Романовича, отправил невестку в монастырь.
А несколько месяцев спустя шведская пуля сразила в Ливонии могущественного тестя Бориса Годунова – Малюту Скуратова. Это для Годуновых было пострашней потери Евдокии.
Падение их казалось теперь неизбежным, но Годуновы устояли. Более того, царевич Федор женился на сестре Бориса Годунова – Ирине…
В следующее царствие Русь вступила с двумя кланами царских родственников. Годуновы ровнехонько шли вслед за Романовыми. Борис Годунов занял при царе Фёдоре то же место, что Никита Романович занимал при Иоанне Грозном, – любимого шурина.
Зато сам Никита Романович превратился в дядю царя, а его сыновья, Никитичи, стали двоюродными братьями государя.
И Романовы, и Годуновы – это фирменный продукт эпохи Иоанна Грозного, и не случайно, что именно между этим шурьём и развернулась в дальнейшем основная борьба за власть…
Но это потом, а поначалу, чтобы уцелеть в развернувшейся борьбе, Романовы и Годуновы действовали достаточно сплоченно. Умение позабыть о спорах и разногласиях, когда требовалось расправиться с общим врагом, помогло им выстоять после кончины Иоанна Васильевича Грозного.
Н.М. Карамзин, характеризуя Верховную Думу, составленную умирающим Иоанном, говорит об уважении, которым пользовались представители пострадавшей в правление Грозного знати…
Царь Федор Иоаннович. Парсуна. XVII в.
Князя Ивана Федоровича Мстиславского (Гедиминовича) почитали за знатность рода, в князе Иване Петровиче Шуйском (Рюриковиче) «чтили славу великого подвига ратного».
Отношение к неродовитым, выдвинувшимся при Грозном сановникам было сложнее.
Откровенно ненавидели любимца Иоанна – хитрого Богдана Яковлевича Бельского… Бориса Годунова тоже опасались: «ибо он также умел снискать особенную милость тирана, был зятем гнусного Малюты Скуратова».
Ну а «Никиту Романовича Юрьева уважали как брата незабвенной Анастасии и дядю Государева»…
Эта характеристика точно отражает распределение сил в Верховной Думе.
Хотя взаимоотношения (работало множество сложнейших семейных связей) были достаточно сложными, но в целом всю деятельность Думы определяла борьба родовой знати и новых выдвиженцев, «земцев» и «опричников».
Составляя Думу, Иоанн Грозный надеялся сохранить преемственность своей политики…
Тут он крупно ошибся.
Грозный царь умер, собравшись поиграть в шашки, вечером 18 марта 1584 года, а уже ночью Дума выслала из Москвы многих «услужников Иоанновой лютости», других арестовали, а к родственникам царицы Марии Нагой приставили стражу…
Свояк Бориса Годунова Богдан Бельский, пытаясь утихомирить бояр, собрал подчиненные ему стрелецкие сотни и затворил Кремль.
Опасаясь, что он распустит Верховную Думу и будет единолично править от имени царя, князья Шуйские подняли народ.
Шуйских поддерживала и боярская аристократия, и москвичи.
Бельского – худородные дьяки Щелкановы и стрельцы.
Сложнее определить, кого поддерживали родственники царя. Считается, что Никита Романович действовал против Бельского, а Борис Годунов якобы защищал свояка.
Это не совсем так.
И Никита Романович, и Борис Годунов были родственниками Федора Иоанновича, и ни одного из них не устраивало торжество Бельского, пытавшегося подчинить себе царя. Впрочем, торжество родовой аристократии их тоже не устраивало.
Почему? Да потому, что в сравнении с Гедиминовичами и Рюриковичами Романовы и Годуновы были одинаково и безнадежно худородны…
Неизвестно, координировали ли Годуновы и Романовы свои действия, но они дружно и четко сыграли и против боярской оппозиции, и против «опричников» за свою собственную команду родственников царя.
Борис Годунов помешал свояку развить успех, когда была возможность распустить регентский совет, а Никита Романович, пустив в ход все свое знаменитое благодушие, блокировал попытки Шуйских развить успех восстания. Он уговорил смутьянов удовольствоваться высылкой Богдана Бельского из Москвы… Мятежники разошлись по домам, а Бельский отправился в Нижний Новгород.
Повторим, что система сдержек и противовесов в первые недели правления царя Феодора была сложной, но уже тогда стало ясно, что основная борьба за влияние на царя развернется не в Думе, а внутри Царской Семьи, между шурьем.
Никита Романович вскоре занял первое место в Верховной Думе, но вскоре после венчания на царство Федора Иоанновича[21] его расшиб паралич, и Борис Годунов решительно расправился с учреждением Иоанна Грозного, растворив его в древней Боярской думе.
И как всегда – фирменный знак политики Годунова! – шурин царя Федора сумел сделать вид, будто падение Никиты Романовича осуществлено исключительно руками партии знати, и родовитые бояре действительно приняли его за свою победу и, развивая успех, опрометчиво начали хлопотать о разводе царя с Ириной, чтобы сокрушить заодно и Годуновых.
Заговор был раскрыт, и его вдохновитель – митрополит Дионисий – отправился в Хутынский монастырь под Новгородом.
Год спустя Борис Годунов расправился и с князьями Шуйскими.
Многих из них удавили, а князь Иван Петрович Шуйский, в котором «чтили славу великого подвига ратного», был пострижен в монастырь и «угорел» в своей келье в Белоозере…
Возможно, Годунов на всякий случай расправился бы и с Романовыми, но Никита Романович предусмотрительно выдал за внучатого племянника Годунова дочь Ирину, породнив своих сыновей – двоюродных братьев царя – с могущественным царским шурином и царицей.
Окончательный мир заключили в августе 1584 года, когда Никита Романович, чувствуя приближение смерти, взял с Бориса Годунова клятву «соблюдать» его детей и «вверил» ему попечение о них.
Годунову казалось потом, что он свое слово сдержал и во все царствование Феодора имел молодых Никитичей в «завещательном союзе дружбы»…
3
«На громоносном престоле мучителя Россия увидела постника и молчальника, более для кельи и пещеры, нежели для власти державной, рожденного… – пишет Н.М. Карамзин. – К счастью России, Федор, боясь власти как опасного повода к грехам, вверил кормило государства руке искусной… Сие царствование… казалось современникам милостью Божьей, благоденствием, златым веком: ибо наступило после Иоаннова».
«Царь Федор был мал, внешность монашескую имел, смирением был прославлен, о духовных делах заботился, на милость был щедр и нищим, просящим у него, подавал – обо всем земном не заботился, только о душевном спасении, – говорится и в “Летописной книге” С. Шаховского. – И за это Бог царство его миром оградил, врагов поверг к стопам его и время спокойное даровал».
Говоря о времени царя Федора, надо сказать, что именно в это царствование Русь наконец-то вышла к Балтийскому морю.
После штурма 19 февраля 1590 года Нарвы генерал Карл Горн запросил перемирия, по условиям которого русским возвращался Ивангород, Ям, Копорье и все побережье между Невой и Наровой. Больше чем на столетие опередив Петра I, завели в 1599 году и морской флот. Тогда в Любеке были куплены два корабля. Матросами на них вначале наняли немцев, а в 1603 году и первые молодые русские люди отправились за границу на учебу.
И все это происходило спокойно, без какого-либо насилия, без надрыва, без перенапряжения. Вчитываясь в строки указов Федора Иоанновича, нельзя не поразиться их уверенности в неисчерпаемости народных сил. А чем, собственно говоря, еще и может быть силен правитель, как не этой безграничной верой в неисчерпаемые силы своего народа?
И не случайно, помимо достаточно успешных экономических преобразований и победных военных кампаний, именно в царствование Федора Иоанновича произошло событие, которое по праву можно считать узловым во всей истории Святой Руси…
25 января 1589 год в Успенском соборе Кремля, в приделе Похвалы Пресвятой Богородицы константинопольским патриархом Иеремией был посвящен в сан первый русский патриарх Иов. Идея игумена Филофея о Москве как Третьем Риме начинала обретать зримые очертания…
– Отныне возвеличением митрополита Руси в сан Патриарший, – сказала тогда царица Ирина, – умножилась слава Российского царства во всей вселенной. Этого давно желали князья русские и этого, наконец, достигли.
Необыкновенно глубокий смысл заключен в этих словах русской царицы.
Символично, что именно на последних годах правления династии Рюриковичей и произошло то, чего «давно желали русские князья», к чему вели Русь святой равноапостольный князь Владимир, святой благоверный князь Александр Невский, святой благоверный князь Дмитрий Донской. Введение патриаршества – это итог правления династии Рюриковичей! Святая Русь обрела под их рукою не только государственную, но и духовную самостоятельность.
Однако еще большую глубину приобретают слова царицы Ирины, когда мы соотносим их и с последующими событиями…
Столетия правления первых Романовых, пришедших на смену Рюриковичам, по сути, были столетиями борьбы новой династии с духовной самостоятельностью и своеобразием Руси. Почти двести лет пытались эти Романовы переустроить Русь по западному образцу, перелицевать ее духовность на протестантский лад…
Поразительно, но все этапы этой борьбы зримо обозначились в отношении Романовых к патриаршеству…
Вспомним, что патриархом стал сам основатель династии – Филарет Романов. Первый раз в этот сан его возвел тушинский самозванец, еврей Богданко. Второй раз – собственный сын.
Вспомним, что второй царь из Дома Романовых, Алексей Михайлович, вступил в открытую борьбу с патриархом и отправил в ссылку патриарха Никона… Сын Алексея Михайловича, Петр I, вообще отменил патриаршество и попытался реформировать Православную Церковь на протестантский лад…
Исправить ошибки предков попытались император Павел и его сыновья и внуки. Существует предание, что император Николай II вообще изъявлял желание, передав трон преемнику, стать патриархом.
Это не осуществилось. Патриаршество было возрождено только после падения династии Романовых. И императору Николаю, как мы знаем, сужден был не святительский подвиг, а подвиг царя-мученика…
Но всё это впереди, впереди и разговор об этих событиях, а пока отметим, что именно с введением патриаршества совпало начало активной антиправительственной деятельности бояр Романовых.
15 мая 1591 года в Угличе убили царевича Димитрия.
4
Утро в тот день началось в Угличе ссорой государева дьяка Михаила Битяговского с братьями Нагими.
По указу царя Федора удельная семья утратила право распоряжаться доходами со своего княжества и получала деньги «на обиход» из царской казны. Выдавал их Михаил Битяговский, и выдавал, как считали братья царицы, мало.
В то утро Михаил Нагой попросил денег «из казны» сверх государева указа. Битяговский отказал ему, началась ругань.
Огорченные Михаил и Афанасий отправились пьянствовать, а царица Мария села покушать.
Сына она отпустила поиграть со сверстниками на задний дворик, что находился между дворцом и крепостной стеной. За царевичем приглядывала мамка – боярыня Василиса Волохова и две няньки.
Обед еще не закончился, когда вдруг раздался крик.
Царица Мария выбежала на задний дворик и увидела убитого сына.
Схватив с земли полено, Мария Федоровна начала избивать Василису Волохову. Она кричала, что царевича зарезал сын мамки-боярыни – Осип.
По приказу царицы ударили в колокол, созывая народ на помощь…
Главный дьяк Углича Михаил Битяговский – набат прервал его трапезу! – вначале попытался пробраться на звонницу, но звонарь заперся на колокольне и не слышал ничего или делал вид, что не слышит.
– Уйми шум, каб дурна какого не сделал! – закричал дьяк на пьяного Михаила Нагого, тоже прибежавшего к дворцу из-за стола.
Михаил Нагой ничего не успел ответить.
– Вот они, душегубцы! – закричала царица, указывая на дьяка.
Разъяренные угличане выбили двери и растерзали укрывшихся в дьячей избе Битяговских.
С площади люди ринулись на подворье дьяка, «питье из погреба в бочках выпили», дом разграбили, а жену дьяка, детишек и укрывавшегося с ними Осипа Волохова потащили на площадь.
Бедную женщину и детишек от лютой смерти спас архимандрит Феодорит. Он «ухватил» их «и убити не дал».
Архимандрит видел в церкви и Осипа Волохова.
Весь израненный и окровавленный, он стоял неподалеку от тела царевича «за столпом», а Василиса Волохова на коленях упрашивала царицу «дати ей сыск праведной».
Но Мария Федоровна была неумолима. Едва старцы покинули церковь, она объявила толпе, что царевича убил Осип.
Толпа разорвала юношу.
Любопытное описание убийства было приведено А.Ф. Бычковым в «Чтениях Московского общества истории и древностей»:
«В седмой час дни, как будет царевич противу церкви царя Константина, и (по повелению изменника злодея Бориса Годунова,) приспевши душегубцы ненавистники царскому кореню (Никитка Качалов да Данилка Битяговский) кормилицу его палицею ушибли, и она обмертвев пала на землю, и ему государю царевичу в ту пору киняся перерезали горло ножем, а сами злодеи душегубцы вскричали великим гласом. И услыша шум мати его государя царевича и великая княгиня Мария Федоровна прибегла, и видя Царевича мертва и взяла тело его в руки, и они злодеи душегубцы стоят над телом государя царевича, обмертвели, аки псы безгласны, против его государевой матери не могли проглаголати ничтоже; а дяди его государевы в те поры разъехалися по домам кушати, того греха не ведая. И взяв она государыня тело сына своего царевича Димитрия Ивановича и отнесла к церкви Преображения Господня, и повелела государыня ударити звоном великим по всему граду, и услыхал народ звон велик и страшен яко николи не бысть такова, и стекошася вси народы от мала до велика, видя государя своего царевича мертва, и возопи гласом велиим мати его государева Мария Федоровна плачася убиваяся, говорила всему народу, чтоб те окаянные злодеи душегубцы царскому корени живы не были, и крикнули вси народы, тех окаянных кровоядцев камением побили».
Если изъять из этого отрывка выделенные нами строки, многое здесь внушает доверие. Интересно же это описание тем, что в нем еще рельефнее проступают странности поведения Марии Нагой.
Она выбегает на крик царевича, видит его убитого, кормилицу оглушенную и, еще не разобравшись ни в чем, кричит на Битяговских, что это они убийцы. Более того, убиваяся, говорит всему народу, чтоб те окаянные злодеи душегубцы царскому корени живы не были… То есть она требует немедленной расправы над племянником и сыном угличского дьяка, не пытаясь выяснить, кто подучил их совершить это страшное преступление…
Царевич Дмитрий Иоаннович. Портрет из «Титулярника». 1672 г.
Все, что мы изложили, – факты, подтвержденные многочисленными свидетельствами и никем, кажется, не оспариваемые.
Споры идут по другому поводу. Спорят, было ли происшествие в Угличе убийством, или царевич погиб от неосторожного обращения с ножом.
Пытаются выяснить, кто все-таки был убийцей царевича Дмитрия и кто заказал это убийство?
Ломают голову, почему Шуйский, проводивший следствие, впоследствии изменил свое мнение?
Не могут понять, какую роль в преступлении играли сами Нагие…
Но это сейчас…
Надо сказать, что долгое время для наших историков таких вопросов просто не существовало. Они твердо знали, кто убил царевича, кто заказал убийство, как это убийство было осуществлено.
«Начали с яда, – пишет Н.М. Карамзин. – Мамка царевичева, боярыня Василиса Волохова, и сын ея, Осип, продав Годунову душу, служили ему орудием, но зелие смертоносное не вредило младенцу, по словам Летописца, ни в яствах, ни в питии. Может быть, совесть еще действовала в исполнителях адской воли, может быть, дрожащая рука бережно сыпала отраву, уменьшая меру ея, к досаде нетерпеливого Бориса, который решился употребить иных смелейших злодеев»…
Согласно Карамзину, мамка боярыня Волохова силой вывела царевича из горницы и провела к нижнему крыльцу, где уже ждали его Осип Волохов, Данила Битяговский, Никита Качалов.
– Государь! – взяв Димитрия за руку, сказал Осип. – У тебя новое ожерелие!
– Нет, старое… – улыбаясь, ответил младенец.
И тут «блеснул над ним убийственный нож: едва коснулся гортани его и выпал из рук Волохова. Закричав от ужаса, кормилица обняла своего Державного питомца. Волохов бежал; но Данило Битяговский и Качалов вырвали жертву, зарезали и кинулись вниз с лестницы…».
5
Даже на либеральном склоне XIX века, следуя летописям, готовым приписать Борису Годунову любое преступление, наши историки считали само собой разумеющимся, что убийство царевича Дмитрия якобы было выгодно Борису Годунову и поэтому и было (или могло быть) устроено им…
«Что Борису был расчет избавиться от Дмитрия, – это не подлежит сомнению; роковой вопрос предстоял ему: или от Дмитрия избавиться, или со временем ожидать от Дмитрия гибели самому себе… – говорит Н.И. Костомаров. – Скажем более, Дмитрий был опасен не только для Бориса, но и для царя Федора Ивановича. Дмитрию еще пока был только восьмой год. Еще года четыре, Дмитрий был бы уже в тех летах, когда мог, хотя бы и по наружности, давать повеления. Этих повелений послушались бы те, кому пригодно было их послушаться; Дмитрий был бы, другими словами, в тех летах, в каких был его отец в то время, когда, находившись под властию Шуйских, вдруг приказал схватить одного из Шуйских и отдать на растерзание псарям».
Вообще, для историка такого уровня, как Н.И. Костомаров, непростительно уже само сопоставление царевича Дмитрия с его отцом…
Когда Иоанн Грозный приказал псарям убить князя Андрея Шуйского, он был хотя и малолетним, но законным наследником короны, никому другому его корона не принадлежала, и никто на нее открыто не претендовал. Царевич Дмитрий не смог бы поступить так, потому что законным царем был его брат Федор.
Костомаров совершенно правильно отмечает, что «в Московской земле… к особе властителя чувствовали даже рабский страх и благоговение; но все такие чувства не распространялись на всех родичей царственного дома (выделено нами. – Н.К.)».
Если бы сам царевич Дмитрий или его мать со своими братьями и попытались свергнуть законного царя Федора, именно вследствие того, что страх и благоговение не распространялись на всех родичей царственного дома, их попытка не могла иметь успеха. Тем более что царевич Дмитрий вообще был лишен прав на престол[22], и даже имя его запретили поминать в церкви в списке царственных особ…
Сильно преувеличиваются и опасения Бориса Годунова по поводу царевича.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на положение Годунова не из последующих десятилетий, а из того 1591 года, когда им якобы и принималось решение об уничтожении Дмитрия.
Тогда царю Федору было всего тридцать четыре года, и ничего не предвещало скорой его кончины.
И надежды на продолжение династии тоже не окончательно были потеряны. Хотя уже десять лет длился бездетный брак, но любви друг к другу царственные супруги не потеряли, и, значит, надобно было только молиться и ждать.
Между прочим, ожидания эти были вполне реальными…
В 1592 году царица Ирина родила дочь, великую княжну Феодосию[23], подтверждая этим, что надежда на продолжение династии сохраняется.
Значит, и Борису Годунову еще рано было тогда опасаться угличского отрока. Пойти в 1591 году на совершение такого громоздкого преступления он мог только в состоянии умственного помрачения. Он ничего не выигрывал, а потерять рисковал все.
Годунов прекрасно понимал, что любое происшествие с царевичем Дмитрием враги используют для его дискредитации, и, учитывая это, правильнее будет сказать, что едва ли был на Руси еще один человек, которому бы смерть Дмитрия была так невыгодна, как Годунову…
Н.И. Костомаров, кажется, понимал это, но, как часто бывало с ним, благоразумие порою изменяло ему, и пылкие слова заменяли взвешенные аргументы:
«Убийцы могли посягнуть на убийство Дмитрия не по какому-нибудь ясно выраженному повелению Бориса; последний был слишком умен, чтобы этого не сделать; убийцы могли только сообразить, что умерщвление Дмитрия будет полезно Борису, что они сами за свой поступок останутся без преследования, если только сумеют сделать так, чтобы все было шито и крыто»…
Но это же совсем несерьезно…
Хотя Дмитрия и лишили прав на престол, он оставался родным братом царя Федора, который, кстати сказать, любил его. Что сделал бы благочестивый царь Федор и с преступниками, и с любимым шурином, если бы тот оказался замешанным в преступлении, догадаться нетрудно. И современники, в отличие от историков XIX века, воспитанных в традициях просвещенного монархического афеизма, безусловно, знали это…
Нелепо даже предположение, что мог найтись безумец, который решится на убийство, сообразив, что умерщвление Дмитрия будет полезно Борису, без твердой гарантии оплаты, лишь в надежде, что они останутся без преследования?
Ну и, конечно же, следуя этой логике, убийство царевича Дмитрия можно приписать любому деятелю той эпохи… Между прочим, Н.И. Костомаров и сам признает, насколько невероятно предположение об организации Борисом Годуновым убийства царевича.
«Борис, – замечает он, – правил самодержавно, чего хотел он, все то исполнялось, как воля самодержавного государя. Заговор мог составляться только против Бориса, а не Борисом с кем бы то ни было».
Вот эти, пусть и вырванные из контекста, рассуждения представляются нам более разумными, чем беспочвенные обвинения Годунова. В Угличе действительно был составлен заговор…
Только не Борисом Годуновым, а против Бориса Годунова.
6
Расследование угличской трагедий проводилось с редкой по тем временам оперативностью. Уже 19 мая в Углич прибыла следственная комиссия, возглавляемая князем Василием Ивановичем Шуйским и бывшим дядькой царя Федора Андреем Петровичем Клешниным…
Комиссия эта выяснила два обстоятельства, в корне опровергающие версию, выдвинутую Марией Нагой.
Во-первых, оказалось, что ни она, ни ее братья не видели, кто убил царевича, они не присутствовали во дворе в момент убийства…
Во-вторых, было установлено, что сам дьяк Михаил Битяговский не мог принять участие в преступлении, ибо обедал в своем доме, когда ударили в набат. Алиби подтвердил священник Богдан (духовник Григория Нагого), который обедал в тот день у Битяговских.
Если даже допустить, что материалы следствия под давлением Бориса Годунова были сфальсифицированы, то очевидно, что эпизода с дьяком Битяговским фальсификация не коснулась. Чтобы вывести из-под обвинения Бориса Годунова, незачем было обелять человека, который был уже убит и не мог свидетельствовать против Годунова…
Выяснилась и другая любопытная деталь…
Накануне приезда комиссии Шуйского Михаил Нагой глубокой ночью собрал верных людей и велел раздобыть оружие. Нашли кривой ногайский нож, два обыкновенных ножа и железную палицу. Потом зарезали в чулане курицу, облили оружие кровью и отнесли в ров, где лежали обезображенные трупы.
Подложные улики были заготовлены, чтобы сбить с толку следователей. Но обман оказался раскрыт. Первым повинился приказчик Раков. Михаил Нагой поначалу пытался запираться, но тоже признался.
Многое можно понять…
Можно понять ярость Марии Нагой, когда она бьет поленом боярыню Василису Волохову, не уследившую за царевичем.
Зато с обвинением в убийстве Осипа Волохова сложнее. Почему царица решила, что убийца он? Тем более что минуту спустя безутешная мать назовет убийцами Битяговских…
Что же получается? Если царица называет убийцами всех попадающихся на глаза неприятных людей, то справедливо предположить, что сведение счетов занимает ее сильнее, чем переживания по поводу гибели сына?
Необъяснимо и то, как дружно называют братья Нагие одни и те же имена мнимых убийц. Похоже, они пришли на место трагедии с готовой версией убийства, ибо согласовать детали на месте убийства просто не успевали.
И ведут себя Нагие, и царица, и ее братья, как люди, которые не столько потрясены разыгравшейся трагедией, сколько заинтересованы в сокрытии подлинных виновников, в уничтожении следов преступления…
Все эти свидетельства, касающиеся сговора Нагих в выборе мнимых убийц, и поспешность, с которой те были уничтожены, представляются нам подлинными. Они вытекают из материалов дела, но прямо в нем не обозначены – не было проведено ни одного допроса Марии Нагой, не задавались напрямик эти вопросы и ее братьям! – и, значит, о фальсификации речи идти не может.
Разумеется, сама мысль об участии Нагих в убийстве царевича Дмитрия выглядит абсурдно. Зачем им было нужно это? Как они могли быть заинтересованы в этом убийстве?
Но так кажется нам, а в 1591 году в семье Нагих, возможно, и знали ответы на эти вопросы.
Во-первых, как мы уже говорили, Нагие не питали особой надежды на воцарение Дмитрия. Не очень-то и стар еще был царь Федор…
Во-вторых, уже объявлено было, что брак Иоанна Грозного с Марией Нагой незаконный, и Нагие резонно считали, что этим дело не кончится, а последуют дальнейшие притеснения. Следствием этого была ненависть к Годунову, укравшему, как не без основания считали Нагие, счастье у их рода.
А еще была бедность, которая усиливалась день ото дня, и ради того, чтобы покончить с ней, Нагие были способны на многое…
Не связанные со следствием Шуйского источники подтверждают, что смерть царевича Дмитрия не стала неожиданностью для Нагих. Нагие развернули после убийства царевича такую бурную деятельность, будто убийство царевича планировалось ими.
Английский посланник Джером Горсей, оставивший замечательные записки о событиях Смуты, в мае 1591 года находился неподалеку от Углича, в Ярославле.
Об угличской трагедии он узнал раньше, чем в Москве.
В ночь на 16 мая его разбудил громкий стук. Вооружившись пистолетами, Горсей выглянул на улицу и при свете луны узнал Афанасия Нагого.
Страница следственного дела o смерти царевича Димитрия в Угличе. 1591 г.
Афанасий рассказал, что в Угличе убит царевич Дмитрий.
Скоро, как свидетельствует Горсей, начали бить в набат, поднимая народ на восстание. Эту готовность Нагих поднять восстание тоже невозможно было фальсифицировать.
Восстания не произошло…
Новость не особенно-то взволновала ярославцев. Однако, потерпев неудачу в Ярославле, Нагие не успокоились. В последних числах мая мы видим братьев Нагих в Москве, где произошли крупные пожары.
Нагие распространяли слухи, что в поджоге Москвы, как и в убийстве царевича, повинны Годуновы.
В принципе, Нагие повторили уже испробованный Романовыми в 1547 году прием. Тогда удалось с помощью пожаров устроить падение Глинских…
Но Нагие, в отличие от Романовых, явно не рассчитали сил. Годунову сразу же удалось задержать виновников пожара – московского банщика Левку с товарищами. На допросе Левка показал, что прислал к нему «Офонасей Нагой людей своих – Иванка Михайлова с товарищи, велел им накупать многих зажигальников, а зажигати им велел московский посад во многих местах»…
7
Уже процитированное нами предание, которое привел А.Ф. Бычков, начиналось утром рокового дня.
«И того дни (15 мая) царевич по утру встал дряхл с постели своей и голова у него, государя, с плеч покатилася, и в четвертом часу дни царевич пошел к обедне и после Евангелия у старцев Кириллова монастыря образы принял, и после обедни пришел к себе в хоромы, и платьицо переменил, и в ту пору с кушаньем взошли и скатерть постлали и Богородицын хлебец священник вынул, и кушал государь царевич по единожды днем, а обычай у него государя царевича был таков: по вся дни причащался хлебу Богородичну; и после того похотел испити, и ему государю поднесли испити; и испивши пошел с кормилицею погуляти…»
Для нас дорога эта картина тем, что это единственная, кажется, зарисовка, где святой Дмитрий изображен не припадочным, одержимым черной болезнью, сладострастно упивающимся жестокостями (это все говорилось о восьмилетнем мальчике!) отроком, а в более реалистических тонах, в более привычной царевичу обстановке…
Царевич Дмитрий родился 19 октября. Прямое его имя – Уар.
Уар – святой мученик. Жил он в Александрии и был начальником Тианской когорты. Когда начались гонения на христиан, святой Уар обходил по ночам темницы, навещая заключенных христиан.
Однажды святой Уар попал в темницу к семи христианским учителям. Святой просил их помолиться, чтобы он избавился от страха и сподобился пострадать за Христа.
– Если ты страшишься исповедать Христа на земле, то не увидишь Его лица на Небе, – ответили учителя.
Святой Уар слушал их, и в нем разгоралась любовь к Богу…
Утром, когда один из мучеников скончался, святой Уар остался в темнице. Представ вместе с шестью учителями перед наместником, он заявил, что хочет пострадать вместо скончавшегося узника. Святого Уара долго терзали, пока все внутренности его не выпали на землю. Святые молились за него и воодушевляли на подвиг. Наместник приказал увести их обратно в темницу.
– Учители мои! – возопил к ним святой Уар. – Помолитесь за меня последний раз Христу, ибо я уже разлучаюсь с телом, вас же благодарю за то, что вы привели меня к Вечной Жизни.
Когда святой Уар скончался, мучители вытащили его тело из города и бросили на съедение псам.
Одна благочестивая вдова, блаженная Клеопатра, под видом останков своего мужа перенесла мощи святого мученика в Палестину и положила в древней гробнице своих предков. Каждый день ходила она к гробнице, ставила свечи, совершала каждение, а по ее примеру и другие христиане стали прибегать к молитвам святого Уара и получали при гробе его исцеления…
Судьба святого царевича Дмитрия схожа с судьбою его небесного покровителя.
Независимо от того, замешаны ли Нагие в убийство царевича, нравственное состояние их не может быть оценено слишком высоко. Последующие события Смуты и, главное, то, что Мария Федоровна Нагая признала своим сыном Григория Отрепьева, подтвердили это.
А с другой стороны – царевич Дмитрий… Святой, чистый отрок…
Какое напряжение может развиться в таком противостоянии, хорошо известно.
Считается, что слухи о жестокости царевича Дмитрия распускались правительством Бориса Годунова… Рассказывалось, что царевич якобы «находит удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивают скот, видеть перерезанное горло, когда течет из него кровь, и бить палкою гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут», что он набрасывается с ножом на мать и кормилиц…
Если вспомнить о любви, которую испытывал царь Федор к младшему брату, очень трудно представить, что сановники из его окружения могли позволить себе распространять подобные нелепости. Вместе с тем уже в самом содержании слухов чувствуется отголосок семейных разборок, происходивших в угличской семье. Так что более вероятно, на наш взгляд, предположить, что слухи эти распространяли вечно пьяные братья царицы…
Комиссия Василия Шуйского явно не стремилась найти ответы на все вопросы, встающие в ходе расследования.
«Хто в те поры за царевичем были?»– снова и снова спрашивал Шуйский у мальчиков, игравших с царевичем в тычку, и «робятки», как явствует из документов, один за другим, не сговариваясь, повторяли, что «были за царевичем в тe поры только они четыре человеки да кормилица да постельница».
К месту пришлись и разговоры о том, что царевич якобы страдал эпилепсией.
Как мы знаем, в результате следствие пришло к выводу, что никакого убийства не было, а просто нашла на царевича «болезнь черная… и он ножом покололся».
Василий Шуйский боялся поддержать облыжное обвинение Нагих, ибо тогда упала бы тень на могущественного Бориса Годунова. Шуйский боялся провести расследовать и степень участия в убийстве самих Нагих, поскольку такое расследование могло бы выйти на людей, близких ему…
Князь избрал самый, как ему казалось, мудрый выход.
Он обвинил в убийстве самого убитого.
И этот вывод устроил всех…
И свидетелей – с них снимались подозрения в злоумышлении. И родню, которая так явно, так откровенно что-то скрывала.
И подлинных виновников преступления, которые в результате нечаянно получили в свои руки такое оружие, которого и не надеялись никогда получить…
8
О причастности Романовых к убийству царевича Дмитрия историки вообще не говорят, хотя обсуждение этого вопроса не лишено смысла…
Во-первых, в некоторых деталях чувствуется почерк Никитичей, а во-вторых, и это самое главное, если для Годунова смерть царевича не принесла ничего, кроме неприятностей, то Романовы в итоге обрели трон.
Разумеется, такие долгосрочные проекты являются результатом стечения столь многочисленных обстоятельств, которых никаким конкретным заговором достигнуть невозможно. Но никто ведь и не говорит, что целью организованного в 1591 году заговора (если такой заговор был) являлся захват трона.
Церковь Димитрия на Крови в Угличе. 1692 г.
Мы уже говорили, что все разговоры о замене царя Федора, все ожидания смены династии привнесены в 1591 год из последующего десятилетия. А тогда, в 1591 году, царю Федору было всего тридцать четыре года, и ничего еще не предвещало скорой кончины. И надежды на продолжение династии тоже не были потеряны…
Годуновых вполне устраивало их тогдашнее положение, а еще более – открывающиеся перспективы, но про Романовых этого сказать нельзя.
В 1591 году силы Романовых и Годуновых были уже неравны, происходила как бы смена шурья.
Никита Романович был любимым шурином Иоанна Грозного. Место любимого шурина при царе Федоре занял Борис Годунов. Никитичи были двоюродными братьями царя Федора, но двоюродными братьями следующего государя, если у Федора будет потомство, стали бы уже сыновья Годунова…
Неизбежная сдача позиций не могла не беспокоить пассионарных Романовых. Такие люди вообще чувствуют себя не очень уютно, когда их шаг за шагом оттесняют с занятых высот…
Разумеется, нечто подобное много раз происходило с другими родами, но такие древние роды, как Шуйские, например, были защищены прививкой столетий придворной жизни. Их род возвышался и попадал в опалы уже много раз…
У незнатных Романовых защитной прививки смирения не было.
Далее мы еще будем подробно говорить о романовском холопе Григории (в миру – Юшке) Отрепьеве… Отца Юшки (Богдана Отрепьева) зарезал по пьянке в Немецкой слободе некий литвин, и Юшка попал на службу к Романовым.
Возможно, сыграло свою роль то обстоятельство, что родовое гнездо Отрепьевых располагалось на Монзе, притоке Костромы, и там же находилась костромская вотчина Романовых – село Домнино.
Вполне возможно, что тогда смышленый мальчуган и попался на глаза пассионарного Федора Никитича… Будущему патриарху показалось вдруг, что Юшка похож на царевича Дмитрия…
Существует глухое предание, якобы бояре подменили царевича Дмитрия, и в Угличе воспитывался не Дмитрий, а его дублер. Этот дублер и был убит 15 мая 1591 года.
Среди участников заговора называются фамилии Нагих, Романовых, Шуйских… Знаменитый наемник Жак Маржерет считал, например, что такие бояре, как Романовы, употребили все способы для избавления царевича Дмитрия от погибели, которую якобы уготовал ему Годунов. Спасти царевича они могли, только подменив его и воспитав тайно, пока не настанет лучшее время и не разрушены будут планы Годунова.
«Сей цели, – пишет Жак Маржерет, – они достигли как нельзя лучше: кроме верных соучастников, никто не ведал о подлоге; царевич воспитывался тайно; по смерти же брата своего Федора, когда избрали царем Бориса, вероятно, удалился в Польшу вместе с расстригою, одевшись монахом, чтоб перейти русскую границу».
Разумеется, это только слухи.
Но слухи, которые ходили в кругах близких к царскому дворцу, и ходили именно тогда, в то время…
Скажем сразу, никаких прямых доказательств того, что Федором Никитичем и его окружением был разработан план замены царевича, нет, более того, это и невозможно было практически осуществить. Совершенно ясно, что подмена, если бы она и была произведена, тут же оказалась бы раскрытой. Грубая реальность русской дворцовой жизни была слишком далека от прихотливых узоров авантюрно-приключенческого романа.
Но если чего-то не могло быть, это не значит, что мысль об этом не могла посетить чью-то многомудрую голову. Попробуем представить, как могла развиваться мысль Федора Никитича Романова…
Двоюродный брат, царь Федор, уходил из рук его семейства…
Царевич Дмитрий был совершенно чужим. Воцарение его, если бы оно случилось, явилось бы для Романовых полным крахом. Царевич Дмитрий нужен был Романовым на престоле еще меньше, чем Федор… Вот если бы подменить Дмитрия каким-нибудь своим Юшкой, который всем будет обязан ему! Но подмену сразу обнаружат, да на нее никто и не согласится, и прежде всего сама мать царевича – Мария Нагая…
А что, если напугать ее, сказать, будто Годунов замыслил худое – Мария поверит, Мария захочет спасти сына… Нет… Все равно остаются соглядатаи Годунова. Постоянно с царевичем проводит время сын мамки – Осип Волохов… Часто наведывается к царевичу сын дьяка Битяговского… Они узнают подмену и раскроют ее. Их надобно будет перекупить, а это ненадежно.
А главное, зачем все это ему, Романову? Зачем вооружать против брата царя Федора, царёнка, который будет любить и жаловать других людей…
Если Федор Никитич и строил такой план, то план этот, должно быть, рождался по ходу дела…
Нетрудно было привлечь на свою сторону Нагих. Сразу с двух концов (с одного – ненавистью к Борису Годунову, с другого – нищетой) горели Нагие…
Федор Никитич мог рассказать, что Борис Годунов злоумышляет убить царевича и потому надо, подменив, спасти его, а чтобы обман не раскрылся, убить младенца, который заменит его, лучше, если это сделают близкие царевичу люди, им тоже можно объяснить, что так они спасают царевича, и, конечно, пообещать денег, а потом их тоже надо убрать, надо замутить народ, свергнуть Годунова и тогда и объявить, что Дмитрий жив…
План Федора Никитича (если такой план существовал на самом деле!) позволяет связать воедино сохранившиеся свидетельства, объяснить необъяснимое поведение Нагих, а главное, он вполне мог быть осуществлен в реальной жизни с той, правда, поправкой, что убивали не Юшку, а настоящего царевича Дмитрия. Впрочем, у Федора Никитича и это должно было быть продумано. Дмитрий на троне ему был не нужен…
Мария Нагая в горячке могла и не догадаться сразу, что подмена не состоялась, поспешила, как и было условленно, чтобы «обрубить концы», а когда уразумела, что произошло, охваченная отчаянием, начала объявлять убийцами настоящих участников заговора. Братья Нагие, разобравшись, что их подставили, попытались фальсифицировать улики, а потом попробовали взбунтовать Углич, Ярославль, Москву…
Мог ли возникнуть замысел подобной комбинации? И у кого он мог возникнуть?
Нагие тут – только соучастники, исполнители, жертвы обмана…
Шуйские еще не оправились от нанесенных ударов, еще не освободились от присмотра, да и простоваты они были для проведения столько изощренной интриги…
Можно возразить, что все это беллетристика и прямых свидетельств, что царевич Дмитрий был убит по проекту Романовых, нет.
Но ведь нет таких свидетельств, как мы говорили, и для обвинения Годунова…
Только слухи…
9
Вообще же, не выходя из круга сугубо материалистических представлений, прояснить что-либо в этой исторической загадке трудно.
Вывод комиссии Василия Шуйского о самоубийстве угличского отрока не подкреплялся никакой доказательной базой.
Если царевич упал в эпилептическом припадке на свой ножичек, то где же этот ножичек? Его не нашли…
Кроме того, этот вывод следствия был опровергнут фактом святости царевича Дмитрия, нетлением его мощей, чудотворениями, происходящими от его гроба…
«Я посылал тогда нарочно в Углич, И сведано, что многие страдальцы Спасение подобно обретали У гробовой царевича доски», —скажет патриарх Иов в драме А.С. Пушкина «Борис Годунов».
Верил ли сам Василий Шуйский в выводы своего следствия?
При Борисе Годунове он утверждал, что царевич зарезался в припадке падучей болезни. Когда Годуновых не стало, утверждал, что решение комиссии было вынесено под давлением Годунова и является ошибочным. И в третий раз, будучи уже царем, Василий Шуйский распорядился перенести святые мощи царевича Дмитрия в Москву, признавая тем самым, что царевич был убит…
И все-таки рассуждения Н.М. Костомарова на эту тему представляются нам излишне запальчивыми…
«…Можно ли показание, данное будто бы детьми, игравшими с царевичем, о том, что царевич зарезался сам, принимать за искреннее показание этих детей, когда тот, кто передал нам это показание (Шуйский. – Н.К.), впоследствии объяснил, что царевич не сам зарезался, а был зарезан? Скажут нам: Василий лгал тогда, когда уничтожал силу следственного дела, но производил следствие справедливо. Мы на это ответим: если он лгал один раз, два раза, то мог лгать и в третий раз; а если он лгал для собственных выгод после смерти Бориса, то мог лгать для собственных же выгод и при жизни Бориса. Все три показания взаимно себя уничтожают, мы не вправе верить ни одному из них…»
Шуйский действительно несколько раз менял свое суждение по поводу этого дела, но в тех исторических жерновах, где угличский отрок, царевич Дмитрий, превращался во Лжедмитрия, самозванца Гришку Отрепьева, а потом в святого царевича Дмитрия, и прежде чем найти окончательное упокоение, снова во Лжедмитрия, еврея Богданко, смололось нравственное сознание многих тысяч русских людей того времени, и Василий Шуйский среди них выглядит если и не адамантом, то, во всяком случае, некоей твердыней, и колебания его – это не движения флюгера под ветром, а сдвиги сотрясаемой изнутри тектонической породы.
Если бы расследование в Угличе велось энергичнее, может быть, удалось бы не только оправдать убитых по наущению Нагих невинных людей, но и обнаружить подлинных виновников трагедии.
Увы… Московские пожары заслонили гибель царевича. Правительство воспользовалось пожарами, чтобы навсегда избавиться от Нагих.
Мать царевича постригли в монахини и отослали в Белоозеро. Братьев Нагих заключили в тюрьму. Удельное княжество в Угличе ликвидировали.
Жители Углича, свидетельствовавшие по делу, превратились в пелымцев. А медный колокол, в который в тот страшный день били в набат, сослали в Тобольск[24].
Но этим дело, как мы знаем, не кончилось…
И не могло кончиться.
А.С. Пушкин хорошо понимал, что одним только видимым миром не ограничивается борьба, развернувшаяся вокруг угличской трагедии. В его драме «Борис Годунов» самозванец (для произнесения этого монолога он, вопреки правилам записи драматических произведений, переименовывается в Дмитрия) говорит:
Тень Грозного меня усыновила, Димитрием из гроба нарекла, Вокруг меня народы возмутила И в жертву мне Бориса обрекла…То есть у Пушкина Лжедмитрий в самом прямом, а не переносном смысле исчадие ада, и борьба с ним может быть осуществлена, как и говорит патриарх Иов, только святостью самого царевича Дмитрия…
Вот мой совет: во Кремль святые мощи Перенести, поставить их в соборе Архангельском; народ увидит ясно Тогда обман безбожного злодея, И мощь бесов исчезнет, яко прах.Совет патриарха, как мы знаем, исполнен не был, и бесовщина вовсю разыгралась на Руси…
Рассказ об этом у нас впереди, а пока, следуя в указанном Пушкиным направлении и памятуя, как любят бесы игру с цифирью, попробуем перекинуть пятилетний отрезок времени от смерти Никиты Романовича Захарьина (падение влияния Романовых) до трагедии в Угличе в другую сторону.
Мы попадем в июль 1596 года. Тогда, 12-го числа родился у боярина Федора Никитича Романова (будущего патриарха Филарета) сын Михаил, ставший первым царем из Дома Романовых.
Глава четвертая Шурьё против шурья
Вот и отгорело, отбушевав яростным огнем Иоаннова царствия, дотлело угольками Федорова правления, Калитино племя. 7 января 1598 года умер, не оставив наследника, последний отпрыск великой династии…
Еще 6 января, в Богоявление, в седьмом часу ночи стал царь Федор изнемогать и повелел призвать патриарха со освященным собором. И тут же увидел подступившего к нему светлого мужа в святительских одеждах. Федор Иоаннович заговорил с ним, думая, что это Иов, но окружавшие умирающего царя бояре никого не видели.
– Благочестивый царь! – заговорили они. – Кого ты, Государь, зриши и с кем глаголеши? Еще отец твой Иов патриарх не пришел…
– Зрите ли? – ответил царь. – Одра моего предстоит муж светел во одежде святительской, говорит со мною, повелевая идти с ним…
Пришел патриарх Иов, совершил богослужение, исповедал царя и причастил Святых Даров.
«И в девятый час тоя ж нощи благочестивый царь и великий князь Федор Иванович всея Руссии ко Господу отиде; тогда просветися лице его, яко солнце»…
1
«Слёз настоящее время, а не словес; плача, а не речи; молитвы, а не бесед… Хотел убо словом изрещи, но грубость разума запинает ми и язык утерпевает и души уныния наносит; хотех же и писанию предати, но руку скорбь удерживает ми… – писал о кончине царя Федора первый русский патриарх Иов. – Было это, говорю вам, в 106 году восьмой тысячи… Год этот – пучина нашей скорби, год нашего общего рыдания, год бездны нашего плача… Сегодня благочестивый государь, царь и великий князь всея Руси Федор Иванович, услышав зов Божий и оставив земное царствие, восходит к Царству Небесному. С этой поры прекрасный и стародавний престол Великой России во вдовстве пребывает, а мать городов, великая, спасенная Богом, царствующая многолюдная Москва, скорбящей сиротой остается»[25]…
На опустевший престол претендовали знатнейшие русские роды, связанные корневым родством с династиями Рюриковичей и Гедиминовичей, и первенствовал тут, безусловно, князь Василий Шуйский.
Князья Шуйские давно уже приблизились к престолу.
Еще при царе Василии, отце Иоанна Грозного, выдвинулся Василий Васильевич Немой-Шуйский. Он женился на двоюродной сестре государя, и после смерти Елены Глинской стал фактическим правителем страны, а умирая, передал свое место брату Ивану Васильевичу Шуйскому, который и митрополитов своей волей менял, и царственного отрока Иоанна Васильевича шпынял.
– Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас не взглянет – ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ, – жаловался потом грозный царь. – Кто же может перенести такую кичливость? Как исчислить бессчетные страдания, перенесенные мною в юности?
И не вынес, не вынес державный отрок.
Едва только тринадцать лет стукнуло, как приказал псарям растерзать князя Андрея Михайловича Шуйского. Тогда же князь Федор Шуйский был отправлен в ссылку…
Но Шуйских еще много оставалось.
Князь Василий Иванович Шуйский и при дворе Иоанна Грозного держался, и при Федоре Иоанновиче не пропал… Кому же еще было претендовать на опустевший царский престол?
Борис Годунов. Портрет из «Титулярника». 1672 г.
Однако реальная власть находилась в руках Годуновых – «сродичей царскому корени по сочетанию брака», – и противостоять шурью ослабевшей за годы опричнины, родовой аристократии было трудновато. На стороне Годуновых, как сказали бы сейчас, находился административный ресурс.
В официальной грамоте объявили, что Борис Годунов с детства был питаем от царского стола, что еще Иоанн Грозный «приказал» Годунову своего сына Федора и все царство, вот и Федор Иоаннович «учинил» после себя на троне жену Ирину, а Борису «приказал» царство.
Ирина от трона отказалась решительно и бесповоротно, и открывшийся перед Масленицей Земский Собор избрал царем Бориса.
Летопись зафиксировала, что только Василий Иванович Шуйский, старший из князей Рюрикова дома, противился этому избранию. Но сопротивление Шуйского, однако, никак не сказалось на результатах выборов. 512 посланцев земель и представителей знати проголосовали за Годунова…
«За Годунова был патриарх, всем ему обязанный, патриарх, стоящий во главе управления… – пишет С.М. Соловьев. – За Годунова было долголетнее пользование царскою властию при Феодоре, доставлявшее ему обширные средства: везде – в Думе, в приказах, в областном управлении – были люди, всем ему обязанные, которые могли все потерять, если правитель не сделается царем; пользование царскою властию при Феодоре доставило Годунову и его родственникам огромные богатства, также могущественное средство приобретать доброжелателей; за Годунова было то, что сестра его, хотя заключившаяся в монастыре, признавалась царицею правительствующею, и все делалось по ее указу: кто же мимо родного брата мог взять скипетр из рук ее? Наконец, для большинства, и большинства огромного, царствование Феодора было временем счастливым, временем отдохновения после бед царствования предшествовавшего, а всем было известно, что правил государством при Феодоре Годунов».
Выборы Бориса Годунова на царство прошли 17 февраля 1598 года.
Пожалуй, впервые в истории Руси обозначилось это роковое число.
17 мая 1607 года убьют Лжедмитрия I…
17 июля 1610 года свергнут царя Василия Шуйского.
17 августа 1610 года Москва присягнет царевичу Владиславу.
17 сентября 1610 года Семибоярщина впустит в Кремль поляков гетмана Жолкевского.
17 сентября 1612 года умрет в плену в Варшаве царь Василий Шуйский…
Можно было бы сказать, что все это происходило еще и в начале XVII века, но так считаем мы, а при Борисе Годунове счет на Руси велся еще от Сотворения Мира, и шло по этому счету семьдесят второе столетие, или, как выразился Иов, «106 год восьмой тысячи», 7106 год…
20 февраля, после молебна, патриарх Иов с духовенством, боярами и народом отправился в Новодевичий монастырь, где с сестрой – царицей Ириной находился и Борис Годунов.
Однако он отверг просьбы патриарха и отказался от трона. И только после долгих уговоров согласился принять царский венец.
– Буди святая Твоя воля, Господи… – сказал он и добавил, обращаясь к Иову: – Бог свидетель, отче, в моем царстве не будет нищих и бедных[26].
2
Романовы, как свидетельствуют предания, уже тогда понимали великое значения имиджа. Немалые усилия затрачивались ими на обработку общественного мнения. Миф о кроткой супруге Иоанна Грозного Анастасии поддерживался в народной памяти тем упорнее, что Годуновы (женой Бориса была дочь Малюты Скуратова) еще крепче связывались, таким образом, с жестокостями и кровавыми расправами Иоанна Грозного…
Вскоре после кончины царя Федора, в пику официальной версии завещания, Романовы распространили слух, что, умирая, Федор якобы завещал царство Никитичам…
Борис Годунов принимает царский сан. Рисунок А. Нидермана. Вторая пол. XIX в.
Этого не могло быть хотя бы уже потому, что царь Федор без Бориса Годунова никаких решений не принимал, а кроме того, никак не мог завещать трон сразу пятерым братьям. Это ведь у Романовых потом двухместный трон появится[27], а у прежних русских царей подобной мебели еще не заведено было…
Слух был нелепым, и относиться к нему надо было как к знаку, что Романовы могут вступить в борьбу за русский престол. Или как к напоминанию, что Романовы такие же, как Годуновы, «сродичи царскому корени по сочетанию брака» и с полным шурьёвским правом тоже могут претендовать на трон Московского царства.
Борис Годунов понимал это и высоко оценил проявленную Никитичами «скромность». После венчания на царство он наградил и самих Романовых, и близких им людей. Помимо Федора Никитича, который уже входил в Думу, ввели туда Александра Никитича, Михаила Никитича, а заодно и зятя Никитичей – князя Черкасского.
Укрепив свои позиции на этом направлении, Борис Годунов попытался разобраться с партией знатнейших русских родов, и тогда Романовы посчитали, что мысль о преимуществе их рода окончательно созрела в народном сознании и можно пускать в ход приготовленное для свержения Годунова «тайное оружие».
Мы уже приводили цитату из книги Жака Маржерета.
Этот знаменитый наемник прожил в России бурную и насыщенную жизнь…
Вначале он находился на службе у Бориса Годунова, затем служил Лжедмитрию I, а в конце даже попытался поступить к Дмитрию Пожарскому, но князь не принял его.
«Маржерет кровь христианскую проливал пуще польских людей и, награбившись государевой казны, пошел из Москвы в Польшу с изменником Михайлою Салтыковым. Нам подлинно известно, что польский король тому Маржерету велел у себя быть в Раде: и мы удивляемся, каким это образом теперь Маржерет хочет нам помогать против польских людей? Мнится нам, что Маржерет хочет быть в Московское государство по умышленью польского короля, чтоб зло какое-нибудь учинить. Мы этого опасаемся…» – писал Дм. Пожарский в 1612 году.
Помимо всего прочего, Жак Маржерет попал и в персонажи пушкинского «Бориса Годунова»…
Воистину редкостная для наемника судьба[28]…
Сочинение самого Маржерета «Состояние Российской империи и великого княжества Московии» является бесценным источником слухов, бродивших в Смутное время…
Находим мы здесь и слухи о спасении царевича Дмитрия…
Н.И. Костомаров считал, что Маржерет слышал о спасении Дмитрия боярами и «по догадкам» мог называть Нагих и Романовых как людей, облагодетельствованных Лжедмитрием.
Может быть, Маржерет называл имена бояр «по догадкам», а может, и слышал где-то, что это они «спасали» царевича. В свидетельстве этом бесспорно одно – время появления слуха о спасении Дмитрия – 1600 год…
3
Для России 1600 год памятен началом трехлетнего голода, а также неожиданно жестокой расправой Бориса Годунова над боярской оппозицией.
До сих пор при Борисе почти никого не казнили на Москве.
И вдруг царя словно бы подменили.
Царь, который, как утверждают современники, в начале своего правления был «естеством светлодушен, нравом милостив, паче же рещи – нищелюбив; от него же многие доброкапленные потоки приемше, и от любодаровитые его длани в сытость напитавшиеся: всем бо неоскудно даяние простираше, не точию ближним, но и странным», превратился в подобие Иоанна Грозного, устраняющего «совместников», казнящего недоброжелателей.
Первой жертвой гнева Бориса Годунова стал его свояк – Богдан Бельский. Бельский, как мы говорили, в конце царствования Грозного был едва ли не самым могущественным человеком. Умирая, царь назначил его одним из правителей государства и, кроме того, воспитателем царевича Дмитрия. Но после смерти Грозного Бельский неудачно пытался действовать в пользу царевича Дмитрия и был сослан в Нижний Новгород.
Теперь, когда разнесся слух, что Дмитрий жив, Годунов первым делом вспомнил о его воспитателе, посланном строить крепость Борисов в дикой степи на берегу Донца Северского…
Борис Годунов отобрал у него все вотчины, а потом приказал своему доктору, шотландскому хирургу Габриэлю по волоску выщипать у боярина бороду якобы в наказание за то, что, будучи в Борисове, его свояк расхвастался на пиру и скаламбурил: «Царь Борис – в Москве царь, а я – в Борисове царь».
Но интересовал Годунова, разумеется, не каламбур свояка, а источник слухов о спасении царевича Дмитрия.
Богдан Бельский выдержал пытку, не назвав имен…
С этих пор, говорит Жак Маржерет, Борис Годунов занимался только истязаниями и пытками…
Холоп, обвиняющий своего хозяина, получал от царя Бориса награждение, а хозяина холопа подвергали пытке, дабы исторгнуть признание, иногда – в том, чего он сам не делал.
Марфу Нагую (мать царевича Дмитрия) вывели из монастыря и удалили из Москвы. В столице очень немногие из знатных родов спаслись от подозрений Бориса Годунова.
«Царь хотел все знать», – свидетельствует летопись.
Маржерет уточняет, что Борис хотел знать.
Годунова встревожил слух о Дмитрии; он догадался, что ему подготовляют Дмитрия, и хотел во что бы то ни стало отыскать и самого Дмитрия, и тех, кто ему готовит это тайное оружие.
4
Развернутые Романовыми боевые действия против Годунова совершались тайно и долгое время оставались неприметными для посторонних наблюдателей, но пробудившаяся в Борисе Годунове подозрительность не обошла и Никитичей.
События разворачивались так…
К Семену Никитичу Годунову, возглавлявшему сыск, явился Второй Никитин Бартенев, служивший вначале у Федора Никитича Юрьева (Романова), а сейчас – казначеем у Александра Никитича, и сказал, что в казне у того приготовлено «всякого корения» для отравления царя Бориса.
Был произведен обыск, «корение» нашли, и оно послужило началом «сыска», длившегося около полугода.
«Подобного проявления мрачной подозрительности и варварства в характере нельзя объяснить иначе, как тем, что Борис, вообще опасавшийся за свою корону и жизнь, в это время был встревожен чем-то важным, искал какой-то тайно грозившей ему опасности и потому прибегал к таким суровым средствам, – пишет Н.И. Костомаров. – На это, конечно, могут возразить, что наши летописцы, описывая тиранства Бориса, не говорят, однако, чтоб поводом к его свирепствам было спасение Дмитрия, и Борис, отыскивая тайные замыслы врагов, не говорил, что они хотят выдумать против него страшилище в образе углицкого царевича… А что Борисовы преследования и гонения не совершались гласно ради Дмитрия, то это в порядке вещей: Борису имя Дмитрия было до такой степени страшно, что он не решался и не должен был решиться произносить его громко на всю Русь. Это был для него только слух. Объявить гласно, что он боится Дмитрия, значило бы рисковать вызвать на свет этот призрак; тем более что сам Борис не мог быть вполне уверен, что Дмитрий убит: он сам не был в Угличе; тех, кто убил его, не мог спросить, ибо их на свете не было; а на преданность Шуйского, производившего следствие, он никак положиться не мог. Да если б он и был вполне уверен, что в Угличе действительно совершилось убийство дитяти, которое считалось царевичем, то кто мог поручиться, что, проникая его козни, заранее не подменили Дмитрия, что не случилось именно то, чем морочили народ во время самозванца. Как тиран подозрительный, но вместе осторожный, Борис старательно укрывал – какого рода измены и замыслов он ищет; он только преследовал тех, кого, по своим соображениям, считал себе врагами, чтоб случайно напасть на след искомого. Для этого-то он и употреблял холопов, надеясь таким путем знать всю подноготную того, что происходит в подозрительных для него домах».
И что-то Борису Годунову, по-видимому, удалось узнать.
Разумеется, не про «коренья», а про слухи, распускаемые о царевиче Дмитрии. И это и послужило причиной преследования коварных родственников…
26 октября 1601 года началась расправа Бориса Годунова со своими недавними союзниками.
Ночью стрельцы подожгли дом бояр Романовых…
Федора Никитича Романова (будущего патриарха Филарета) заключили в Антониево-Сийский монастырь, что в девяноста верстах от Холмогор, и насильно постригли в монахи.
Его жену «замчали» в Заонежский Толвуйский погост и тоже постригли.
Дочку Татьяну и сына Михаила (будущего царя) сослали с тетками в Белоозеро…
Кара была жестокой…
Однако, как свидетельствует предание, еще более жестоко поступили с ближними слугами Романовых. Почти все они были казнены.
Историки этому обстоятельству особого значения не придают, но, может быть, именно в нем и скрыты сведения, какие именно коренья были отысканы в доме Романовых.
«Кореньями» этими мог быть подготовленный Федором Никитичем кандидат в самозванцы…
Как известно, самому кандидату удалось уйти.
Он (по-видимому, еще в начале розыска) покинул Романовых и укрылся, приняв постриг, среди чернецов Чудова монастыря.
Звали его теперь Григорием.
5
Уже давно стали замечать недобрые знамения…
Нередко всходило на небо по две, а то и по три луны, два, а то и три солнца светили днем, по земле, по полям и лугам ходили огненные столпы…
То и дело поднимались невиданные доселе бури, сносившие кресты с церквей…
Средь бела дня голубые, красные и черные лисицы бегали по московским улицам…
Однако, как пишет Н.М. Карамзин, первые два года царствования Бориса Годунова «казались самым лучшим временем России с XV века или с ее восстановления». Россия была «на высшей степени своего нового могущества, безопасная собственными силами и счастьем внешних обстоятельств, а внутри управляемая с мудрою твердостью и с кротостью необыкновенною… Россия… любила своего Венценосца, желая забыть убиение Дмитрия или сомневаясь в оном!».
Но то, что служило благу России, не шибко нравилось боярам, у них были свои представления о благе для Руси. Шляхетская вольность казалась заманчивей процветания могучего государства…
На руку вельможам сыграла и стихия. Весной 1601 года небо омрачилось густою темнотой, и два с лишним месяца, не переставая, шел дождь… Ударивший 15 августа жестокий мороз завершил дело. Почти по всей стране погиб хлеб…
Цены сразу подпрыгнули в пять раз! Борис Годунов приказал открыть царские житницы и продавать хлеб по дешевой цене, но богачи принялись скупать его и спекулировать.
Начался голод.
«Клянусь Богом, – пишет в “Московских хрониках” Конрад Буссов, – истинная правда, что я собственными глазами видел, как люди лежали на улицах и, подобно скоту, пожирали летом траву, зимою сено. Некоторые были уже мертвы, у них изо рта торчали сено и навоз… Не сосчитать, сколько детей было убито, зарезано, сварено родителями, родителей – детьми, гостей – хозяевами и, наоборот, хозяев – гостями…»
«Ядуще же тогда многи псину и мертвечину и ину скаредину, ея же и писати нельзя», – вторит ему отечественный летописец.
«Люди, – пишет Н.М. Карамзин, – сделались хуже зверей: оставляли семейства и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства: давили, резали сонных для ужасной пищи! Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках! Матери глотали трупы своих младенцев!.. Злодеев казнили, жгли, кидали в воду; но преступления не уменьшались… И в сие время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать его еще дороже!.. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали, издыхали на площадях»…
И вот, словно бы из смрада гниющих тел возникла зловещая тень самозваного царевича Дмитрия…
6
Ну а судьба самих Никитичей, взрастивших страшную для России беду, тоже, как мы говорили, на первых порах сложилась невесело.
Федор Никитич Романов был заключен в Сийский монастырь.
«Привезен был боярин, по народному преданию, вечером… – рассказывает С.В. Максимов в книге “Год на севере”. – Благовестили к вечерне. Кибитка остановилась у соборного храма. Пристав боярина, Роман Дуров, пришел в алтарь, оставив боярина Феодора у дверей. Кончилась вечерня. Игумен Иона со всеми соборными старцами вышел из алтаря и начал обряд пострижения, к нему подвели привезенного боярина.
Боярин уведен был на паперть. Там сняли с него обычные одежды, оставив в одной сорочке. Затем привели его снова в церковь, без пояса, босого, с непокрытой головой. Пелись антифоны, по окончании которых боярина поставили перед святыми дверями, велели ему творить три “метания” Спасову образу и затем игумену…»
– Что прииде, брате, припадая ко святому жертвеннику и ко святой дружине сей? – согласно уставу спросил Иона.
Федор Никитич молчал.
– Желаю жития постнического, святый отче! – ответил за него пристав Роман Дуров.
– Воистину добро дело и блаженно избра, но аще совершиши е, добрая убо дела трудом снискаются и болезнию исправляются. Волею ли своего разума приходиши Господеви?
– Ей, честный отче! – отвечал пристав.
– Еда от некия обеты или нужды?
– Ни, честный отче! – опять прозвучал голос Дурова.
– Отрицаеши ли мира и яже в мире по заповеди Господни? Имаши ли пребывати в монастыре и пощении даже до последнего своего издыхания?
– Ей Богу поспешествующу, честный отче! – сказал Дуров.
– Имаши ли хранитися в девстве и целомудрии и благоговении? Сохраниши ли послушание ко игумену и ко всей яже о Христе братии? Имаши ли терпети всяку скорбь и тесноту иноческого жития царства ради небесного?
– Ей Богу поспешествующу, честный отче! – прозвучал голос Дурова, и Федор Никитич заплакал от бессилия, как плакали и до него сотни раз насильно постригаемые в монашество князья и бояре…
«Затем, – пересказывая монастырское предание, пишет С.В. Максимов, – следовало оглашение малого образа (мантии), говорилось краткое поучение, читались две молитвы. Новопостригаемый боярин продолжал рыдать неутешно. Но когда игумен по уставу сказал ему: “Приими ножницы и даждь ми я”, – боярин не повиновался. Многого труда стоило его потом успокоить. На него, после крестообразного пострижения, надели нижнюю одежду, положили параманд, надели пояс. Затем обули в сандалии и, наконец, облекли в волосяную мантию со словами:
– Брат наш, Филарет, приемлет мантию, обручение великого ангельского образа, одежду нетления и чистоты во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
– Аминь! – отвечал за Филарета пристав».
7
Судьба других Никитичей сложилась еще трагичнее.
Сосланный в Усолье-Луду на берегу Белого моря, умер Александр Никитич Романов.
В том же 1602 году скончался в Пелыме Василий Никитич…
Михаил Никитич умер в земляной яме в Ныробе Чердынского уезда.
Назад в Москву суждено было вернуться только двоим Никитичам – Ивану Никитичу Романову, просидевшему в Пелыме три месяца прикованным к стене, и самому Филарету (Федору Никитичу).
Поместили новоначального инока в келье под соборным храмом.
Негде было укрыться здесь от холодных сквозняков в огромной – почти тринадцать метров длины, шесть метров ширины и два метра высоты – келье. Невозможно было согреть это полутемное, освещенное единственным окном помещение. Было еще оконце над дверями, но оно предназначалось не для света, а для того, чтобы следить за насельником…
Каково было оказаться в этой наполненной грязноватыми сумерками и крысиным шорохом келье человеку, считавшемуся главным московским щеголем, вообразить нетрудно. Филарет любил мирские радости, и все в нем восставало при мысли, что этих радостей он лишился навсегда.
Никаких известий в монастыре о судьбе семьи Филарет не получал. Но, может быть, и к лучшему – едва ли его утешили бы эти скорбные известия…
Бывшую жену Ксению Ивановну, а теперь инокиню Марфу сослали в Заонежье, тещу (Шатову) – в Чебоксарский (Никольский) девичий монастырь; зятя, князя Бориса Черкасского, с шестилетним сыном Филарета, Михаилом, – на Белоозеро.
8
«Твой, государев, изменник, старец Филарет Романов, мне, холопу твоему, в разговоре говорил… – доносил Борису Годунову пристав Богдан Воейков. – “Бояре-де мне великие недруги, искалиде голов наших, а иные-де научали на нас говорити людей наших; а я-де сам видал то не одиножды”. Да он же про твоих бояр про всех говорил: “Не станет-де их с дело ни с которое; нет-де у них разумново; один-де у них разумен Богдан Бельский; к польским и ко всяким делам добре досуж”… Коли жену спомянет и дети, и он говорит: “Милые мои детки маленьки бедные осталися: кому их кормить и поить? А жена моя бедная на удачу уже жива ли? Чаю, она где близко таково же замчена, где и слух не зайдет. Мне уже што надобно? Лихо на меня жена да дети; как их вспомянешь, ино что рогатиной в сердце толкнет (выделено нами. – Н.К.) Много они мне мешают; дай Господи то слышать, чтобы их ранее Бог прибрал; и аз бы тому обрадовался; а чаю, и жена моя сама рада, чтоб им Бог дал смерть; а мне бы уже не мешали: я бы стал промышлять одною своею душою”».
Положение, в котором оказался бывший боярин Федор Никитич, а теперь – инок Филарет, не может не вызвать сочувствия, но не будем забывать и того, что невинным страдальцем Филарет не был. Эту наполненную грязноватыми сумерками и крысиным шорохом келью он сам себе и выстроил…
Нельзя забывать и того, что Филарет сумел пережить временное несчастье и оно сделало его еще хитрее и безжалостнее.
Учитывая это, попытаемся не только посочувствовать – ино что рогатиной в сердце толкнет – заточенному в Сийской обители Филарету, но и дать нравственную оценку его поведения.
Он стал монахом…
Можно говорить о том, что его постригли насильно. Можно говорить, что это несправедливо и нехорошо.
Все так.
Но постригли. Назад в мир у инока Филарета уже не было дороги, и надобно было смириться и – не он первый! – принять судьбу, которая уготована ему.
Повторим, что по-человечески это несправедливо, но другого решения старорусское сознание не знало.
Но старорусское сознание не знало и самозванства…
И в этом миропонимание первого московского щеголя Филарета (Романова) существенно разнилось со строем мысли старорусского человека. И тени смирения не обнаружилось в иноке Филарете…
Еще более вызывающе он начал вести себя, когда достигла Сийского монастыря весть об успехах самозванца Григория Отрепьева.
«В нынешнем 7113 (1605) году марта в 16 день писал к нам Богдан Воейков, что февраля-де в 7 день, сказывал ему старец Илинарх да старец Леванид, февраля-де в 3 день в ночи старец Филарет его, старца Илинарха, лаял, и с посохом к нему прискакивал, и из кельи его выслал вон, и в келью ему, старцу Илинарху, к себе и за собою ходити никуды не велел. А живет-де старец Филарет бесчинством не по монашескому чину: всегда смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про птицы ловчия и про собаки, как он в мире жил, а к старцам жесток, и старцы приходят к нему, Богдану, на того старца Филарета всегда с жалобой, что лает их и бить хочет. А говорит-де старцам Филарет старец: увидят они, каков он вперед будет. А ныне-де и в великий пост у отца духовного тот старец Филарет не был, и к церкви и к тебе на прощенье не приходит, и на клиросе не стоит».
Напомним читателю, что 13 октября 1604 год Григорий Отрепьев переправился через Днепр и начал поход на Москву.
21 октября он вошел без боя в Монастырский острог.
Еще через несколько дней под власть Лжедмитрия отдался Чернигов. В ноябре Лжедмитрия признали Путивль, Рыльск и Курск.
Успехи самозванца обеспокоили правительство Бориса Годунова, и оно вынуждено было объявить в январе 1605 года, что Лжедмитрий – это галицкий боярский сын Григорий Отрепьев.
Должно быть, когда добрела до Сийского монастыря эта весть, и начал Филарет смеяться неведомо чему и говорить про мирское житие свое, про ловчих птиц и собак, которые были у него на Москве…
Филарету действительно было весело. Когда несколько лет назад он обратил внимание на своего холопа Отрепьева, когда удивился начитанности его и недюжинному уму, ему и в голову не могло прийти, что это дворовое диво, которым они собирались попугать Бориса Годунова, превратится в реальную силу.
На Прощеное воскресенье (в 1605 году оно попало на 10 февраля), когда все православные испрашивают друг у друга прощения, независимо от того, какое место в обществе занимают, Филарет даже не пришел в церковь.
Теперь, когда на авось изготовленное им оружие начало действовать, он ни у кого не собирался просить прощения и сам тоже никому и ничего не собирался прощать.
9
Странная зловещая перекличка возникает между тем, что происходило на западных рубежах страны, и тем, что потаенно пока совершалось в Сийском монастыре.
«А около-де монастыря ограды у вас нет, а меж келий-де от всякой кельи из монастыря к озеру из дровеников двери, и крепости-де ни которые около монастыря нет, – выговаривает игумену Сийского монастыря царская грамота, – а ограду-де монастырскую велели вы свезть на гумно, и он-де, Богдан (Воейков), тебе и келарю говорил, чтобы вы около монастыря ограду велели поставить и меж келий от дровеников двери заделать, и вы-де около монастыря ограды поставити и дверей заделати не велите, и сторожу-де ты, который стоит у ворот, ходити к нему и про прохожих про всяких людей сказывати ему и детем боярским не велишь».
Такое ощущение, что эти монастырские «крепости» не менее важны, чем та линия обороны, которая проходила под Кромами.
В конце января Василию Шуйскому удалось разгромить самозванца, но Лжедмитрий сумел уйти к Путивлю, где собрал новое ополчение и на Великом Посту развернул новое наступление.
7 марта на сторону самозванца перешел Елец и Ливны.
«Ты б старцу Филарету велел жити с собою в келье да у него велел жити старцу Леваниду и к церкве старцу Филарету велел ходить вместе с собою да за ним старцу, и береженье к нему держал, чтобы он был у тебя в послушанье и жил бы по монастырскому чину и не бесчинствовал и о том бы ему говорил, – говорит царская грамота. – Только буде он не причащался святыни в нынешной пост и то дело чуже крестьянства и во всем бы ему рассматривал, чтобы он жил во всем по иноческому обещанию, а от дурни его унимал»…
Увы…
Поздно было уже «унимать от дурни» Филарета и некому…
Через две недели после Пасхи, 13 апреля, новый страшный удар обрушился на Россию – от апоплексического удара (кровь хлынула изо рта, носа и ушей) умер Борис Годунов.
В апреле москвичи присягнули новому царю – Федору Годунову.
«Царевич Федор, сын царя Бориса, отрок прекрасный был, – пишет в “Летописной книге” С.И. Шаховской, – славился красотой, словно цветок диковинный на лугу, Богом украшенный, цвел, словно лилия в саду. Очи имел большие черные, лицо белое жемчужное, белизной сияющее, роста он был среднего, телом очень крепок. Отцом научен он был книжной премудрости, в ответах обстоятелен и весьма красноречив. Пустое и гнилое слово никогда не слетало с уст его. К вере и к наставлениям книжников относился ревностно».
Присягу этому отроку принесли Новгород, Псков, Казань, Астрахань, города Замосковья, Поморья, Сибири…
Но тогда же, 7 мая, П.Ф. Басманов, командовавший войсками, осаждавшими Кромы, объявил войску, что самозванец – это истинный царь.
Полки приняли присягу Лжедмитрию.
Эта измена армии и решила горестную судьбу династии Годуновых, эта измена и засосала Россию в страшный омут Смуты.
10 июня князь В.В. Голицын удавил в Кремле царя Федора Годунова – юношу, с уст которого никогда «не слетало пустое и гнилое слово».
Заодно с Федором Годуновым удавили и его мать…
Патриарх Иов не признал Лжедмитрия, и его свели с патриаршества, и на убогой телеге увезли в Успенский монастырь в Старицу.
20 июня Лжедмитрий въехал в Москву.
Говорят, что первым делом Григорий Отрепьев изнасиловал в Кремле царевну Ксению Борисовну Годунову…
А была она, как пишет С.И. Шаховской, девушка, почти ребенок.
«Удивительного ума, редкостной красоты: щеки румяны, губы алы; очи у нее были черные, большие, лучезарные, когда в плаче слезы из очей проливала, тогда еще большим блеском они светились; брови были у нее сросшиеся, тело полное, молочной белизной облитое, ростом ни высока, ни низка; косы черные, длинные, как трубы по плечам лежали. Была она благочестива, книжной грамоте обучена, отличалась приятностью в речах. Воистину во всех своих делах достойна! Петь по гласам любила и песни духовные с охотой слушала».
Сохранила память о Ксении Годуновой и русская песня…
А сплачется на Москве царевна, Борисова дочь Годунова: «Ино, Боже, Спас милосердой! За что наше царьство загибло: за батюшкино ли согрешение, за матушкино ли немоленье?.. А что едет к Москве Рострига, да хочет теремы ломати, меня хочет, царевну, поимати, а на Устюжну на Железную отослатьи», —до сих пор плачет царевна в народной песне.
В песне царевна Ксения гораздо лучше, чем последующие историки, знала, что произошло с Россией и в чем причина происшедшего… Она говорит о батюшкином согрешении, о матушкином немолении…
Юный царь Федор Годунов и царевна Ксения Годунова стали первыми жертвами царя со двора бояр Романовых…
Погребли царевну Ксению, принявшую постриг под именем Ольга, в Свято-Троицком Сергиевом монастыре, а когда на русский трон взошли и сами Романовы, вырыли из земли и перевезли в монастырь и тела самого царя Бориса Годунова, ставшего в иночестве Боголепом, и его супруги царицы Марии, и юного царя Феодора Годунова.
Усыпальница Годуновых вначале была устроена внутри Успенского храма, но императрица Елизавета Петровна, побывав здесь на богомолье, приказала перестроить собор так, чтобы тела Годуновых оказались вне храма.
Не пощадила дщерь Петрова и колокола, которые подарил лавре царь Борис Годунов.
Один из них, весом 625 пудов, был подарен Годуновым еще в бытность его «слугою и конюшим» царя Федора и назывался Лебедем. Другой, втрое больший весом (1850 пудов), назывался «Годунов», или «Цареборисов».
Елизавета сначала приказала разбить колокол, но потом, снисходя к мольбам монахов, ограничила наказание тем, что приказала сбить имена царя Бориса, его супруги и детей с надписи, опоясывающей колокол.
Впрочем, колокола эти дожили и до наших дней.
И стоишь возле усыпальницы Годуновых, что располагается сейчас слева от паперти Успенского собора, слушаешь голоса годуновских колоколов и отчетливо осознаешь, что, быть может, в этом батюшкином согрешении и матушкином немолении, о которых говорит Ксения Годунова в народной песне, и заключается причина и нынешних несчастий, с такой завидной регулярностью обрушивающихся на нашу страну.
Глава пятая Первый царь со двора Романовых
Когда заходит речь о первом самозванце, исследователи пытаются ответить на три вопроса…
1. Был ли Лжедмитрий подлинным царевичем?
2. Шел самозванец на сознательный обман или заблуждался?
3. Кто стоял за спиной Лжедмитрия?
Если по первому пункту лишь очень немногие историки (В.С. Иконников и С.Д. Шереметев) рисковали отвечать утвердительно, то по второму – разномыслия было значительно больше.
Н.М. Карамзин, например, считал самозванца мошенником, но не лишенным некоего благородства. Он полагал, что «мысль чудная» – решение воспользоваться легковерием россиян, умиляемых памятью Дмитрия, поселилась и зрела в душе мечтателя, имея своей целью замысел – «в честь Небесного Правосудия казнить святоубийцу», то бишь Бориса Годунова…
Зато С.М. Соловьев и С.Ф. Платонов считали, что Лжедмитрий действительно верил в свое царственное происхождение.
«Чтоб сознательно принять на себя роль самозванца, сделать из своего существа воплощенную ложь, надобно быть чудовищем разврата, что и доказывают нам характеры самозванцев, начиная со второго».
Отчасти это верно, хотя сам вопрос не вполне корректен по своей постановке. Ведь обманщик никогда не добьется успеха, пока хотя бы отчасти не поверит в собственный обман…
Нам кажется, что самозванец и верил, и не верил в то, что он – спасшийся царевич. Не будем забывать, что сама Мария Нагая узнала в нем сына[29].
Как же тут было не верить?
Как было не сомневаться?
1
Поразительно, но, отвечая на третий, самый важный, как нам кажется, вопрос о том, кто стоял за спиной Лжедмитрия, почти все русские историки (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, Н.И. Костомаров) проявляют удивительное единодушие…
«Царствовавший у нас в Москве под именем Дмитрия был не настоящий Дмитрий, но лицо обольщенное и подготовленное боярами, партиею, враждебною Борису, – говорил Н.И. Костомаров. – Люди этой партии настроили пылкого, увлекающегося юношу в убеждении, что он царевич Димитрий, спасенный в младенчестве по наказу его родителя царя Ивана, и выпроводили его из Московского государства. Это сделано было на русское авось. Они, конечно, не желали заменить Борисов род навсегда этим поддельным Димитрием; но им достаточно было поставить Годуновым страшное знамя, под которое можно было соединить против них народную громаду и ниспровергнуть род Годуновых с престола; а потом можно было обличить самозванца, выставить его обманщиком, сознаться в своем заблуждении и уничтожить его».
С.М. Соловьев тоже считал, что Григория Отрепьева выдвинули на роль самозванца московские бояре, сумевшие уверить его в царственном происхождении:
«Вопрос о происхождении первого Лжедмитрия такого рода, что способен сильно тревожить людей, у которых фантазия преобладает. Романисту здесь широкий простор, он может делать самозванцем кого ему угодно; но историку странно срываться с твердой почвы, отвергать известие самое вероятное и погружаться в мрак, из которого нет для него выхода (выделено нами. – Н.К.), ибо он не имеет права, подобно романисту, создать небывалое лицо с небывалыми отношениями и приключениями».
Мы выделили слова великого русского историка про мрак, из которого нет выхода, поскольку в этих словах то, чего не сказали, вернее, не договорили зависящие от Романовых историки…
Кто же эти московские бояре, взрастившие самозванца?
Только к концу XIX века легализовалось мнение, что Лжедмитрия выдвинули Романовы и бояре, близкие к их кругу. Фамилия Романовых замелькала во всех исследованиях, посвященных появлению самозванца, но по-прежнему скороговоркой, без попытки осмыслить этот факт, столь много определяющий во всей последующей истории страны.
Кроме понятной осторожности, по отношению к царствующей династии, на уклончивость историков, естественно, влияло и отсутствие прямых доказательств.
Лжедмитрий I
В.С. Шульгин, комментируя суждение С.М. Соловьева о развитии Смуты сверху, резонно заметил, что «мысль эту при всей ее оригинальности и привлекательности обосновать фактами нельзя, поэтому, высказывая ее, Соловьев невольно отступил от требований, которые им же самим справедливо предъявлялись (смотри процитированное нами высказывание о мраке, из которого нет выхода. – Н.К.) к исторической науке».
Оглядывая события Смуты с большей исторической дистанции, скажем, что это отчасти верно. Прямых доказательств тому, что Григорий Отрепьев был умышленно воспитан Романовыми в качестве самозванца, нет…
Но с другой стороны, нельзя не признать, что как раз отсутствие прямых свидетельств при обилии свидетельств косвенных и является самым главным доказательством причастности Романовых к изготовлению самозванца…
За три столетия правления у Романовых было время, чтобы замести следы преступления, совершенного основателями династии на пути к власти, а те доказательства, которые уничтожить было невозможно, были перелицованы ими.
Исполнение этого облегчалось тем, что еще по ходу развития событий Смуты изменялись сами принципы освещения биографии самозванца.
Вначале московское правительство Бориса Годунова вообще старалось не упоминать о самозванстве. Конкретное содержание преступления заменялось расплывчатым словом «заворовался».
Когда Лжедмитрия признали Краков и Рим, отрицать факт самозванства сделалось невозможно, но теперь у многих влиятельных особ появилась необходимость скрыть свою причастность к самозванцу…
Не будем забывать и того, что какое-то время Лжедмитрий официально считался законным русским царем…
Как мы знаем, Романовы были тогда возвращены из ссылки и возвеличены, и говорить о том, что они и взрастили самозванца, стало не вполне безопасно, во всяком случае, на первых порах.
Не наступило определенности и после смерти Григория Отрепьева.
Придя к власти, Василий Шуйский долгое время щадил Романовых, оберегая от обвинений в сообщничестве с самозванцем. Хотя возможно, что руководствовался он при этом не только жалостью к пострадавшему роду. Лишь потом, когда между Романовыми и Шуйским началась открытая борьба, появилась в официальных заявлениях антиромановская конкретика. Полякам было тогда сообщено, что Юшка Отрепьев «был в холопех у бояр Микитиных, детей Романовича, и у князя Бориса Черкасова, и заворовался, постригся в чернецы»[30].
Историк Р. Скрынников справедливо заметил по этому поводу, что Шуйский и не мог поступить иначе, он адресовался к польскому двору, прекрасно осведомленному насчет прошлого собственного ставленника. Непрочно сидевшему на троне царю пришлось держаться ближе к фактам: любые измышления по поводу Отрепьева могли быть опровергнуты польской стороной.
Все изменилось, когда Романовы пришли к власти.
Документы, касающиеся их участия в Смуте и в подготовке самозванца, безжалостно уничтожались и перелицовывались.
Преследовался даже сам слух, что Григорий Отрепьев, объявивший себя царевичем, был взращен и воспитан среди челяди в недрах двора Романовых. Но, глуховато теряясь в веках, слух этот упорно возникал вновь и вновь…
Впрочем, не будем забегать вперед…
Скажем пока о самом очевидном факте, уничтожить который не могла никакая цензура, – без самозванца у нас никогда бы не было династии царей Романовых…
2
Еще в январе 1605 года в грамоте патриарха Иова была изложена первая краткая биография самозванца.
«Этот человек звался в мире Юшка Богданов сын Отрепьев, проживал у Романовых во дворе, сделал какое-то преступление, достойное смертной казни, и, избегая наказания, постригся в чернецы, ходил по многим монастырям, был в Чудовом монастыре дьяконом, бывал у патриарха Иова во дворе для книжного письма, потом убежал из монастыря с двумя товарищами, монахами Варлаамом Яцким и Михаилом Правдиным».
Увы… И сейчас, четыреста лет спустя, о московском периоде жизни Отрепьева известно ненамного больше.
Мы уже говорили, что Григорий (в миру Юрий) был сыном галицкого сына боярского Богдана. Предки Отрепьевых, выехав на Русь из Литвы, осели в Галиче и в Угличе. Известно, что в 1577 году «новик» Смирной-Отрепьев и его младший брат, пятнадцатилетний Богдан, получили поместье в Коломне.
Богдан Отрепьев дорос до чина стрелецкого сотника, но жизнь его оборвалась не на войне, а во время драки в Немецкой слободе в Москве, где Богдана зарезал пьяный литвин.
Юрий (Юшка) был тогда «млад зело», и воспитывала его мать. Благодаря ее стараниям мальчик научился читать. Обучался он у зятя Варвары Отрепьевой – Семейки Ефимьева.
Неизвестно, как Юшка попал на службу к Романовым.
Возможно, как мы говорили, сыграло свою роль то обстоятельство, что родовое гнездо Отрепьевых располагалось на Монзе, притоке Костромы, и там же находилась костромская вотчина Романовых – село Домнино.
Так или иначе, но еще в царствование Федора появился Григорий Отрепьев в Москве сначала у боярина Федора Никитича Романова, потом у его брата окольничего Михаила Никитича Романова. Затем мы видим Отрепьева на дворе близких родственников Романовых – князей Черкасских. Отрепьев, как пишет автор «Сказания о расстриге», был у Черкасского в чести…
«В детстве является он в Москве, – цитируя летописи, пишет С.М. Соловьев, – отличается грамотностию, живет в холопях у Романовых и князя Черкасского и тем самым становится известен царю как человек подозрительный»…
С.М. Соловьев не уточняет, когда, а главное, почему Отрепьев становится известен царю как человек подозрительный…
Тем, что холоп был грамотен? Но таких холопов было немало, и сам факт грамотности не мог вызвать никаких подозрений…
Причину подозрений надо искать в появившихся тогда слухах о спасении царевича Дмитрия…
Подвергая Романовых жестокому «розыску», Годунов искал «коренья» этих слухов. Среди романовской челяди чаял он найти взращенного Никитичами кандидата во Лжедмитрии. И тут отличающийся достаточно серьезной образованностью холоп, разумеется, не мог не обратить на себя внимание.
Патриарх Иов. Рисунок XIX в.
Спасаясь от пыток – Борис Годунов с таким пристрастием допрашивал «ближних» слуг Романовых, что многие из них «помираху», – будущий самозванец бежал со двора князей Черкасских в Галич.
«Беда грозит молодому человеку, – пишет С.М. Соловьев, – он спасается от нее пострижением, скитается из монастыря в монастырь, попадает наконец в Чудов и берется даже к Иову патриарху для книжного письма»…
Эти блуждания по провинциальным монастырям ничего загадочного не представляют, надо было укрыться от царского розыска. В Галиче и Суздале у Отрепьева сохранялись семейные связи, и он рассчитывал, что ему помогут.
Он не ошибся.
Летописцы сообщают, что Гришка Отрепьев жительствовал в галичском Железноборском монастыре, потом перешел в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Здесь, по преданию, его отдали под начало духовному старцу, но Отрепьев не задержался у него[31]…
Скоро богородицкий протопоп Евфимий «бил челом об нем в Чудове монастыре архимандриту Пафнутию[32], чтоб его велел взяти в монастырь и велел бы ему жити в келье у деда у своего у Замятни (Замятня-Отрепьев), и архимандрит Пафнутий, для бедности и сиротства взяв его в Чюдов монастырь».
«Летописная книга» С. Шаховского утверждает, что до водворения в столичном монастыре Григорий носил монашескую рясу очень недолго: «По мале же времени пострижения своего изыде той чернец во царствующий град Москву и тамо доиде пречистые обители архистратига Михаила».
Недолго жил Отрепьев и под надзором деда в Чудовом монастыре.
Архимандрит вскоре отличил его и перевел в свою келью. Там чернец, по его собственным словам, занялся литературным трудом, сложил похвалу московским чудотворцам Петру, Алексею и Ионе…
Очень скоро Пафнутий произвел его в дьяконы, а потом юный чернец переселился на патриарший двор.
«Патриарх-де, видя мое досужество, – хвастал он приятелям, – начал на царскую думу вверх с собою меня брать»…
Если это не просто хвастовство – а эти слова подтверждаются и другими свидетельствами! – то приходится только дивиться проницательности Федора Никитича Романова, сумевшего угадать в своем холопе такие недюжинные способности.
«Но здесь речи молодого монаха о возможности быть ему царем на Москве навлекли на него новую беду: ростовский митрополит Иона донес об них сперва патриарху и, когда тот мало обратил на них внимания, – самому царю…» – говорит С.М. Соловьев.
Но, разумеется, и перевод Григория в Чудов монастырь, а главное – стремительную карьеру новоначального инока объяснить одними только способностями невозможно. Совершенно очевидно, что инок Григорий не пренебрегал и помощью своих могущественных земных покровителей…
3
Как и когда могла произойти метаморфоза дворового человека Романовых в царевича Димитрия?
Вглядимся в оставленный современниками портрет.
Самозванец был сокрушительно некрасив.
Рыжеволосый, низкорослый… Фигура по-мужицки кряжистая, без малейшего намека на талию. Одна рука заметно короче другой…
На лице красовались две огромных бородавки – одна на лбу, другая на носу, под правым глазом…
«Красивы, – пишет современник, – были только темно-голубые глаза. Они то горели мрачным огнем, то метали молнии, то искрились отвагой. В них отражалась смелая до дерзости душа и недюжинный ум».
Легко догадаться, что убогие радости, которые могла представить реальная жизнь бедному, незнатному и очень некрасивому юноше, не могли удовлетворить человека с его запросами.
Вероятно, как мы уже говорили, Юшка еще отроком попал в романовское Домнино и, если он в самом деле предназначался Федором Никитичем для плана дерзкого и необыкновенного, можно догадаться, какой дикий и нелепый сумбур царил в его голове.
Юшке рассказывали такие подробности царского быта и дворцовых отношений, знание которых никак не могло пригодиться простому холопу.
И наверняка ведь осторожный Федор Никитич таил, для чего он обучает холопа странным наукам, ради той же конспирации он не поднимал Отрепьева из холопского состояния, держал, как и остальную дворню…
Потом Юшка, уже не отрок, а юноша, был привезен в Москву.
Некрасивый, нескладный, юноша был невероятно самолюбив и весь жил мечтаниями, сладострастно погружаясь в выдумывание обстоятельств, биографии, положения, в которых он мог бы развернуться, чтобы всем стало видно его благородство и красота…
«Il y a beaucoup du Henri IV dans Дмитрий, – писал А.С. Пушкин. – Il est comme LuI Indifferent a la religion – tout deux se donnant dans des projets chimerigues – tout deux en butte aux conspirations»[33].
Таким, сжигаемым изнутри яростным огнем честолюбия, Отрепьев и предстал перед Романовым.
Попробуем представить эту встречу… Федор Никитич Романов и Юшка Отрепьев.
Боярин и холоп…
Федор Никитич был недурно образован. Как утверждает в своих «Записках о Московии» Дж. Горсей, Федор Никитич хотел выучиться латыни и по его просьбе Горсей составил латинскую грамматику, написав в ней русскими литерами латинские слова. Но главное, Федор Никитич слыл первым московским щеголем и удальцом. Он великолепно ездил верхом, красиво одевался. В Москве, когда хотели сделать комплимент чьему-либо кафтану или охабеню, говорили: «Теперь ты совершенный Федор Никитич!»
Рядом с ним неказистый Юшка выглядел совсем убого.
Должно быть, Федор Никитич долго и пристально разглядывал стоящего перед ним холопа, и дерзкая, необыкновенная мысль создать из него оружие против Годунова постепенно угасала в нем. То, что в деревенской глуши казалось трудноисполнимым, становилось совершенно невозможным в Москве.
То, что чувствовал, должно быть, тогда Федор Никитич Романов, очень верно определил Н.М. Карамзин, сказавший про первого самозванца, что «низость в Государе противнее самой жестокости для народа»…
Неспешно текли эти мысли в боярской голове Федора Никитича.
Сожаления не было…
Искусством признавать свои ошибки Федор Никитич владел.
Но совсем иначе, лихорадочно перескакивая с одной мысли на другую, думал застывший перед боярином холоп.
Сейчас ему объявят, сейчас он узнает, сейчас решится его судьба…
Душевные терзания усиливались, поскольку Федор Никитич Романов наверняка был не просто господином для Юшки, а кумиром. Наверняка Юшка был влюблен в него.
Федор Никитич представлял для Юшки тот идеал совершенства, о котором всегда мечтал он и достигнуть которого – он понимал это! – ему было невозможно.
Обожание некрасивого, нескладного холопа, пригретого на его дворе, Федор Никитич не мог не заметить.
И только чтобы посмеяться, ради шутки, задал вопрос.
Не важно, о чем был вопрос, но совершенно очевидно, что Отрепьев ответил толково, демонстрируя недюжинный ум и переимчивость, как он это делал, уже будучи царем, разрешая в Боярской думе сложнейшие вопросы.
И тут Федор Никитич, уже почти решивший судьбу Отрепьева, заколебался. Планы у боярина великие были, людишки могли сгодиться всякие. Не получилась замена царевичу Дмитрию, может, что-то другое выйдет? От отца научен был Федор Никитич не пренебрегать ничем.
А кроме того, необычны были и образованность, и ум холопа. Как же было не показать такого раба родне, друзьям? И предан, предан был, так и ел глазами, будто собака.
Но если беседа с Отрепьевым удивила Федора Никитича, то какую же бурю подняла в сознании мечтательного и честолюбивого юноши.
Вглядываясь в портрет самозванца, легко представить, как переживал юный Григорий разговоры, в которые поначалу только ради веселья вовлекал его обожаемый патрон, как мечтательно и самозабвенно обдумывал их в душной людской.
Не так уж и важно, намек или оговорка послужили толчком к тому, чтобы связалось то особое (оно могло ему казаться таким) положение, которое Григорий занимал в боярском доме, и трагедия, разыгравшаяся в Угличе…
Отрепьев был ровесником царевича…
Он жил рядом, когда случилась трагедия в Угличе. Тогда отец его Богдан и перебрался в Коломенское…
Что-то неясное зашевелилось в памяти… Ну да! Тот разговор, который слышал он…
– Это – Дмитрий?!
– Похож?
– Кажись, тот другой будет.
– Не этот…
– Не этот… Этот тут!
– А который настоящий?
Кто говорил? Не мог вспомнить Григорий… Откуда-то из темноты памяти звучали голоса.
Когда, заикаясь от страха, попытался рассказать Григорий Федору Никитичу о своей странной фантазии, тот не засмеялся.
Выслушал и, ничего не сказав, ушел. Потом Отрепьеву сказали, что боярин велел идти жить к Михаилу Никитичу Романову. Испугался Григорий, что прогневал боярина, раз гонит со двора, но у окольничего Михаила Никитича приняли, будто и не холоп он был…
Не в людской поселили, а отдельную хоромину выделили.
Странным стало отношение Романовых. Григорий был дворовым человеком, но с ним обращались как с хозяйским сыном, обучали его наукам, которые не надобны были холопу.
«Кто я?» – оставаясь один, думал Отрепьев.
Однажды он задал, осмелев, этот вопрос отличавшемуся дородством, ростом и необыкновенной силой Михаилу Никитичу.
– А ты разве не знаешь, кто ты? – спросил в ответ окольничий и ушел, и еще темнее, еще жарче в голове Григория сделалось. Так и не разобрать было, то ли укорил хозяин, что он, холоп, позабыл свое происхождение и место, то ли за другое укорил, за то, что в холопстве решил спрятаться от более высокого назначения…
Потом был неожиданный перевод в дом князя Бориса Черкасского, где тоже держали в великой чести, наконец – приказано было постричься в монахи.
Ничего не понимал Отрепьев.
Не понимал, чем вызвано внимание патриарха Иова, поставившего его в писцы и посвятившего в сан иеродиакона.
Все окончательно смешалось в голове, когда обрушилась на Романовых опала.
Отрепьев ходил смотреть, как жарко и страшно горела 26 октября 1601 года подожженная стрельцами усадьба Федора Никитича…
Жарко и темно было в голове.
Как удары молота, отдавались скорбные вести о благодетелях.
Федора Никитича заключили в Антониево-Сийский монастырь и насильно постригли в монахи. Жену его «замчали» в Заонежский Толвуйский погост и тоже постригли.
Темный и неясный пронесся слух, будто Богородица не велела молиться за Годунова. Жарко стало тогда на осенних московских улицах, заходила, заколотила в жилах кровь…
В этой жаркой духоте очнулся монах Григорий. Жарко было в голове, стучала в висках кровь…
«Кто же я?» – думал он.
4
В принципе, не так и важно, сам ли Григорий додумался, что он царевич Дмитрий, материализовав циркулирующие по Москве слухи, или ему был сделан намек от посланца Романовых.
Важно, что Григорий готов был поверить в это, ему казалось, что он всегда знал об этом. Федор Никитич подготовил, а дьявол подсказал – выдать себя за наследника престола…
Известно, что тогда и начал чернец Григорий намекать на свое царственное происхождение. Н.М. Карамзин пишет, что «юный диакон с прилежанием читал Российские летописи, и не скромно, хотя и в шутку, говаривал иногда чудовским монахам: “знаете ли, что я буду Царем в Москве?”»
Когда слух о непригожих речах Отрепьева дошел до ростовского митрополита Ионы, он немедленно доложил Годунову. Годунов приказал дьяку Смирнову Васильеву схватить дерзкого инока и заточить в Кирилло-Белозерском монастыре.
И вот тут начинаются уже настоящие чудеса…
Дьяк, исполняя указание Годунова, вдруг занемог беспамятством, позабыл царский указ и дал Григорию Отрепьеву возможность убежать в Галич.
Из Галича Григорий перебрался в Муром, из Мурома[34] – в Борисоглебский монастырь. Там ему удалось раздобыть лошадь и вернуться назад в Москву.
Из Москвы Григорий ушел уже под видом паломника…
«В 1601 или 1602 году, в понедельник второй недели Великого поста, в Москве Варварским крестцом шел монах Пафнутьева Боровского монастыря Варлаам; его нагнал другой монах, молодой, и вступил с ним в разговор, – пишет С.М. Соловьев. – После обыкновенных приветствий и вопросов: кто и откуда? – Варлаам спросил у своего нового знакомца, назвавшегося Григорьем Отрепьевым, какое ему до него дело? Григорий отвечал, что, живя в Чудовом монастыре, сложил он похвалу московским чудотворцам и патриарх, видя такое досужество, взял его к себе, а потом стал брать с собою и в царскую Думу, и оттого вошел он, Григорий, в великую славу. Но ему не хочется не только видеть, даже и слышать про земную славу и богатство, и потому он решился съехать с Москвы в дальний монастырь: слышал он, что есть монастырь в Чернигове, и туда-то он хочет звать с собою Варлаама. Тот отвечал Отрепьеву, что если он жил в Чудове у патриарха, то в Чернигове ему не привыкнуть: черниговский монастырь, по слухам, место неважное. На это Григорий отвечал: “Хочу в Киев, в Печерский монастырь, там старцы многие души свои спасли; а потом, поживя в Киеве, пойдем во святой город Иерусалим ко гробу Господню”. Варлаам возразил, что Печерский монастырь за рубежом, в Литве, а за рубеж теперь идти трудно.
Чудов монастырь в Московском Кремле. Фото середины XIX в.
“Вовсе не трудно, – отвечал Григорий, – государь наш взял мир с королем на двадцать два года, и теперь везде просто, застав нет”. Тогда Варлаам согласился идти вместе с Отрепьевым: оба монаха поклялись друг другу, что не обманут, и отложили путь до завтра, уговорившись сойтись в Иконном ряду. На другой день в условленном месте Варлаам нашел Отрепьева и с ним третьего спутника: то был чернец Мисаил, а в миру звали его Михайла Повадин, Варлаам знавал его у князя Иван Ивановича Шуйского»[35].
Легко и естественно пристраивается к этому рассказу С.М. Соловьева сцена в корчме на литовской границе из драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов»…
«Г р и г о р и й (хозяйке). Куда ведет эта дорога?
Х о з я й к а. В Литву, мой кормилец, к Луевым горам.
Г р и г о р и й. А далече ли до Луевых гор?
Х о з я й к а. Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские, да сторожевые приставы.
Г р и г о р и й. Как, заставы! что это значит?
Х о з я й к а. Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать, да осматривать.
Григорий (про себя). Вот тебе, бабушка, Юрьев день.
В а р л а а м. Эй, товарищ! да ты к хозяйке присуседился. Знать, не нужна тебе водка, а нужна молодка, дело, брат, дело! у всякого свой обычай; а у нас с отцом Мисаилом одна заботушка: пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим.
М и с а и л. Складно сказано, отец Варлаам…
Г р и г о р и й. Да кого ж им надобно? Кто бежал из Москвы?
Х о з я й к а. А Господь его ведает, вор ли, разбойник – только здесь и добрым людям нынче прохода нет – а что из того будет? ничего, ни лысого беса не поймают: будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога! Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякой мальчишка доведет до Луевых гор. От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих, да обирают нас бедных. (Слышен шум.) Что там еще? Ах, вот они, проклятые! дозором идут».
Но, увы, увы…
Это только драматургический прием, позволяющий А.С. Пушкину глубже раскрыть характер героя, а на самом деле никакой погони за дерзким самозванцем выслано не было.
И это тоже удивительно, как и беспамятство, овладевшее дьяком Смирновым Васильевым. Все-таки Григорий Отрепьев был первым самозванцем на Руси! Ведь это потом уже самозванцы начнут расти как грибы, а появление первого должно было бы вызвать интерес…
Н.М. Карамзин объясняет «чудо беспамятства» заступничеством дьяка Евфимия[36], но навряд ли такое возможно. Попросить Евфимий, конечно, мог, только едва ли Смирнов Васильев послушал бы его.
Тут требовалась просьба посильнее…
«Летописцу XVII века казалось, что сам дьявол замешался в это дело и заставил Смирного сперва тронуться просьбами другого дьяка Семена Ефимьева, а потом и совершенно забыть указ царский… – пишет и С.М. Соловьев. – Мы, разумеется, можем объяснить себе это дело не иначе как тем, что промысл людей сильных бодрствовал над Григорьем и предохранял его от беды. Узнав об опасности, Отрепьев убежал из Чудова монастыря в Галич, оттуда – в Муром, в Борисоглебский монастырь, где настоятель дал ему лошадь для возвращения в Москву».
Бодрствовавший над самозванцем промысл людей сильных имеет вполне конкретный адрес. Вспомним, что поиски Отрепьева совпадают по времени с розыском, который велся по делу бояр Романовых.
Следствие было не закончено, и кому-то очень не хотелось, чтобы оно закончилось, чтобы поймали дерзкого чернеца, чтобы рассказал Григорий Отрепьев, что украл он, а главное, кто научил его этому…
5
История самозванца после бегства в Польшу известна гораздо лучше, нежели московский период его жизни.
«В Киеве, снискав милость знаменитого Воеводы Князя Василия Константиновича Острожского, Григорий жил в Печерском монастыре, а после в Никольском и в Дермане; везде священнодействовал, как диакон, но вел жизнь соблазнительную, презирая устав воздержания и целомудрия… – рассказывает Н.М. Карамзин. – Между тем безумная мысль не усыпала в голове пришлеца; он распустил темную молву о спасении и тайном убежище Дмитрия в Литве; свел знакомство с другим отчаянным бродягою, Иноком Крыпецкого монастыря Леонидом, уговорил его назваться своим именем, то есть Григорием Отрепьевым; а сам, скинув с себя одежду монашескую, явился мирянином, чтобы удобнее приобрести навыки и знания, нужные ему для ослепления людей».
Карамзин рассказывает, что Отрепьев учился верховой езде и владению мечом в «шайке удалых запорожцев», которой предводительствовал Герасим Евангелик. Затем самозванца запомнили уже на Волынщине, где он изучает в школе латинскую и польскую грамоту. Затем – на службе у князя Адама Вишневецкого.
Здесь он, когда достаточно хорошо зарекомендовал себя, притворился больным и потребовал духовника.
– Умираю! – сказал он ему. – Предай мое тело земле с честию, как хоронят детей Царских. Не объявлю своей тайны до гроба; когда же закрою глаза навеки, ты найдешь у меня под ложем свиток, и все узнаешь; но другим не сказывай. Бог судил мне умереть в злосчастии.
Иезуит-духовник, разумеется, известил Вишневецкого о странной просьбе. Постель «умирающего» была обыскана, бумага, в которой повествовалось, что Отрепьев является царевичем Димитрием, прочитана.
Вишневецкий передал ее своему брату Константину, а тот своему тестю, сандомирскому воеводе Юрию Мнишеку.
Мало кто в Польше и в Риме действительно верил в подлинность Лжедмитрия.
– Вот и еще новый король португальский воскрес! – сказал римский папа Климент VIII, прочитав донесение нунция Рангони, извещавшее Ватикан об Отрепьеве.
Но на карьере самозванца это никак не отразилось…
Хотя Романовы и готовили его как орудие исключительно для борьбы с Борисом Годуновым, польские паны сообразили, что это орудие можно использовать и в борьбе с православной Россией.
В.О. Ключевский говорил, что Лжедмитрий был заквашен в Москве, а испечен в польской печке. Добавим, что пекли самозванца не мудрствуя лукаво, по надежным, много раз проверенным рецептам…
Юрий Мнишек посулил самозванцу свою дочь Марину, а Лжедмитрий дал обязательство присоединиться к Римской Церкви.
В начале 1604 года в Кракове Лжедмитрий публично отрекся от православия, и папский нунций в Польше Клавдий Рангони представил его королю.
Сигизмунд признал самозванца истинным царевичем Димитрием и назначил 40 тысяч злотых ежегодного содержания, но тут же (деньги зазря он тратить не собирался) приказал Мнишку и Вишневецким, не мешкая, собрать для самозванца рать из вольницы, чтобы вторгнуться в пределы России.
Рать была собрана, и 25 мая 1604 года самозванец дал будущему тестю клятвенную запись, что, утвердившись на московском престоле, женится на панне Марине. А как только женится, так сразу уступит в полное владение Новгородскую и Псковскую области.
16 октября 1604 года Лжедмитрий вступил с ополчением в пределы России…
И сразу же папа Павел V признал его государем всей России и напомнил об обещании распространить католичество в России. Он подчеркнул, что только так новый царь московитов сможет возблагодарить Бога за оказанные ему благодеяния.
Тут, как мы видим, все просто и конкретно. Военная и экономическая поддержка – в обмен на предательство.
Марина Мнишек
Признание – в обмен на обещание предательства.
Но так было всегда.
Во все эпохи подлое российское самозванство (не важно, лжецарями, революционерами или прогрессивными демократами нарекало оно себя) обращалось за помощью к Западу, и всегда Запад помогал им, чтобы с помощью этих выродков разрушить страну, одолеть которую в открытом противостоянии Западу не удавалось никогда…
И конечно же, каждый раз поражаешься той готовности, с которой титулованная московская знать предает Россию во власть ее врагов.
Возвратившийся из ссылки Богдан Бельский, который, по мнению Филарета Романова, один-де у них разумен, торжественно поклялся, что царевич Димитрий был спасен и это сам Бельский укрывал его «на своей груди».
Но не один Бельский был так разумен.
18 июля привезли в Москву царицу Марфу (Нагую).
Самозванец встретил ее в селе Тайнинском, завел в шатер, раскинутый близ большой дороги и о чем-то долго говорил наедине, а потом народ плакал, видя, как почтительный сын шагал рядом с материнской каретой. Царицу поместили в Вознесенском монастыре, и царь ездил туда каждый день, рассказывая матушке о своих планах, о своих обязательствах перед Мариной Мнишек, перед ее отцом, перед польским королем и римским папой и, конечно же, перед Романовыми.
По его указу в Москву были возвращены все Романовы.
И мертвые, и живые…
Мертвых с великими почестями похоронили в Новоспасском монастыре, а живые были облагодетельствованы…
Ивану Никитичу Романову даровали боярство, а Филарета Никитича его бывший дворовой человек приказал возвести в сан ростовского митрополита. «Его же тогда едва священным собором умолиша», – прибавляет хронограф.
Слово «умолиша» наполнено тут, как нам кажется, не только подобострастием по отношению к отцу будущего царя, но и конкретным историческим содержанием.
Филарет Никитич, рассуждая в духе той табели о рангах, которую введет его правнук, Петр I, поведал царю-самозванцу: дескать, ему, смиренному иноку Сийского монастыря, в долгих молитвах открылось, что звание боярина соответствует митрополичьему. А поскольку бояришком он уже был, значит, как бы и митрополитом был. Теперь, коли самодержавный царь всея Руси Юшка явит великую милость и захочет его наградить, надобно накинуть званьишко…
Надобно его, Филарета, патриархом поставить…
6
Легко представить смущение, которое охватило первого царя со двора Романовых.
С одной стороны, Федор Никитич был его кумиром, без Федора Никитича не достиг бы он нынешнего величия, а с другой стороны, он еще месяц назад, по указанию иезуитов, уже возвел в патриархи всея Руси рязанского архиепископа Игнатия.
Это был грек, занимавший архиепископскую кафедру на острове Кипр. Долгое время он провел в Риме и, как полагают, принял там унию, а в 1595 году по направлению римской курии был командирован в Москву и с 1603 года управлял Рязанской епархией.
Игнатий первым из православных архиереев признал самозванца и с царскими почестями встретил еще в Туле…
Как же теперь увольнять Игнатия?
Никак нельзя…
Но и объяснять эти политические резоны непросто.
Поэтому и велел Отрепьев всем Собором умолять Филарета Никитича погодить с патриаршеством и занять пока какую-либо митрополичью кафедру.
Филарет Никитич внял этой мольбе. Подумавши, сказал, что берет Ростовскую кафедру. В этой епархии находились его вотчины.
Все облегченно вздохнули. Тут же Филарета Никитича Романова возвели в сан ростовского митрополита, вместо, как утверждают историки романовской школы, «удалившегося на покой митрополита Кирилла».
Насчет «удалившегося» – явное лукавство. Правильнее сказать «удаленного»…
Для того чтобы освободить для обожаемого Никитича место, согнали с Ростовской кафедры достойнейшего иерарха Русской Церкви – святителя Кирилла (Завидова), который был хиротонисан в митрополита Ростовского всего несколько месяцев назад – 18 марта 1605 года.
Митрополит Кирилл был грешен перед Лжедмитрием тем, что присутствовал при кончине царя Бориса Годунова, тем, что присягал Федору Годунову, тем, что вместе с патриархом Иовом не признал самозванца. Но главная вина святителя заключалась в том, что он занимал епархию, которая приглянулась Филарету Никитичу.
Говорят, что первый самозванец был по-своему добрым и мягким человеком. И наверное, по-своему он жалел митрополита Кирилла.
Просто выхода у него не было.
Марине Мнишек самозванец отдавал Псковскую и Новгородские области…
Как же было не отдать человеку, который сделал его царем, приглянувшуюся епархию?
Прощаясь с новым ростовским митрополитом, Отрепьев попросил Филарета принять в дар от него и монастырь Святого Ипатия.
Митрополит Филарет внимательно оглядел бывшего раба.
Рыжеволосый, с бородавками на лице, нескладный, он ничуть не изменился с тех пор, когда Федор Никитич чуть было не забраковал его, но вот – в это невозможно поверить! – он восседал на троне Иоанна Васильевича Грозного; как хозяин, ходил по помещениям, в которые сам Филарет Никитич не мог войти без трепета…
Да что там помещения!
Филарет Никитич уже слышал о том, что Отрепьев изнасиловал красавицу царевну Ксению Годунову…
Замышляя оружие против Бориса Годунова, об этом Филарет не думал…
Или думал?
Филарет не мог вспомнить.
– Будешь, Владыка, покоить там матушку свою и сына… – глядя на бывшего хозяина тусклыми, голубыми глазами, проговорил новый государь.
Филарет поклонился в знак благодарности и не увидел, как исказились губы самозванца недоброй усмешкой – в придачу к Ипатьевскому монастырю семейство Филарета получало и Ипатьевский дом…
Ипатьевский монастырь. Изображение на миниатюре. 1672 г.
Впрочем, может быть, этого не знал и сам Отрепьев.
Это знал только его настоящий хозяин…
В монастыре Святого Ипатия Филарет «по-святительски» соединился с женой и сыном.
И очень трудно тут удержаться от сопоставления.
В Ипатьевском монастыре, основанном Мурзою Четом – предком Бориса Годунова, с которым боролись Романовы, вырос первый царь романовской династии. В Ипатьевском доме оборвется жизнь последнего Русского Государя – императора Николая II Романова.
Возле Ипатьевского дома витает тень Григория Распутина. Возле Ипатьевского монастыря – тень Григория Отрепьева.
Такие странные и страшные совпадения…
Могильной чернотой тянет от них.
Не тогда ли и были предопределены они, когда Филарет Никитич Романов принимал митрополичий сан из рук своего холопа?
Неведомо…
Добавим тут, что митрополит Кирилл (Завидов) достойно, как и подобает истинному святителю, пережил лютую несправедливость.
Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, где прежде был архимандритом. В начале 1612 года, когда патриарх Филарет отбыл в Польшу, ярославцы пригласили своего святителя снова занять освобожденную епархию…
Он и управлял ею до своей кончины. Это он благословлял поход на Москву Нижегородского ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
«По благословению великого господина преосвященного Кирилла, митрополита ростовского и ярославского и всего освященного собора, по совету и приговору всей земли, пришли мы в Москву…» – писал тогда в своей грамоте князь Дмитрий Пожарский, стоя под стенами Китай-города.
Дал бы благословение на такой поход Филарет Романов, если бы оставался ростовским митрополитом?
Едва ли…
А митрополит Кирилл после мученической кончины патриарха Гермогена стал первым высшим духовным лицом России.
В этом качестве и довелось ему приглашать на царствие Михаила Федоровича – сына своего утеснителя, встречать его при въезде в Москву, участвовать в коронации.
Это тоже, конечно же, совпадение, но каким ясным и пронзительным светом смиренномудрия окрашено оно!
7
Тяжело и беспощадно крутились запущенные Филаретом Никитичем жернова.
Царевич Дмитрий…
Самозванец Дмитрий…
Святой Дмитрий…
На этих жерновах смалывались не только честь и совесть тех, кто толпился у трона, но и сама православная мораль…
Григория Отрепьева признали царевичем Дмитрием многие.
Воспитатель детей Иоанна Грозного – Богдан Бельский, мать царевича Дмитрия – Марфа Нагая, прежний хозяин Отрепьева – Филарет Романов…
Можно понять, чем руководствовались эти люди.
Одни лжесвидетельствовали из страха, другими руководила ненависть к Годуновым, третьи рассчитывали на щедрую награду.
Однако чем бы ни руководствовались они, ложь не могла сделаться правдой, и, настаивая на своем, люди оказывались поражены духовной слепотой, уже не могли разобрать, в какую пропасть вели страну и вместе с нею и самих себя.
Это и произошло с умным и дальновидным Филаретом Романовым.
Н.И. Костомаров посвятил целую монографию «Кто был первый Лжедмитрий» доказательству, что первый самозванец и Григорий Отрепьев – разные лица. Горячих слов в этой работе еще больше, чем в исследовании, посвященном следственному делу об убиении царевича Дмитрия, аргументов же практически нет.
Ну а о доказательствах идентичности первого самозванца и Григория Отрепьева Н.И. Костомаров старается не говорить или говорит вскользь, как о несущественном…
Среди несущественных доказательств – и свидетельство патриарха Иова…
Свидетельство это тем более ценное, что оно не выгодно было самому патриарху и, значит, свидетельствуя так, он искал лишь истины. Здесь же оказались и оплаченные жизнями свидетельства иноков Чудова монастыря…
В нашу задачу сейчас не входит опровержение горячих слов в защиту патриарха Филарета. Защитить его невозможно, даже если бы Лжедмитрий и не был его холопом Григорием Отрепьевым.
В любом случае Филарет знал, что Лжедмитрий – самозванец и, принимая из его рук знаки митрополичьего достоинства, совершал клятвопреступление, более того, он знал, что совершает клятвопреступление…
Помилование самозванцем князя Василия Шуйского перед казнью. Рисунок А. Земцова. Вторая пол. XIX в.
Отметим сразу, что слово «знал» здесь включает в себя не только молчаливое согласие на обман, но и живейшее участие в этом обмане.
За спиною Григория Отрепьева стоял католический мир Запада.
Страшная угроза нависла не только над престолом, но и над самой православной сущностью нашей страны.
И Филарету Романову не так-то просто было научиться не знать, не видеть, не замечать этого…
Чтобы описать то, что чувствовал и думал митрополит Ростовский Филарет, надобен русский Шекспир. Тут можно отыскать материал и для «Макбета», и для «Короля Лира»…
Это ведь надо же…
Создать из своего холопа оружие против Бориса Годунова и в результате самому стать холопом у своего холопа… А холоп, пожаловав Ивана Никитича боярином, а Филарета Никитича – в митрополиты, считал, что вернул долг сполна. Если Филарет Романов еще чего-то хотел, ему надо было признать как своего господина не только бывшего холопа, но и новых хозяев самозванца – те римско-католические силы, что стояли за его спиной. Надобно было и самому тоже предать и Веру и Отечество…
Воистину лучше было ослепнуть, чем пройти через такое…
Но не всех русских поразила слепота.
Многие ясно различали надвигающуюся опасность и открыто встали на пути ее. Многие, кого захватывали жернова лжи и обмана, пытались вырваться из них, даже если и приходилось жертвовать для этого и богатствами, и покоем, и самой жизнью!
Мы уже говорили, как жестоко расправился самозванец с патриархом Иовом, обличившим его самозванство.
В простой рясе чернеца на убогой телеге увезли избитого, истерзанного патриарха в Успенский Старицкий монастырь.
Но это был Иов, и его невозможно было сломить…
Желая придать выбору нового патриарха подобие законности, самозванец послал Игнатия в Старицу за благословением, но Иов отказался благословить «римския веры мудрование».
Самозванец угрожал Иову муками, но и тогда не устрашился первый русский патриарх.
«Один Бог ведает, – писал он в своей духовной грамоте, – сколько предавался я рыданию и слезам с того времени, как возложен был на меня сан святительства, ибо я чувствовал мои немощи, сознавал, что не имею довольно для того духовных сил»…
8
И патриарх Иов был не один.
Умный и опытный царедворец князь Василий Шуйский тоже поднял голос против самозванца.
Василия Ивановича Шуйского судили сенаторы, которые, будучи боярами, заседали с Шуйским в Думе у русских царей. За то, что он не хотел служить самозваному царю, они приговорили бывшего товарища к смерти.
И снова повторил русский князь, что на русском престоле сидит самозванец, поскольку он, Шуйский, доподлинно видел убитого царевича Дмитрия.
Можно, конечно, повторить тут горячие слова Н.И. Костомарова: дескать, если Шуйский лгал один раз, два раза, то мог лгать и в третий раз и все три показания взаимно себя уничтожают, но не будем забывать, что обличает Шуйский самозванца, будучи приговоренным к смерти, когда никакой пользы от этих свидетельств ему не было и не могло быть, если, конечно, позабыть о пользе спасения собственной души…
«В глубокой тишине, – пишет Н.И. Карамзин, – народ теснился вокруг Лобного места, где стоял осужденный Боярин (как бывало в Иоанново время!) подле секиры и плахи, между дружинами воинов, Стрельцов и Козаков; на стенах и башнях Кремлевских также блистало оружие, для устрашения Москвитян, и Петр Басманов, держа бумагу читал народу от имени Царского: “Великий Боярин, Князь Василий Иванович Шуйский, изменил мне, законному Государю вашему, Димитрию Иоанновичу всея России; коварствовал, злословил, ссорил меня с вами, добрыми подданными: называл Лжецарем; хотел свергнуть с престола. Для чего осужден на казнь: да умрет за измену и вероломство!” Народ безмолвствовал в горести, издавна любя Шуйских, и пролил слезы, когда несчастный Князь Василий, уже обнаженный палачом, громко воскликнул к зрителям: “братья! умираю за истину, за Веру Христианскую и за вас!” Уже голова осужденного лежала на плахе… Вдруг слышат крик: стой! и видят Царского чиновника, скачущего из Кремля к Лобному месту, с Указом в руке: объявляют помилование Шуйскому!»
Момент подготовки Василия Шуйского к казни принципиально важен. Перед плахою русский князь свидетельствует, что умирает за истину. Это свидетельство привносит в верчение запущенных Романовыми жерновов Смуты то духовное содержание, которое одно только и может остановить разрушение страны.
Василий Шуйский – царедворец, политик, дипломат… Создание партий, поиск компромиссов, заключение соглашений – его стихия.
Политические расчеты двигали Шуйским во время следствия по делу царевича. Считается, что Шуйский прикрывал тогда Бориса Годунова, но это не очевидно. Вполне возможно, что, лжесвидетельствуя на царевича Дмитрия и обвиняя его в самоубийстве, Шуйский обрубал ниточки, ведущие от этого злодеяния к боярским родам, взращивавшим идею самозванца…
Но Василий Шуйский не только интриган и политик!
Все биографы говорят о его тяготении к мистицизму…
На Шуйского необыкновенно остро действовало всё, связанное с загробным миром. Князь суеверно опасался неблагоприятного воздействия потусторонних сил.
Поэтому появление Григория Отрепьева было воспринято Василием Шуйским не просто как политическая коллизия (подчеркнем тут, что русская общественная мысль с феноменом самозванства еще не сталкивалась!), а еще и в мистическом плане.
Это было как бы восстание из гроба оклеветанного им, Шуйским, мертвеца! И невнятное, почти вырванное у него признание, что он преднамеренно исказил материала следствия, порождено было именно этим мистическим ужасом, а не одними только политическими расчетами. Но естественно, что снять тяжесть с души признание это не могло, оно только усилило угрызения совести. Оказалось, что он не может противостоять и обольщению…
Необъяснимо ни с какой другой точки зрения почти мгновенное преображение Шуйского в борца с самозванцем. Эта борьба, кстати сказать, совершенно выпадает из стилистики поведения Шуйского.
Великий мастер придворной интриги, Шуйский мог бы дождался, когда обличения самозванца зазвучат из уст людей, которых невозможно связать с ним, и тогда уже и нанес бы удар противнику.
А Василий Шуйский двинулся в бой открыто, словно и не провел он долгие годы при дворах Иоанна Грозного, царя Федора и Бориса Годунова…
Объяснить этот «промах» можно только тем, что Шуйский выступает сейчас не как политик, а как человек, пытающийся оборониться от ужаса, поднимающегося в его душе. Он действует, словно ведет диалог, но не с реальными политическими силами, а с царевичем Дмитрием.
И его слова перед плахою, стоя уже во вратах вечности, тоже о царевиче Дмитрии:
– Братия… Умираю за истину… За Веру Христианскую…
Мы не знаем содержания мистического переживания, происходившего в те мгновения в душе Шуйского.
Но понятно, что думал Шуйский о ребенке, убийц которого скрыл в ходе следствия, к нему, царевичу Дмитрию, обращал Шуйский слова последнего безмолвного моления!
И вот в это мгновение и совершилось чудо – прозвучал голос, объявляющий, что Дмитрий милует его.
Не важно, что в реальности помиловал Шуйского самозванец Григорий Отрепьев… В душе Шуйского, обращенной в молитве к убиенному в Угличе царевичу, это прощение от самого царевича и исходило.
Между прочим, в Никоновской летописи содержится указание, что это Марфа Нагая упросила самозванца помиловать Шуйского. Как считает Н.М. Карамзин, «совесть терзала сию несчастную пособницу обмана: спасая мученика истины, Марфа надеялась уменьшить грех свой перед людьми и Богом».
Мы говорили, что для незащищенного общественного сознания русского человека того времени сконструированные Романовыми жернова с царевичем Дмитрием – самозванцем Лжедмитрием – святым Дмитрием были особенно разрушительны.
Спасти в этих жерновах могла только Православная вера. Другого пути для спасения не существовало. Вера спасла Василия Шуйского, вера помогла ему и сокрушить самозванца.
Не случайно поэтому центр сопротивления надвинувшемуся мраку Смуты смещался из боярских хором в храмы, и на передовую линию выходили теперь не политики и полководцы, а иерархи Церкви.
Когда Лжедмитрий обратился к ним за благословением на венчание с Мариной Мнишек и попросил не настаивать на переходе ее в православие, патриарх Игнатий угодливо проговорил:
– На твоей воле буди, государь!
Тогда и возвысил голос казанский митрополит Гермоген.
О православной вере были его слова: «Сию веру многими снисканиями благоверный князь Владимир обрел, и святое крещение принял во имя Святыя и Живоначальныя Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, и от купели здрав изыде, славя Бога и многих людей крестив… Потому непристойно христианскому царю жениться на некрещеной! Потому непристойно христианскому царю вводить ее во святую церковь! Непристойно строить римские костелы в Москве. Из прежних русских царей никто так не делал».
Тихо стало в Грановитой палате, где происходило заседание Боярской думы, преобразованной самозванцем в подобие польского сената[37]. Глуховатый и несильный голос казанского митрополита раскатился по палате, загуляло под тяжелыми сводами гулкое эхо…
Показалось, будто кто-то повторил с высоты:
– Из прежних русских царей никто так не делал!
Побледнело лицо самозванца. Великою силою обладает слово правды. Бесстрашно произнесенное, оно легко разрушает все хитросплетения лжи, все хитроумные уловки обмана. Более того, слово правды возвращает зрение людям, ослепшим, когда вокруг все выкрикивают лживые утверждения.
Вот и сейчас, когда зазвучал глуховатый и несильный голос Гермогена, ясно увидели все, кто посажен ими на московский престол!
Разумеется, видели они это и раньше.
Слишком многие помнили в Москве человека бояр Романовых – Отрепьева. И в Чудовом монастыре, куда старался не ходить самозванец, тоже не забыли своего чернеца.
Свидетельство Богдана Бельского, признание Марфы Нагой могли обмануть только тех, кто хотел обмануться… Тягостное молчание, повисшее в Грановитой палате, прервал сам самозванец. Пересыпая слова плохо скрытыми угрозами, он уговаривал Гермогена не противодействовать ему.
Но чем дольше говорил, тем явственнее становилось, что под сводами Грановитой палаты разносится голос дворового человека бояр Романовых.
Не царские речи вел Отрепьев.
И снова прозвучал глуховатый голос митрополита Гермогена:
– Заклинаю тебя оставить свои планы!
Страшен был гнев, который обрушил самозванец на Гермогена. Приказано было сослать митрополита назад в Казань, снять с него святительский сан и заточить в монастыре.
Однако Господь не попустил исполнения этого приказа.
Еще не завершил Гермоген святительского служения.
Еще многое предстояло совершить ему…
9
12 ноября 1605 года в Кракове было совершено обручение и бракосочетание Григория Отрепьева с Мариной Мнишек по римскому обряду. Вместо жениха в Кракове рядом с Мариной стоял посол самозванца – Власьев.
2 мая 1606 года в сопровождении двух тысяч поляков и литовцев Марина прибыла в Москву.
Короновали Марину Мнишек в Успенском соборе.
Патриарх Игнатий возложил на Марину бармы, диадему и корону. По окончании коронования патриарх совершал литургию и после Херувимской песни возложил на Марину золотую Мономахову цепь и причастил ее Христовых Тайн по православному обряду.
Вслед за литургиею последовало и бракосочетание.
«Мы несомненно уверены, что как ты желаешь иметь себе детей от этой избранной женщины, – писал в письме к Лжедмитрию папа римский, – рожденной и воспитанной в благочестивом католическом семействе, так вместе желаешь привести народы Московского царства к свету католической истины, к святой Римской Церкви, матери всех прочих Церквей. Ибо народы необходимо должны подражать своим государям и вождям»…
Все было рассчитано у новых хозяев романовского холопа, и сразу после свадьбы Марина начала понуждать Григория Отрепьева, чтобы он исполнил обещание, данное римскому папе.
И Отрепьев решился.
«Пора мне, – сказал он 16 мая князю Константину Вишневецкому, – промышлять о своем деле, чтобы государство свое утвердить и веру Костела Римского распространить. А начать нужно с того, чтобы побить бояр… У меня все обдумано. Я велел вывезти за город все пушки и дал наказ, чтобы в следующее воскресенье, 18 мая, выехали туда будто бы смотреть стрельбу все поляки и литовцы в полном вооружении, а сам я выеду со всеми боярами, которые будут без оружия. И как только начнут стрелять из пушек, поляки и литовцы перебьют бояр; я даже назначил, кому кого убить».
Теперь, казалось бы, бессмысленным становилось сопротивление святителя Гермогена…
Бессильными становятся слова, когда заряжают пушки.
Но это не так.
Недолгим было торжество самозванца. Всего девять дней длился медовый месяц. Не удалось молодым насладиться подготавливаемой потехой.
17 мая восставшие москвичи ворвались в покои самозванца.
«Нетерпеливый народ, – пишет Н.М. Карамзин, – ломился в дверь, спрашивая, винится ли злодей? Ему сказали, что винится, – и два выстрела прекратили допрос вместе с жизнию Отрепьева. Его убили дворяне Иван Воейков и Григорий Волуев…»[38]
Потом тело Лжедмитрия выволокли из Кремлевского дворца и долго терзали и бросили в грязи посреди рынка.
Рядом с трупом самозванца, со словами: «Вы здесь любили друг друга! Будьте же неразлучны и в аду!» – бросили и тело Басманова.
Худенькая, небольшого роста, Марина спряталась под юбку своей гофмейстерины.
Ей тоже еще рано было помирать. Еще ждала ее впереди постель второго самозванца – еврея Богданко, а следом и казачий шатер Заруцкого…
Когда толпа тащила трупы Григория Отрепьева и Басманова на Красную площадь, поравнявшись с Вознесенским монастырем, вызвали царицу Марфу Нагую.
– Твой ли это сын?
– Вы бы спрашивали меня об этом, когда он был еще жив, – ответила царица, отрекшаяся от самозванца еще накануне, – теперь он уже, разумеется, не мой.
На Красной площади выставлены были оба трупа в продолжение трех дней: Лжедмитрий лежал на столе в маске, с дудкою и волынкою, Басманов – на скамье у его ног.
Басманова потом погребли на семейном кладбище у церкви Николы Мокрого, а самозванца – за Серпуховскими воротами…
Но сразу после похорон, в двадцатых числах мая, ударили сильные морозы, поползли слухи: дескать, виною – волшебство расстриги, и тогда москвичи, чтобы не погубить урожай на огородах, труп вырыли, сожгли и, смешав пепел с порохом, выстрелили из пушки на запад – в ту сторону, откуда пришел он.
Так и завершилось правление первого царя со двора Романовых…
Глава шестая Патриарх тушинского вора
За четверть века до описываемых событий, 8 июля 1579 года, в Казани произошло обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
Великие чудеса явились от нее…
Уже на следующий день прозрел перед иконой слепой Никита.
Но икона Казанской Божией Матери даровала и чудеса духовного прозрения. Словно спадала пелена с глаз, и ясно видели люди, что надлежит делать, чтобы спастись самим и спасти Отечество.
И самое первое чудо, совершенное иконой, – священник Ермолай, который первым поднял чудотворный образ, чтобы показать народу.
Пятьдесят лет было ему тогда.
Бо́льшая часть жизни оставалась за спиною, но вот он взял в руки чудотворный образ, и словно спала пелена с глаз современников, и сразу – во всей духовной мощи явился облик святителя Гермогена…
Мы уже говорили, как бесстрашно выступил он против попытки самозванца узурпировать православные обряды и обычаи, но главный святительский подвиг ему еще предстояло совершить…
И совершать его предстояло в духовном противостоянии недругам Руси и православия, какой бы сан и какое бы звание ни носили они…
1
Еще валялись на Красной площади трупы Григория Отрепьева и Петра Басманова, а воровского патриарха Игнатия уже лишили сана и заключили в Чудовом монастыре. В вину ему вменялось нарушение православных обрядов во время коронации и бракосочетания самозванца с Мариной Мнишек.
Теперь надобно было избирать и нового царя, и нового патриарха.
Московским вельможам, замешанным в свержении Годуновых и службе романовскому холопу, хотелось выбрать царем такого же, как они, измаранного клятвопреступлениями боярина, который не мог бы потом попрекнуть их. Подходили для этого и обласканные самозванцем Романовы, и князь Василий Голицын, который удавил со стрельцами царя Федора Годунова и его мать – царицу Марию…
Но был еще и князь Василий Шуйский…
Портреты его у историков романовской эпохи всегда почему-то смахивают на карикатуру. Одни из них рисовали Шуйского толстым («Роста малого, толст», – утверждал Н.М. Карамзин), другие – тощим («Худенький, приземистый, сгорбленный старичок», – говорил Н.И. Костомаров), но всегда, хотя будущему царю было чуть больше пятидесяти лет, изображали стариком. И всегда – несановитым и некрасивым. Всегда – с большим, широким ртом; с подслеповатыми, больными глазами…
Еще большую суровость проявляли историки в оценке моральных качеств Шуйского… «Донельзя изолгавшимся и изынтриговавшимся» называл его В.О. Ключевский. «Мелочной, скупой до скряжничества, – говорил про Шуйского Н.И. Костомаров, – завистливый и подозрительный, постоянно лживый и постоянно делавший промахи, он менее, чем кто-нибудь, способен был приобресть любовь подвластных, находясь в сане государя».
Спору нет…
Из-за небольшого роста князь Шуйский мог казаться полноватым, почти толстым. Испорченные неумеренным чтением глаза действительно быстро уставали и часто бывали красными. Шуйский вполне мог казаться подслеповатым…
Он очень бережливо относился к государевой казне, иногда бывал мелко, не по-царски, скуп. Особенно удручала бояр скупость Шуйского, когда они сравнивали ее со щедростью Григория Отрепьева, который в три месяца своего правления сумел практически опустошить государеву казну, скопленную за несколько веков московскими государями[39]…
Все это так…
Сложнее с лживостью.
Разумеется, изображать человека, вся жизнь которого протекала возле трона, образцом прямоты и простодушия было бы неосмотрительно.
Но не будем забывать, что это ведь Василий Шуйский обличил самозванца. И это всё меняет. Человека, поднявшегося за правду на плаху, уже невозможно назвать лжецом, даже если он когда-то и говорил неправду.
Кроме того, встречая суровые отзывы о царе Василии Шуйском, не нужно забывать, что большинство историков XIX века почитало либеральный атеизм главной духовной ценностью, а православное самосознание русского народа считало неискренним и лживым. Неискренностью они называли и тот мистицизм, без которого трудно представить себе Василия Шуйского. Чрезвычайно умный и начитанный, он простонародно искренне верил в чудеса и чародейства. Это тоже трактовалось как лживость…
Подобные оценки, разумеется, далеки от истины.
Гораздо более точной представляется нам характеристика, данная Василию Шуйскому А.С. Пушкиным: «Il montre dans l`histoire un singulier melange d`audace, de souplesseet de force de caractere»[40].
Чтобы обнаружить смелость и силу характера, а заодно разумность и предусмотрительность в действиях Василия Шуйского, достаточно только отказаться от нелепой привычки во что бы то ни стало, даже вопреки исторической истине, защищать доброе имя Романовых…
«По убиении расстриги, – вздыхает ангажированный врагами Василия Шуйского летописец, – бояре начали думать, как бы согласиться со всею землею, чтобы приехали из городов в Москву всякие люди, чтобы выбрать, по совету, государя такого, который бы всем был люб. Но Богу не угодно было нас помиловать по грехам нашим: чтобы не унялась кровь христианская, немногие люди, по совету князя Василия Шуйского, умыслили выбрать его в цари».
Так, наверное, и было…
Москвичи еще слишком хорошо помнили, что сановитый Голицын, командуя полком правой руки под Кромами, перешел на сторону самозванца и участвовал в бесчеловечной расправе над Годуновыми, а помаргивающий красноватыми глазами Шуйский бесстрашно обличал самозванца, стоя перед плахой на Лобном месте!
Москвичи не успели еще позабыть, как осанистый красавец Филарет (Романов) принимал знаки митрополичьего достоинства из воровских рук, а сгорбленный книгочей Шуйский поднимал против самозванца восстание, и это за ним шли в Кремль восставшие москвичи, чтобы уничтожить объявленного царем романовского холопа!
Верховные бояре тоже помнили, что в глазах народа эти достоинства превозмогут сановитость и осанистость, и решили перехитрить народ.
19 мая 1606 года бояре вышли к народу, что с раннего утра толпился на Красной площади, и предложили избрать патриарха, который встанет во главе временного правления и разошлет грамоты, созывающие «советных людей» из русских городов для выборов царя.
Расчет был простым.
Бояре собирались поставить в патриархи Филарета, и этот свой патриарх помог бы избрать им своего царя.
Но и москвичи знали, что бояре прочат в патриархи Филарета Романова, и прекрасно понимали, какие выборы царя устроит этот ставленник своего холопа-самозванца.
Царь Василий Иванович Шуйский
Поэтому-то голоса бояр потонули в недовольном гуле толпы, из которого вдруг взметнулся решительный голос:
– Прежде да изберется царь! Царь нужнее патриарха!
Народ одобрительно зашумел, и тут же было выкрикнуто имя князя Василия Ивановича Шуйского…
Больше в Москве после правления Григория Отрепьева выбирать было некого.
К сожалению, тогда московские бояре уже вошли во вкус шляхетской вольности и, вынужденные под давлением народа согласиться на избрание царем Василия Шуйского, обговорили это согласие значительным ограничением царских полномочий.
Согласно заключенному договору, царь не имел власти лишать кого-либо жизни без приговора Думы, обязался не подвергать гонению вместе с виновными их невиновную родню. Наконец, царь обязывался не давать веры доносам. Если донос оказывался ложным, царь обязан был наказать доносчика.
Василий Шуйский не мог не понимать, что подобное ограничение царской власти, поощряя боярские измены и мятежи, превратится в постоянный источник угрозы безопасности Руси.
Поэтому Шуйский попытался перехитрить бояр.
При венчании на Царство, как пишет летописец, он всенародно присягнул, «чтобы ни над кем не сделать без Собору никакого дурна».
Мысль разумная. Присягая Собору, Шуйский сбрасывал с себя зависимость от Боярской думы. Но, разумеется, понимали это и бояре, которые зорко следили за новым царем, чтобы не потерять своей власти.
– Такого никогда, государь, на Руси не велось! – зашумели они. – Ты, государь, такой «новизны» не вводи…
Конечно же, если бы Шуйский был избран, как Годунов, у него, возможно, и хватило бы сил оборвать голоса предателей, но он ведь действительно в цари был лишь выкрикнут…
«Этому провозглашению толпы, только что ознаменовавшей свою силу истреблением Лжедмитрия, никто не осмелился противодействовать, и Шуйский был не, скажем, избран, но выкрикнут царем, – говорит С.М. Соловьев. – Он сделался царем точно так же, следовательно, как был свергнут, погублен Лжедмитрий, скопом, заговором, не только без согласия всей земли, но даже без согласия всех жителей Москвы; умеренная, спокойная, охранительная масса народонаселения не была довольна в обоих случаях, не сказала своего “да”: гибельное предзнаменование для нового царя, потому что когда усердие клевретов его охладеет, то кто поддержит его? На московском престоле явился царь партии, но партия противная существовала: озлобленная неудачею, она не теряла надежд; к ней присоединились, т. е. объявили себя против Шуйского, все те, которым были выгодны перемены, и всякая перемена могла казаться теперь законною, ибо настоящего, установленного, освященного ничего не было».
Но нужно понимать и то, что если бы сторонники Шуйского не форсировали выборы, откровенное предательство семи – восьми? девяти? десяти? – боярщины явилось бы на Руси тоже на несколько лет раньше.
И наступил бы тогда для России 1612 год – неведомо…
2
Современники не раз отмечали, что с воцарением Василия Шуйского власти у бояр стало больше, чем у самого царя.
Увы, это так…
И эта власть стала бы совсем неограниченной, если бы клятвопреступникам и цареубийцам удалось тогда возвести на патриарший престол ставленника Григория Отрепьева – Филарета (Романова).
Противостоять боярам в возвышении Филарета было еще труднее, чем ограничению царских полномочий, но тут на помощь царю Василию Шуйскому явился… царевич Дмитрий.
Мы рассказывали о том, что должен был переживать чрезвычайно склонный к мистицизму Василий Иоаннович Шуйский, стоя перед плахой на Лобном месте.
Его исповедничество, его мысли, что спустя мгновение он, быть может, встретится с царевичем Дмитрием в Царствии Небесном, его покаяние и молитва к нему, и тут же голос, возвещающий, что Шуйский помилован Дмитрием, – все это не могло не оставить следа в душе будущего царя.
Василий Шуйский верил в святость царевича Дмитрия, может быть, сильнее других и ему первому и являлась помощь и заступничество святого.
Так было, когда он стоял перед плахой на Лобном месте, так стало и теперь, когда он сел на троне московских царей.
Перенесение мощей царевича в Москву – пожалуй, самое первое деяние нового царя. С перенесением мощей связано и чудо дарования Василию Шуйскому помощи в его борьбе с боярством.
Согласно общепринятому мнению, затеяно перенесение мощей было ради предотвращения появления нового самозванца…
Русские бояре. Рисунок XVII в.
Это суждение верно ровно настолько, насколько может быть верным атеистический взгляд на православные святыни. Атеизм признает их культурное и историческое значение, но и только.
Действительно, если рассуждать логически, гроб с останками умершего должен был убедить любого, что этот человек умер, а значит, другой человек, называющийся его именем, – самозванец!
Но для этого ведь надобно верить, что выставленные останки – действительно останки царевича Дмитрия. Этой веры оказалось недостаточно на Руси, и самозванец появился-таки, и снова пошли за ним русские люди. Многие видели мощи царевича, но не верили, не желали верить, потому что не верить было удобнее…
Чудо, дарованное святым царевичем Дмитрием, проявилось в другом.
«В то ж время, егда венчан бысть царским венцом на Москве царь Василей, – пишет в “Летописной книге” С.И. Шаховской, – посла на Углич болярина князя Ивана Михайловича Воротынского, да преосвященного ростовского митрополита Филарета, и повеле им привести гроб царевича Дмитрея во царствующий град Москву на уверение людям»…
Совсем не с руки было Филарету отлучаться от выборов патриарха, но отказаться от царского поручения он не посмел.
Отказ вызвал бы нежелательные толки.
Действительно, человек, обласканный самозванцем Лжедмитрием, не желает или боится ехать к мощам подлинного Дмитрия. Это что-то да должно было значить…
И Филарет (Романов) поехал. Он покинул Москву, как раз когда должен был решаться вопрос о выборе патриарха.
3
Некоторые историки называют удаление Филарета из Москвы накануне выборов патриарха «обходным» маневром Василия Шуйского, но, как нам кажется, все было гораздо сложнее.
Нет никакого сомнения, что царь Василий Шуйский нашел бы способ удалить из Москвы ростовского митрополита Филарета и помешать ему стать патриархом, но помог ему в этом – святой царевич Дмитрий. И помощь эта могла бы быть гораздо действеннее, если бы Филарет (Романов) верил чуть-чуть сильнее.
В самом деле…
Поездка митрополита Филарета (Романова) в Углич – событие знаменательное и для биографии самого Филарета, и для истории России…
Ведь здесь, в Угличе, почти повторилась ситуация, которая произошла с Василием Шуйским на Лобном месте, произошла встреча человека с мощами святого, тень которого этот человек дерзостно и святотатственно пытался возродить в самозванце.
Внутренний драматизм события усиливался тем, что Филарет приехал к мощам святого Дмитрия как иерарх Церкви, а в иерархи его возвел преступник, присвоивший имя святого Дмитрия.
Понятно, что Филарет (Романов) не был подвижником православия, понятно, что и в святительских одеждах он оставался светским человеком, но не понимать, насколько кощунственна предстоящая ему миссия, он не мог.
В так называемой «Рукописи Филарета, патриарха Московского» подробно рассказывается об этой поездке… Любопытно, что Филарету долго не удавалось найти гроб живоносного мертвеца…
«Егда убо во град входят, тогда ощутиша граждане приход их, и внезапу стечеся весь град, мужи и жены… Цареву повелению едва повинующеся, и последнее целование живоносному мертвецу отдающе своему Государю, и надгробные песни с плачем и воплем испущаху, якож и при погребении праведного… И ту первее преблагий Бог прослави угодника своего: снимающе убо, гроба его Святителие и Бояре не могуще обрести и желаемое ими многоцелебное тело узрети»…
Долго не могли московские посланцы многоцелебное тело узрети и только «во время святаго пения внезапу узреше из десные страны, яко дым восходящ дыхание благовонно»… Начали копать там, и «обретше некрадомое сокровище многобогатый гроб, вместивший тело блаженного царевича»…
Когда вскрыли гроб, увидели, что там лежит нетленное – пятнадцать лет прошло со дня похорон! – тело царевича Дмитрия…
«Целы и невредимы мощи обретошася. Кроме взятых частей от требующия земли: и земля бо жаждет насладитися от плоти праведных, да сими освятится от скверноубийственных дланей. И не токмо бо плоть бысть в целости святого страдальца, но и ризы на теле его освятишася и истления избыша. И егда убиен бысть от безбожных изменник, и тогда ему прилучися держать в шуйце своей убрус шит златом и серебром пряденым, и тогда оставиша в руце его, и сие бяше цело и невредимо, яко у живаго в руце держимо: в друзей же приключишася плод, глаголемый орехи»…
В «Рукописи Филарета, патриарха Московского» не говорится о тех чувствах, что испытывал сам митрополит Филарет, когда увидел словно бы живое лицо царевича, не потерявшее блеска жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, орех, найденный у святого отрока в правой руке и с ним положенный в могилу…
Но откуда тогда странное волнение, которое пронизывает весь этот текст? Может быть, от того, что снова дано было Филарету заглянуть почти на четыре столетия вперед, когда повторится история мощей царевича Дмитрия со святыми мощами последних Романовых…
И снова, как при вручении ему Григорием Отрепьевым Ипатьевского монастыря, не смог Филарет прозреть, не хватило веры прозреть то, что назначено было прозреть…
3 июня царь, царица, мать царевича Дмитрия инокиня Марфа, митрополиты и множество народа торжественно встретили святые мощи у стен Москвы и перенесли в Архангельский собор Кремля. Они были поставлены здесь в открытой раке, чтобы явить «их нетление, чтобы утешить верующих и сомкнуть уста неверных».
Здесь Филарет и узнал, что во время его отсутствия из Москвы решился вопрос о патриархе.
На патриаршество избрали казанского митрополита Гермогена.
Митрополит Филарет внешне спокойно встретил это известие…
4
Непрочною оказалась власть Василия Шуйского, но она и не могла быть прочной…
Еще не закопали у обочины дороги тело Григория Отрепьева, а уже поползли слухи, будто самозванцу удалось бежать. Эти слухи распускал подручный покойного Григория Отрепьева, Михайло Молчанов.
Прошло немного времени, и сосланный в Путивль за близость к Лжедмитрию князь Григорий Шаховской поднял мятеж. К нему присоединился начальствовавший в Чернигове князь Андрей Телятевский. Стремительно разрасталась новая смута.
Михайло Молчанов отыскал тогда Ивана Болотникова, бывшего холопа Телятевского, и, убедившись, что и этот холоп, как Отрепьев, способен на многое, отправил его в Путивль к князю Шаховскому, где тот поставил Болотникова начальником над объединенными шайками, к которым прибивалось множество обездоленных крестьян.
Теперь дело было за самозванцем.
Сам Михайло Молчанов отказался занять эту должность, но кандидатов в царьки хватало и без него.
«Человек, знаменитый в нашей истории под именем Тушинского вора… показался впервые в белорусском местечке Пропойске, где был схвачен как лазутчик и посажен в тюрьму, – сообщает С.М. Соловьев. – Здесь он объявил о себе, что он Андрей Андреевич Нагой, родственник убитого на Москве царя Дмитрия, скрывается от Шуйского, и просил, чтобы его отослали в Стародуб. Рагоза, урядник чечерский, с согласия пана своего Зеновича, старосты чечерского, отправил его в Попову Гору, откуда он пробрался в Стародуб. Прожив недолго в Стародубе, мнимый Нагой послал товарища своего, который назывался московским подьячим Александром Рукиным, по северским городам разглашать, что царь Дмитрий жив и находится в Стародубе. В Путивле жители обратили внимание на речи Рукина и послали с ним несколько детей боярских в Стародуб, чтобы показал им царя Дмитрия… Рукин указал на Нагого; тот сначала стал запираться, что не знает ничего о царе Дмитрии, но когда стародубцы пригрозили и ему пыткою… схватил палку и закричал: “Ах вы б… дети, еще вы меня не знаете: я государь!” Стародубцы упали ему в ноги и закричали: “Виноваты, государь, перед тобою”».
Есть известия, что царевичем Дмитрием объявил себя Богданко – крещеный еврей из Шклова[41].
«И вот снова в той же упомянутой уже Черниговской стороне явился новый злобесный и кровь лакающий пес… – говорит Хронограф 1617 года. – Простых людей устрашил, а змиеобразных, коварных и злых – тех привлек…» И пошла, разрастаясь и захватывая все новые и новые территории, новая беда. Одни называют ее крестьянской войной Ивана Болотникова, другие движением самозванца Лжедмитрия II, третьи – польской агрессией.
Историки пытаются вычленить подходящие события, развести их по отдельным темам, но события путаются между собой, переплетаются и во времени, и по месту действия, и составом действующих лиц.
Это не было ни крестьянское восстание, ни война самозванца, ни польская агрессия… Это была Смута, и произрастала она не из Варшавы или Кракова, не из Путивля или Чернигова, а из боярской Москвы…
И воистину Божий Промысел видится в том, что рядом со «слабым» царем – Василию Шуйскому не хватало силы разорвать боярскую удавку! – встал, словно бы высеченный из гранита, патриарх Гермоген.
Лжедмитрий II
Трудно было найти более подходящего человека, который способен был бы вести корабль Русской Православной Церкви через бури вновь приближающейся Смуты…
В свидетельствах современников можно найти жалобы на жесткость нрава патриарха Гермогена, непривлекательность в обращении, неумеренную строгость…
Учитывая, что жалобы исходят, как правило, из шляхетско-вольнолюбивых кругов московского боярства, понятно, что неумеренной строгостью называется тут обличение святителем пороков, поразивших русское общество, а непривлекательностью в обращении – всегдашнее следование святителя правде.
Опять-таки и жесткость нрава тут – тоже синоним.
Видимо, так называли бояре-клятвопреступники огонь православной Веры, что ослепительно ярко вспыхнул в Гермогене, когда – первым! – осеняя народ, поднял он над головою чудотворный образ Казанской Божией Матери…
В одном только не ошибались современники. Гермоген не был похож на них!
Он, кажется, и не жил, вступив на святительский путь. Все его житие было только исполнением своего предназначения…
В октябре, когда войска Ивана Болотникова окружили Москву, Гермоген установил с 14 по 19 октября пост и благословил петь просительные молебны, чтобы отвратил Господь гнев от православных христиан и укротил междоусобную брань.
– Не за царевича Дмитрия умираете вы! – увещевал Гермоген мятежников. – Но Божиим наказанием, за предательство веры!
И случилось чудо по молитвам святителя…
По ярославской дороге двигались к Москве двести стрельцов из Смоленска, Двины и Холмогор. Этот небольшой отряд повстанцы приняли за великое войско и, дрогнув, отступили от Москвы.
Призывая русский народ к единению, Гермоген понимал, что нельзя объединиться, пока тяготит народную совесть клятвопреступление. Чтобы разрешить народную совесть от этого греха, он вызвал из Старицы престарелого патриарха Иова…
Успенский собор был переполнен народом, когда 20 февраля сюда вошли оба патриарха. Гермоген, совершив молебное пение, встал на патриаршем месте.
Собравшиеся в храме подали Иову челобитье.
В нем рассказывалось, что клялись православные служить верой и правдою царю Борису Годунову, что обещали не принимать назвавшегося Дмитрием вора, но изменили присяге… А потом клялись Федору – сыну Бориса, и снова преступили крестное целование, не послушали патриарха Иова и присягнули самозванцу!
– Прости нам, первосвятителе, и разреши нам все эти измены и преступления… – читал с амвона архидьякон. – И не только одним жителям Москвы, но и жителям всей Руси, и тем, которые уже скончались!
– А что вы целовали крест царю Борису и потом царевичу Федору и крестное целование преступили, в тех всех и нынешних клятвах я, Гермоген, и я, смиренный Иов, по данной нам благодати вас прощаем и разрешаем, а вы нас Бога ради также простите в нашем заклинании к вам, и если кому какую-нибудь грубость показали, – прозвучали в ответ слова разрешительной грамоты.
Многие плакали тогда в Успенском соборе.
Слезы стояли и в глазах престарелого патриарха Иова. Облаченный в простую ризу инока, он благословлял народ.
– Чада мои духовныя! Впредь молю вас… такова… не творите… крестное целование… не преступайте… – с трудом выговаривая слова, заклинал он.
Через четыре месяца святейший патриарх Иов преставился, но дело, которое совершил он с патриархом Гермогеном, дало добрые всходы.
Нашлись у страны силы, чтобы унять мятеж…
10 октября Василий Шуйский овладел Тулой.
Злого бунтовщика Болотникова сослали в Каргополь и утопили в проруби.
5
После взятия Тулы Гермоген уговаривал Шуйского не медлить с подавлением мятежа в «украйных городках», но бояре не позволили царю Василию последовать мудрому совету. Не нужно было боярам спокойствие в государстве, настояли они, чтобы Шуйский распустил войско на отдых.
И случилось то, что и должно было случиться…
Вбирая рассеявшиеся после разгрома Ивана Болотникова казачьи шайки, усиливаясь польскими отрядами Яна Сапеги и Александра Лисовского, войско самозванца нанесло поражение Василию Шуйскому и встало на подступах к Москве в Тушине.
Не только в князьях и боярах появилась тогда расшатанность, но и в простых людях.
«И разделились, как чернь, так и знать… – свидетельствует летописец. – Один брат в Москве с царем Василием в осаде, а другой – в Тушине с вором. Отец – в Москве, сын – в Тушине. И сходились ежедневно они на битву, сын против отца и брат против брата».
Вскоре в Тушине объявилась Марина Мнишек.
«Я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычайный характер, – отмечает А.С. Пушкин. – У Карамзина он лишь бегло очерчен, но, конечно, это была странная красавица; у нее была одна только страсть – честолюбие, но до такой степени сильное, бешеное, что трудно себе представить. Посмотрите, как она, отведав царской власти, опьяненная призраком отдается одному проходимцу за другим, разделяя то отвратительное ложе жида, то палатку казака, всегда готовая отдаться каждому, кто только может дать ей хотя бы слабую надежду на более уже не существующий трон. Посмотрите, как она переносит войну, нищету, позор и в то же время сносится с польским королем, как коронованное лицо с равным себе, и жалко кончает свое бурное и необычайное существование. Я уделил ей только одну из сцен, но я еще вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. Она волнует меня, как страсть. Она – ужас что за полька, как говорила (кузина г-жи Любомирской)».
Эта ужас что за полька быстро сговорилась с Тушинским вором о вознаграждении (300 тысяч рублей и Северское княжество с четырнадцатью городами – ее папаше) и 5 сентября тайно обвенчалась с царьком, публично признав в шкловском еврее Богданко спасшегося супруга – царевича Дмитрия.
Тогда же в Тушине была образована и своя Боярская дума. В нее вошли князья Д.Т. Трубецкой, Д.М. Черкасский, А.Ю. Сицкий, М.М. Бутурлин, Г.П. Шаховский.
Почти все они были родственниками Романовых, и теперь в Тушине не хватало для комплекта только самого Филарета.
За ним и отправился в Ростов польский отряд Яна Сапеги.
По дороге к полякам присоединились переяславцы, которые не желали упустить случай поквитаться с ростовчанами.
Историки эпизод пленения ростовского митрополита описывают, не жалея героических красок:
«Ростовский митрополит Филарет Никитич с немногими усердными воинами и гражданами заключился в соборной церкви, и, готовясь к смерти, причастился сам Святых Тайн, и велел священникам исповедать и причастить всех прочих. Двери церковные не выдержали напора врагов, началась резня; Филарет хотел было уговаривать переяславцев от Божественных Писаний, но его схватили, сняли с него святительские одежды и босого, в одной свитке, повели в Тушино, подвергая его на пути разным поруганиям» (митрополит Макарий (Булгаков).
Патриарх Филарет. Портрет из «Титулярника». 1672 г.
«Ростовцы… хотели бежать далее на север всем городом, но были остановлены митрополитом своим Филаретом Никитичем Романовым и воеводою Третьяком Сеитовым, который собрал несколько тысяч войска, напал с ним на Сапегиных казаков и переяславцев, но был разбит, бежал в Ростов и там упорно защищался еще три часа. Одолев наконец воеводу, казаки и переяславцы ворвались в соборную церковь, где заперся Филарет с толпами народа, и несмотря на увещевания митрополита, вышедшего с хлебом и солью, выбили двери, перебили множество людей, поругали святыню…» (С.М. Соловьев).
Обращает внимание, как однообразно, почти без комментариев воспроизводятся летописные сюжеты.
Разве только Н.М. Карамзин отметил, что везли Филарета в Тушино в литовском платье и татарской шапке, а С.М. Соловьев подчеркнул тот прискорбный факт, что громили соборный храм в Ростове не ляхи, а свои, переяславцы.
Но это, кажется, и все вариации… Между тем, хотя и скупы сообщения летописи, поразмышлять там есть над чем. Нам представляются важными два момента…
Филарет стремился остаться в незащищенном Ростове, где горожане жили просто, совету и обереганья не имея. Почему он поступил так? Ради того, чтобы поддержать свою паству? Это как-то не похоже на Филарета, да и не мог он не понимать, что, представляя для самозванца интерес, он не оберегает своим присутствием паству, а лишь подвергает ее опасности.
Сюжет летописи тут явно перекликается с рассказом о пленении Марины Мнишек. По дороге из Ярославля она прикинулась больной, чтобы задержаться, пока ее не «захватил» Тушинский вор.
Второй момент, на котором стоило бы остановиться, – это хлеб и соль, которыми пытается встретить митрополит Филарет ломящихся в церковь грабителей.
Н.М. Карамзин и митрополит Макарий стыдливо упускают эту подробность, а менее осторожные апологеты Романовых пускаются в объяснения: дескать, митрополит Филарет желал защитить Ростов от набега польской шайки и, привечая посланцев самозванца хлебом-солью, хотел утихомирить грабителей смирением своим.
Мы видели, как умел смиряться Филарет, когда избивал в Сийском монастыре прислуживавших ему чернецов. Опять-таки и в детской наивности, встречающейся порою у глубокоправославных людей, Филарета заподозрить трудно.
Увы…
Лукавят тут наши уважаемые историки. Поднося тушинцам хлеб-соль, Филарет не о спасении Ростова думал. Подобно своим давним знакомцам Мнишекам, радовался он, что наконец-то попадет к Тушинскому вору.
Версии добровольного перехода Филарета (Романова) на сторону Тушинского вора несколько противоречит рассказ об унижениях, которым подвергался митрополит по дороге в Тушино…
Однако тут мы должны вспомнить об «исторической», как выразился С.М. Соловьев, вражде Переяславля и Ростова. Возможно, что эту «историческую» вражду и пришлось испытать Филарету на себе. Да и едва ли простодушные переяславцы могли испытывать уважение к архиерею, переметнувшемуся к тушинскому царьку… Чему тут удивляться? За все надобно платить.
Но недолго мучился Филарет…
В Тушине судьба его сразу переменилась. С распростертыми объятиями встретила Филарета тушинская родня.
Царек Богданко тоже проявил к Филарету Никитичу милость. Он провозгласил его патриархом.
Хотя, по другим источникам, патриарший сан у шкловского еврея Филарету Никитичу пришлось покупать. Он отдал Богданко за патриаршество яхонт, который был вправлен в его митрополичий жезл. Этот яхонт, как уточняет Бер-Буссов, ровнялся «ценою с полубо́чкой золота».
Так это или иначе, но Романовы сделали следующий шаг на пути к трону!
6
Возведение Филарета (Романова) в патриархи и дальнейшая служба его у шкловского царька – самая позорная страница в истории династии Романовых.
Скрыть этот факт невозможно, но в дворянской историографии делалось все, чтобы загипнотизировать читателя и представить посредством псевдонаучных пасов черное белым.
Говорится, например, что грамоты, данные «нареченным» патриархом Филаретом, не могут быть доказательством, что Филарет действительно согласился взять на себя роль, назначенную царьком.
Ссылаются на Авраамия Палицына, который говорил, что Филарет пребывал у самозванца под строгим присмотром…
Говорят, что законный патриарх – святитель Гермоген не считал Филарета врагом, а называл жертвой, пленником «вора»…
Эти доказательства варьируются у разных историков так же сходно, как и обстоятельства ростовского пленения Филарета, и точно так же разваливаются, едва только начнешь присматриваться к ним…
Ну, вот, например, грамоты, подписанные Филаретом в Тушине…
Сохранилась, кажется, единственная грамота Филарета, которую он дал в Тушине, и из нее видно, что Филарет называл себя и митрополитом Ростовским, и патриархом Московским и всея России и считал – это принципиально важно! – что его власть распространяется на все захваченные евреем Богданко области…
Какое же тут несогласие?
Точно так же и со свидетельством Авраамия Палицына…
Конечно, заслуги келаря Троице-Сергиева монастыря Авраамия Палицына особенно в возведении Романовых на престол безусловны, но не будем забывать, что сам Палицын в Тушине при Филарете не бывал. О притеснениях, которым подвергался Филарет, Авраамий Палицын пишет со слов самого Филарета…
Князь М.В. Скопин-Шуйский. Парсуна Начало XVII в.
И тут мы, пожалуй, и спорить не будем…
Мы согласны, что Филарет имел все основания считать, будто его притесняют в Тушине.
Дело в том, что хотя в воровской думе и заседали настоящие московские бояре, нравы царили тут местечковые. И далеко не всегда умел Филарет Никитич сориентироваться…
Оно, конечно, вроде и не дорого – яхонт за патриарший сан…
Ну а если поторговаться? Может быть, и дешевле согласился бы царек уступить патриаршество?
Но не будешь ведь яхонт назад требовать.
Вот и получается, что притеснение кругом…
Еще более бессмысленно ссылаться для реабилитации Филарета на святителя Гермогена, говорившего в 1609 году:
«А которые взяты в плен, как и Филарет митрополит и прочие не своею волею, но принуждением и на христианский закон не стоят и крови православных братий своих не проливают, таковых мы не порицаем, но и молим о них Бога, сколько есть сил, чтобы Господь от них и от нас отвратил праведный Свой гнев и полезная бы подал им и нам…»
Если мы сопоставим эти слова с началом грамоты: «Аз, смиренный Гермоген, Божиею милостию Патриарх Богом спасаемого града Москвы и всея Руси, напоминаю вам, прежде бывшим господам и братиям, – ныне же, грех ради наших, сопротивными обретенным, не ведаем, как вас и назвать: ибо оставивши свет, – во тьму отошли, отступив от Бога, – к сатане прилепились, возненавидев правду, – ложь возлюбили…», то увидим, что патриарх Гермоген не дает никакой оценки поступку Филарета, а лишь указывал ему на выход из трясины, в которую тот забрел…
Указывает на Путь из лжи к Правде. Из тьмы – к Свету. От сатаны – к Богу…
И конечно же, говоря о необыкновенной снисходительности, проявленной святителем Гермогеном к воровскому патриарху Филарету, не будем забывать о том прозаическом обстоятельстве, что не было тогда, в 1609 году, у патриарха возможности заниматься разбирательством.
Не было и срочной нужды в этом.
Филарет Никитич, прикупив у Богданко сан патриарха, слава Богу, только изображал патриарха, а конкретных действий для реализации новых полномочий не предпринимал. С.Ф. Платонов справедливо отмечает, что поведение Филарета в Тушине, «скорее всего, заслуживает название оппортунизма и политики результатов».
Он действовал, как и вся боярская дума в Тушине, которая только изображала власть, поскольку все практические решения принимались поляками.
Забегая вперед, скажем, что в 1613 году, посадив на трон Романовых, тушинцам удалось, как говорят сейчас, легитимизировать все пожалования еврея Богданко. Это касалось и земельных наделов, полученных за службу в Тушине, и званий.
За Филаретом было сохранено звание патриарха. Хотя несколько лет, пока Филарет находился в польском плену и пустовал патриарший престол, никто не занимал его после кончины замученного родственниками Филарета святителя Гермогена.
Завершая разговор о нравственной оценке тушинского периода деятельности Филарета (Романова), добавим, что все оправдания, которые приводятся в его защиту, свидетельствуют лишь, что он не проявил себя достойным святительского сана, в который возвел его первый самозванец.
И в этом обличают Филарета (Романова) все святители того времени…
Вспомним их…
Суздальский архиепископ Галактион был в 1608 году изгнан тушинцами из своего города и скончался в изгнании…
Коломенского епископа Иосифа литовские люди под предводительством пана Лисовского взяли в 1608 году в плен и привязывали к пушке, когда осаждали какой-либо город, чтобы устрашать других, но эта жестокость не устрашила самого епископа. Когда царские воеводы отбили его, он возвратился в свою епархию, где по-прежнему ревностно обличал изменников.
Тверского архиепископа Феоктиста долго мучили в Тушине – травили собаками и кололи пиками, но архиепископ не сдался. В марте 1610 года при попытке побега из Тушина, его поймали и убили. Израненное, искусанное собаками тело его было найдено вблизи дороги.
У Филарета все время сохранялась возможность совершить то, что ежедневно, ежечасно совершали в те страшные месяцы иерархи Русской Православной Церкви, то, что и он должен был совершить в соответствии со своим саном!
И в каком-то смысле ему было проще пойти по пути мученического подвига. В отличие от многих, он знал и своего холопа Гришку Отрепьева, выдававшего себя за царевича Дмитрия, и святого царевича тоже знал. Ему легко было определиться в борьбе святости и самозванства, правды и лжи, добра и зла, поскольку он совершенно точно знал, где Правда, а где ложь.
И значит, сторону лжи он выбрал тоже вполне сознательно.
7
Когда мы говорим о сдержанности оценок, данных святителем Гермогеном поведению Филарета, не будем забывать, как стремительно развивались тогда события и какие немыслимые комбинации порождала игра самолюбий и своеволий…
Очевидно, что патриарху Гермогену просто недосуг было заниматься Филаретом – более важные и насущные для России и для православия проблемы занимали его…
В конце года войска самозванца перекрыли подвоз хлеба, и в Москве начался голод.
Торговцы взвинтили цены. Печалуясь о бедных, святитель Гермоген собрал в Успенском соборе купцов и бояр, умоляя их не наживаться на народной беде. Но сердца богатеев оказались глухи к призыву архипастыря о милосердии.
Другие планы вынашивала они в злых сердцах. И они дождались, когда голод сделал свое дело. 25 февраля 1609 года в Москве вспыхнул мятеж.
– Царь Василий – незаконный государь! – кричали подосланные из Тушина заводилы. – Его избирала одна Москва! Иные города не ведают царя Василия! Не люб он нам! Хотим другого царя выбирать!
Но на этот раз патриарху Гермогену удалось образумить мятежников.
Он заявил, что царь Василий Шуйский избран и поставлен Богом!
– Вся земля, – сказал он, – целовала крест государю, присягала добра ему хотеть и лиха не мыслить! А вы, отступники, забыли крестное целование!»
Увещевания святителя подействовали на народ.
Тушинские заводилы, видя, что народное возмущение может повернуться против них, поспешили убежать из Москвы к царику (так называли самозванца поляки) в Тушино.
«Они ударились, как волны о камень, и рассыпались… – скажет потом сам патриарх Гермоген. – Как бурею, Господь рассеял их гневом своим!»
Но не только в Москве звучал решительный голос святителя.
«Не достает слов, болит душа, болит сердце, все внутренности мои расторгаются… – писал патриарх Гермоген к мятежникам, сидящим в Тушине. – Плачу и с рыданием вопию: помилуйте, помилуйте свои души и души своих родителей, жен, чад, сродников – восстаньте, вразумитесь и возвратитесь! Вспомните, на кого воздвигли оружие? Не на Бога ли и святых Его? Не на свое ли отечество, ныне вами попираемое?»
Слова патриарха достигали своей цели, пробуждая стыд и раскаяние в ожесточившихся сердцах.
Это не значило, что мятеж и Смута прекращались после получения посланий патриарха, но, как свидетельствуют современники, влияние увещеваний святителя было чрезвычайно велико.
Отчасти это подтверждается и успехом предпринятого в 1609 году наступления русско-шведского войска под командование Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.
Это был молодой, талантливый и решительный полководец.
Большие надежды возлагал на него патриарх Гермоген…
В сражениях под Торжком и Тверью Михаил Васильевич Скопин-Шуйский разгромил тушинцев, освободил Александровскую слободу и снял осаду с Троице-Сергиевой лавры.
В первых числах марта 1610 года была снята осада и с Москвы.
12 марта Москва торжественно встречала своего двадцатичетырехлетнего освободителя.
Среди тушинцев началась паника…
Еврей Богданко бежал.
Бежала и Марина Мнишек.
Михаил Ружинский поджег стан и двинулся к Иосифо-Волоколамскому монастырю.
Вместе с ним пытался уйти к новым господам и тушинский патриарх, но по дороге поляки столкнулись с отрядом Григория Волуева, и в результате Филарет Никитич оказался пленен…
Плененного изменника привезли в Москву, но здесь ему опасаться было некого. Те же бояре, что и в Тушине, держали верх в Москве, и никто не попрекнул Филарета совершенным «воровством».
Никаких свидетельств, что Филарет снял с себя патриарший сан, купленный у еврея Богданко, нет. Сведений о церковном покаянии, принесенном Филаретом за тушинское «воровство», тоже нет.
Недосуг было каяться.
Когда приехал Филарет в Москву, Золотоглавая чествовала своего освободителя – Михаила Васильевича Скопина-Шуйского…
Великим и светлым было народное торжество в Москве.
Наконец-то явился среди погрязших в трясине интриг и клятвопреступлений бояр юный герой, не запятнанный предательством, осиянный славою победителя…
Великим и светлым было народное торжество. Велика и черна была зависть в боярских сердцах к удачливому и отважному полководцу.
23 апреля он занемог «кровотечением из носа», и через две недели, на день памяти великомученика Георгия, умер.
Считается, что чашу с отравой юному герою поднесла жена Дмитрия Шуйского, дочь знаменитого Малюты Скуратова, и случилось это в их доме.
Естественно, что тут сразу возникает масса вопросов.
Необъяснимо, почему окруженные со всех сторон лютыми врагами Шуйские начинают разборку в собственной семье? Непонятно, почему брату царя Дмитрию Шуйскому потребовалось уничтожать Скопина-Шуйского именно сейчас, когда не миновала еще опасность, да еще к тому же и делать это в своем дому? Что двигало им? Зависть? Непроходимая глупость?
Но создатели компромата на Шуйских и не ищут ответов на эти вопросы. Более того, при внимательном рассмотрении обнаруживаются и фактологические неувязки в их версии.
Н.М. Карамзин прямо говорит, что «болезнь» приключилась с юным героем на пиру у князя Дмитрия Шуйского, брата царя.
Поскольку он сам приводит в примечаниях цитату из «Рукописи Филарета», где говорится, что освободитель Москвы разболелся «на крестинном пиру, у князя Ивана Михайловича Воротынского, егда крести сына своего князя Алексея[42], и тако едва дойде до монастырню пазуху, потом пустися руда из носа и из рта, и пребысть похищение смертное», не очень-то понятно, из какого источника почерпнул он сведения о пире в дому Дмитрия Шуйского[43]…
Неувязка получается…
Но с другой стороны, как это на глазах у всех – совершались ритуальные крестильные действия – сумела бы кума приготовить «питье лютое, питье смертное» для кума?
Понятно, что дочь кровавого Малюты по всем законам ловко изготовленного черного пиара может все и априори готова к совершению любого преступления, но все же заниматься изготовлением отравы, находясь в чужом доме, как-то слишком…
Очевидно, эта несуразность и смутила Н.М. Карамзина, и заставила его перенести пир в дом самой кумы, в хоромы князя Дмитрия Ивановича Шуйского…
Но если дочь Малюты Скуратова не могла совершить злодеяние на крестильном пиру в чужом доме, то кто же тогда совершил его у князя Ивана Михайловича Воротынского?
Боярин Иван Михайлович Воротынский – старый знакомец Филарета Никитича. С Воротынским ездил митрополит Филарет в Углич за мощами царевича Дмитрия… Вот и накануне скорбных для России крестин тушинский патриарх оказывается у Воротынских…
Мы не собираемся обвинять Филарета Никитича в непосредственной организации отравления освободителя Москвы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.
Однако никуда не уйти от того факта, что Филарет Романов, возведенный двумя самозванцами на вершины церковной иерархии, оказывается вблизи и от этого столь рокового для русской судьбы преступления. Как-то так получается, что там, где оказывается тушинский патриарх, тотчас начинают множиться измены и предательства, совершаются убийства самых выдающихся русских героев…
Такое ощущение, что сквозь этих богатырей и прорубали Романовы дорогу к трону…
«Михаил выпил чашу… и был принесен в дом, исходя кровию, безпрестанно льющеюся из носа; успел только исполнить долг христианина и предал свою душу Богу, вместе с судьбою Отечества! …Москва в ужасе оцепенела».
Умирал князь Михаил Скопин-Шуйский две недели…
Незадолго до его кончины пришел инок из Борисоглебского монастыря под Ростовом.
– Вороти крест, княже! – передал он просьбу затворника Иринарха. – Другому этот крест потребен будет.
Князь Михаил вернул поклонный крест и просил отвезти отшельнику Иринарху дары от него.
Считается, что этим крестом преподобный Иринарх и благословит князя Дмитрия Пожарского, когда тот поведет Нижегородское ополчение к Москве в 1612 году.
8
Польские источники называют патриарха Филарета одним из главных предателей Московского государства в руки Сигизмунда…
Это действительно так.
24 июля гетман Станислав Жолкевский разгромил войска Василия Шуйского при Клушине и подошел к Москве.
С другой стороны к городу подступили войска Лжедмитрия II.
Совещание русских изменников, выступающих на стороне поляков, и русских сподвижников еврея Богданко, с двух сторон осаждавших Москву, в Москве и проходило.
Тушинский патриарх Филарет Романов, Василий Голицын и продолжающий служить Тушинскому вору боярин Дмитрий Трубецкой сговорились, что москвичи «ссадят» несчастливого царя Василия Шуйского, а тушинцы зарежут еврея Богданко, и после этого можно будет избрать нового царя.
К заговору был привлечен Захар Ляпунов. 17 июля он поднял мятеж. Дворяне и дети боярские заполнили Кремль.
– Да сведен будет с царства Василий! – кричали они.
Патриарх Гермоген пытался остановить смутьянов, но мятежники заглушали слова святителя своими криками.
Царя Василия Шуйского вывели из дворца и насильно постригли в монахи. Иноческие обеты за него давал князь Тюфякин.
Со скорбью взирал на это безумие святой Гермоген.
– Ты говорил обеты иноческие! – сказал он Тюфякину. – Тебя и признаю монахом, а не царя Василия!
Потом добавил:
– Аще Владыка мой Христос на престоле владычества моего укрепит мя, совлеку царя Василия от риз и освобожу его!
Мятежники увезли превращенного в инока Варлаама царя Василия Шуйского в Чудов монастырь и заточили там.
Трагична судьба этого царя, трагична судьба всего древнего рода князей Шуйских.
Такой мощный, такой многочисленный род! Он прорастает в XVI веке к верховной власти и за несколько десятилетий, одну за другой, теряет все свои могучие ветви.
Жутковато читать скорбный мартиролог.
Убит… Утоплен… Затравлен… Задушен… Отравлен… Убит…
Теперь пришла очередь последних Шуйских – царя Василия Ивановича и его брата Дмитрия…
«Так Москва проступила с Венценосцем, который хотел снискать ея и России любовь подчинением своей воли закону, – писал Н.М. Карамзин, – бережливостию государственною, безпристрастием в наградах, умеренностью в наказаниях, терпимостию общественной свободы, ревностию к гражданскому образованию – который не изумлялся в самых чрезвычайных бедствиях, оказывал неустрашимость в бунтах, готовность умереть верным достоинству Монаршему, и не был никогда столь знаменит, столь достоин престола, как свергаемый с онаго изменою: влекомый в келлию толпою злодеев, несчастный Шуйский являлся один истинно великодушным в мятежной столице»…
Власть перешла в руки Семибоярщины – отравителя М.В. Скопина-Шуйского князя И.М. Воротынского; брата тушинского патриарха Филарета – И.Н. Романова; Ф.И. Мстиславского; А.В. Трубецкого; А.В. Голицына; Б.М. Лыкова; Ф.И. Шереметева.
Первым делом московско-тушинские бояре выдали полякам на расправу и глумление последних Шуйских – царя Василия Ивановича и его брата Дмитрия.
29 октября 1611 года, подобно римскому триумфатору, сидя в богатой коляске, в которую впряжена была шестерка белых лошадей, окруженный пышной свитой въехал в Варшаву коронный гетман Станислав Жолкевский. За ним влачился пленный русский царь Василий Шуйский и его брат – Дмитрий.
Поставив этих последних Рюриковичей перед троном Сигизмунда, Жолкевский сказал: «Вот он, великий царь московский, наследник московских царей, которые столько времени своим могуществом были страшны и грозны польской короне… Вот брат его Дмитрий… Ныне стоят они жалкими пленниками, всего лишенные, обнищалые, поверженные к стопам вашего величества и, падая на землю, молят о пощаде и милосердии!»
О том, что привел он в Варшаву не царя, а монаха, гетман упомянуть позабыл…
Жестокое унижение пришлось пережить несчастным пленникам, которые еще не знали, что в плену и предстоит им закончить свои дни.
Но это было унижение не только Шуйских, это было жестокое унижение всей Руси, на которую обрекла ее московская знать, предавшая свою страну… А в самой Москве разгорелась борьба между главарем повстанцев Захарием Ляпуновым, ратовавшим за избрание на царство Василия Голицына, и партией последнего Гедиминовича – Федора Ивановича Мстиславского, стоявшей за избрание царем королевича Владислава.
Тогда же тушинский патриарх Филарет Романов предложил избрать царем его четырнадцатилетнего сына Михаила…
Впрочем, ни Василию Голицыну, ни Филарету (Романову) не удалось противостоять партии Федора Ивановича Мстиславского, требовавшего избрания Владислава и соединения с Польшей.
9
Страшная слепота поразила московских бояр.
Видели глаза, кого выбирают в цари, но не разбирали бояре, что делают, не ведали, что творят.
– Что всуе мететесь и вверяете души свои поганым полякам? – заклинал этих слепцов патриарх Гермоген. – Разве не знаете, что издавна наша христианская греческая вера ненавидима в странах иноплеменных?
Но не слышали его потерявшие от страха и жадности разум московские бояре. Сигизмунд обещал им шляхетские вольности, и, теряя последний стыд, верховники соглашались на всё.
Они заключили с гетманом Жолкевским договор о приглашении на русский трон королевича Владислава.
Вот имена бояр, отвезших договор гетману: Ф.И. Мстиславский, А.В. Голицын, несколько членов Земского собора и, конечно же, И.Н. Романов, брат тушинского патриарха Филарета.
27 августа Москва присягнула Владиславу, а меньше чем через месяц, ночью, по сговору с Семибоярщиной поляки заняли Кремль, Китай-город, Новодевичий монастырь.
Совершилось величайшее в истории нашей Родины предательство.
Кучка бояр, трясущихся от страха за свои жизни, раскрыла ворота Кремля чужеземным захватчикам.
С этого момента начинается новая страница в биографии тушинского патриарха Филарета. Вместе с убийцей Годуновых князем Василием Голицыным он отправляется в посольство, чтобы привезти в Москву нового царя – королевича Владислава.
Печальна была дорога послов к Смоленску. Горели вдоль дороги сёла, едкий дым стлался над полями. Своими глазами видели предатели, какой мир устанавливают на Русской земле их новые хозяева – в пепел обратился Калязин монастырь, разгромлен Козельск…
В королевский стан под Смоленском послов не пустили, указали место на берегу Днепра, где они и должны были ожидать приема. Послы, ссылаясь на трудный путь, просили продуктов, но…
– Король здесь на войне и сам терпит нужду! – услышали в ответ.
Так началось знакомство бояр-изменников с благами шляхетской вольности, которой они так добивались.
Приняли послов только через пять дней, 12 октября.
– Всевечный Бог богов назначил степени для монархов и подданных, – важно объявил Сапега, выслушав их. – Кто дерзает возноситься выше своего звания, того Он казнит и низвергает. Бог казнил Годунова и низвергнул Шуйского – этих венценосцев, рожденных слугами!.. Идите… Вы узнаете волю королевскую!
Воля королевская не порадовала послов.
Им было объявлено, что прежде они должны склонить к капитуляции осажденный Смоленск.
– Пошто ему капитулировать? – спросили послы. – Ручаемся вам душами за боярина Шеина и граждан: они искренне, вместе с Россиею, присягнут Владиславу.
– Для чего же не Сигизмунду? – удивились поляки. – Вы оскорбляете короля своим недоверием, дерзая разделять отца с сыном. Смоленск должен присягнуть им обоим.
И сколько не бились послы, паны стояли на своём.
– Король, – говорили они, – даст вам Владислава, но прежде он должен занять Смоленск и совершенно усмирить Россию.
История посольства Голицына-Филарета скорбна, но поучительна.
Поляки принудили их вступить в переговоры с защитниками Смоленска, но предателям не удалось склонить героев на ту измену, которую бояре уже совершили в Москве, и после этого поляки совершенно перестали считаться с ними!
Повторим еще раз, что, вглядываясь в события того времени, мы обнаруживаем странную закономерность. Всё то, что Филарет считал благом, оборачивалось горем для страны, все то, что он считал неудачей, оказывалось прямой выгодой.
Вот и сейчас…
Неудача посольства Филарета явилась благом для Руси.
А упрямая несговорчивость Сигизмунда, желавшего самому править на Руси, и была той помощью, которую вымолили наши святые, чтобы спасти Русь.
Ведь именно неумеренность амбиций Сигизмунда и спасла тогда нашу страну от порабощения!
Как говорит Н.М. Карамзин, «судьба, благословенная для России, влекла ее к другому назначению, готовя ей новые искушения и новые имена для бессмертия!.. Сигизмунд со своими панами завидовал Гетману (Станиславу Жолкевскому. – Н.К.)… хотел сам быть Царем или завоевателем России».
И опять-таки как ни задуматься над тем, что стоит только удалиться Филарету от Москвы, как и начинает сразу собираться земля, устраиваться государственная жизнь…
Зато, как только Филарет возвращается, все приходит в упадок – разрушается государственное управление, устраиваются заговоры, гибнут люди, которые особенно важны сейчас для России, возбуждаются самозванцы!
Нет-нет… Мы не утверждаем, будто Филарет (Романов) организовывал все заговоры, все убийства, все предательства.
Сейчас речь не об этом.
Филарет Романов в нашей истории – это не только исторический деятель.
Как и Романовы, – это не просто семья или династия…
Это название болезни, поразившей тогда Святую Русь…
И действовала эта болезнь порою уже независимо от своих возбудителей…
Глава седьмая Первый царь дома Романовых
А устраивалось все по молитвам святителей и праведников…
Через великие испытания шла к очищению Русь, и, пожалуй, никогда еще в нашей истории не обнажался так ясно и очевидно православный смысл пословицы о счастье, которого не было бы, если бы несчастье не помогло…
1
Сигизмунд III потребовал, чтобы Москва присягнула разом и ему, и его сыну.
Бояре-предатели покрутили головами, почесали в затылках и согласились.
Им оставалось только уговорить патриарха Гермогена…
Уговаривать святителя отправился 30 ноября 1610 года глава Семибоярщины Федор Иванович Мстиславский. Ему казалось, что он сумеет если не уговорить патриарха, то хотя бы обмануть.
Но не удалось уговорить. Обмануть тоже не получилось.
– Я таких грамот не благословляю писать! – взглянув на протянутые бумаги, твердо сказал святитель. – И проклинаю того, кто писать будет.
Казалось бы, что может сделать один человек?
Гермоген находился в Москве, где всем распоряжались поляки и предавшиеся полякам бояре…
Но необорима сила человека, если он вооружен православной верой. Твердо, как скала, стоял патриарх Гермоген, и ни хитростью, ни угрозами не удавалось главе Семибоярщины добиться от него уступок!
Вместе с Мстиславским пришел к патриарху Гермогену и боярин Михаил Глебович Салтыков.
Царь Василий Шуйский сослал его воеводой в Орешек, но Салтыков бежал оттуда в 1609 году к царику в Тушино. Скоро его заметили и поляки, когда он, обманывая, будто война прекратилась и царь Василий Шуйский уже захвачен тушинским цариком, уговаривал защитников Троице-Сергиевой лавры сдаться Яну Сапеге и Александру Лисовскому. Такую верную службу поляки ценили и возвысили Михаила Глебовича до звания помощника польского коменданта Москвы.
Досадно было верному подручному Александра Гонсевского слушать неразумные речи патриарха, не желающего понимать, какое это счастье – верно служить полякам. Позабыв о почтительности, он выхватил нож и двинулся на Гермогена.
– Подписывай, Гермоген! – потребовал он.
– Не страшусь твоего ножа! – бесстрашно ответил патриарх. – Вооружаюсь против него силою Креста Христова! Ты же будь проклят от нашего смирения в сей век и в будущий![44]
И застыл Салтыков, словно неведомая сила остановила его. Бессильно повисла рука, сжимавшая нож.
Так ничего и не добились предатели от патриарха.
Великая сила исходила от Гермогена, и вся Россия в эти трагические дни смотрела на него как на главного заступника, как на последнюю надежду. И пришел час святому Гермогену совершить свой подвиг во имя спасения православной Руси.
Этот час пробил 10 декабря 1610 года, когда Петр Урусов – начальник татарской стражи – зарезал на охоте шкловского еврея Богданко.
Казалось бы, рядовое для Смуты событие.
Резали и настоящих царей тогда, чего же говорить о мошенниках? Тушинский вор, царик, как называли его поляки, был не первым и не единственным самозванцем. Однако сейчас, когда Москва была оккупирована поляками, патриарх Гермоген понял, что настал момент, когда можно переломить ход роковых событий и превратить бесконечную и бессмысленную междоусобицу в освободительную войну.
Это и сделал он.
Скоро из Москвы полетели в большие и малые города грамоты: «Ради Бога, Судии живых и мертвых, будьте с нами заодно против врагов наших и ваших общих. У нас корень царства, здесь образ Божией Матери, вечной Заступницы христиан, писанный евангелистом Лукой, здесь великие светильники и хранители Петр, Алексий и Иона чудотворцы, или вам, православным христианам, все это нипочем? Поверьте, что вслед за предателями христианства, Михаилом Салтыковым и Федором Андроновым с товарищами, идут только немногие, а у нас, православных христиан, Матерь Божия, и московские чудотворцы, да первопрестольник апостольской Церкви, святейший Гермоген патриарх, прям, как сам пастырь, душу свою полагает за веру христианскую несомненно, а за ним следуют все православные христиане».
Польский король Сигизмунд III. Рисунок XIX в.
И произошло чудо!
Повсюду, в больших и малых городах Руси, начали собираться отряды. Ратные люди и торговцы, дворяне и землепашцы, вооружившись, кто чем мог, двинулись к Москве, чтобы освободить ее.
Казалось, сама земля Русская поднялась, чтобы очистить свою столицу от непрошеных гостей.
Тревога охватила изменников-бояр. Сохранились грамоты, в которых предатели увещевали ярославцев и костромичей пребывать в верности польскому королевичу Владиславу, а зачинщиков (Минина и Пожарского?) послать к ним с повинною. Под этими грамотами твердо и четко выведена подпись боярина Ивана Никитича Романова, дяди будущего царя Михаила.
Святой патриарх Гермоген. Портрет из «Титулярника». 1672 г.
Толку от этих грамот не было, и изменники взялись за патриарха Гермогена, который находился в их руках.
Снова приходила к святителю романовская родня.
– Это ты, владыка, писал по городам, чтобы шли к Москве! – кричал на святителя уже позабывший о проклятии Михаил Глебович Салтыков. – Пиши теперь, чтобы не ходили.
– Напишу! – безбоязненно ответил патриарх. – Только вначале и ты, и другие изменники вместе с королевскими людьми выйдите вон из Москвы!
– Экий ты неучтивый старик! – сказал Гермогену польский наместник в Москве Александр Гонсевский. – Скоро прибудет в Москве законный царь Владислав, и он будет судить тебя! Вели ратным людям, стоящим под Москвой, идти прочь, иначе уморим тебя злою смертью!
– Что вы мне угрожаете? – отвечал патриарх. – Боюсь одного Бога… И потому благословляю всех стоять против вас и помереть за православную веру. Вы мне обещаете злую смерть, а я надеюсь через нее получить венец. Давно желаю я пострадать за правду!
21 марта 1611 года патриарха Гермогена заточили в подземельях Чудова монастыря. Поляки и продажные бояре стремились изолировать его, чтобы прекратить призывы к освободительной войне…
Но кто в силах загасить светильник, возжженный самим Господом?
Не уменьшилось, а возросло влияние Гермогена, когда заточили его в подземелье. Все новые и новые отряды русских людей устремлялись к Москве. Теперь уже шли они и на выручку своего святителя.
На всю Россию звучал в посланиях архимандрита Дионисия голос заточенного патриарха:
«Вспомните, православные, что все мы родились от христианских родителей, знаменались печатью, святым крещением… Возложив упование на силу Животворящего Креста, покажите свой подвиг, молите своих служивых людей, чтоб всем православным христианам быть в соединении и стать сообща против наших предателей и против вечных врагов Креста Христова польских и литовских людей!.. Бога ради отложите то на время, чтоб всем вам единодушно потрудиться для избавления православной веры от врагов, пока к ним помощь не пришла. Смилуйтесь и умилитесь, и поспешите на это дело, помогите ратными людьми и казною, чтобы собранное теперь здесь под Москвою воинство от скудости не разошлось! О том много и слезно всем народом христианским бьем вам челом!»
И услышала, услышала Россия. В каждом русском сердце зазвучали эти слова!
Но самому святителю Гермогену – увы – не суждено было увидеть освобожденную Москву.
Еще когда только двинулось в победный поход Нижегородское ополчение, изменники бояре снова попытались вынудить патриарха запретить нижегородцам идти на Москву.
– Да будут благословенны те, которые идут, чтобы очистить Московское государство! – ответил Гермоген. – Вы же, окаянные изменники, будьте прокляты!
После этого приказано было морить патриарха голодом. Раз в неделю в подземелье, где был заточен он, бросали сноп овса.
17 февраля 1612 года святой Гермоген предал душу в руки Божии…
«Да будет над теми, кто идет на очищение Московского государства, милость от Господа, а от нашего смирения благословение… – писал патриарх Гермоген в последней своей грамоте, отправленной из заточения. – Стойте за веру неподвижно, а я за вас Бога молю»…
Что могли противопоставить этому бояре-изменники, что мог ответить на это Филарет, поставленный в патриархи Тушинским вором?
2
18 августа, отслужив молебен у Сергия Радонежского, ополчение Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина выступило на Москву.
И было тогда знамение. Сильный ветер подул от Москвы, навстречу ратникам.
«Дурной знак! – пишет С.М. Соловьев. – Сердца упали; со страхом и томлением подходили ратники к образам Св. Троицы, Сергия и Никона чудотворцев, прикладывались ко кресту из рук архимандрита, который кропил их святою водою. Но когда этот священный обряд был кончен, ветер вдруг переменился и с такою силою подул в тыл войску, что всадники едва держались на лошадях, тотчас же все лица просияли, везде послышались обещания: помереть за дом Пречистой Богородицы за православную христианскую веру».
На берег Яузы вышли к ночи… Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, который еще недавно заседал в боярской думе у Тушинского вора, уже стоял с казаками под стенами Москвы, звал князя Пожарского к себе в стан.
– Отнюдь не бывать тому, чтоб нам стать вместе с казаками! – ответили ему.
На другой день, когда ополчение придвинулось к Москве, Трубецкой снова предложил встать вместе в одном остроге, у Яузских ворот, но получил прежний ответ.
Э.Э. Лисснер. Изгнание польских захватчиков из Московского Кремля
«Таким образом, – пишет С.М. Соловьев, – под Москвою открылось любопытное зрелище. Под ее стенами стояли два ополчения, имевшие, по-видимому, одну цель – вытеснить врагов из столицы, а между тем резко разделенные и враждебные друг другу; старое ополчение, состоявшее преимущественно из Козаков, имевшее вождем тушинского боярина, было представителем России больной (выделено нами. – Н.К.)… второе ополчение, находившееся под начальством воеводы, знаменитого своею верностию установленному порядку, было представителем здоровой, свежей половины России, того народонаселения с земским характером, которое в самом начале Смут выставило сопротивление их исчадиям, воровским слугам, и теперь, несмотря на всю видимую безнадежность положения… собрало с большими пожертвованиями, последние силы и выставило их на очищение государства. Залог успеха теперь заключался в том, что эта здоровая часть русского народонаселения, сознав, с одной стороны, необходимость пожертвовать всем для спасения веры и отечества, с другой – сознала ясно, где источник зла, где главный враг Московского государства, и порвала связь с больною, зараженною частию… Слова ополчения под Москвою: “Отнюдь нам с козаками вместе не стаивать” – вот слова, в которых высказалось внутреннее очищение выздоровления Московского государства; чистое отделилось от нечистого, здоровое от зараженного, и очищение государства от врагов внешних было уже легко».
Об этом разделении нечистых и чистых, зараженного и здорового и молились великие подвижники Русской Православной Церкви, без этого бессмысленно было рассчитывать на Божию помощь.
Под стенами Москвы эта помощь явилась ополчению Минина и Пожарского во всем своем величии и силе.
Напрасно гетман Ходкевич пытался снять осаду с Москвы или хотя бы пробиться к осажденным. Бессильными оказались и полководческий талант гетмана, и боевая выучка.
Не помогло полякам даже предательство Д.Т. Трубецкого[45]…
«Мы не закрываем от вас стен… – надменно писали князю Дмитрию Пожарскому осажденные поляки, когда его ополчение встало у стен Москвы. – Берите их, если они вам нужны… Отпустил бы ты, Пожарский, своих людей к сохам. Пусть холоп по-прежнему возделывает землю, поп служит в церкви, Кузьмы пусть занимаются своей торговлей – царству тогда лучше будет, нежели теперь при твоем управлении, которое ты направляешь к последней погибели государства…»
Но уже через несколько недель все изменилось.
Необъяснимо, как произошло такое мгновенное разложение польской рати, но так и было.
Польские жолнеры добивали раненых, выкапывали тела из могил и поедали их. Началась охота на живых людей. Леденящий страх расползся по Кремлю…
А 22 октября 1612 года загудели колокола в московских церквях.
Это перед последним штурмом встали русские ратники на молебен перед чудотворной иконой Казанской Божией Матери…
3
Уместившись в пространстве двух лет, сходятся судьбоносные для нашей страны даты…
В 1578 году родился Дмитрий Михайлович Пожарский, будущий освободитель Москвы от поляков.
А на следующий, 1579 год случился в Казани большой пожар, после которого была обретена на пепелище чудотворная икона Божией Матери, и самое первое чудо, совершенное от нее, – преображение священника, отца Ермолая. Подняв с земли чудотворный образ, немолодой – ему было около пятидесяти лет – приходской батюшка, превращается вдруг в грозного святителя – патриарха Гермогена…
Вот два события, из которых произросло спасению нашего Отчества от разрушительной Смуты, в которую ввергли его властолюбие, алчность, разврат и своеволие.
И сейчас, четыре столетия спустя, в самой одновременности этих событий различается образ русского спасения. Вот три необходимые составляющие его: Божия помощь, воинская доблесть, смирение и подвижничество…
Чудо, которое совершила Казанская икона Божией Матери с иереем Ермолаем, превратив его в грозного святителя Гермогена, было только прообразом чуда, совершенного 22 октября 1612 года, когда перед Пречистым Ликом Казанской иконы Божией Матери разъединенные политическими симпатиями и антипатиями, враждующие друг с другом русские люди вдруг очнулись и, ощутив себя единым народом, сбросили с себя вместе с обморочностью Смуты и ярмо чужеземных захватчиков.
Тогда, 22 октября 1612 года, единым приступом были взяты стены Китай-города, и поляки укрылись в Кремле, чтобы через три дня сдаться на милость победителей.
На 22 октября (4 ноября) и установили осенний праздник Казанской иконы Божией Матери[46]…
И вот пришло 25 октября, когда распахнулись окованные железом створы Троицких ворот на Неглинную и, как и было условлено, выпустили вначале московских думных бояр, трепетно хранивших верность польскому королю Сигизмунду и его сыну Владиславу…
«Жаль было смотреть на них, – пишет Н.И. Костомаров. – Они стали толпою на мосту: не решаясь двигаться далее. Козаки подняли страшный шум и крик. “Это изменники! Предатели! – кричали козаки. – Их надобно всех перебить, а животы их поделить на войско!”»
Злые крики наотмашь хлестали изменников.
Уже и камни полетели в них, но ополченцы Пожарского и Минина удерживали народ, не давая растерзать предателей.
Началась перебранка. Кое-где завязывались драки.
Бояре, не двигаясь, стояли на мосту, ожидая решения своей участи.
Испуганно вздрагивая, жался к монахине Марфе (Романовой) съежившийся от страха и холода узкоплечий подросток. Ему было шестнадцать лет, но он казался гораздо моложе. Это был будущий царь Михаил Федорович Романов…
Сидя на коне, строго смотрел на бояр-предателей князь Дмитрий Пожарский. Рядом с ним поднято было тяжелое знамя с ликом Спаса.
Большой знаток Смутного времени С.Ф. Платонов, рассказывая о князе Дмитрии Пожарском, заметил, что в древнерусском обществе было мало простора для самовыражения; личность мало высказывалась и мало оставляла после себя следов…
Это верно, но верно лишь с внецерковной точки зрения, а древнерусский человек вне Церкви не мыслим. Без хоругвей, покачивающихся за его спиною, без знамени с ликом Спасителя немыслим и Дмитрий Михайлович Пожарский.
Пройдет еще несколько минут, и князь взмахнет рукою, подавая знак, и следом за чудотворным образом Казанской Божией Матери, который, по благословению патриарха Гермогена, сопровождал ополчение на всем его пути до Москвы, потекут отряды ополченцев в освобожденный Кремль…
О, как мечтали они увидеть Кремлевские соборы, как жаждали припасть к московским святыням! Эта надежда и помогала вынести все тяготы похода.
Шли и думали, что главное – добраться до Московского Кремля, очистить его от захватчиков… Ведь там, за зубчатыми стенами, тепло сердечное, там – незаходящее солнце московских куполов!
И вот одолели ворога!
Дошли…
Холодный ветер нес по московским площадям мусор отчаяния, сор и грязь предательства.
Сыро, серо и страшно было в Кремле…
Вглядимся еще раз в картину, открывшуюся глазам князя Дмитрия Пожарского и его ратников в утренние часы 25 октября 1612 года…
Толпятся на Каменном мосту перепуганные бояре-предатели…
На голове у Федора Ивановича Мстиславского темнеет пропитанная кровью повязка. Эту отметину накануне оставил жолнер, забравшийся в хоромы Федора Ивановича, чтобы съесть последнего Гедиминовича.
Хромой Иван Никитич Романов опустил голову.
Едва стоит на ногах и князь Борис Михайлович Лыков.
Испуганно смотрит на толпу казаков Иван Михайлович Воротынский, в доме которого отравили спасителя Москвы, князя Скопина-Шуйского.
Рядом с ним Федор Иванович Шереметев…
Жмется к матери – инокине Марфе (Ксении Ивановне Романовой) узкоплечий Михаил Федорович Романов…
Это самое верное польской короне московское боярство…
Все они, кроме Мстиславского и Воротынского, которым еще предстоит породниться с Романовыми, родственники воровского патриарха Филарета. Здесь его жена, сын, брат, здесь Шереметев, род которого тоже происходил от Андрея Ивановича Кобылы, здесь Лыков, женатый на сестре Филарета – Анастасии…
Ополчению удалось, наконец, оттеснить от Каменного моста казаков, они возвратились в таборы, после чего бояре смогли сойти с моста, ставшего постаментом их позора.
Вскоре все они разъехалась по поместьям, расползлась по глухим норам, а инокиня Марфа с сыном Михаилом уехала в подаренный их дворовым человеком Григорием Отрепьевым Ипатьевский монастырь.
И летописцы, и историки утверждают, что такой жалкий вид имели вышедшие из Кремля Романовы, что сердце разрывалось от жалости к ним.
Это так… Россию, пришедшую к стенам Кремля в 1612 году, не сумел совратить воровскими посулами Д.Т. Трубецкой, не запугали ее своей шляхетской гонорливостью поляки… Она, как справедливо заметил С.М. Соловьев, была внутренне очищена, чистое отделилось от нечистого, здоровое от зараженного. И тогда Романовы обманули ее своим жалким видом сломленных, побежденных людей…
4
Все события четырехсотлетней давности так близки и понятны нам, погруженным в нынешнюю русскую смуту, что многое из того, что происходило тогда, кажется, происходило с нами…
Узнаются слова, мысли, сомнения, узнаются характеры героев и предателей.
Даже ошибки и те, кажется, тоже узнаются!
И точно так же, как в наше время, трудно понять, каким образом удалось кучке мерзавцев из Политбюро разрушить великое государство, так и в событиях, происходивших четыреста лет назад, зияют вопросы, на которые невозможно найти ответа, способного удовлетворить не только ум, но и сердце.
Один из таких вопросов: почему в 1613 году избрали на царство Михаила Федоровича Романова, а – к примеру! – не Дмитрия Пожарского?
Когда чистое отделилось от нечистого, здоровое от зараженного, почему не сумели русские люди сберечь чистоту, обретенную молитвами праведников, подвигами героев, трудом народа?
Ведь князь Мстиславский, Романовы и все остатки Семибоярщины торопливо расползлись по своим поместьям, попрятались от страха, испытанного на Каменном мосту. Им, как деликатно выразился историк, неловко было оставаться в ней подле воевод-освободителей…
Так пусть бы и сидели там, исчезая в исторической тьме…
Нет же! Почти насильно вытащили их из нор и привезли, чтобы сплели они новую сеть, в которую уловят Русь теперь уже на триста лет.
Как это похоже на наши дни, когда тасуется одна и та же колода бездарных, вороватых политиков! Из партии в партию, от одного президента к другому!
И только удивляешься, вглядываясь в события Смуты, как стремительно нечистое сумело вернуть себе господствующее положение.
Еще в ноябре, когда шло сражение, когда брали Москву, князь Дмитрий Пожарский был бесспорным, как говорят теперь, лидером. Он подписывал все государственные документы, и все соглашались, ибо он и был спасителем Отечества.
И вот прошло совсем немного времени, съехались в Москву в январе 1613 году выборные люди, и что же?
Донской казак. С рисунка XVII в.
Служилые люди, составлявшие основу ополчения Дмитрия Пожарского, по обычаю того времени, начали расходиться в свои уезды «по домам». Старорусские люди, они считали, что сделали свое дело, они были уверены, что освобождением Москвы поход, в котором они участвовали, завершен. Они не сомневались, что так же совестливо и бескорыстно будет исполнено дело начальствующими людьми.
Другое дело – казаки…
Десятилетие, проведенное возле разных воров, научило их, надеясь на Божию помощь, не плошать самим. Они знали, что мало победить. Надобно еще и посадить на трон своего человека…
Как говорит летописец, уже к концу года «люди с Москвы все разъехалися», остались только казаки да московские дворяне – та гремучая смесь, в которой и рождались все заговоры и предательства последнего времени.
Князь Дмитрий Пожарский, разумеется, понимал, что происходит, но бессилен был противостоять этой подлости и хитрости. Когда он только попытался похлопотать о выдаче жалованья служивым людям, составлявшим основу ополчения, его немедленно обвинили в попытке их подкупа…
«Многие же от вельмож, – указывает летописец, – желающи царем быти, подкупахуся многим и дающи и обещающи многие дары».
И случилось то, что случилось.
После роспуска городских дружин преобладание казаков стало очевидным, партия тушинских воров возобладала, и это было отмечено самым первым решением Собора, пожаловавшим князю Д.Т. Трубецкому Важскую область.
Это не просто щедрое пожалование… Вага не совсем область, скорее государство.
При Федоре Ивановиче она принадлежала Борису Годунову, при Василии Шуйском – его брату Дмитрию…
Пожалование Важской области – знак, что главным человеком в Москве стал боярин Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, служивший у Тушинского вора, а отнюдь не спаситель Отечества Дмитрий Михайлович Пожарский.
Это знак, что ревизии итогов «приватизации» Смутного времени не будет…
Еще 30 июня 1611 года, в самом начале освободительного движения, Земским собором было принято решение конфисковать земли у бояр-предателей. Тушинские приобретения подлежали отчуждению в пользу неимущих участников движения.
Теперь это решение было отменено.
Под дарственной грамотой на Вагу поставили подписи почти все члены тушинской воровской думы. Здесь – подписи Федора Борятинского и Дмитрия Черкасского, Михаила Бутурлина и Игнатия Михнева – любимого спальника Тушинского вора.
Вскоре Собор подтвердил официальным решением, что все приобретения и пожалования, сделанные от имени царя Владислава, аннулируются, но сохраняются основные владения членов Семибоярщины, а также пожалования Тушинского вора. Не зря ведь в конце-то концов, не щадя своей головы, столько лет предавали и продавали бояре Русь.
С этими итогами приватизации было связано и нежелание бояр избирать царя из своей среды. Во-первых, раболепствовать перед иностранцем для них было привычнее, а главное, менее обидно, чем перед своим, еще недавно бывшим ровней тебе… Во-вторых, царь-иностранец если бы и стал плохо относиться к московским боярам, но равно плохо ко всем и не стал бы заниматься перераспределением собственности между ними.
Эти резоны, составленные из жадности и корысти, зависти и ревности, самолюбия и глупости, показывают, насколько ничтожной после десятилетия предательств Родины и государей стала среда московской аристократии. Она выродилась, превратилась в исторический хлам, не способный, как и подтвердила дальнейшая история, уже ни к какому державному действию…
«Начальницы» хотели иноземного царя, говорит летописец, но «народы же ратные не восхотели ему быти»…
«Желание боярства, надеявшегося лучше устроиться при иноземце, чем при русском царе из их же боярской среды, – замечает С.Ф. Платонов, – встретилось с противоположным ему и сильнейшим желанием народа избрать царя из своих».
И когда стали решать на Соборе вопрос об избрании царя, первым постановлением Собора было не выбирать царя из иностранцев.
Постановление это можно было считать последней победой партии чистого, здорового…
И хотя и не вернулись еще в Москву главные представители Семибоярщины, но и эта победа далась нелегко…
Вырождение московского боярства и породило то агрессивное противодействие выдвижению князя Дмитрия Пожарского претендентом на царский престол. Как только прозвучало его имя, бояре сразу же распустили слух, будто князь истратил на подкуп выборщиков 20 тысяч рублей[47].
Впрочем, другие кандидаты на престол – назывались кандидатуры Шуйского и Воротынского – тоже отпали сами собою.
Иначе и не могло быть…
Противодействуя любой попытке выдвижения чистых русских патриотов, московское боярство обращалось в монолит, но внутри своего нечистого круга никакого единства у них не было и не могло быть.
Сподвижники Бориса Годунова и слуги Григория Отрепьева, защитники Василия Шуйского и сообщники Тушинского вора – еврея Богданко, недоброжелатели королевича Владислава и убийцы Федора Годунова… Все эти люди и не могли объединиться ни в чем, кроме страха перед расплатой за совершенные преступления.
«Много избирающи искаху… – говорит летописец. – И тако препроводиша не малые дни».
5
Считается, что в результате основная борьба развернулась на Соборе между князем Трубецким, ставшим самым крупным русским землевладельцем, и партией Романовых.
Это не совсем так…
«Сознавая свое численное превосходство в Москве, казаки шли далее “жалования” и “кормов”, – справедливо отмечает С.Ф. Платонов. – Они, очевидно, возвращались к мысли о политическом преобладании, утерянном ими вследствие успехов Пожарского. После московского очищения… главную силу московского гарнизона составляли казаки: очевидна мысль, что казакам может и должно принадлежать и решение вопроса о том, кому вручить московский престол»…
Мысль эта укреплялась по мере усиления преобладания казаков, и с каждым днем все далее и далее отодвигались фигуры Д.М. Пожарского, Д.Т. Трубецкого, И.М. Воротынского и других, хоть как-то зарекомендовавших себя деятелей. Зато на первый план выдвигались (усилиями казаков) безликие кандидатуры – Михаила Романова (сына воровского патриарха Филарета) и «ворёнка» Вани (сына Марины Мнишек и еврея Богданко).
С точки зрения казаков (и не только казаков), эти кандидатуры были предпочтительнее хотя бы уже потому, что молодые люди – Михаилу едва исполнилось шестнадцать, а «ворёнок» не вышел из младенческого возраста – ничего не понимали и ничего не умели, а значит, ими легче было управлять. В результате, избрав совершенно ненужного им царя, казаки все равно получали бы передышку, по крайней мере на несколько лет…
И если в этом конкурсе и учитывались личные качества претендентов, то только в отрицательном смысле.
«Ворёнок» был сыном еврея и польской шлюхи. Это неплохо, но и родственники Миши Романова тоже были так измараны, что и пятнышка чистого не оставалось на них… Отец, патриарх Филарет, двум ворам служил, а дядя, Иван Никитич Романов, энергичнее других семибоярцев настаивал на сдаче Кремля полякам! Трудно будет сыну такого отца, племяннику такого дяди, требовать наказания изменников.
Ума и у «ворёнка» пока нет, и у Михаила не шибко накопилось…
Это казакам нравилось, и трудно им было отдать предпочтение кому-либо…
Но против «ворёнка» – «Маринки с сыном не хотеть» – давало клятву все ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, и хотя казаки и не прочь были поквитаться с земцами, силы для этого не чувствовали в себе.
И надо отдать должное умелой и слаженной работе команды Михаила Романова.
Как велась обработка общественного мнения, видно из письма Федора Ивановича Шереметева Василию Васильевичу Голицыну…
Коронация царя Михаила Федоровича в Успенском соборе Московского Кремля. Миниатюра 1673 г.
«Выберем Мишу Романова, он молод и нам будет повален», – писал он…
Чтобы усилить свои позиции среди казаков, решено было напомнить о популярном в «воровской» среде Филарете.
2 февраля 1613 года Земское правительство направило к нему в Польшу гонца…
Серьезным успехом партии Романовых, свидетельствующим об объединении и консолидации сил, стало собрание на подворье Троице-Сергиева монастыря в Китай-городе.
На Троицкое подворье, как отметил Авраамий Палицын, явились «многие дворяне, и дети боярские, и гости многих разных городов, и атаманы, и казаки». Здесь и было разработано идеологическое обоснование избрания Михаила и технологическое обеспечение этого избрания.
Учитывая, что в плюсы идут не столько достоинства, сколько недостатки кандидата, с идеологическим обоснованием не мудрили. В Наказе ограничились ссылками на происхождение Михаила от царского корня, не забыв при этом помянуть, чей он сын…
«Понеже он хвалам достойного великого государя Ивана Васильевича законныя супруги царицы Анастасии Романовны родного племянника Федора Никитича – сын».
Сын племянника супруги царя к царскому племени вообще-то не принадлежит, но в дальнейшем Михаил исправил этот недочет и, учитывая богатый опыт самозванцев, даровал Иоанну Васильевичу Грозному звание своего дедушки.
Более основательно подошли тогдашние политтехнологи к механике избрания Михаила. Кандидатуру его решено было продавливать всей массой сторонников, а главное – неожиданно и нахрапом…
Видимо, тогда и были назначены загадочные «представители народа», которым 7 февраля 1613 года удалось сломить Собор в пользу Михаила Федоровича Романова.
6
Как говорит хронограф, какой-то дворянин из Галича принес на Собор письменное заявление о правах Михаила на престол. Там говорилось, «како благочестивый царь Федор Иоаннович, отходя сего света, вручил скипетр и венец братану своему боярину Федору Никитичу», а значит, ближе всех по родству с прежними царями сейчас Михаил Федорович Романов, и его и надобно избрать в цари.
– Кто принес такую грамоту, – раздались недовольные голоса, – кто, откуда?
Ответа не было, но тут же появился донской атаман и также подал бумагу.
– Что это ты подал, атаман? – спросил князь Дмитрий Михайлович Пожарский.
– О природном царе Михаиле Федоровиче, – отвечал атаман.
Поначалу сторонники Дмитрия Трубецкого не придали значения кавалерийскому наскоку романовцев. Они решили утопить эту стремительную атаку в трясине боярской мысли и начали рассуждать: дескать, Михаил, конечно, рода великого, но молод, молод еще, а главное, и в Москве его нет, надобно вызвать в Москву, послушать, посмотреть…
– А чего смотреть-то… – неожиданно сказал боярин Василий Петрович Морозов. – Коли подходит Михаил, то надо у народу спросить, годится ли им Михаил в цари…
Царь Михаил Федорович. Портрет из книги А. Олеария
Морозова поддержали рязанский епископ Феодорит и архимандрит Новоспасского монастыря Иосиф. И действуя так, как и было ему предписано, келарь Авраамий Палицын потребовал идти к народу и объявить ему «одинакое» мнение, поданное дворянином и донским атаманом…
Так Михаил Федорович был провозглашен царем.
Впервые, кажется, в мировой истории выборы царя были произведены вслепую. Лишь кое-кто из выборщиков помнил Михаила, да и то только по той картине на Каменном мосту, что открылась утром 25 октября 1612 года…
Жалкий, ничтожный юноша испуганно жался там к матери…
Но этот юноша подходил всем… Михаила выбрали, потому что больше некого было выбирать из числа тех, кого выродившееся московское боярство соглашалось допустить к выборам…
Погрязшая в предательстве аристократия больше всего боялась, что царем будет избран кто-то из чистых, не измаравших себя, как они, предательством Родины и государей.
Выбрать из числа самих себя бояре не могли не только из-за того, что каждому хотелось быть выбранным самому, но еще и потому, что нечистое еще не обладало тогда, в 1613 году, необходимой силой, чтобы сломить очищенное.
Они не могли избрать предателя. А не предателя избирать было страшно и опасно для себя.
Нашли компромисс…
Избрали Михаила Романова – сына предателя…
Это, конечно, можно считать победой шурьевской мысли.
До сих пор власть в России наследовали или захватывали. Оказывается, власть можно вышурьить…
Немедленно разослали гонцов собирать в Москву знатнейших бояр, позвали князя Мстиславского, позвали других семибоярцев…
Теперь они уже могли и не испытывать неловкости подле воевод-освободителей Москвы. Избрание на царство сына предателя восстанавливало в правах всех предателей и врагов русского народа.
О том, что эта династия принесет на царский трон, сановитые выборщики не думали.
21 февраля, в Неделю Торжества православия, в первое воскресенье Великого поста, состоялось торжественное заседание в Успенском соборе.
Рязанский архиепископ Феодорит, троицкий келарь Авраамий Палицын, новоспасский архимандрит Иосиф и боярин Василий Петрович Морозов взошли на Лобное место и спросили у народа, наполнившего Красную площадь: кого они хотят в цари?
– Михаила Федоровича Романова! – завопили заранее оплаченные Романовыми крикуны…
7
Недобрым гулом докатывалось эхо событий Смутного времени до Ростовского монастыря святых страстотерпцев Бориса и Глеба, где сидел в келье закованный в цепи преподобный отшельник Иринарх.
Появился второй самозванец – еврей Богданко, и еще одну трехсаженную железную цель повесил на себя Иринарх. Предался еврею-самозванцу ростовский митрополит Филарет – и еще увеличил тяжесть на себе преподобный затворник[48]…
Келья, где сидел он, была невелика, от стены до стены – рукою достать можно. В одном конце кельи – за монастырскую стену – оконце, в другом – дверь. Ни постели, ни печи никогда не было в келье… Прикованный цепями, Иринарх безвыходно сидел в убогой келье, а молва о силе его святых молитв распространялась по всей Руси. Шли к Иринарху нищие и убогие, присылали за благословением князья…
Весной 1609 года, когда совсем тяжко стало на Руси, попросил у Иринарха благословения собирающийся в поход на Тушинского вора князь Михаил Скопин-Шуйский.
Свой крест послал юному князю борисоглебский затворник…
Потом, когда московские бояре отравили князя, крест, возвращенный умирающим князем Михаилом, Иринарх снова поставил в келье.
Некому было нести этот крест. Еще долго надо было молиться, чтобы появился герой, способный взять его…
Все время Иринарх пребывал в непрерывной работе – вязал одежду для братии. Сам же одевался в рубище и вериги.
С каждым днем, приносящим новые известия о новых убийствах и клятвопреступлениях, прибавлял он груза, чтобы отмолить новой тяжестью и этот грех.
Уже и на плечах висели вериги, и на груди. На шее – железное путо, на ногах – цепи, на голову одет был тяжелый обруч. Ожерельями висели на груди медные кресты…
В великом откровении прозвучали Иринарху Божественные Глаголы: «Если испросишь чего, будет дано тебе!» Но прошли долгие годы тяжкого молитвенного труда, прежде чем было дано то, что испрашивал преподобный Иринарх.
На пути к Москве Дмитрий Михайлович Пожарский и Косьма Минин остановились в Ростове, чтобы побывать в Борисо-Глебском монастыре и лично получить благословение Иринарха.
Загремев цепями, поднял преподобный Поклонный крест.
– Да явит Господь милость Свою, – сказал он, вручая святыню князю. – Да пособит очистить Москву от великия скорби.
Это был тот самый крест, что посылал Иринарх князю Михаилу Скопину-Шуйскому.
– Дерзайте! – благословил Иринарх и гражданина Минина. – Не страшитеся ничего! Бог вам в помощь!
И еще одну цепь повесил на себя в Борисо-Глебском монастыре святой отшельник Иринарх, когда узнал об избрании в цари Михаила Романова.
В этих цепях и встретил он день 13 января 1616 года, когда отошел ко Господу…
Великая и чудесная сила обнаружилась в цепях преподобного. Когда больные возлагали их на себя, исцелялись…
Но некому стало нести на себе тяжесть боярских грехов…
8
Надобно еще было отыскать избранного царя и привезти в Москву.
Никто точно не знал, где находится новый государь, и посольство, состоявшее из архиепископа Рязанского и Муромского Феодорита, троицкого келаря Авраамия Палицына, боярина Федора Ивановича Шереметева, князя Владимира Ивановича Бахтеярова-Ростовского, окольничего Федора Головина отправилось 2 марта в «Ярославль или где он, государь, будет»…
Если ехать к Костроме со стороны Ярославля, откроются на левом берегу Волги белые стены и золоченые главы Ипатьевского монастыря.
Еще во времена Ивана Калиты отдыхал на этом месте татарский мурза Чет, и во сне явились ему апостол Филипп и великомученик Ипатий Гангрский, чтобы просветить мурзу светом веры Христовой.
Пораженный видением мурза принял во святом крещении имя Захария и стал основателем династии Годуновых. Предки Бориса Годунова вполне могли называться Захарьиными, как и Романовы, ведущие свой род от Захария – отца царицы Анастасии…
Выходцы из Золотой Орды Захарьины-Годуновы сошлись с выходцами из Пруссии Захарьиными-Романовыми в смертельной схватке за русский трон.
Случайно – случайно ли? – монастырь, основанный предком Бориса Годунова на месте явления ему святого Ипатия и сделавшийся родовой усыпальницей Годуновых, был, подобно деревеньке, подарен Филарету Романову Григорием Отрепьевым. Сейчас в монастыре откармливалась после московского сидения инокиня Марфа и ее родственники Салтыковы.
Произошла некая мистическая подмена…
Понимали ли это участники действа, происходившего 14 марта 1613 года, когда посольство, сопровождаемое крестным ходом, при стечении народа отправилось в Ипатьевский монастырь просить Михаила на царство?
Это не так уж и важно…
Мистическая подмена совершилась, и все происходило как бы вне зависимости от воли отдельных людей. Сценарий действа в точности повторял призвание на царство Бориса Годунова…
«Всяких чинов всякие люди бьют челом, чтоб тебе, великому государю, умилиться над остатком рода христианского, многорасхищенное православное христианство Российского царства от растления сыроядцев, от польских и литовских людей, собрать воединство, принять под свою государеву паству, под крепкую высокую свою десницу… – звучали вычитываемые с бумаги слова. – А если государь станет рассуждать об отце своем митрополите Филарете, что он теперь в Литве и ему на Московском государстве быть нельзя для того, чтоб отцу его за то какого зла не сделали, то бить челом и говорить, чтоб он, государь, про то не размышлял: бояре и вся земля посылают к литовскому королю, за отца его дают на обмен литовских многих лучших людей».
Согласно сценарию, подражая Годуновым, и Михаил, и инокиня-мать отвергли предложение послов. Инокиня Марфа заявила, что московские люди «измалодушествовались» и ее сыну на таком государстве править не под силу.
Вслушиваешься сейчас в речи, прозвучавшие четыреста лет назад, и видишь, что далеко-далеко, на три столетия вперед, улетали эти слова. Так получалось, что не о сыне Михаиле, согласно сценарию, плакала инокиня Марфа, а о своем далеком праправнуке, которому предстоит упасть под выстрелами, хлещущими из чекистских револьверов в подвале дома Ипатьева…
Далее по сценарию следовала сцена плача народного, в точности списанная со сцены выборов Бориса Годунова в Новодевичьем монастыре сцены.
Долго, как и было записано в сценарии, послы «уговаривали» государя и его мать; наконец, Михаил дал свое согласие, а мать благословила его, и Михаил принял царский посох…
Почти буквальный повтор сценария избрания на царство Бориса Годунова был не случайным. Организаторы приглашения стремились подчеркнуть, что избрание Михаила столь же легитимно, как и избрание на царство Годунова.
У царя Василия Шуйского такой возможности не было, и вот – преданный своими боярами, забытый всеми, он умер в тюрьме под Варшавой, а через несколько дней умер сидевший в соседней камере его брат – Дмитрий…
Михаил умер, передав престол сыну – Алексею Михайловичу…
И много царей и императоров из семьи Романовых сидело на русском престоле, но конец династии был таким же, как у Годуновых. Впрочем, мы уже говорили: то, что произошло в 1918 году в доме Ипатьевых, в Ипатьевском монастыре и было определено…
Разве случайно житие святого Ипатия, в память которого и был основан мурзой Четом монастырь, повествует, что после уничтожения святителем страшного змея[49] он был убит злыми последователями учения Новата.
Они устроили ему засаду в узком проходе на краю горной пропасти и на берегу болота (почти уральский пейзаж!). Как только подошел святой Ипатий к тому месту, они напали на него внезапно, устремившись подобно диким зверям, и, сильно изранив его, сбросили с высокого берега в болотную топь.
Святый, оставшись едва живым, простер руки немного кверху и, возведя очи на небо, молился за убийц своих, говоря:
– Господи! Не постави им греха сего… И когда он так молился, говорит святитель Димитрий Ростовский, одна злая женщина, держащаяся Ариевой ереси, взяв увесистый камень, ударила им святого по голове и убила его. Святая душа Ипатия, тотчас отрешившись от тела, отошла ко Господу. Убийцы, взяв тело святого, скрыли его в находящейся близ того места пещере.
Но их не замедлила постигнуть кара. На женщину напал нечистый дух. Она непрестанно била себя в грудь тем самым камнем, которым убила святителя. Другие мучители тоже сделались бесноватыми и сильно страдали, подобно большевикам в 30-х годах…
Между тем земледелец, которому принадлежала пещера (он хранил здесь солому), ничего не зная о совершенном убийстве, пришел за постилкой для скота и вдруг услышал голоса поющих в пещере ангелов. Землевладелец разрыл солому и нашел зарытое там мертвое тело святого епископа Ипатия…
Когда жители города Гангр погребали своего пастыря, женщина-yбийцa следовала за телом и тем самым камнем, которым убила святого, била себя в грудь…
Странным образом эти картины первых веков христианства перекликаются с тем, что происходило в нашей стране в минувшем веке…
Впрочем, до этого пока еще в нашем повествовании далеко, пока еще Романовым только предстоит уничтожить самим в себе страшного змея, и на это уйдут долгие века…
9
«По прежнему и по этому нашему указу велите устроить нам Золотую палату царицы Ирины, а матери нашей хоромы царицы Марьи, если лесу нет, то велите строить из брусяных хором царя Василья; вы писали нам, что для матери нашей изготовили хоромы в Вознесенском монастыре, но в этих хоромах матери нашей жить не годится»…
Это, кажется, самое первое распоряжение нового царя.
Сохранился портрет монахини Марфы, которой негоже было жить в хоромах в Вознесенском монастыре.
Низко опущенные брови…
Крупный, с горбинкой, нос…
Сжатые в недоброй полуусмешке губы…
Это не просто лицо монахини Марфы, урожденной Ксении Ивановны Шестовой, это лицо новой власти.
«Сделавшись царицей, – пишет С.Ф. Платонов, – Марфа взяла весь скарб прежних цариц в свои руки, дарила им боярынь, стала жить совершенно по-царски и занималась больше всего религией и благочестивыми делами как царственная монахиня; но имела также громадное влияние на дворцовую жизнь, направляла ее, выдвигала наверх свою родню, ставила ее у дел и тем самым давала ей возможность, пользуясь покровительством всесильной старицы-царицы, делать вопиющие злоупотребления и оставаться без наказания. В числе ее любимой родни были и Салтыковы (племянники царицы. – Н.К.), знаменитые своими интригами в первые годы царствия. Но изо всех креатур старицы Марфы, умевших устраивать свои дела, ни одного не являлось такого, который мог бы устраивать дела государственные и дал бы твердое направление внутренней и внешней политике».
Насколько мелочной и ничтожной была эта власть, видно по интригам Салтыковых…
Не то дивно, что они сумели расстроить свадьбу бесхарактерного царя Михаила с Марьей Хлоповой, а причина, из-за которой они поступили так…
Во время следствия, проведенного много лет спустя, Гаврила Хлопов, дядя Марии, рассказал, как произошла ссора. Дело было в Оружейной палате Кремля.
Царь рассматривал турецкую саблю и хвалил ее, а глуповатый Михаил Михайлович Салтыков сказал:
– Эка невидаль… И на Москве государевы мастера, коли приказать им, не хуже сделают!
Государь попросил Гаврилу Хлопова стать судьей в этом споре.
– Скажи! – сказал он. – Сделают ли такую саблю на Москве?
– Сделать-то сделают, – ответил Гаврила. – Только не такую…
– Ты ничего не смыслишь в этом, – в сердцах сказал Салтыков, – поэтому и говоришь так…
Гаврила Хлопов не удержался и тоже ответил Салтыкову грубостью. Слово за слово – возникла перебранка, а за нею и ссора, в результате которой и пала невеста царя.
Перед венчанием Салтыковы обкормили ее сладостями, а когда девицу стало тошнить, призвали врачей. Придворные доктора Валентин Бильс и лекарь Балсырь, осмотрев невесту, сделали заключение, что «плоду и чадородию от того порухи не бывает», но Михаил Салтыков донёс царю Михаилу, что лекарь Балсырь признал болезнь невесты неизлечимой. Мать Михаила инокиня Марфа потребовала, чтобы девушку удалили.
Был созван Земский собор. Марию, разлучив с родителями, отправили в ссылку в Тобольск[50].
Начало правления царя Михаила ознаменовано событиями, которые помимо прямого смысла несут в себе глубокий символический смысл и могут служить своеобразной метафорой к правлению всей династии Романовых…
Любопытно, что одно из них тоже связано с Салтыковыми…
В самые первые месяцы нового правления освободителю Москвы князю Дмитрию Пожарскому было решительно указано на его место.
Дума тогда сделала расчет, который, как говорит В.О. Ключевский, велся просто: «Пожарский родич и ровня кн. Ромодановскому – оба из князей Стародубских, а Ромодановский бывал меньше М. Салтыкова, а М. Салтыков в своем роде меньше Б. Салтыкова – стало быть, кн. Пожарский меньше Б. Салтыкова»…
То, что Салтыковы, и перебравшиеся под руку польского короля Сигизмунда, и оставшиеся здесь, все последние десять лет усердно предавали Россию, бояре не рассчитывали…
Дмитрий Пожарский, когда его «учли» перед Б.М. Салтыковым, возражать не стал, однако царского указа и боярского приговора не послушался. И тогда Салтыков вчинил против него иск о бесчестии, и царь Михаил выдал его с головою своему родственнику. Стражники провели Дмитрия Пожарского от царского дворца к крыльцу Б.М. Салтыкова, с которым освободитель Москвы вздумал тягаться.
«Суд нелицеприятный, кротость без слабости, твердость без жестокости приобрели Михаилу всеобщую любовь высших сословий, – пишет романовский апологет Н.Г. Устрялов. – Низшим угодить было нетрудно: народ благословлял небо, даровавшее отечеству царя православного, царской крови, спасителя веры, прав, нравов и обычаев, более ничего не требовали».
К знаковым событиям начала правления Михаила следует отнести и казнь «ворёнка» Вани…
Четырехлетнего мальчика, имевшего несчастье стать на выборах конкурентом Михаила Романова, по его приказу повесили возле посаженного на кол атамана Ивана Мартыновича Заруцкого.
Учитывая, что Заруцкий, возможно, являлся Ваниным отцом (считается, что он был любовником Марины Мнишек), казнь обретает черты какого-то особого, еще не виданного на Руси изуверства, превосходящего и злые забавы «дедушки», как теперь именовал государь Михаил Федорович Романов царя Иоанна Грозного.
На колу – тело под силой своей тяжести само нанизывалось на кол, и заостренный конец входил в тело через задний проход и, разрывая внутренности, выходил через грудь или между лопаток – человек жил сутки, а иногда и более…
Не сразу умер и «ворёнок» Ваня. Ему было четыре года, и телу его не хватало веса, чтобы затянуть петлю. Несколько часов ребенок висел так, еще живой, и никто не знает, задохнулся он или – была зима, метель – замерз в петле…
Во всяком случае, оба они, и ребенок, и взрослый, долго еще были живы, и мучения другого дополняли собственные мучения. Воистину перед этой первой казнью, устроенной Романовыми, блекли забавы «дедушки»…
Ванина мать, Марина Мнишек, вдова двух Лжедмитриев и атамана Заруцкого – эта «ужас что за полька», – умерла с горя в монастыре[51].
И вроде бы нет связи между унижением русского героя и зверским убийством невинного младенца, названного «злым сорняком вражеских смут», но в этом сказался весь характер прорвавшейся к власти династии…
Мы не знаем наверняка, участвовали ли Романовы (и если участвовали, то в каком качестве?) в убийстве царевича Дмитрия, но то, что начинала династия Романовых свое правление с убийства младенца – факт…
О том, что правление династии завершится тоже убийством ребенка – царевича Алексея, – ни Михаил, ни его матушка не знали…
Романовы тогда вообще мало задумывались о будущем…
Все, что они делали в первые десятилетия своего царствования, они делали, кажется, не для государства, а только для устройства семейных дел. Государство было для них лишь инструментом устройства этих дел…
Глава восьмая Отец и сын
Любопытно, что вместе с московским посольством разыскивали Михаила Романова и поляки… Подвиг, вдохновивший Михаила Глинку на создание оперы «Жизнь за царя», вполне мог произойти, хотя многие историки и отрицают это.
То, что Сусанин, доверенный человек Романовых, действительно существовал, доказывает грамота, данная царем Михаилом его семье.
Безусловно и то, что поляки искали Михаила. Они считали, что русский престол принадлежит Владиславу и все конкуренты подлежали уничтожению или изоляции.
Тем более что в 1612 году умер в Варшаве царь Василий Иванович Шуйский, и место русского царя в польской тюрьме освободилось.
Было у поляков – пересылки романовской партии с Филаретом начались еще в конце 1612 года – и время, и возможности (польские шайки тогда слонялись по Руси без счета) осуществить похищение нового царя.
Сложнее было с поисками.
Как мы знаем, в Домнине поляки не нашли ни Михаила Романова, ни его матери. Они уже переехали в Кострому, в Ипатьевский монастырь.
Почему Иван Сусанин повел поляков в Ипатьевский монастырь через непроходимые дебри, рассказано в опере Михаила Глинки. Нам интереснее понять сейчас, случайно ли поляки остановили свой выбор на Иване Сусанине. На первый взгляд ответ прост… Поляки могли узнать, что из Домнина регулярно отправляются припасы и, значит, управляющий Иван Сусанин знает, где обретаются сейчас хозяева.
Однако доверчивость, с которой поляки последовали за поводырем на собственную гибель, наводит на мысль, что к Сусанину их должны были направить верные люди.
1
Вскоре после избрания на царство Михаила в Польшу был отправлен царский гонец Желябужинский, которому помимо прочего наказано было объявить Филарету: дескать, в Москве делается все доброе, все великие государи присылают с дарами и с поминками великими, прося царской к себе любви и дружбы…
Встреча Желябужинского с Филаретом произошла в доме канцлера Льва Сапеги в присутствии хозяина[52]…
– Как Бог милует сына моего? – спросил Филарет и, едва дождавшись ответа, начал выговаривать послу свои обиды. – Не гораздо вы сделали, послали меня от всего Московского Российского государства с наказом к королю просить его сына Владислава на Московское государство; я и до сих пор делаю во всем вправду, а вы после моего отъезда выбрали на Московское государство государем сына моего, Михаила Федоровича! Вы в том передо мною не правы… Если уже вы хотели выбирать на Московское государство государя, то можно было и кроме моего сына, а вы это теперь сделали без моего ведома.
– Царственное дело ни за чем не останавливается, – дипломатично отвечал Желябужинский. – Хотя бы и ты, великий господин, на Москве был, то и тебе было переменить того нельзя, сделалось то волею Божиею, а не хотеньем сына твоего.
– То вы подлинно говорите, – вынужден был согласиться Филарет, – сын мой учинился у вас государем не по своему хотенью, изволением Божиим да вашим принужденьем… – И, повернувшись к Сапеге, прибавил: – Как было то сделать сыну моему? Сын мой остался после меня молод, всего шестнадцати лет, и бессемеен, только нас осталось – я здесь да брат мой на Москве один, Иван Никитич.
– Чего вы имя Божие призываете?! – грубо вмешался в этот разговор Сапега. – Всем известно, что это казаки-донцы и посадили сына твоего на Московское государство государем!
– Что ты, пан канцлер, такое слово говоришь! – возразил Желябужинский. – То сделалось волею и хотеньем Бога нашего, Бог послал Духа своего Святого в сердца всех людей.
Действительно ли, Желябужинский так смело говорил с канцлером Львом Сапегой, или он, составляя отчет для московских бояр, прибавил себе находчивости, неизвестно, но реакция Филарета, как нам представляется, передана им без искажения.
В принципе, хотя Филарет и знал о выборах, на победу сына не рассчитывал.
Это подтверждается и «конституционным», как едко заметил В.О. Ключевский, порывом Филарета. Узнав о созыве избирательного Собора в Москве, он писал тогда, что восстановить власть прежних царей – значит подвергнуть Отечество опасности окончательной гибели и он скорее готов умереть в польской тюрьме, чем на свободе быть свидетелем такого несчастья…
Ну и преуменьшать опасности, в которой оказался Филарет после избрания Михаила, тоже нельзя.
Воистину двусмысленное положение… Он выпрашивает у польского короля послать сына на царство в Москву, а тем временем царем там становится его собственный сын.
Разговоры, что все это совершилось Божией волей, поляки, как мы видим, не принимали.
Любопытно, что Филарет, то ли сглаживая смелую находчивость Желябужинского в разговоре со Львом Сапегой, то ли пытаясь разжалобить поляков, начал рассказывать другому своему приставу, пану Олешинскому, о гонениях, которые обрушил Борис Годунов на его семейство…
– Нас царь Борис всех извел: меня велел постричь, трех братьев велел задавить, только теперь остался у меня один брат Иван Никитич.
– Для чего царь Борис над ними это сделал? – спросил Олешинский у Сапеги.
– Для того, – отвечал Сапега, – чтоб из них которого брата не посадили на Московское государство государем, потому что это были люди великие и близки к царю Федору.
Ответ канцлера удовлетворил пана Олешинского.
– На весну пойдет к Москве королевич Владислав, а с ним мы все пойдем Посполитою Речью, – сказал он Желябужинскому. – Владислав-королевич учинит вашего митрополита патриархом, а сына его – боярином.
– Я в патриархи не хочу! – быстро сказал на это Филарет.
И именно быстрота ответа и позволяет заподозрить, что изложенный Олешинским план устройства семьи Романовых при Владиславе детально обсуждался ими. Просто Желябужинскому знать об этом плане было не нужно.
Мог ли Филарет пойти с поляками на сговор в организации похищения своего сына Михаила?
Бог знает…
И вопросы личной безопасности подталкивали его к этому, и боязнь, что без него Михаил все равно не удержится на царском престоле… Ну а кроме того, как мы знаем, Романовы долго еще оставались «пруссаками», и многие из них и в дальнейшем, как, например, император Петр III, почитали чин полковника прусской армии выше звания русского императора.
И сейчас патриаршество для себя и боярство для сына вполне могли казаться Филарету более предпочтительными. Лучше, как говорится, синица в руке, а не журавль в небе…
Но удержать синицу Филарету Романову не позволил никому неведомый крестьянин Иван Сусанин. Сколько раз еще такие Сусанины будут мешать Романовым обменивать журавлей на синиц…
2
Как и у царя Василия Шуйского, власть Михаила Романова была весьма ограничена.
Григорий Котошихин писал, что «царь Михаил Федорович, хотя самодержцем писался, однако без боярского совету не мог делати ничего».
Обязательства, которые были взяты с него, по словам Котошихина, состояли в том, чтобы «быть нежестоким и непальчивым, без суда и без вины никого не казнить ни за что и мыслить о всяких делах с боярами и думными людьми соопча, а без их ведома тайной явно никаких дел не делать».
В этой ситуации существенного ограничения монаршей власти возрастала роль патриарха.
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский
Мы рассказывали, какое большое значение избранию в патриархи Гермогена, а не Филарета придавал Василий Шуйский. Михаил тоже делал все, только уже для того, чтобы патриархом был его отец, уже поставленный в патриархи Тушинским вором.
С 17 января 1612 года, после кончины Гермогена, не было в Русской Церкви патриарха.
Шли годы, а патриарший престол пустовал…
Нет сомнения, если бы царем был избран князь Дмитрий Пожарский, эта вакансия в церковной иерархии была бы немедленно заполнена.
Еще 29 июля 1612 года князь Дмитрий Михайлович Пожарский от имени всех чинов, собравшихся к Москве с ополчением, послал к Ефрему, митрополиту Казанскому, следующую грамоту:
«За приумножение грехов всех нас, православных христиан, Вседержитель Бог совершил ярость гнева Своего в народе нашем, угасил два великие светила в мире: отнял у нас главу Московского государства и вождя людям государя царя и великого князя всея Руси, отнял и пастыря и учителя словесных овец святейшего патриарха Московского и всея Руси. Да и по городам многие пастыри и учители, митрополиты, архиепископы и епископы, как пресветлые звезды, погасли, и теперь остались мы сиротствующими в поношение, и посмеяние, и поругание народам. Но еще не до конца оставил нас Господь: даровал нам единое утешение, поставив тебя, великого господина, как некое великое светило на свещнице, сияющее в Российском государстве… (подчеркнуто нами. – Н.К.). У нас теперь, великий господин, скорбь немалая, что под Москвою вся земля в собранье, а пастыря и учителя у нас нет, одна соборная церковь Пречистой Богородицы осталась на Крутицах, и та вдовствует. И мы по совету всей земли приговорили: в дому Пречистой Богородицы на Крутицах быть митрополитом игумену Сторожевского монастыря Исаие, он от многих свидетельствован, что имеет житие по Боге. И мы игумена Исаию послали к тебе, великому господину, в Казань и молим твое преподобие всею землею, чтоб не оставил нас в последней скорби, совершил игумена Исаию митрополитом на Крутицы и отпустил его под Москву к нам в полки поскорее, да и ризницу бы дал ему полную, потому что церковь Крутицкая в крайнем оскудении и разорении».
Но хотя и смотрела тогда вся Русская земля на митрополита Ефрема как на главного архипастыря в России, период междупатриаршества продолжался, пока не удалось вызволить из польского плена тушинского патриарха Филарета…
3
Осенью 1618 года польский королевич Владислав предпринял поход на Москву. Защитники Москвы, которыми командовал Д.М. Пожарский, отбили этот штурм 1 октября с большими для поляков потерями.
Победа, одержанная Дмитрием Пожарским, дала возможность заключить Деулинское перемирие и в 1619 году произвести размен пленных.
«Для покоя христианского» поляки согласились написать «отпуск митрополита Филарета Никитича и князя Василья Васильевича Голицына с товарищами, полоняникам размену и городам очищение и отдачу на один срок, на 15 число февраля по вашим святцам, а по нашему римскому календарю февраля 25»…
Обмен состоялся на большой Дорогобужской дороге, в семнадцати верстах от Вязьмы.
Вечером 1 июня митрополит Филарет приехал к мосту через речушку Поляновка в возке, за которым шли Михаил Шеин, Томила Луговской и другие пленные русские дворяне.
Через речку было сделано два моста: одним должен был ехать Филарет с московскими людьми, а другим – Струсь с литовскими пленниками.
Волнующая минута…
В сентябре 1610 года Филарет покинул Русь, чтобы призвать на русский престол королевича Владислава. Исполнить замысел Семибоярщины ему не удалось, хотя и заняло его посольство девять лет. Впрочем, другому послу, отправленному вместе с Филаретом, князю Василию Васильевичу Голицыну, и вообще не суждено было увидеть родной земли, он умер по дороге, в Гродно.
Ну а Филарет возвращался назад в страну, где уже шестой год царствовал его сын…
Еще несколько метров по мосту, и завершится путь, в который франтоватый московский боярин Федор Никитич пустился тридцать лет назад…
Тогда он был молод и красив, тогда теснилась вокруг многочисленная романовская семья, дерзновенные мысли, великие замыслы роились в голове.
Теперь он достиг почти всего, о чем только можно мечтать…
С трудом Филарет вышел из возка навстречу спешащему к нему Шереметеву.
«Государь Михаил Феодорович, – развернув грамоту, начал читать Шереметев, – велел тебе челом ударить, велел вас о здоровье спросить, а про свое велел сказать, что вашими и материнскими молитвами здравствует, только оскорблялся тем, что ваших отеческих святительских очей многое время не сподоблялся видеть».
Дослушав грамоту, Филарет спросил о здоровье сына-царя, потом благословил Шереметева.
– Как у тебя, Федор Иванович, здоровье?
Переночевали в острожке, а на другой день пошли в Вязьму.
В Можайске Филарета встречали рязанский архиепископ Иосиф, боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский, а 14 июня, не доезжая речки Пресни, встретил митрополита и сам царь…
Он поклонился отцу в ноги.
4
После кончины Гермогена вдовствовал Патриарший престол: заботливый сын берег это место для дорогого отца.
Считается, что все уже было приготовлено к возвращению Филарета. Уже давно терпеливо поджидал его приехавший в Москву за милостынею иерусалимский патриарх Феофан. Он жаждал принять участие в торжественной церемонии поставления нового московского патриарха.
Считается, что 24 июня 1619 года в Успенском соборе Филарет, «ибо знали, что он достоин такого сана, особенно же потому, что он был царский отец по плоти, да будет царствию помогатель и строитель, сирым защитник и обидимым предстатель», и был посвящен второй раз в патриархи…
Между тем вторичное поставление Филарета в патриархи – история далеко не такая простая и очевидная, как представляется…
Сохранился лишь один достоверный документ, свидетельствующий о начале патриаршего служения Филарета в Москве.
Это окружная грамота царя Михаила Федоровича от 3 июля 1619 года, где говорится, что патриарх приходил к нему и советовался об устроении Русской земли (о проведении переписи). Но грамота эта свидетельствует только о том, что Филарет уже исполняет в Москве патриаршее служение и все.
А вот грамота, данная иерусалимским патриархом Феофаном, который якобы участвовал во втором избрании Филарета в патриархи, как и грамота Собора русских архиереев, якобы выбиравших в 1619 году Филарета, составлены, как это совершенно определенно известно, семь лет спустя, в 1626 году.
Официальная версия утверждает, что подлинные грамоты погибли во время пожара. Поэтому-то в 1626 году Филарет и вынужден был снова писать к патриарху Феофану и просить у него новую грамоту взамен сгоревшей…
Просьба странная…
Если Филарет действительно был поставлен в патриархи 24 июня 1619 года в Успенском соборе и благополучно патриаршествовал уже семь лет, какой смысл возиться с восстановлением утраченных в пожаре документов. Кому их было предъявлять? Никто ведь не оспаривал его сан!
Разумеется, патриарх Феофан за небольшое вознаграждение исполнил просьбу Филарета и написал новую грамоту, правда, написал не так, как хотел Филарет. Считается, что первая грамота, которая якобы сгорела, была полнее и излагала историю избрания Филарета так, как это и принято в изложенной нами официальной версии.
Поэтому Филарет, чтобы все-таки навести порядок в истории своего избрания, созвал Собор русских архиереев, которые и написали ему новую настольную грамоту вместо сгоревшей за своими подписями и печатями.
И в этой грамоте все было изложено как надо…
И опять задаешься вопросом: зачем это нужно было?
И не находишь иного ответа кроме того, что именно тогда, в 1626 году, и состоялось настоящее утверждение Филарета патриархом Московским, а до этого он правил на Москве как поставленный в Тушине патриарх, до это никого и не волновало. Ведь еще в 1613 году Земский собор подтвердил официальным решением, что аннулируются (кроме владений членов Семибоярщины) только пожалования, сделанные от имени царя Владислава, а пожалования Тушинского вора сохраняются.
Отчего же было аннулировать пожалование, сделанное евреем Богданко Филарету Никитину?
Никто и не собирался делать этого… Это уже в 1626 году сам Филарет понял, что не хорошо быть тушинским патриархом, надобно укрепить фундамент династии, вот и начал он хлопотать, чтобы выправили бумаги как положено…
5
«Сделавшись патриархом и великим государем, – пишет о Филарете в “Истории Русской Церкви” митрополит Макарий, – он был твердою опорою для своего юного сына, опытным советником и мудрым руководителем во всем, обуздал своеволие бояр, проявившееся в первые годы царствования Михаила Федоровича, укротил “сильников” земли, укрепил и возвысил царскую власть. По современному свидетельству, Филарет не отличался богословским образованием, так как и не готовился с молодых лет на служение Церкви»…
Как мы уже говорили, первым делом патриарха Филарета было проведение переписи.
Объяснялось это заботой о людях Московского государства, многие из которых действительно потерпели разорение и нуждались в льготах, и еще многие терпели насилия и обиды от бояр и всяких чинов и нуждались в обороне, но, как и всегда в фискальных мероприятиях, благотворительность служила лишь прикрытием.
На самом деле перепись призвана была выявить тех, кто уклоняется от платежа податей.
Мероприятие само по себе разумное и необходимое, хотя, может быть, и не самое первоочередное.
Но тут уже сказался характер новых правителей страны.
Разухабистости и беззаконию русской Смуты, заваренной, по сути дела, ими же самими, они могли противопоставить только железный «орднунг». И опять-таки все было бы ничего, если бы с помощью порядка Романовы восстанавливали лишь государственное управление.
Увы…
Любимый ими прусский «орднунг» они пытались внести в само сокровенное бытие Святой Руси…
Митрополит Макарий в своей «Истории Русской Церкви» справедливо отмечает, что вторым вопросом, на который патриарх Филарет обратил свое внимание, был вопрос «о невинных страдальцах за исправление церковных книг».
В нашем повествовании нет никакой нужды вникать во все тонкости этого дела и рассуждать, насколько правильными были исправления в церковных книгах, сделанные старцем Арсением и священником Иваном Наседкой.
Скажем о другом…
Все те исправления, которые намеревались вносить те или иные справщики, надобно было выносить на Соборное усмотрение и утверждать Собором, а не решать такие вопросы самостоятельно.
И то, что Филарет оправдал Арсения Глухого и Ивана Наседку, по сути дела, узаконило келейный порядок исправления церковных книг.
Какой национальной катастрофой обернется это уже в следующем царствии, мы еще будем говорить. Пока же скажем, что сделано это было Филаретом не из соображений гуманности, а из-за тяготения Романовых все к тому же немецкому порядку.
Ведь если и было что-то, что не поддавалось жесткому зарегулированию, то это православие Святой Руси. Ни на миллиметр не отступая от догматики, православная жизнь на Руси сохранила в своих обрядах своеобразие, которое чрезвычайно раздражало приезжающих за милостыней иерархов восточных Церквей…
Повторим, что мы не обвиняем Филарета в том преступлении, которое было совершено его внуком, царем Алексеем Михайловичем. Он только сделал лишь самые первые шаги в этом направлении, и шаги эти сами по себе никакой опасности не представляли.
Филарет, например, упорядочил и регламентировал те церковные праздники и торжества, которые совершались в Москве при участии самого патриарха и царя. Речь в составленном Филаретом Уставе шла, помимо важнейших праздников, о престольных праздниках главных московских церквей, праздниках в честь Московских святителей, московских крестных ходах. Судя по тому, что замечания Устава иногда сводились к краткому упоминанию, откуда и куда совершается крестный ход, а иногда довольно подробно определяли все патриаршее священнослужение, описывали, как встречал патриарх царя и что говорил ему, можно не сомневаться, что описанные в Уставе чины и порядки постепенно вводились еще при прежних патриархах…
6
Филарет Никитич был не только патриархом, но и «великим государем»…
И не по одному имени, но и в действительности. Вместе с сыном правил он Московским государством.
«Подданные, – пишет митрополит Макарий, – писали и подавали свои челобитные не одному царю, но вместе и великому государю святейшему патриарху, бояре делали свои доклады о государственных делах пред царем и патриархом, многие указы издавал царь, многие грамоты жаловал не от своего только имени, но и от имени своего отца, великого государя и патриарха. Иностранные послы представлялись царю и патриарху вместе в царских палатах, а если патриарх почему-либо там не присутствовал, то представлялись ему особо в патриарших палатах с теми же самыми церемониями, как прежде представлялись царю. Из переписки, какую вели царь и патриарх, когда один из них отлучался из Москвы на богомолье, видно, что они извещали тогда друг друга о текущих государственных делах и спрашивали друг у друга совета, что царь охотно принимал советы своего отца и иногда отдавал на его волю поступить, как признает нужным, и патриарх действительно распоряжался иногда по своему личному усмотрению без указаний от царя».
Патриарх Филарет управлял русским государством и Русской Православной Церковью четырнадцать лет.
В конце жизни он с царем Михаилом попытался освободить Смоленск, воспользовавшись смертью польского короля Сигизмунда.
Смоленск освободить не удалось.
1 октября 1633 года русская армия Шеина, осаждавшая Смоленск, была окружена армией королевича Владислава и капитулировала.
Патриарх Филарет. Гравюра XIX в.
Получив это известие, 7 октября 1633 года, восьмидесяти лет от роду, патриарх Филарет скончался.
Существует предание, что якобы он за всю свою жизнь ни разу не огорчился…
Воистину дивно, если еще раз вспомнить, какую жизнь прожил он.
Боярин и первый щеголь, двоюродный брат царя, в неумеренной жажде власти воспитывает самозванца и за это платится лишением всех богатств и пострижением в монахи. Но из рук этого взращенного им самозванца получает Филарет сан митрополита, из рук другого самозванца, неизвестного ему шкловского еврея, – патриаршее достоинство. А потом были девять лет польской неволи, и, когда уже начало казаться, что это навсегда, приходит известие об избрании на московский престол сына…
Умирая, Филарет сам указал и благословил себе преемника на патриаршей кафедре.
«В лето 7142 (1634) поставлен бысть на великий престол Московского государства в патриархи Пскова и Великих Лук Иосаф, архиепископ по изволению царя Михаила Федоровича всея Русии и по благословению Филарета патриарха, понеже был дворовой сын боярской (выделено нами. – Н.К.), во нравах же и житии добродетелен был, а ко царю не дерзновен».
И тут он оказался верен своей любви к «орднунгу», и своему тяготению к продвижению на высоты власти дворовых людей.
Григорий Отрепьев, напомним, тоже был сыном боярским, его, Федора Никитича, дворовым человеком…
7
Через два года после кончины Филарета был заключен вечный мир с поляками. Дабы закрепить вечный мир присягою ездило в Польшу посольство князя Алексея Михайловича Львова-Ярославского.
Послы отобедали у нового польского короля, посмотрели «потеху», как приходил к Иерусалиму ассирийского царя воевода Алаферн и как Юдифь спасла Иерусалим, и после потехи начали выпрашивать у короля в честь вечного мира тела Шуйских, царя Василия и его брата.
– Отдать тело не годится… – заартачились польские паны. – Мы славу себе учинили вековую тем, что московский царь и брат его лежат у нас в Польше… Надобно помников нам дать, иначе мы не согласны.
В наказе, данном послам царем Михаилом, говорилось: «Если за тело царя Василия поляки запросят денег, то давать до 10 000 и прибавить, сколько пригоже, смотря по мере, сказавши однако: “Этого нигде не слыхано, чтоб мертвых тела продавать, а за тело Дмитрия Шуйского и жены его денег не давать: то царскому не образец”».
Из этих расчетов и было дано тогда коронному канцлеру Якобу Жадику десять сороков соболей, и другие паны тоже получили соболей на 3674 рубля.
Тела Шуйских были погребены в каплице…
Посольские дьяки велели взломать пол и увидали под ним палатку каменную, а «в палатке три гроба, один на правой стороне, а два на левой, последние поставлены один на другом; одинокий гроб на правой стороне был царя Василья, на левой, наверху, – князя Димитрия, а под ним – жены его».
Сделаны были хорошо просмоленные новые гробы, в них и поставили старые гробы. Польский король, чтобы обить гроб царя Василия, прислал золотного турецкого атласа, кружев и серебряных гвоздей…
На гроб князя Дмитрия прислано было им зеленого бархата, а на княгинин гроб – зеленой камки.
«10 июня с утра в Кремле московском загудел реут, – пишет С.М. Соловьев, – и народ повалил к Дорогомилову навстречу телу царя Василия. От Дорогомиловской слободы до церкви Николы Явленного на Арбате тело несли на головах дети боярские из городов, а за телом шли Рафаил, епископ коломенский, архимандриты, игумены и протопопы, которые были назначены встречать тело в Вязьме; за телом шли послы, князь Львов с товарищами.
У церкви Николы Явленного встречал тело Павел, митрополит Крутицкий, и новоспасский архимандрит Иосиф, с ними всех церквей деревянного города попы и дьяконы со свечами и кадилами; тут же встречали бояре, князь Сулешов да Борис Михайлович Салтыков, да окольничий Михаила Михайлович Салтыков в смирном (траурном) платье служилые люди, гости и купцы, встречавшие вместе с боярами, были также все в смирном платье.
От Николы Явленного тело несли в Арбатские ворота Воздвиженкою к Каменному мосту (через Неглинную в Кремль) дворяне московские на плечах. Патриарх Иоасаф со всем освященным собором встретил тело у церкви Николы Зарайского (что у Каменного моста деревянный храм), в ризах смирных, и, учиня начало по священному чину, пошел за телом, которое внесли в Кремль через Ризположенские ворота. Когда поравнялись со двором царя Бориса, то зазвонили во все колокола и тело внесли в Архангельский собор в передние двери от Казенного двора; государь встретил у собора Успенского, не доходя рундука, за государем были бояре, думные и ближние люди, все в смирном платье; в Архангельском соборе пели панихиду большую, а погребение было на другой день, 11 июня».
Наверное, это число, 11 июня 1635 года, и надобно считать настоящим концом русской Смуты.
8
Чем отличалась новая династия? За ее плечами была Смута, участницей, виновницей и жертвой которой она и была. И хотя и ограничена была власть царя Земским собором и Боярской думой, очень скоро происходят разительные перемены в московских верхах.
«Вокруг царей новой династии не видно целого ряда старых знатных фамилий, которые прежде постоянно держались наверху, – пишет В.О. Ключевский. – При царях Михаиле и Алексее нет уже ни князей Курбских, ни князей Холмских, ни князей Микулинских, ни князей Пенковых; скоро сойдут со сцены князья Мстиславские и Воротынские; в списке бояр и думных людей 1627 г. встречаем последнего кн. Шуйского и пока – ни одного кн. Голицына. Точно так же не заметно наверху фамилий нетитулованных, но принадлежащих к старинному московскому боярству: нет Тучковых, Челядниных, падают Сабуровы, Годуновы; на их местах являются все люди новых родов, о которых никто не знал или мало кто знал в XVI в., – Стрешневы, Нарышкины, Милославские, Лопухины, Боборыкины, Языковы, Чаадаевы, Чириковы, Толстые, Хитрые и пр., а из титулованных – князья Прозоровские, Мосальские, Долгорукие, Урусовы, да и из многих прежних добрых фамилий уцелели только худые колена». День за днем, год за годом оттесняются от управления страной наиболее знатные семьи. И это касалось не только противников Романовых, но всей русской аристократии».
«Бывали на нас опалы от прежних государей, – печалился ближайший сподвижник Романовых, князь И.М. Воротынский, – но правительства с нас не снимали; во всем государстве справа всякая была на нас, а худыми людьми нас не бесчестили».
Боярину, как справедливо заметил историк, хотелось сказать, что отдельным лицам из боярского класса иногда больно доставалось от произвола прежних государей, но самого класса они не лишали правительственного значения, не давали перед ним хода худородным людям. Князь И.М. Воротынский выражал, так сказать, правительственную силу класса при политическом бессилии лиц.
Не хочется сочувствовать человеку, непосредственно причастному к отравлению Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, к Семибоярщине и возведению на русский трон Михаила Романова…
Но не посочувствовать его отчаянию, когда он уразумел вдруг, что на опустевшие боярские места прорываются новые люди, непривычные к власти, не имеющие политического навыка, нельзя, потому что это и не его только отчаяние, а отчаяние всей страны.
Как часто, не щадя сил, жертвуя своею совестью, а порою и своей душой, добиваемся мы чего-то, что не очень-то и нужно нам. А добившись, видим, как страшно то, чего мы добились.
С Воротынским – род его, кстати, угас еще при первых Романовых – эта беда и случилась. Он имел несчастье не только дожить до окончательного закрепления власти за династией Романовых, но и увидеть, понять, что Романовым не нужны ни классы, ни общественные группы, которые бы поддерживали их.
Это прежние цари опирались, например, на служилых людей…
Они вместе с этими людьми держали страну.
Романовы же искали людей, которых не могли выдвинуть ни классы, ни общественные группы на Руси. И стоило ли удивляться, как стремительно редеют стройные местнические ряды боярства…
«Государи XVII века начали править с помощью отдельных лиц, случайно выплывших наверх, – пишет В.О. Ключевский. – Эти новые люди, свободные от правительственных преданий, и стали носителями и проводниками новых политических понятий, которые в Смуту проникли в московские умы…»
9
Конец царствия Михаила Федоровича был омрачен тенью нового самозванца.
Темно и неотчетливо растекались по Москве слухи о внуке Иоанна Васильевича Грозного, сыне Марины Мнишек, царевиче Иване…
Говорили, что повесили тогда в Москве не «ворёнка», а другого малыша, а «ворёнок» жив и готовится к походу на Москву.
Долго велись переговоры о выдаче нового самозванца, долго польское правительство уклонялось от этого, обещая сослать Лубу «за приставом» в Мариенбург, но московские послы требовали выдачи, грозили, что тогда договор между Польшей и Россией будет «не в приговор, и межи – не в межу». Наконец, поляки уступили.
Осенью 1644 года Лубу привезли в Москву.
Это было, кажется, последнее деяния Михайлова царствования…
В апреле 1645 года самочувствие первого царя Дома Романовых резко ухудшилось.
«Доктора – Венделин Сибелиста, Иоган Белоу и Артаман Граман – смотрели воду и нашли, что желудок, печень и селезенка по причине накопившихся в них слизей лишены природной теплоты и оттого понемногу кровь водянеет и холод бывает, оттого же цинга и другие мокроты родятся».
Лечили царя Михаила Федоровича «составным ренским вином», приправленным разными травами и кореньями, но вино не помогло очищению царской печени от слизей, и 14 мая доктора прописали другое лекарство.
26 мая доктора опять смотрели воду: «оказалась бледна, потому что желудок, печень и селезенка бессильны от многого сиденья, от холодных напитков и от меланхолии, сиреч кручины»…
Доктора прописали царю составной сахар и велели мазать желудок бальзамом, но и бальзам не помог.
12 июля Церковь празднует память преподобного Михаила Малеина.
Двоюродный брат преподобного Никифор Фока стал императором Византии, а сам Михаил Малеин после долгих подвигов иноческой жизни основал лавру, в которой взрос под его руководством преподобный Афанасий, основатель знаменитой лавры на Афоне.
12 июля были именины царя Михаила Федоровича. Он пошел к заутрене, но в церкви сделался припадок, и назад его уже принесли.
К вечеру болезнь усилилась, он начал стонать, жалуясь, что внутренности терзаются, велел призвать царицу, простился с женою и благословил шестнадцатилетнего сына Алексея Михайловича на царство.
– Тебе, боярину нашему, – сказал он, обращаясь к дядьке сына Борису Ивановичу Морозову, – приказываю сына и со слезами говорю: как нам ты служил и работал с великим веселием и радостию, оставя дом, имение и покой, пекся о его здоровье и научении страху Божию и всякой премудрости, жил в нашем доме безотступно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюл его, как зеницу ока, так и теперь служи.
Ночью, почувствовав приближение смерти, Михаил исповедался и приобщился Святых Тайн, после чего, в начале третьего часа ночи, скончался.
Было 13 июля 1645 года.
В этот день празднует Православная Церковь Собор Святого Архангела Гавриила…
Глава девятая Русская дорога
Белые и черные реки текут с Урала…
Белые текут на запад, а черные – на восток.
Пробираясь вдоль черных рек, просачивались из-за Камня орды пелымского князя Кихека, чтобы, «засыпая озерцы трупами», пройти по Пермской земле.
А по белым рекам поднимались к Уралу казаки. Семь имен насчитывают историки у атамана. Камешком в реке народной молвы каталось его имя, пока не выплеснулось на берег: Ермак.
В 1581 году, когда далеко на западе задыхался осажденный войсками Стефана Батория Псков, казаки прошли по Чусовой в Серебрянку, волоком перетащили легкие струги через кручи уральского водораздела и спустились по Журавлику и Баранче в Тагил. Трудным был этот путь через тагильские перевалы, но другого не знали тогда казаки Ермака.
За годы, проведенные в Искере, Ермак не только сражался с остатками кучумовских отрядов, не только утверждал русскую государственность в Сибири, но и искал короткую и надежную дорогу через Камень.
Ровно полгода добиралась к Ермаку по Лозьвинскому пути отправленная Иоанном Васильевичем Грозным подмога. Далек, в две тысячи верст, оказался он, и меньше половины царских дружинников добрело до Искера…
Пытаясь отыскать удобную дорогу в Русь, гибнут сподвижники Ермака. Возле Казымского городка на Оби пал Никита Пан. Осенью следующего года гибнет со своим отрядом Иван Кольцо.
Разведывая горные перевалы на водоразделе Лозьвы и Вишеры, предпринимает Ермак Пелымский поход…
Но неприступными кручами Урал отделил Сибирь от России, и не было, кажется, и щелочки в этой каменной стене.
Гибель самого Ермака в день Преображения Господня, 6 августа 1585 года, не изменила естественного течения истории освоения Сибири. Дело Ермака было совершено – и через два года после его смерти поднимаются на Type и Тоболе города – Тюмень и Тобольск…
Как обточенные речным течением гальки, по берегам сибирских рек рассыпались бесчисленные Ермаши и Ермаковки – русские деревеньки в Сибири.
Один за другим сходят с исторической сцены последние Кучумовичи. Сам Кучум все еще кочует по ишимским степям, но вылазки его, исполненные бессильной ярости, страшны только для местного населения.
Пройдет несколько десятков лет, и даже местные жители забудут название бывшей сибирской столицы. Подрытый течением Иртыша, рухнет в мутноватую воду ханский город и исчезнет навсегда из памяти сибирских народов.
1
Сделавшись Россией, Сибирь вступала в новую эпоху, и новые отношения, сложившиеся на ее безграничных просторах, требовали, прежде всего, нового пути, который соединил бы Сибирь с Россией.
В 1595 году царь Федор Иоаннович издал указ, по которому надобно было искать «охочих людей», способных указать и проложить удобную дорогу в Сибирь.
О царе Федоре написано немало…
«Слабоумный» и «юродивый» – вот эпитеты, которые сопровождают последнего отпрыска Калитинской династии.
Подкрепляются эти эпитеты то цитатой из письма польского посла Сапеги: «Царь мал ростом… с тихим, подобострастным голосом, с простодушным лицом, ум имеет скудный или, как я слышал от других и заметил сам, не имеет никакого, ибо, сидя на престоле во время посольского приема, он не переставал улыбаться, любуясь то на свой скипетр, то на державу»; то высказыванием шведа Петрея, что царь Федор от природы почти лишен рассудка и часто бегает по церквам трезвонить в колокола.
О том, что это свидетельства послов враждебных России стран, что в этих письмах приведен не портрет царя Федора, а карикатура на врага, с которым предстоит воевать, историки стараются не упоминать.
Ермак Тимофеевич. Портрет XVIII в.
Иные свидетельства о царе Федоре дают русские летописи. Долгожданным называли они последнего отпрыска Калитинской династии.
И это не преувеличение.
Федор Иоаннович был истинно русским царем, православие значило для него больше, чем все ценности протестантского мира, и промыслительно, что это именно при нем обрела Русь патриаршество, именно в годы царствования Федора Иоанновича, по сути, и совершилось дело присоединения Сибири!
Вчитываясь в строки указов Федора Иоанновича, нельзя не поразиться их уверенности в неисчерпаемости народных сил. А чем, собственно говоря, еще и может быть силен правитель, как не этой безграничной верой в собственный народ?
Ощущая насущную нужду в короткой и удобной дороге между Русью и Сибирью, царь Федор Иоаннович не создавал специальных коллегий, не засылал воевод и прочих «специалистов», он просто приказал «сыскать охотника».
Дорога нужна была для всего народа. Эта дорога была нацелена в будущее его истории, его исторической судьбы. Народ и должен был провести ее.
Поразительно, что из обилия вариантов правительство сумело выбрать единственно возможный и единственно осуществимый, но еще поразительнее, что всего через три года, в год кончины царя Федора Иоанновича, дорога была «найдена» и проложена.
«Вождем был оной дороги Артюшка Бабинов».
Кто он, этот соликамский крестьянин Артемий Сафронович Бабинов?
Снова и снова перечитываю я скупые строчки летописи, снова вчитываюсь в витиеватый текст царских жалованных грамот, пытаясь представить себе позабытого землепроходца…
Известно, что был у него в Соли Камской дом, что сам он кроме землепашества занимался еще и промыслом. Ловил зверя в отрогах Уральского хребта и, наверно, многое знал о Камне еще из промысловой жизни.
Дороги через Камень были…
Был известен испокон веков путь, называемый на местном наречии мирляни — «народный путь».
Он шел из Чердыни по реке Вишере, спускался в Тавду, из Тавды в Тобол, потом поднимался по Тоболу и Type до Тюмени. В результате получалось от Соли Камской до Тюмени две тысячи верст.
Вела через Урал волчья тропа, по которой в 1582 году провел Ишберей в Москву посольство Ермака. Зимой по этому пути можно было ездить, но летом с трудом пробирались по тропе и пешие[53].
Артемий Сафронович Бабинов, наверное, знал об этих дорогах, но искал он другую. Нужна была не волчья тропа, не зимний санник промысловиков, а обычная дорога, по которой могли проехать крестьянские телеги.
Бабиновская дорога пошла от Соликамска через верховья Яйвы к речке Мостовой, принадлежащей уже к системе реки Туры. Протяженность ее – двести пятьдесят верст от Соликамска до Тобольска. На тысячу пятьдесят верст удалось сократить прежний Лозьвинский путь.
«А мостов мостили от Соликамской через речки, буераки и грязные места до Верхотурья – поперечных семь по 50 сажен, а длинных 30 мостов по 130 сажен».
Чтобы яснее представить себе весь объем работ, нужно сложить длину этих мостов – она составит около девяти километров. А кроме этого, нужно было еще расчистить заросшие лесом берега, разобрать каменные завалы. И трудно поверить, что такая дорога была построена за три года, без какого-либо государственного финансирования.
2
Поразительное совпадение… Открытие Бабиновской дороги совпало с венчанием на царство Бориса Годунова.
Новая дорога в Сибирь и новая династия…
Ясная и открытая дорога в будущее! Как только была открыта Бабиновская дорога, сразу двинулись в Сибирь русские крестьяне. Начиналось стремительное заселение Зауралья.
Только в 1599 году, по документам Верхотурской приказной избы, по Бабиновской дороге прошло в Сибирь около тысячи крестьянских семей. Правительство предусмотрело, кажется, все, чтобы не было «порухи» государеву делу.
Денежное вспомоществование выдавалось поселенцам дважды.
Аванс в пять рублей они получали при сборах в дорогу, а остаток в пятнадцать рублей переводился в Соликамск. Здесь местные воеводы расходовали часть «подможных» денег на то, чтобы обеспечить каждого поселенца тягловым и продуктивным скотом. В покупках лошадей и коров воеводы отчитывались, а чтобы полностью исключить возможные злоупотребления, при закупке скота присутствовали и посадские представители, которые хорошо знали цены на местные товары и пользовались доверием среди населения.
Начавшееся с 1598 года движение крестьян в Сибирь и предопределило будущие успехи землепроходцев. Русские крестьяне по Енисею и Ангаре выходят в Якутию и на Амур, достигают берегов Тихого океана, продвигаются дальше, оседлывая острова, выбираются и на Американский материк.
В отличие от своих современников – испанских конкистадоров, русские землепроходцы осваивали Сибирь, не сжигая, а отстраивая новые города, выводя новые сорта ржи и пшеницы, которые могли расти в Сибири.
По мнению академика А. Окладникова, «активная творческая работа по освоению Сибири велась непосредственным производителем русского общества – крестьянином, творцом материальных и духовных благ».
Путь этим землепроходцам-крестьянам и открывала дорога, проложенная соликамским крестьянином Артемием Сафроновичем Бабиновым.
Двести лет существовала она, и двести лет шел по этой дороге, неся на своей спине книгу, медведь с соликамского городского герба.
Остатки Бабиновской дороги сохранились и до наших дней.
Необычайное волнение охватывает тебя, когда поднимаешься на холм в селе Верх-Яйва Соликамского района и, приглядевшись, начинаешь различать следы старинного сибирского тракта. Спустившись под гору, он проходит через село вдоль правого берега Яйвы к перевозу, перебирается на левый, истончаясь, поднимается в гору и теряется в лесных сумерках.
Там начинается Сибирь…
Дорога…
Снова вдумываешься в великий смысл этого слова, перечитывая Соликамскую летопись, которую разыскал и опубликовал в середине XIX века пермский краевед А. Дмитриев.
Бесхитростно перечисляет летописец события, происшедшие в крае: прибыл на воеводство новый боярин, привезли колокол… Все события равновелики для летописца. Все они заслуживают того, чтобы быть отмеченными в истории.
Но, перечисляя события, случившиеся в округе, снова и снова возвращается летописец к дороге, проложенной его земляком в Сибирь.
Какую мысль пытался выразить соликамский летописец?
Чем взволновало его это известие, если, забывая о положенном по уставу каноническом спокойствии и лаконичности, снова повторяет он его?
Гневом и карами Ивана Грозного отбушевало калитинское племя и тихо истлело угольками Федорова царствия. В 1598 году умер этот последний отпрыск династии. Умер, не оставив наследника.
Династический кризис больно отозвался в стране. Верховное правительство уже не могло совладать с лавиной событий.
Началась на Руси Смута…
Пройдет всего семь лет, и на русский престол взойдет дворовой человек Романовых, монах-расстрига Гришка Отрепьев.
Пошатнутся основы государственности, и вот уже страшный для Руси 1611 год: взят поляками Смоленск, шведы в Новгороде, Псков в руках самозванца Сидорки; объятая огнем, полыхает Москва, а польский отряд укрылся за стенами древнего Кремля.
Тогда и запишет эту недобрую, дошедшую до Соликамска весть летописец: «Москва и прочие города взяты. Святейший патриарх Гермоген преставился…»
Нет, не по забывчивости снова и снова повторял летописец известие о Бабиновской дороге. Потому и волновала его эта мысль, что Бабиновская дорога ощущалась им как дорога русской судьбы, дорога, которая из пожара и смуты шла, кажется, совсем в другой мир, где у страны велась другая хронология.
Эта дорога связывала Святую Русь с пришедшей на смену Россией, и здесь совершенно иначе текло время!
Ведь именно в страшные годы Смуты поднимаются в Сибири русские города – Пелым, Березов, Сургут, Тара, Обдорск, Нарым. Именно в Смутное время, нимало не сомневаясь в крепости государства, раздвигают замечательнейшие русские люди границы державы, уходя все дальше на восток.
Уверенна и непоколебима их поступь.
В 1598 году заложено Верхотурье.
В 1600 году основан Туринск.
В 1604 году – Томск.
В 1607 году – Туруханск…
Всего двадцать лет потребовалось, чтобы поднялись в Сибири Кузнецк и Енисейск, Ачинск и Красноярск, Канск и Ишимск, Киренск и Якутск, Олекминск и Верхоянск…
И все эти люди, которые прокладывали новые пути, закладывали и отстраивали новые города, распахивали нетронутые земли, – все прошли по Бабиновской дороге.
Эта и была дорога Святой Руси…
3
И была проложена эта дорога из той сказочной дали, где умирали русские богатыри и разливались могучими реками…
Где пала Дунаева головушка — Побежали речка Дунай-река, А где пала Настасьина головушка — Протекала Настасья-река…Полноводной рекой разлился былинный богатырь Дон Иванович. Людьми раньше были и Днепр, и Волга, и Западная Двина. Превратился в реку и павший в битве с татарами Сухман-богатырь.
Потеки Сухман-река От моея от крови от горячия! —умирая, воскликнул он, и побежала среди лесов Сухона, вбирая в себя малые ручейки и речки. Поднялись на берегах ее деревеньки и города, и среди них – знаменитый Великий Устюг.
Поднявшийся на крови могучего богатыря, этот город унаследовал его силу и мужество.
Великий Устюг сжигали камские булгары и новгородские ушкуйники, князь Василий Косой и казанские татары; жителей косила моровая язва.
Но ни нашествия, ни пожары, ни «великие потопления», ни мор не могли погубить город, и после каждой напасти он заново отстраивался, наполнялся людьми, рос и богател…
«Славен город Москва!» – кричали на вечерней перекличке стрельцы в караулах.
«Славен город Вологда! Славен город Устюг!»
А славился Великий Устюг цветными изразцами и финифтью, славился и торговлей своей, но более всего – смелыми да отчаянными людьми, мореходами и землепроходцами.
В начале XVII века в городе Великий Устюг жили ровесники Семен Дежнев, Василий Поярков, Михаило Стадухин. Чуть постарше их был Ерофей Хабаров, чуть помладше – Владимир Атласов.
Все они – подлинные правнуки былинного Сухмана, в жилах каждого текла его богатырская кровь, каждому суждено было повторить судьбу своего прадеда – после бесконечных трудов и тягот стать кому островом, кому мысом, кому городом, кому бухтой, а кому так и огромным краем…
Всем им суждено было рассыпать свои имена по карте нашей Родины.
Обратим внимание, что все перечисленные нами устюжане-землепроходцы родились в начале XVII века, когда, опустошая страну, бушевала на Руси Смута. Дежневу было меньше десяти лет, когда горела Москва, когда пали Смоленск и Новгород, когда польские отряды громили Москву и когда в Ярославль прибыл посол австрийского императора Юсуф Грегоревич для переговоров с князем Дмитрием Пожарским.
– Цесарь на Московское государство брата своего Максимилиана даст и с польским королем помирит вас вековым миром, – сулил он.
Дмитрий Пожарский кивал и, чтобы выиграть время, соглашался на все предложения, но пока велись переговоры в Вене, Москва была уже освобождена, а на престол избрали Михаила Романова. На этот раз стране удалось обойтись без приглашения «варягов».
Дежнев был подростком, когда в феврале 1617 года подписали Столбовский мир со Швецией, позволивший России сосредоточить свои силы на борьбе с Речью Посполитой за возвращение исконных русских земель.
Долгой и трудной была эта война. Ни Деулинское перемирие, ни Поляновский мир не могли остановить ее…
В 1629 году, когда поступил Семейка Дежнев на казачью службу, датчане сделали попытку блокировать пути в Белое море. Датский пират Енс Мунк по приказу Христиана IV начал перехватывать торговые суда, идущие к Архангельску.
А в 1633 году, когда русская армия под командованием князя М.Б. Шеина попала в окружение под Смоленском и погибла, ушел следом за Семеном Дежневым в Сибирь другой устюжский крестьянин Ерофей Хабаров.
В 1634 году, когда казнили по приговору Земского собора М.Б. Шеина, Ерофей Хабаров прибыл на Лену.
4
По-якутски Лена зовется – Елюене – Большая река…
Еще зимою 1619 года тунгусский князец Илтик рассказал в Енисейском остроге, что к востоку за горными перевалами течет великая река, по которой ходят «суда большие, а вода в той великой реке солона».
Зимой 1623 года мангазейский промышленник Пантелеймон Пянда, поднявшись по Нижней Тунгуске, через тунгусский волок перебрался на реку Куленга и близ устья реки Чечуй весною вышел на Лену и начал спускаться вниз.
Все шире становилась река, все круче поднимались берега. Порою они отступали от реки, порою вплотную подходили к ней, нависая над водой скалами. На самой реке появлялись острова.
За Табагинским мысом потянулась обширная равнина Улуу (великая) Туймада.
До самого Кангаласского мыса растянулась эта долина.
Здесь русские и встретились с якутами, которые, вытесняя местные племена тунгусов, поселились в этих местах пять столетий назад.
Теперь встреча разных народов произошла гораздо более мирно, чем можно было бы ожидать.
Якутов русские не вытесняли, они селились рядом. И тем легче давалось совместное проживание, что своей государственности у якутов не было.
Считается, что мангазейский промышленник Пантелеймон Пянда весной 1623 года встречался с потомком Элляя – предводителем кангаласских якутов Тыгыном.
У Тыгына было 200 человек войска, среди якутов он не имел равных соперников и жил как «пороз-бык, издающий пронзительный рев», или как «молодой жеребец, останавливающийся в гордой боевой позе», ибо не имел равных соперников в межродовых стычках и войнах.
Не случайно время правления Тыгына названо в якутских преданиях кыргыс уйэтэ – веком резни.
Если якуты и враждовали с казаками, то примерно так же, как они враждовали с соседними якутскими родами.
Через несколько лет после Пантелеймона Пянды, летом 1631 года, спустился с верховьев Лены отряд Осипа Галкина. В самом центре якутской земли привел он в русское подданство пять князцов и, собрав ясак, спустился по Лене до устья Алдана.
А на следующий год пришел на Лену Петр Бекетов. «Того же сентября в 25 день поставил я, Петрушка, с служилыми людьми на Лене реке острог».
Так и был основан Якутск.
Этот острог, поднявший две мощные крепостные стены, стал самым крупным острогом в Сибири. Над главной проездной башней на высоте в 14 саженей распростер над Леной крылья двуглавый орел.
Под крыльями этого орла и поселился Ерофей Хабаров на Лене.
Конечно, не особенно-то и задумывался он о государственных делах, когда подался в Сибирь, бросив в устюжской деревне свою жену Василису. Просто созвучной его былинному характеру оказалась сибирская ширь, и, обосновавшись на Лене, завел он пашню, построил мельницу, оборудовал соляную варницу и сразу немыслимо разбогател, пока вновь назначенный воевода Головин не попал в должники к нему. Три тысячи пудов хлеба задолжал он оборотистому устюжанину и, чтобы «расплатиться» раз и навсегда, конфисковал у Хабарова варницу, а самого удачливого хозяина заточил в тюрьму, над которой распростер крылья двуглавый орел.
Забегая вперед, скажем, что только весной 1649 года сумел оправиться от обиды и разорения Хабаров. Он убедил тогда нового воеводу Дмитрия Андреевича Францбекова разрешить ему организовать за свой счет экспедицию на Амур.
«Все здесь есть, – рассказывал письменный голова Василий Поярков, побывавший на Амуре незадолго до Хабарова. – И виноград растёт, и корабельный лес. Рай, одним словом».
Когда в 1653 году экспедиция «оптовщика» Ерофея Хабарова присоединила к России все Приамурье, на другом краю страны казаки Богдана Хмельницкого начали войну за освобождение Украины. Тогда, как сообщает летописец, на кладбище казнимых преступников, в Варшаве у мертвеца полилась из уха кровь, а другой мертвец высунул из могилы руку, пророча большие беды для Речи Посполитой…
За райский край, что присоединил Ерофей Хабаров к России, сделали на него такие начеты, что послабже человек удавился бы от отчаяния, или спился бы, или просто сник и сгинул на правеже.
Но не таков был новый сын боярский…
Вернувшись в Сибирь, Ерофей Павлович узнал, что уже не четыре тысячи (столько в Москве насчитали!) должен он, а четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей и еще два алтына денег.
Правда, смилостивился воевода якутский.
Когда предоставил ему Ерофей Павлович поручительства надежных людей, разрешил частями выплачивать долг: ежегодно поставлять в Якутск из своего хозяйства по тысяче пудов хлеба.
И поставлял хлеб Хабаров в Якутск. Широко вел хозяйство в деревне на Киренге, прозванной местными жителями Хабаровкой. До амурского похода дважды разоряли Хабарова воеводы, теперь – только бы тыщу пудов поставлял! – никто уже не чинил препятствий.
Мирно трудился он. Иногда отрывался от работы, прислушиваясь, как поют за рекой:
Во сибирской во украине, Во Даурской стороне, В Даурской стороне, А на славной на Амур-реке, На усть Комары-реке Казаки царя белова. Оне острог поставили, Есак царю собрали Из-за сабельки вострыя, Из-за сабли вострыя, Из-за крови горячия…Потирал тогда Ерофей Павлович свой заросший диким мясом шрам от китайской сабли, оставшийся на лице. Про него была сложена эта полюбившаяся сибирякам песня, про хабаровских казаков, за снаряжение которых до сих пор рассчитывался Ерофей Павлович.
Неведомо, удалось ли ему рассчитаться с казной.
Зато точно известно, что еще при своей жизни он наделил хозяйством сыновей и внуков, что построил Ерофей Павлович Троицкую церковь в соседнем Киренском монастыре, которому и оставил после смерти на помин себя да жены своей Василисы и родителей деревню Хабаровку…
5
Судьба землепроходца Ерофея Хабарова назидательна.
Но разве есть в жизни, творящейся по воле Господней, что-либо лишенное поучительности?
Ни Дежнев, ни Хабаров, ни Поярков, ни Стадухин не знали в подробностях того, что происходило на западных рубежах государства, да, может быть, и не думали об этом, занятые своим делом.
А делом их было отнюдь не присоединение новых земель.
Конечно, каждому, кто отправлялся в неизведанный путь, давался наказ: «Смотреть накрепко… и расспрашивать про те реки подлинно, как те реки словут и отколева вершинами выпали и… пашни у них (местных жителей) есть ли и хлеб родица ли».
Но это попутно, а прежде всего казаки должны были думать о промысле пушнины. Только в 1626 году вышло на промысел по Тунгускам более полутысячи человек. Каждый промысловик добывал за сезон до трехсот соболей.
Соболиный промысел приносил огромный доход. Только в Ленском остроге десятинная казна, поступавшая целиком в собственность царя, составила в 1638–1641 годах более двенадцати с половиной тысяч соболей, а всего мехов было вывезено из этого острога за два с половиной года на 200 тысяч рублей.
И кто знает, не эти ли «соболиные» деньги и помогали содержать армию, заслонявшую западные и южные рубежи государства?
Получалось, что землепроходцы, поднимавшиеся по «соболиным» рекам, не только продвигали к океану восточную границу, но помогали удерживать и западный рубеж.
Мутнеет в ледоход вода в реке, а к июню она становится совсем черной, и только в августе, если вода не прибывает из-за дождей, видно становится запущенную снасть…
И так из года в год.
Сходно с человеческой жизнью совершается течение реки, берущей свой исток в окружающих Байкал горах, а далее рассекающей всю Сибирь, чтобы восьмью руслами излиться в Северный Ледовитый океан…
Казаки принесли якутам города и земледельческую культуру, но взамен и сами перенимали у якутов культуру северного жительства.
Изучая историю русского землепроходчества XVI–XVII веков, понимаешь, что идея дальнейшего продвижения на северо-восток не могла бы осуществиться без уроднения опыта северных народов, живущих на северных территориях полноценной жизнью в любых экстремальных природно-климатических условиях.
Это понимали землепроходцы, и они перенимали опыт местных народов в самом процессе текущей жизни. Смешанные якутско-русские семьи стали обычным явлением уже в начале 40-х годов XVII века.
Такой была и семья великого землепроходца Семена Ивановича Дежнева.
Нелепо думать, что это от жены своей Абакаяды или от ее родни набирался он знаний, позволивших совершить ему в 1648 году беспримерный поход, повторить который и столетие спустя не сможет оснащенная самыми передовыми европейскими знаниями и снаряжением экспедиция Витуса Беринга. Однако еще нелепее думать, что опыт совместной якутской северной жизни не учитывался Семеном Ивановичем в его многолетней службе на реке Анадырь.
Его женитьба и его семейная жизнь – это не просто личная жизнь казака Дежнева и якутки Абакаяды, это еще и приобретение опыта освоения Арктики, опыта, который иначе, кажется, и не мог быть приобретен.
6
«И сказывают они (юкагиры) про себя, что-де их бесчисленно – людей много… что волос на голове, а соболей, де у них много, всякого зверя и рыбы в той реке много…»
Этой «скаской» начиналось освоение Колымы…
Летом 1643 года одиннадцать казаков – Михаил Стадухин, Семен Дежнев, Дмитрий Зырян, Фофанов, Шестаков, Гаврилов, Артемьев, Прокофьев, Немчин, Федоров, Коновалов – поплыли на новую неведомую реку.
В самом устье Колымы на протоке, называемой ныне Стадухинской, казаки поставили зимовье. Затем это зимовье было перенесено вверх по реке и стало называться Верхне-Колымском.
«Колыма-река велика есть, – рассказывал потом в Якутске Стадухин, – идет в море так же, что и Лена, под тот же ветер, и по той Колыме-реке живут колымские мужики…»
Стадухин не скупился на краски, расписывая вновь открытую реку. Он знал, что от этих рассказов зависит многое. Ведь именно так и шло тогда освоение Дальнего Востока…
Из трудных и дальних странствий израненные, обмороженные землепроходцы привозили вместе с «соболиной» казной и «скаски», которые сразу становились известными всем. Завороженно внимали им промышленные люди, собираясь в далекий путь.
В 1645 году после возвращения Стадухина в Якутск здешняя таможенная изба пропустила «за море» для торга и промысла на Колыме более полутысячи человек, столько же ушло и летом следующего года, а в 1647 году в Нижне-Колымском и Верхне-Колымском зимовьях открылась первая ярмарка.
Хлеб стоил здесь непомерно дорого – до десяти рублей за пуд, зато меха – столь же непомерно дешево. Новые и новые толпы промышленников стекались сюда, и тесно становилось землепроходцам на обжитой уже реке. Снова пора было собираться в далекий путь, за новыми землями, за новыми «скасками».
Сказками прибывала тогда Русская земля…
А в 1645 году в Нижнеколымске распространился слух о реке Погыче.
Подхваченный шатавшимися без дела казаками, этот слух обрастал легендами. Говорили уже, что и соболи-то на Погыче самые добрые – черные…
Не мешкая, Стадухин поехал в Якутск, но слух обогнал его.
Казалось, не люди, а ветер, шумящий в верхушках деревьев, разносит вести.
Когда в 1646 году Стадухин добрался наконец до Якутского острога, Иван Ерастов собирал здесь экспедицию на далекую Погычу. Уже и воевода одобрил затею, начертав на росписи: «Взять к делу и переписать, всякие снасти готовить, а чево в казне нет, то велеть купить таможенному голове».
С трудом удалось Стадухину перехватить инициативу.
Впрочем, и других конкурентов, желающих обогатиться в неведомых землях, было немало. Летом этого же года из устья Колымы пошли промышленные люди Есейка Мезенец и Семейка Пустозерец «на море гуляти в коче». Отважные мореплаватели дошли до Чаунской губы и попытались наладить меновую торговлю с местными чукчами. С грузом моржовых клыков вернулись они на Колыму.
Погычу промышленники не нашли, но «рыбий зуб», рассказы о необыкновенном обилии его лишили покоя многих казаков.
Сказочные богатства мерещились им впереди.
7
О заветной реке Погыче думал и Семен Дежнев.
Он знал, что еще в 1639 году казаки вышли на берег Охотского моря. Наверное, слышал и сказку Колобова – казака из отряда Москвитина:
«А шли Алданом вниз до Май реки восьмеры суток, а Маею рекою вверх шли по волоку семь недель, а из Май реки малою речкою до прямого волоку в стружках шли шесть ден… И вышли на реку Улью на вершину, да тою Ульею рекою вниз стругом плыли восьмеры сутки и на той же Улье реке, зделав лодью, плыли до моря… пятеры сутки. И тут, на устье реки, поставили зимовье с острожком».
Об Охотском зимовье Дежнев то же знал.
Еще зимою 1641 года вместе с Андреем Горелым он пытался пробиться туда с Оймякона, но путь преградили ламунские тунгусы, и пришлось возвращаться назад, в отряд Михайлы Стадухина. Кстати, тогда и перебили всех казачьих лошадей пришедшие следом за Дежневым и Горелым тунгусы.
Дежневу не повезло, но три года спустя на Охотское зимовье пробрался казачий голова Василий Поярков. Правда, пришел он в Охотск совсем с другой стороны – с юга. Предваряя будущий поход Ерофея Хабарова, Поярков прошел по Зее и по Амуру и, выйдя в море, по морю добрался до устья Охоты. Соединился здесь с отрядом Ивана Москвитина.
Стремительно и неуклонно, смыкая своими путями пространство, исследовали землепроходцы устройство дальневосточной земли. Белым пятном оставался только северо-восток континента. Там находилась заветная река Погыча, до которой никто пока не мог добраться.
Дежнева отличало необыкновенно острое чувство неведомого пространства, и поэтому он яснее других представлял себе вставшую перед казаками задачу.
Дежнев знал, что река Охота, текущая на восток, впадает в море.
Но и Индигирка, по которой спускались они, тоже впадала в море, только уже на севере, хотя почти рядом с «вершиной» Охоты зарождается ее исток. Не значит ли это, что и вся земля, уходящая гигантским мысом на северо-восток, омывается водою моря?
Мезенец и Пустозерец не заметили и признаков Погычи: вдоль крутого, каменистого берега плыли они… Так, может быть, этот берег и есть край того гигантского камня, который служит водоразделом Индигирки и Охоты, Колымы и Погычи? Может быть, с него и сбегает Погыча, только в другую, как и Охота, сторону?
Уверившись в своей догадке, Дежнев подал летом 1647 года челобитную об отпуске его в «новую землицу». Он брал на себя ответственность за экспедицию и обязывался доставить в государеву казну двести восемьдесят пять соболей. Если бы это не удалось ему, казна имела право взыскать с него стоимость обещанной пушнины. Такие случаи бывали, дело доходило даже до описи имущества у казака.
Вместе с Дежневым активное участие в подготовке экспедиции принимал и купец Федот Алексеев Попов-Холмогорец.
Летом 1647 года корабли ушли в плавание. Но «в тое поры был на море лед непроходимый», и кочи вернулись назад.
На следующий год Дежнев и Алексеев уговорились идти снова, но положение неожиданно осложнилось. На должность приказчика острога, который поставит экспедиция, претендовал теперь и Герасим Анкундинов – беспокойный, пронырливый человек.
Дежнева спасло то, что в плавании минувшего года, хотя само это плавание и оказалось неудачным, достаточно ярко проявились его организаторские способности, воля и смелость. Промышленники, составлявшие ядро будущей экспедиции, отстояли своего вожака.
12 июня 1647 года от пристани в Нижнеколымске отошло шесть кочей. Подул попутный ветер, наполняя паруса, весело побежали суденышки по студеному морю.
Чуть позже отплыл от пристани и седьмой коч.
Герасим Анкундинов все же пустился в плавание на свой страх и риск.
Шли, не останавливаясь, – и днем и ночью.
А и что ж не идти, если дул в паруса попутный ветер, если и ночью было светло и далеко видно вперед…
Ни Дежнев, радовавшийся удачному началу плавания, ни Анкундинов, все еще злившийся, что упустил инициативу, не знали, что совсем скоро неважными станут все эти заботы, которыми жили они в Нижнеколымске. Не ведали они, что перед лицом грозных опасностей примирятся они, но и это не спасет их.
И никто не знал, что только каждому десятому казаку удастся добраться до заветной Погычи, а девяти из каждого десятка суждено упокоиться или в морской пучине, или в глухих снегах.
Не знали, не могли знать этого отважные люди, устремившиеся в неведомое…
Не знали они, что такой страшной сказки еще никому дотоле не приходилось складывать. За каждое слово этой сказки предстояло платить своими жизнями.
8
Погода благоприятствовала плаванию.
В 1662 году, уже вернувшись в Якутск, Дежнев напишет свою сказку – челобитную на имя царя Алексея Михайловича:
«И я, холоп твой, с ними, торговыми и промышленными людьми шли морем, на шти кочах, девяносто человек; и прошед Анадырское устье, судом божиим те наши все кочи море разбило, и… людей от того морского разбою на море потонуло и на тундре от иноземцев побитых, а иные голодною смертью померли, итого всех изгибло 64 человека…»
Семен Дежнев. Скульптура Б. Бродского
Дорогою ценой покупались великие географические открытия в XVII веке…
Но смело шли в неведомую даль русские люди, и по вечерам над бескрайним морем, в котором затерялись их утлые суденышки, поднималась кроваво-красная луна. Жутковато было наблюдать, как зловеще меняются ее очертания. Луна то сплющивалась в овал, то становилась похожей на человеческий череп.
Михайло Стадухин, двинувшийся следующим летом вслед за Дежневым, видел горестные следы пути своего товарища, которого он и не числил уже в живых.
Невдалеке от корякских юрт штормом разбило два дежневских коча. Измученные моряки с трудом добрались до берега и сразу же вынуждены были вступить в бой с коряками. Лишь немногим из них удалось отбиться. Коряки показали Стадухину место, где пытались перезимовать уцелевшие мореплаватели.
На низком, покрытом галькою берегу темнел сруб.
Пригнувшись, Стадухин с трудом протиснулся внутрь. В полутемном, более похожем на землянку, чем на избу, помещении лежали мертвые люди. Лица их уже покрылись зеленой плесенью.
Коряки рассказали Стадухину и о «камне-утесе», который тянется по берегу так далеко, что никто из людей не знает конца этому камню. Стадухин подумал и приказал поворачивать кочи назад. Стадухин был практическим человеком, и для него, пусть и привычного к Заполярью морехода, риск дальнейшего плавания показался непомерно большим. Тем же летом Стадухин вернулся в Нижнеколымск.
А Дежнева не остановили первые неудачи.
Отважно продолжал он плавание, каждый день которого стоил казакам все новых и новых жертв. Через Берингов пролив прошло всего три судна. Два дежневских коча и один анкундиновский.
«Тот нос вышел в море гораздо далеко, – запишет многие годы спустя Дежнев. – А живут на нем чукчи добре много. А против того носу на островах живут люди, называют их зубатыми, потому что пронимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных. А лежит тот нос промеж сивер на полуношник, а с русскую сторону носа признана вышла речка, становье тут у чукоч делано, что башни из кости китовой, а нос поворачивает кругом, к Анадырь реке…»
Он писал это, не понимая, что впервые в истории ему удалось обогнуть северо-восточный выступ континента и пройти из Северного Ледовитого океана в Тихий, совершить подвиг, который многие десятилетия так никто и не сможет повторить.
Неприветливо встретил Тихий океан мореплавателей, рискнувших войти в него с северного хода.
Ураган обрушился на суденышки. Коч Анкундинова выбросило на скалистый берег, и Дежневу с трудом удалось спасти часть команды. Между тем ветер не стихал, и ночью последние два коча потеряли друг друга.
Судьба судна, которое вел Федот Алексеев, не установлена.
Недолго длилось плавание и самого Дежнева.
Ветром прибило судно к Олюторскому полуострову…
Мореплаватели проскочили обетованную Погычу – реку Анадырь и высадились уже на территории нынешней Камчатской области.
«Я, холоп твой, от тех товарищей своих остался всего двадцатью четырями человеки… А на Анадырь реку доволокся всего двенадцатью человеки».
Эти двенадцать человек и построили Анадырский острожек.
«А река Анадырь не лесна и соболей по ней мало… а иного черного лесу нет никакого, кроме березнику и осиника… от берегов лесу не широко, все тундра да камень… А государевых всяких дел писать не на чом, бумаги писчей нет… Милосердный государь, царь… пожалуй меня, холопа своего, за мое службишко к тебе, великому государю, и за подъемы, и за раны, и за кровь, и за морские разбои, и за всякое нужное терпение своим великого государя, хлебным и денежным жалованием за прошлые годы со 151 и по 170 год (с 1643 по 1662 год. – Н.К.) мой заслужной оклад сполна, чтобы мне, холопу твоему, в кабальных долгах на правеже убиту не быть и впредь бы твоей, великого государя, службы не отбыть и в конец не погибнуть! Царь, государь, смилуйся, пожалуй!»
Этим отчаянным: «Царь, государь, смилуйся, пожалуй!» – кончаются и другая, и третья, и четвертая челобитные Семена Дежнева.
Обычные, стандартные формулировки, принятые при обращении к царю… Но как сходно с отчаяннейшим вскриком звучат они в дежневских сказках!
Прошедший сквозь бесконечные пространства тайги и тундры, сквозь непроходимые льды северных морей и жестокие штормы Тихого океана, этот отважный землепроходец, искусный мореплаватель и воин, сотни раз заглядывавший в лицо смерти, – этот человек боится погибнуть под кнутами «на правеже»!
Больно сжимается сердце, когда читаешь «скаски» Дежнева.
И сейчас, многие столетия спустя, ощущаешь волнение, которое охватывало его, когда пытался он вложить в немудреные слова свой долгий и трудный путь.
Голос Дежнева сбивается, путаются эпизоды. Не закончив один, Дежнев начинает рассказывать другой, а потом снова возвращается к первому. Мучительно трудно было вместить в слова все, что довелось пережить…
Из посвиста стрел, из завываний вьюги, из шума моря складывались его сказки, как, впрочем, и сама русская речь.
Пройдут немногие годы, и младший устюжанин Владимир Атласов, заняв дежневскую должность приказчика Анадырского острога, предпримет свой поход на Камчатку.
Еще несколько десятилетий – и люди уже другой, Петровской эпохи попытаются повторить плавание Дежнева и не смогут сделать этого, но самому Дежневу не дано было осознать величие совершенного им подвига. Впрочем, не задумывались о значении своих подвигов и тысячи других землепроходцев, бесстрашно шедших когда-то впереди него.
Но пройдет столетие, и историк Миллер, участник Второй Камчатской экспедиции, отыщет в архивах Якутской приказной избы дежневские «скаски», и поразятся потомки величию и мужеству духа, явленного в судьбе простого казака…
И весть о стародавнем подвиге казака Дежнева поможет молодым офицерам молодого русского флота Семену Челюскину, Никифору Чекину, Дмитрию и Харитону Лаптевым, командовавшим северными отрядами экспедиции, совершить свои подвиги.
Дежнев не задумывался о грядущей славе, начиная свою службу приказчика в поставленном им самим Анадырском остроге.
И конечно, разглядывая 8 января 1654 года морозное солнце, уходящее за Анюйский хребет, не мог он знать, что там, на западном рубеже государства, начинается великий день: Переяславская рада принимает решение о воссоединении Украины с Россией.
Мертвые вершины Анюйского хребта отделяли его от родины, и оттуда ждал Дежнев подмоги, твердо веря, что и сюда, на край земли, придут русские люди…
9
В 1662 году Дежнев первый раз едет в Москву.
Знаменательно совпадение.
В этот же год возвращается в Москву из сибирской ссылки мятежный протопоп Аввакум. Шесть лет назад вместе с отрядом воеводы Афанасия Филипповича Пашкова его отправили в Даурскую землю, присоединенную к России походом Ерофея Хабарова. Самого Хабарова незадолго до этого, закованного в железо, увезли в Москву, где, впрочем, он был помилован и даже пожалован чином сына боярского.
Аввакум на год раньше Дежнева добрался до Москвы.
Дежнева задерживали, тщательно и придирчиво проверяя, цела ли казна, которую он вез в столицу. Только в 1665 году он приехал в Москву.
Приветливо встретили Дежнева в столице. Челобитные его были удовлетворены. За девятнадцать лет службы Дежнев сполна получил все свое жалованье: сто двадцать восемь рублей, один алтын, четыре деньги.
Сумма показалась дьякам Сибирского приказа настолько значительной, что они не решились выплатить ее без разрешения царя и боярского приговора. Царь Алексей Михайлович выплату разрешил.
Треть суммы Дежнев получил деньгами, а две трети – сукном.
24 января он стал обладателем семидесяти метров сукна и тридцати восьми рублей денег. Получалось, что в год он зарабатывал по два рубля да по три с половиной метра сукна. Не слишком-то дорого обошлось казне приобретение «восточного угла» державы. Особенно если вспомнить, что стоимость моржовой кости, собранной Дежневым на Анадыре и привезенной им в Москву, была оценена в семнадцать тысяч рублей.
Еще поверстали Семена Ивановича Дежнева за двадцатипятилетнюю службу, «за кровь, за раны, за ясачную прибыль» в чин казачьего атамана.
И еще раз ездил в Москву Семен Иванович…
Бушевала тогда на юге страны крестьянская война Степана Разина. Дежнев плыл по сибирским рекам, а в это время по Волге поднимались войска Степана Разина, и колокольным звоном, хлебом и солью встречали повстанцев Саратов и Самара…
Когда с немалым – он вез соболиную казну – бережением перевалил Дежнев через Камень, повстанцев уже разгромили, и в июне 1671 года казнили в Москве Степана Разина.
Жестоко расправились и с другими участниками восстания.
Плыли, покачиваясь на речной воде, плоты с виселицами. Черными стаями кружилось над плотами воронье.
Горькой и, может быть, самой трудной была эта последняя дорога якутского казака Семена Дежнева.
В конце 1671 года Дежнев сдал в Сибирский приказ «соболиную» казну и сразу заболел.
Здесь, в Москве, он и умер.
Было ему около шестидесяти лет…
Богдан Хмельницкий, протопоп Аввакум, Степан Разин, Семен Дежнев…
Казалось бы, и нет в этих судьбах ничего общего, кроме того, что жили эти люди в одно время, кроме того, что все они поднимались из самой глубины народной жизни, поднимались, чтобы навеки остаться в истории государства.
Различны и устремления их, и цели, достижению которых отдали они свои жизни.
Человек, воссоединивший Украину с Россией, и один из крупнейших деятелей раскола… Казачий атаман, потрясший с неведомой доселе силой основы государства, и землепроходец, вышедший на северо-восточный рубеж державы…
Эти люди столь различны по своим убеждениям и деяниям, что просто не соединяются в сознании. Но вместе с тем каждый из них – живое свидетельство неисчерпаемости сил народа.
XVII век вообще характерен взлетом национального самосознания. Начало его озарено подвигом Нижегородского ополчения под предводительством гражданина Минина и князя Пожарского, середина – борьбою Богдана Хмельницкого, склон этого века оглашен плачем гениального Аввакума.
Его голосом, его словами, донесшимися из горящего скита, плакала вся уходящая Русь, та Русь, что должна была погибнуть во имя новой, рождающейся в огне и крови России.
Подъемом национального самосознания объясняются и подвиги землепроходцев. Трудно выделить наиболее значительные. Трудно назвать наиболее достойные имена.
Каждый совершал свой подвиг, и каждый подвиг был необходим, становился звеном в цепи тех событий, что слились в единый общенациональный подвиг, выведший Россию на берега океана.
Книга вторая Тишайшая национальная катастрофа (власть)
Могут ли русские сказать после этого слово, чтобы защищать или оправдывать узурпацию, которая совершена в их стране? Их собственная Церковь замкнула свои уста. Но, может, правительство русское захочет пойти назад? Увы, нет! Правительства, раз совершившие апостасию, нелегко идут обратно; они идут к разрушению.
Уильям ПальмерГлава первая Урядник сокольничего пути
День был переполнен солнцем и высоким небом, в бесконечную глубину которого медленными кругами уходила соколиная охота. Вот в малую точку превратилась птица, застыла там на недосягаемой вышине. И казалось, напрягается, будто тетива, небесная синь, дрожит, и вот стрелою, пущенною с неба, устремился кречет на добычу, ударился сверху, но добивать не стал, снова пошел ввысь, натягивая небесную тетиву, застыл и снова – стрелою вниз.
Вот она, красная соколиная охота царская!
Утки падали сразу, сраженные страшными ударами, а с лебедями и гусями завязывались у соколов отчаянные единоборства. Не давая соколу ударить сверху, уходили птицы в высоту, исчезали из глаз охотников. Но стремительней их ввинчивался в небесную высь сокол и снова зависал над жертвой, как стрела в натянутой тетиве небесного лука, падал на птицу, неся неминучую смерть. С бессильно обвисшими крыльями валился из поднебесья лебедь, а сокол, перегнав задержавшуюся в небе добычу, опускался на рукавицу сокольничего, марая ее стекающей с когтей лебединой кровью, и замирал так, глядя на падающего к ногам царского коня лебедя. Круглые глаза были у сокола, неподвижно-черные.
Утешала эта полевая потеха душу государя. Веселила его сердце сия птичья добыча, высокий соколиный лет. И, возвращаясь во дворец, глядя на сияющие в лучах вечернего солнца купола московских церквей, ощущал государь соколиную легкость и силу в своем теле.
Молод и уверен в себе был Алексей Михайлович – первый из Дома Романовых царем родившийся государь. Великие дела предстояло совершить ему, и любовью и радостью была переполнена душа…
1
Соколиная охота – это не просто развлечение молодого царя Алексея Михайловича, это образ его мысли, его мироощущения…
«Государь, царь и великий князь, Алексей Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал быть новому сему образцу и чину для чести и повышения его государевы красныя и славныя птичьи охоты, сокольничья чину. И по его государеву указу никакой бы вещи без благочиния и без устроения уряженого и удивительного не было, и чтоб всякой вещи честь, и чин, и образец писанием предложен был. Потому, хотя мала вещь, а будет по чину честна, мерна, стройна, благочинна – никто же зазрит, никто же похулит, всякой похвалит, всякой прославит и удивится, что и малой вещи честь, и чин, и образец положен по мере. А честь и чин и образец всякой вещи большой и малой учинен потому: честь укрепляет и возвышает ум, чин управляет и утверждает крепость. Урядство же уставляет и объявляет красоту и удивление, стройство же предлагает дело. Без чести же малится и не славится ум без чину же всякая вещь не утвердится и не укрепится, бесстройство же теряет, дело и воставляет безделье. Всякий же, читателю, почитай, и разумевай, и узнавай, а нас слагателя похваляй, а не осуждай».
Это наставление взято нами из «Книги, глаголемой урядник, новое уложение и устроение чину Сокольничьего пути», составленной при непосредственном участии самого Алексея Михайловича.
«Что всякой вещи потреба? – рассуждает государь. – Мерение, подобие образцу, составление, укрепление; потом в ней или около ее благочиние, устроение, уряжение. Всякая же вещъ без добрыя меры и иных вышеписаных вещей бездельна суть и не может составиться и укрепиться. Паче же почитайте сию книгу, красныя и славныя птичьи охоты, прилежныя и премудрыя охотники, да многие вещи добрые и разумныя узрите и разумеете. Аще с разумом прочтете, найдете всякого утешного добра; аще же ни, наследите всякого неутешного зла». И разве только об устройстве соколиной охоты мысли юного царя?
Мерение, подобие образцу, составление, укрепление – это программа его государственной деятельности, это то, в чем более всего нуждалась его, составляемая из молитв и сказок держава…
2
Если непредвзято посмотреть на жизнь Руси в XVI–XVII веках, мы обнаружим, что наряду с государственным строительством, ратными заботами, производительным трудом, как самостоятельная – организующая и все определяющая – сила присутствует в этой жизни и святость.
Святость на Руси была тогда явлением обычным.
Святого можно было встретить на русских дорогах, на улицах русских городов. Святые совершали молитвенные подвиги и юродствовали, обличая и сильных мира сего, если отступали они от православной морали. Святые возводили монастыри и писали книги, формируя, как сказали бы сейчас, национальную доктрину России…
Мысль Аристотеля, что первое дело государства есть забота о религии, реализовывалась в русской общественной мысли XVII века не на уровне осознания полезности Церкви, а на уровне невозможности иного, неправославного устроения Руси.
Святые были тогда везде, святость пронизывала и организовывала русскую жизнь, помогая преодолевать самые немыслимые трудности, освещая жизнь, какой бы беспросветной она ни казалась. Святые приходили на помощь в самых различных обстоятельствах жизни, без участия святых и не мыслилась эта жизнь.
Из этой Святой Руси произрастал и царь Алексей Михайлович.
Уже само его рождение связано с молитвами святого…
Семейная жизнь отца Алексея Михайловича, царя Михаила Федоровича, вследствие интриг Салтыковых, о которых мы рассказывали, оказалась не очень-то счастливой. Первый брак с Марией Владимировной Долгорукой длился всего несколько месяцев. Второй раз Михаил Федорович женился только на двадцать девятом году, и от этого брака с Евдокией Лукьяновной Стрешневой поначалу рождались дочери, пока не призван был в Москву святой Елеазар Анзерский помолиться о даровании наследника. И до тех пор не отпускали святого Елеазара из Москвы, пока и не родился Алексей Михайлович…
Царь Алексей Михайлович. Портрет из «Титулярника». 1672 г.
Произошло это долгожданное событие в 1629 году.
Всея Руси самодержец родился, когда еще не оправилась толком после Смуты страна, когда молодой династии Романовых не исполнилось и шестнадцати лет.
Шестнадцать лет было и самому Алексею Михайловичу, когда во время молитвы умер его отец, и Земский собор избрал Алексея Михайловича на престол.
Рожденный по молитвам святого, под присмотром святых и находился этот русский царь.
Однажды на охоте в звенигородском лесу насел на государя медведь. Тогда Алексей Михайлович и с жизнью уже прощался, ибо, думая вытащить нож, только пустые ножны ухватил.
Слава Богу, святой Савва Сторожевский явился.
Уложил топором зверя…
Тогда Алексей Михайлович не понял, кто его спаситель. Исчез тот, пока выбирался государь из-под мертвого зверя.
И только 19 января 1652 года, когда обретены были мощи преподобного Саввы Сторожевского, почившего больше двух веков назад, сыскалась разгадка.
Только взглянул Алексей Михайлович на образ святого и сразу признал своего спасителя. Это же святой Савва в лесу к нему на помощь являлся!
И ведь все, все Господь вымоленному святым Елеазаром Анзерским царю дал. И здоровье, и силу, и сердце доброе, и разум, знающий меру всякому удовольствию.
Уже в молодые годы понимал Алексей Михайлович, что «всякая вещь без меры бездельна суть и не может составиться и укрепиться…».
Вот бы и утешать свое сердце соколиною потехой, забавляться веселием радостным, выезжая в поле нелениво и бесскучно, чтобы не забывали соколы премудрую и красную свою добычу!
3
В шестнадцать лет державою ли править?
В Боярской ли думе председательствовать, внимая скучным речам? В бумагах ли пыльных копаться, когда молодое тело на вольный простор тянется?
И винить ли себя молодому государю, что легко и доверчиво переложил он все многотрудные обязанности царские на плечи дядьки своего, Бориса Ивановича Морозова?
Все как бы само собою совершалось.
Держава росла, прибывая великими соболиными реками…
Иконы чудотворные являлись повсюду…
Заводы строились…
Армия крепла – как раз в 1647 году, когда женился государь на Марии Ильиничне Милославской, новый Устав ввели в армии – «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей».
Ну а главное – на глазах слабел страшный враг России – Польша!
Весною 1648 года началось восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, и уже 16 мая в урочище Горохова Дуброва близ Корсуня повстанцы разгромили польско-шляхетскую армию коронного гетмана Николая Потоцкого и польного гетмана Мартына Калиновского.
И семейная жизнь, хоть и началась она вроде как у отца с отставки невесты, упавшей в обморок на смотринах, складывалась удачно, потому как любимый наставник Борис Иванович Морозов другую невесту подыскал – Марию Ильиничну Милославскую. А себе в жены ее сестру взял.
И вот, когда так хорошо, так складно все устраивалось, когда первые месяцы только и потешился с молодой женой восемнадцатилетний царь, государевы заботы крепкою мужицкой рукою схватили под уздцы его коня, требуя выдать на расправу ближних слуг!
И выдал их царь Алексей Михайлович.
И судью Земского приказа Леонтия Плещеева, и думного дьяка Назария Чистого, и окольничего Петра Траханиотова. Только свояка Бориса Ивановича Морозова и удалось отстоять, да и то, спрятав в Кириллове монастыре.
И произошло это первое в правление Романовых восстание как раз в тот год, когда совершил свое знаменитое плавание Семен Дежнев, в тот год, когда совершил Ерофей Хабаров свой поход в Приамурье.
4
Все понимал Алексей Михайлович.
Понимал, что подвел, подвел его любимый наставник.
Как с цепи сорвался – такая обуяла жадность. Соляным налогом всю страну обложил. Да так обложил, что и вздохнуть нельзя стало.
Удалить его от дел на время пришлось.
И хотя и не лежало молодое сердце к скучному бумажному делу, а пришлось воедино свести законы, чтобы больше плещеевских беззаконий не случалось в Московском государстве, чтобы каждый подданный от последнего стрельца до ближайшего боярина меру своей власти знал.
Э.Э. Лисснер. Восстание у стен Кремля 3 июля 1648 г.
Уже 16 июля 1648 года, сразу после пожара, в огне которого и Петровка, и Дмитровка, и Тверская, и Никитская, и Арбат начисто выгорели, советовался молодой государь с патриархом Иосифом, со всем Священным Собором, с боярами, окольничими и думными дьяками, чтобы прежние великих государей указы и боярские приговоры на всякие государственные и земские дела вместе собрать и, сообразуясь с правилами Святых апостолов и Святых Отцов, а также с законами греческих царей, свести воедино в Соборное уложение, дабы Московского государства всяких чинов людям, от большого до самого малого, суд и расправа во всяких делах одинаковы были… Под присмотром князя Никиты Ивановича Одоевского составили Уложения и утвердили на Соборе 1649 года. А в ноябре того же года пришло в Москву посольство от Богдана Хмельницкого, начались переговоры о воссоединении Украины с Россией.
Трудно Алексею Михайловичу в царскую лямку впрягаться было, но и всей стране нелегко приходилось.
Шумели восстаниями Новгород и Псков, изнемогали в неравной борьбе с польскими панами единокровные православные на Украине – вторая война Богдана Хмельницкого в 1651 году началась. Зимними вечерами любил молодой государь слушать сказки, которые верховые нищие, в царском дворце жившие, рассказывали. О Польше странники Божии тоже немало говорили. Рассказывали, будто в Варшаве на кладбище, где преступников казнят, у одного покойника полилась кровь из уха, а другой мертвец высунул из могилы руку, пророча большие беды для Польши.
В феврале 1651 года снова Земский собор собирали, думали, как с Польшей быть, начинать войну или погодить, решили ждать, еще маленько сил подкопить, пищалей побольше да пороха в Голландии закупить.
С Варшавой, однако, смелее говорить стали, потребовали у польского короля, чтобы всех, кто неправильно титул российского государя пишет и пропуски в нем допускает, покарал лютой смертью. Титул у Алексея Михайловича длинный был, на одном листе целиком не уместится – небось и в Москве не каждый грамотей мог его правильно написать, но от польского короля строго потребовали, чтоб без ошибок писали. Через два года, 1 октября 1653 года, Земский собор, принимая решение о войне с Польшей, вспомнит о пропусках. Эти пропуски в титуле и объявят причиной войны.
«Мы, великий государь, – объявил тогда в Успенском соборе Алексей Михайлович, – положа упование на Бога и на Пресвятую Богородицу и на московских чудотворцев, посоветовавшись с отцом своим, с великим государем, святейшим Никоном патриархом, со всем освященным собором и с вами, боярами, окольничими и думными людьми, приговорили и изволили идти на недруга своего польского короля».
5
Сколько великих князей, сколько царей русских ждали этого дня?
Четыре столетия назад заполыхала в огне татарского нашествия древняя Киевская Русь… И сколько еще было нашествий, междоусобиц и смут на Руси – сосчитать невозможно! В огне пожарищ, среди дымящейся крови, текущей по российским полям, кто вспоминал, кто думал о древней матери русских городов – Киеве?
Оказывается, помнили!
Оказывается, жила четыре столетия подряд эта боль в русских людях – и в князьях, и в простых пахарях.
И вот пришел великий день. Несколько лет шли переговоры, несколько лет думали полковники и есаулы Богдана Хмельницкого, несколько лет думали бояре и дьяки в Москве, и наконец, решилось – 8 января 1654 года с раннего утра забили барабаны в Переяславле, собирая народ на великий круг на рыночную площадь.
И вошел в круг широкоплечий Богдан Хмельницкий, а с ним судьи, есаулы, писарь и все полковники казацкие, и, дождавшись, когда наступит тишина, начал читать гетман: «Паны полковники, есаулы, сотники, все Войско Запорожское и все православные христиане! Ведомо вам всем, как Бог освободил нас из рук врагов, гонящих церковь Божию и озлобляющих все христианство нашего восточного православия. Вот уже шесть лет живем мы без государя, в беспрестанных бранях и кровопролитиях с гонителями и врагами нашими, хотящими искоренить церковь Божию, дабы имя русское не помянулось в земле нашей. Это уже очень нам всем наскучило, и видим, что нельзя нам больше жить без царя. Для этого собрали мы Раду, явную всему народу, чтобы вы с нами выбрали себе государя из четырех, кого хотите.
Первый – царь турецкий, который много раз через послов своих призывал нас под свою власть…
Второй – хан крымский.
Третий – король польский, который, если захотим, и теперь нас еще в прежнюю ласку принять может…
Четвертый есть православный Великой России государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец восточный, которого мы уже шесть лет беспрестанными моленьями нашими себе просим. Того, которого хотите, выбирайте!
Царь турецкий – басурман. Всем вам известно, как братья наши, православные христиане, греки, беду терпят и в каком живут от безбожных утеснении. Крымский хан – тоже басурман, которого мы, по нужде в дружбу принявши, нестерпимые беды испытали! Об утеснениях от польских панов нечего и говорить: сами знаете, что жида и пса лучше, нежели брата нашего, паны почитали. А православный христианский великий государь, царь восточный, единого с нами благочестия, греческого закона, единого исповедания – едино мы тело церковное с православием Великой России, главу имея Иисуса Христа.
Этот великий государь, царь христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением Православной Церкви в нашей Малой России, шестилетних наших молений беспрестанных не презревши, теперь милостивое свое сердце к нам склонивши, своих великих людей к нам с царскою милостию своею прислать изволил…»
Заканчивая свою речь, обвел гетман своими черными, чуть раскосыми глазами собравшихся. Великое множество людей слушало его. Не только рыночная площадь была народом забита, но и ближние улицы. Везде, куда ни взгляни, народ. От толпищи снега не видно белого, словно и зимы не стало.
И сказал, возвышая голос, Богдан Хмельницкий:
– Если же кто с нами не согласен, то куда хочешь иди – вольная дорога!
Мгновение, другое длилось молчание. Черная разлилась тишина. Щипал уши морозец. И вот, словно белым облаком, окуталась в едином выходе человечья масса…
– Волим под царя восточного, православного! Лучше в своей вере умереть, нежели ненавистникам Христовым достаться!
Отлетело в высоту облако белое. Истаяло в голубизне неба. И тихо стало. Так тихо, что слышно было, как скрипит снег под ногами переяславского полковника Тетери, идущего по кругу.
– Все ли так соизволяете? – спрашивал он.
– Все! Единодушно! – кричали в ответ.
И снова, сбив иней с усов, заговорил гетман Богдан Хмельницкий.
– Будь так! – сказал. – Да укрепит нас Господь Бог под крепкой рукою царскою!
И перекрестился.
И снова взмыло над толпой белое облако дыхания:
– Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб вовеки едины мы были!
6
В тот же день в Успенской церкви, чтобы с землями и городами под высокой рукой государевой неотступно навеки быть, присягнули гетман и старшина.
На следующий день присягали сотники, есаулы, писари, казаки и мещане.
Присягали в Переяславле, присягали в Киеве. Вся Украина присягала великому государю Алексею Михайловичу – одно только духовенство украинское, православное, долго не желало принести присягу…
Цветастые речи произносил, обращаясь к царскому послу Василию Васильевичу Бутурлину, киевский митрополит Сильвестр Коссов.
Дескать, целует вас в лице моем благочестивый Владимир, великий святой русский; целует вас святой апостол Андрей Первозванный, провозвестивый, что просияет здесь слава Божия; целуют преподобные Антоний и Феодосии Печерские и все преподобные, лета и живот свой о Христе в сих пещерах изнурявшие…
Никого из праведников Божиих, в Киевской Руси просиявших, не позабыл митрополит, от всех расцеловал царского посла, но о присяге говорить не захотел.
– Неужто, боярин, сам гетман государю присягнул? – дивился он. – Неужто все Войско Запорожское присягу принесло?! Слава Богу, коли так. Молиться буду за государево многолетие, за здоровье царицы и благоверных царевен. Храни, Господи, всю семью государеву.
– Надо бы, владыко, и Софийскому дому присягу принести! – настойчиво повторил Бутурлин.
– Пошто? – удивился Сильвестр Коссов. – Шляхта, слуги и дворовые люди у меня по найму работают. Не годится мне к присяге их посылать. И духовенству, боярин, тоже погодить надо с присягой. Что на сейме скажут, коли присягнем?
Странно было Василию Васильевичу Бутурлину такие речи слушать.
Хмельницкий присягнул, войско, народ… Одни только пастыри Православной Церкви, ради освобождения которой и затеивалась война, медлили.
Осторожно подбирая слова, прямо сказал это Василий Васильевич. Дескать, как государю-то всея Великой Руси доложить об этом?
Опустил глаза митрополит Сильвестр Коссов.
Сам он еще не разобрался, почему не лежит у него сердце к затеянному Богданом Хмельницким делу. Сам себе не мог признаться Сильвестр, что у него, православного душою, болит сердце урожденного шляхтича о польском государстве. Польша и на дух православия не переносила, но родной была!
Не мог сказать об этом Сильвестр Бутурлину. Не мог и признаться, что он сам пуще басурман России опасается.
– Погоди писать, боярин, – сказал вслух. – Сам понимаешь, что многие церкви наши остались на землях, которые сейчас под властью короны находятся. Что с теми священниками будет, если мы присягу принесем? Дай подумать.
Несколько дней ждал Бутурлин ответа. Так и не дождался. Тогда сам начал искать встречи. Но уклонился от встречи Сильвестр.
Доносили Бутурлину, что зашевелились иезуиты киевские. Недоумевал Бутурлин: чего еще митрополит затеял?
Впрочем, тогда недосуг было думать об этом, пора было выступать в поход на войну…
7
Не враз начинаются большие дела, а уж коли начались, если и захочешь – не остановишь!
Вскоре после Переяславской рады двинулись войска.
27 февраля послали в Вязьму боярина Долматова-Карпова.
26 марта ушел в Брянск князь Алексей Никитич Трубецкой.
Гибелью всей армии завершился такой поход на Смоленск при отце Алексея Михайловича – царе Михаиле. Какой исход у нынешней войны будет? Даст Бог победу или снова побитыми сидеть, раны зализывая?
Победа силу стране дает, а поражение – слабость. Можно и новую армию потом собрать, а слабость все равно останется. Растечется по всем городам и весям, не дай Бог, снова породит смуту…
Торжественно провожали войска.
С поднятыми знаменами, сверкая оружием на морозном солнце, под бой барабанов шли через Кремль полки. Мимо дворца шли, под переходы в Чудов монастырь, на которых сидели царь и патриарх. Святой водой кропил патриарх Никон проходящих ратников.
Великая сила собиралась в поход. Шли дворяне и дети боярские, потребованные к службе. Гарцевали на конях казаки, шли регулярные стрелецкие полки, шла регулярная – рейтары и драгуны – конница.
Когда же 15 мая выступил в поход по Смоленской дороге и сам государь с войском, сразу опустела Москва…
Византийским орлом, расправившим могучие крылья, воспарила в поднебесье истории держава Алексея Михайловича.
Еще когда двигалось царское войско к Смоленску, получено было известие о взятии Дорогобужа.
11 июня 1654 года взяли Невель.
14 июня – Белую.
29 июня – Полоцк.
20 июля – Мстиславль.
24 июля – Дисну и Друю.
2 августа – Оршу.
9 августа – Глубокое.
20 августа – Озерище и Гомель.
24 августа – Могилев.
29 августа – Чечерск, Новый Быхов и Пропойск.
1 сентября – Усвяты.
4 сентября – Шклов…
А 23 сентября 1654 года взят был и Смоленск, город, за который всю жизнь бился отец Алексея Михайловича – царь Михаил Федорович.
Стоял ясный, холодный день.
Ночной заморозок подсушил дорогу, по которой выходили из города сдавшиеся литовские воеводы. Проходя мимо государя всея Руси, они складывали перед ним свои древние, кичливые знамена.
Высоким было небо.
Далеко курлыкали вверху, выстраиваясь в клин, журавли. Догорали в осеннем пожаре леса. Конь под Алексеем Михайловичем переступал с ноги на ногу, готовый сорваться, лететь вперед к новым победам.
Все сомнения первых недель войны остались позади. Повеселели воеводы и ратники, почувствовав силу, которую дает победа. И еще появилась уверенность, что старинные русские города берутся теперь Россией навсегда…
8
В конце октября Алексей Михайлович выехал из Смоленска в Вязьму. Здесь он остановился.
Дальше дороги ему не было.
Дальше царствовала сейчас на Руси черная смерть…
Страшную картину царевы посланцы на Москве увидели.
В Успенском соборе один священник остался да один дьякон, в Благовещенском – один священник только, а в Архангельском – и вообще никого…
Царский дворец стоял снегом засыпанный, едва и пробрели посланцы по двору. Дворовых всего пятнадцать человек уцелело. В Чудовом монастыре сто восемьдесят два монаха померло, в Воскресенском – девяносто монахинь… У Бориса Ивановича Морозова на дворе триста сорок три человека умерло, у Алексея Никитича Трубецкого – двести семьдесят, у Якова Куденетовича Черкасского – четыреста двадцать три, у Никиты Ивановича Романова – триста пятьдесят два. А у Стрешнева из всей дворни один мальчик остался. То же в черных сотнях и слободах было. Из каждых десяти человек где один, где два в живых остались.
Подобные моровые поветрия не редкость для того времени.
И на Руси бушевали эпидемии, опустошая деревни, села и города, и в других странах…
Но сейчас подобно злобной дьявольской усмешке было это стечение обстоятельств. Отвоевав многие города, лишился государь своей столицы.
Темнело в глазах от гнева, сжимались в ярости кулаки.
До января жил государь в Вязьме… Сжимались от ярости кулаки, когда слушал Алексей Михайлович разговоры патриарха Никона о затеянной им церковной реформе.
Никон свое твердил.
Дескать, переустройство церковное скорее надо вести, быстрее надо искоренить новшества, невежеством русским порожденные. Если привели бы обряды в соответствие с Греческой Церковью, может, и не упирался бы тогда киевский митрополит Сильвестр. Кому же хочется от истинной веры в блудню невежества уходить?
– Я, государь, разыскал тут саккос митрополита Фотия… – рассказывал Никон. – Символ веры там вышит… И что же, государь? Грамотеи наши даже его толком перевести не сумели. Слово «Господь» у древних греков было и существительным, и прилагательным. Но всякий раз отдельно употреблялось. А наши грамотеи его два раза перевели. Вот и получилось, что вместо «Духа Святаго, Господа Животворящаго» мы говорим с тех пор: «В Духа Святаго Господа Истиннаго, Животворящаго»… Нешто Господь не истинным может быть?
Не все сумел повторить Никон, что ему нанятые справщики толковали, путался патриарх в тонкостях грамматики. Когда забывал что, для убедительности посохом своим с яблоками об пол постукивал. Тогда панагии на груди патриарха покачивались, сверкали диаманты.
Но государь слушал рассеянно. Кивал речам патриарха, сам о другом думал.
У его отца, царя Михаила Федоровича, советчиком отец патриарх Филарет был.
У него, сироты, только друзья в советчиках. Борис Морозов подсказывал, пока не обожгло его Соляным бунтом…
Теперь вот Никон, «друг собинный»…
Для этого и патриархом его сделал, для этого и нарек, как царь Михаил Филарета, титулом великого государя.
Что из того, что Филарет Михаилу родным отцом был. Алексею Михайловичу Никон вроде духовного брата приходится.
Святой Елеазар Анзерский его, Алексея Михайловича, вымолил у Бога, а Никона святой Елеазар в своем скиту на Анзерском острове в монашество постригал…
Патриарх Никон. Гравюра XIX в.
9
1655–1658 годы – переломные не только в правлении царя Алексея Михайловича, но и всей России…
Это годы последних крупных военных успехов царя Алексея Михайловича.
В 1655 году, когда шведский король Карл Х начал войну с Польшей и взял Варшаву, а затем и Краков, Алексею Михайловичу удалось овладеть Минском, Вильно, Ковно, Гродно, Люблином.
К сожалению, начавшаяся сразу после сокрушения Польши война со Швецией протекала менее успешно. В 1656 году взяли Дерпт и множество других городов, но Ригу, осаду которой вели долго и трудно, взять так и не удалось…
Неудачей обернулась и попытка введения медной монеты с принудительным курсом. Медный бунт заставил отказаться от столь заманчивой финансовой реформы. Из-за полного истощения казны пришлось прекратить и такую заманчивую войну со Швецией…
Смерть Богдана Хмельницкого в 1657 году едва не привела к потере всей Украины, и только неимоверными усилиями удалось удержать левобережье Днепра и Киев.
Забегая вперед, скажем, что царю Алексею Михайловичу после столь блистательно проведенной кампании 1654–1655 годов в результате пришлось заключить в 1661 году Кардисский мир со Швецией, чтобы ценою уступок всех приобретений в Прибалтике купить обязательство шведов не поддерживать Польшу. И только потом уже, в 1667 году, удалось заключить Андрусовское перемирие с Польшей на тринадцать с половиной лет. Правобережье Днепра осталось под властью Польши. Левобережье перешло к России. Россия удержала Смоленск и Киев…
И то слава Богу!
Перелом в войне в эти годы произошел явный.
Случайно (или не случайно?), но этот перелом совпал с трагедией Русской Церкви – церковным расколом, который вызвали проведенные патриархом Никоном в 1654–1656 годах Церковные Соборы.
И как тут не припомнить еще об одном, вроде и не значительном для истории государства событии – кончине в 1656 году преподобного Елеазара Анзерского, молитвам которого и обязан был Алексей Михайлович своим рождением.
Только под осажденной Ригой и пришла к Алексею Михайловичу запоздавшая на полгода весть о кончине святого Елеазара.
Еще узнал тогда Алексей Михайлович, что, оказывается, его «собинного друга» Никона прогнал святой Елеазар со своего острова, когда тот постриг принял…
– Уйди, говорил, Никон Христа ради. Видеть тебя не могу! – рассказывали Алексею Михайловичу.
Задумался царь Алексей Михайлович.
Неизвестно, поверил ли он наговорам, но отношения его с «собинным другом» с той поры начали портиться, пока в 1658 году не произошел окончательный разрыв.
Впрочем, что ж…
У Алексея Михайловича все было расписано, все определено…
«И будет по сему нашему государеву указу вся сия исправиши с радостию, и ты от нас, великого государя, наипаче пожалован будеши, – писал он в составленном им “Уряднике Сокольничьего пути”. – А будет учнешь быть не охоч и нерадетелен и во всяком нашем государеве деле непослушлив, ленив, пьян, дурен, безобразен и к подсокольничему и к своей братье, к начальным сокольникам непокорен, злословен, злоязычен, клеветлив, нанослив, переговорьчив и всякого дурна исполнен – и тебе не токмо связану быть путы железными или потписану за третью вину, безо всякие милостивые пощады быть сослану на Лену. И буде хочешь добра найти или зла, смотри на рукавицу, и там всякого явного добра и зла насмотрися, и радоватися начнешь, и усумневатися станешь. И тебе бы, видя нашу государеву милость к себе, нам великому государю работать безо всякого збойства и лукавства, а милость наша государева с тобою да умножитца.
А как верховой подъячей писмо прочтет, и новопожалованной начальной, выслушав речи, поклонитца государю до земли, и верховой подъячей соколенного пути, Василей Ботвиньев, поднесет новопожалованному Урядник – почему ему государю речь говорить. И новопожалованный 5-й начальный, Иван Гаврилов, сын Ярышкин, учнет противу той речи государю свою речь говорит: “Готов тебе, великому государю, служить верою и правдою, и обещаюся во всякой правде постоянну и однослову быть и тебя, великого государя, тешить, ездить, радеть и ходить со тщанием за твоею государевою охотою до кончины живота своего, кроме всякие хитрости. И исправя речь, государю поклоняетца дважды до земли”.
А как челом ударит новопожалованный начальный государю, после речи своей по чину, и подьячей верховой, Василей Ботвиньев, то писмо, свертев на нем, положит в бархат и застегнет и, застегнув то писмо, станет подьячей на прежнем своем месте. А потсокольничей докладывает паки государя о совершении дела и молыт: “Врели горь сотьло?” И государь молыт: “Сшай дар”…»
Полоцкий монах Симеон писал в своих виршах про Алексея Михайловича:
Витаем ти православный парю праведное солнце, Здавна бо век прогнули тебе души наши и сердце. Витаем ти царю от востока к нам пришедшаго, Белорусский же от нужды народ весь свобождшаго. Радуйся церкви наша святая и восточная, Яже испущает словеса, всем медоточная. Ибо ты первое духом святым начася здати, Предь Алексея Михайловича днесь расширяти. Не бойся земли российская и не устрашайся, Дедич с востока пришел ему низко поклоняйся.Алексею Михайловичу вирши понравились. Велел он Симеону в Москву ехать.
В Москве ему нужны были такие умные иноки.
Святых своих хватало, а вот язык латинский мало кто знал…
Глава вторая Раскол
Вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» считаются сугубо русскими, ибо только у нас задают их с такой настойчивой требовательностью немедленного ответа…
И только в России если и получают ответ, то обязательно губительный и для тех, кто дает его, и для тех, кто его получает.
Впрочем, иначе и быть не могло.
Само по себе выяснение виновности и поиск выхода бессмыслен, пока не найден ответ на вопрос: что случилось, что все-таки произошло с нашей страной, из-за чего год за годом, поколение за поколением продолжают у нас задавать эти русские вопросы и не могут найти ответы на них…
1
Что произошло в начале второй половины XVII века в России, трудно понять и сейчас.
Ничтожны были причины событий, вошедших в историю под названием церковного раскола и приведших страну едва ли не к самой грандиозной национальной катастрофе.
Как мы знаем, наиболее яростные споры развернулись тогда вокруг сложения пальцев при крестном знамении, которое никакого догматического значения не имело и, следовательно, не могло служить поводом для церковных проклятий.
Триста лет спустя эту простую и очевидную мысль подтвердит Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года, признавший старые русские обряды «равночестными» новым обрядам, а заодно отвергнувший и вменивший, «яко не бывшие», нарицательные выражения, относящиеся к старым обрядам, и в особенности к двуперстию…
Что же произошло тогда, отчего помутилось сознание участников тех событий до такой степени, что одни были готовы сжигать других, а эти другие с ликованием и радостью всходили на разложенные костры?
Митрополит Макарий говорит, что катализатором спешного проведения исправлений в церковных книгах стало известие Арсения Суханова о событиях, случившихся на Афоне. Якобы там монахи всех греческих монастырей, собравшись воедино, соборно признали двуперстие ересью, сожгли московские книги, в которых напечатано о нем, как книги еретические, и хотели сжечь самого старца, у которого нашли те книги.
«Все это еще более должно было встревожить царя и церковные власти в Москве и показать им, до чего могут довести те обрядовые разности, которые находили у нас греки и прямо называли новшествами»… – сказано в «Истории Русской Церкви».
Отметим, что известие Арсения Суханова смело можно отнести к жанру православной фантастики, поскольку никакого подтверждения в XVII веке оно не получило, не удалось сыскать подтверждение ему и столетия спустя.
Учитывая то доверие, которым пользовался Арсений Суханов у патриарха Никона, можно предположить, что, передавая этот слух, он если и не исполнял заказ своего патрона, то, по крайней мере, отвечал на ожидание его.
Как бы то ни было, но признание ересью того или иного сложения пальцев само по себе свидетельствует только об убогости духовного опыта самочинных судей, и поэтому к осуждению – если это осуждение имело место! – надобно было отнестись с мудрым безразличием.
«Телесное делание, внешняя молитва есть не более как лист… – было сказано в “Уставе скитском” Нила Сорского, – внутреннее же, умная молитва, есть плод…»
В середине XVII века эти слова великого русского святого невозможно было спрятать в книгохранилище, они гуляли по русским монастырям, по всей православной Руси.
«Во ино ж время мало приимшу мне сна лежаще на ложи моем, имуще во устах молитву, и обретохся на некоем месте при горе, недалече от церкви к восточной стороне с полпоприща, – рассказывал преподобный Елеазар Анзерский в своих записках об основании Троицкого скита на Анзерском острове. – И видех умныма очима чудное видение: седяще на престоле Господа Бога ветхи денми, яко же описуют иконописцы, с ним же видяще на престоле Сына Божия, на третием престоле Святаго Духа в голубине образе. Чюднаго же зрака их и сиания невозможно списати. Пред ними же стояще аггелы, имуще на себе одежду белу, яко снег, держаще в руку своею кадило, и нача кадити, яко же священники обычай имат по чину по трижды. И нача кадити прежде Отца и Бога, глаголюще тако “Слава Отцу и Сыну и святому Духу”, и поклоняшеся до земли. Прииде же к Сыну Божию, нача кадить, глаголюще сице: “Славословлю тя, Сына, со Отцем и Духом Святым”, и поклоняшеся. Прииде же ко святому Духу кадить, глаголюще: “Прославляю тя, святаго Духа, со Отцем и Сыном”. Аз же грешный приложих к сим словесем: “Троица святая, спаси души наша ныне и во веки веком, аминь”. И ощути сердце мое исполнено радости многи зело».
Можно допустить, что патриарх Никон не знал об «Уставе скитском», но не знать, каким образом обрел свое «умное око» преподобный Елеазар, постригший его в ангельский образ, Никон никак не мог. Какое-то понятие о внутреннем делании Никон должен был иметь, хотя и изгнал его преподобный Елеазар за неумеренную суету и ненужную хлопотливость с острова.
Поэтому и весть о разысканной в книгохранилище[54] грамоте Восточных патриархов об утверждении патриаршества в России не должна была особенно взволновать Никона.
«Так как православная Церковь получила совершенство не только в догматах боговедения и благочестия, но и в священно-церковном уставе, то справедливость требует, чтобы и мы потребляли всякую новину в ограде Церкви, зная, что новины всегда бывают причиною церковного смятения и разделения, и чтобы следовали мы уставам св. отцов, и чему научились от них, то хранили неповрежденным, без всякого приложения или отъятия», – было сказано в этой грамоте.
То, что московский патриарх – «брат всех прочих православных патриархов» – должен быть согласен с ними во всем, было очевидным для ученика Елеазара Анзерского. Точно так же как очевидным было и то, что согласие с православными патриархами выражалось не в одинаковом сложении перстов, а в молитвенном единении…
Однако реакция Никона оказалась иной.
«Прочитав всю эту грамоту, – пишет митрополит Макарий, – Никон впал в великий страх, не допущено ли в России какого-либо отступления от православного греческого закона, и начал прежде всего рассматривать Символ Веры. Он прочел Символ Веры, начертанный греческими буквами на саккосе, который за 250 лет пред тем принесен был в Москву митрополитом Фотием, и сравнил с этим Символом славянский, как он изложен был в новых московских печатных книгах, и убедился, что в славянском Символе есть несогласия с древним греческим. Рассмотрел затем точно так же святую литургию, т. е. Служебник, и нашел, что иное в нем прибавлено, другое отнято или превращено, а после Служебника узрел и в других книгах многие несходства. После этого, проникнутый сознанием своего долга быть во всем согласным с Восточными патриархами и потреблять всякие новины, которые могут вести к несогласиям в Церкви, смутам и разделению, и убедившись лично, что такие новины у нас действительно есть в печатных церковных книгах и в самом даже Символе веры, Никон решился приступить к исправлению наших богослужебных книг и церковных обрядов».
Конечно, отчасти можно объяснить столь «неадекватную» реакцию Никона его «малограмотностью», его столь характерной для всех самоучек боязливой почтительностью к учению…
Но есть и другое объяснение.
В лице Елеазара Анзерского, изгнавшего будущего патриарха с острова, Никона отвергла русская святость. Путям умного делания Никон предпочел карьеру и, достигнув высшего положения в церковной иерархии, подсознательно хотел заменить внутреннее совершенствование внешним учением; компенсировать то, что постигается только в посте и молитве, более правильным, чем у анзерских постников и молитвенников, написанием. Ему казалось, что когда он что-то правильно запишет, как-то правильно перекрестится, тогда и откроется ему то, что умными очами видел преподобный Елеазар…
«Егда мне бывают многи скорби от бесов и злых человек, многажды невидимо глаголюще: “Не бойся бесов – Господь с тобою”. Иногда же глаголюще: “В терпении стяжите души ваша”. Многажды и от братии соловецких и пребывающе со мною наносяще мне скорби и не могущи терпети утешающе мя и невидимо глаголюще: “Вы бо силни есте и немощи немощных носите”».
Увы… И этих слов преподобного учителя своего Елеазара Анзерского не помнил Никон.
Не в счастливый час проникся он сознанием своего долга быть во всем согласным с Восточными патриархами… В несчастливый час выбирал он и помощников для достижения этого согласия…
2
Помощниками в затеянном им деле исправления богослужебных книг и церковных обрядов Никон выбрал иеромонаха Епифания Славинецкого, еще в 1649 году вызванного из Киево-Братского училища; уже упоминавшегося нами Арсения Суханова, так сильно встревожившего иерархов Русской Церкви своими фантастическими известиями о событиях на Афоне, и, наконец, печально знаменитого Арсения Грека.
Арсений Грек был, пожалуй, самой деятельной и самой примечательной фигурой по крайней мере на начальном этапе исправления церковных книг.
Причудлива и необыкновенна его биография. Арсений был уже не молод. Пятый десяток шел ему, и позади осталась огромная – ее хватило бы и не на одного человека, – раскиданная по разным странам жизнь.
Привез Арсения на Русь иерусалимский патриарх Паисий, и знакомство его с Никоном началось, когда тот был еще архимандритом Новоспасского монастыря, в котором находилась родовая усыпальница Романовых…
Почувствовав, что молодому перспективному архимандриту хочется найти объяснения своему отторжению от святости северных русских монастырей, иерусалимский патриарх сразу же пришел на помощь. Он внушил Никону мысль, что виною этому отторжению не сам Никон, а недостатки православного обряда, по которому живут и северные русские монастыри, и вся Русская Православная Церковь.
Терпеливо объяснял Паисий, что только современная Греческая Церковь столь же православна, как и древняя, и это не русские, а греки должны стать образцом для упорядочения церковной службы…
Впрочем, Никон не сразу поддался на патриаршие разговоры. Вначале он относился к Паисию довольно настороженно. Ему известно было, что прозвали Паисия попрошайкой, готовым ради подарков говорить всё, что желают услышать от него хозяева.
Ходили и другие разговоры в Москве о иерусалимском патриархе…
Толковали, к примеру, о том, что это Паисий, сговорившись с государем Волошским, подкупил турок, чтобы они убили константинопольского патриарха Парфения. Турки посадили Парфения на судно и, зарезав, выбросили его тело в море…
Рассказывали, что будто бы уже по пути в Москву, в Киеве, дал Паисий Богдану Хмельницкому благословение на брак с панной Чаплинской – женой бежавшего в Польшу пана. Мало того что при живом муже благословил венчаться, так ведь еще и со сродницей!
Никон и сам подмечал патриаршую хитрость.
Одна только свита чего стоила! Три десятка человек привез с собою патриарх из Иерусалима. Кто там архимандритом был, кто священником, кто монахом, а кто племянником патриарха или купцом, за деньги пожалованными титулами архонтов (регентов), – никто не разбирал.
К тому же и по дороге добирал патриарх в свою свиту разного сброда, чтобы в Москве больше милостыни насобирать. Все они были названы патриархом священниками и клириками разных монастырей, и на приеме у патриарха Иосифа, и на приеме у государя каждому из них сделали подарок, каждому давали деньги для вкладов в иерусалимские монастыри. И все эти подарки и вклады патриарх Паисий себе забирал, и это Никону доподлинно известно было.
Все это видели… Перед глазами стояло низкое попрошайничество Паисия…
Но вот заговорил Паисий, и упала с глаз пелена.
Увидел Никон, что все патриаршие хитрости от великой нужды, в которой Восточная Церковь пребывает, и хотя и вынужден заискивать и хитрить Паисий, – но мысли его не о суете мирской, а о церковном устроении, о единении Вселенской Православной Церкви во главе с Москвою.
И так получилось, что патриарх Паисий и посвящал Никона в митрополиты Новгородские и Великолукские.
Случайность?
Может быть, и случайность, но такое ведь не забывается…
Еще ближе Никону патриарх Паисий стал.
3
А вот с Арсением Греком, оставшимся тогда в Москве, беда произошла.
Едва Паисий покинул Москву, вскоре от него послание пришло. Писал патриарх, что, хотя и привез он Арсения Грека в Москву, но ничего толком не знал о нем, и только сейчас ему стали известны кое-какие подробности…
«Еще да будет ведомо тебе, благочестивый царь, про Арсения, который остался в твоем царстве: испытайте его добре, утвержден ли он в своей благочестивой христианской вере. Прежде был он иноком и священником и сделался бусурманом, потом бежал к ляхам и у них обратился в униата, способен на всякое злое безделие – испытайте его добре и все это найдете. Мне все подробно рассказали старцы, пришедшие от гетмана, – велите расспросить, что мне рассказывали те старцы и люди Матвея, воеводы волошского, будет ли так или нет, как я писал к брату и сослужителю моему патриарху Иосифу. Лучше прекратите эту молву, пока он сам (Арсений) здесь, чтобы не произошло соблазна церковного (выделено нами. – Н.К.). А если я еще что проведаю подлинно, то напишу к Вашему величеству, ибо я должен, что ни услышу, о том навещать. Не подобает на ниве оставлять терние, чтобы она вся не заросла им: нужно удалять и тех, которые держатся ереси и двуличны в вере. Я нашел его в Киеве и взял с собою, а он не мой старец… Я того про него не ведал, а ныне, узнав о том, пишу к Вашему величеству, да блюдете себя от таковых, чтобы не оскверняли Церкви Христовой такие поганые и злые люди».
Отчего патриарх Паисий решил сдать своего протеже, неясно, но в Москве его слова не пропустили мимо ушей. Арсений Грек был взят на допрос, и умелые руки князя Никиты Ивановича Одоевского и думного дьяка Михаила Волошенинова сразу же ободрали с него натянутое для прикрытия благочестие.
25 июля 1649 года Арсений показал на допросе, что родом он грек турецкой области; отец его Антоний был попом и имел пятерых сыновей. Двое из них, Андрей и Иван, живут в мире, третий Димитрий – протопопом, четвертый Афанасий – архимандритом, а пятый – он, Арсений. На Москве имеются приезжие греки, которые из одного с ним города: одного зовут Памфилом, другого Иваном, они могут подтвердить его слова. Крещен Арсений был в младенчестве, и восприемником ему был того же города архиепископ. Грамоте и церковному кругу учился у отца, а потом брат его архимандрит Афанасий брал его с собою в Венецианскую землю для учения, и в Венеции выучил грамматике. Затем брат увез его для учения в Рим, где и был Арсений пять лет и учился в школе Аристотелеву учению и седьми Соборам. Когда же дошло до Восьмого и Девятого Соборов, то от него, Арсения, потребовали присяги с клятвою, что он примет римскую веру, ибо иначе того учения никому не открывают и учить не велят. Видя это, он прикинулся больным и уехал из Рима, чтобы не отпасть от греческой веры.
– У кого ты жил в Риме и от кого приобщался святых Христовых Тайн или принимал сакрамент? – был задан Арсению вопрос.
– Я жил в Риме у греческой церкви святого Афанасия Великого, где живет православный митрополит греческой веры с пятью или шестью греческими старцами, – сказал Арсений. – С ними и жил, и принимал причастие Христовых Тайн от того митрополита, а сакрамента в Риме не принимал. Митрополит тот держит только семь Соборов, а Осьмого и Девятого не держит и к папе не приобщается. Только когда папа велит ему быть на Соборе, он на Соборы к папе ходит и за папу Бога молит.
Арсению заметили, что «блядословит» (лжет) он. Всему свету известно, что папа приводит в Риме всех иноверцев к своей вере посредством унии, и митрополит тот, коли жил в Риме, должен быть униатом. И Арсений, если он желает принести покаяние Богу и повиниться пред государем, должен сказать правду.
Арсений упрямо повторил, что в униатстве не был и сакрамента не принимал. Чтобы не приобщиться к римской вере, он из Рима переехал в венецианский город Бадов, и три года учился философским наукам и лекарскому учению.
А из Бадова пришел в Царьгород к брату своему, архимандриту Афанасию, и хотел постричься. Но брат хотел женить его и поэтому постричься ему не разрешил. Арсению было объявлено тогда, что он в римской вере… И он сказал тогда, что ни в Риме, ни в Венеции не бывал в римской вере, и пред всеми ту римскую веру проклял трижды. Слова его убедили монахов, и в результате в двадцать три года Арсений принял постриг.
На другой год его поставили в диаконы, а вскоре – в попы. Потом епископ Каллист поставил его игуменом в Богородицкий монастырь на острове Кафа, и был Арсений там игуменом шесть месяцев. Из монастыря ездил в город Хиос купить книг о семи Соборах, но книг не добыл, и с горя отправился в Царьгород, и, находясь у грека Антония Вабы, учил сына его грамматике.
Из Царьгорода приехал в Мутьянскую землю к воеводе Матвею и жил у него три месяца. От Матвея воеводы приехал в Молдавскую землю к воеводе Василию и жил у него два года.
Из Молдавии переехал в Польшу, в город Львов, и тут ему сказали, что есть школа в Киеве, только без королевской грамоты его в ту школу не примут. И он, Арсений, поехал к королю Владиславу в Варшаву. Король был тогда болен каменною болезнью, и Арсений, которого рекомендовали королю как искусного врача, вылечил его, и Владислав дал в Киев к митрополиту Сильвестру Коссову грамоту, чтобы Арсения в школу приняли…
Долгим и путаным было это объяснение Арсения.
Следователи терпеливо слушали, а когда Арсению уже начало казаться, что обман удался, заявили: дескать, государю сделалось известным, как Арсений, оставя чернечество и иерейство, был басурманом, а из басурманства был опять в униатстве.
– Униатом и басурманом я не бывал, – отперся Арсений Грек. – А если кто уличит, что я был униатом и басурманом, тогда пусть царское величество велит снять с меня кожу!
Арсению заметили, что басурманство свое он, без сомнения, таит, а когда оно обнаружится, ему нечем будет оправдаться.
Это несколько охладило пыл Арсения, но он продолжал выкручиваться, рассказывая, что константинопольский патриарх Парфений хотел поставить его епископом, но визирь помешал этому. Узнав, что Арсений долгое время жил в Венеции, визирь донес султану, будто Арсений привез большую казну, чтобы купить себе у патриарха кой-какие епископии и с ними приложиться к венецианам. Султан, у которого начиналась тогда война с Венецией, велел схватить Арсения.
– И было тогда мне многое истязание, – утирая слезы, рассказывал Арсен. – И платье с меня сняли и камилавку, надели чалму и кинули в тюрьму. Сидел я в той тюрьме недели с две и ушел в Мутьянскую землю, а басурманом нет, не бывал.
Тогда Арсению объявили, что о его униатстве и басурманстве писал государю и святейшему Иосифу сам патриарх Паисий, который слышал о том от киевских старцев, пришедших от гетмана.
Арсений заявил, что те киевские старцы сказывали про него патриарху Паисию ложь. А про свое мучение в тюрьме он рассказывал патриарху Паисию, и патриарх его во всем простил.
Арсению возразили, что патриарх Паисий, как это видно из его письма, далеко не все о нем знал…
– Ты говоришь, пусть кожу с тебя снимут… – задумчиво сказал князь Никита Иванович Одоевский. – Коли надо будет, и кожу спустим, а пока придется штаны с тебя спустить, и все басурманство твое явлено будет.
Видимо, эта угроза и сломила Арсения.
Смиренно пал он на колени и покаялся в отступничестве. Напирал, что жить православным под басурманами тяжело и не всякий тяжесть эту нести способен. Его, грешного, не сподобил Бог такой силой… Обасурманен он был неволею…
Но насчет покаяния, принесенного патриарху Паисию, продолжал держаться. Он говорил, что патриарх в том его простил, и благословил, и грамоту прощальную и благословенную ему дал, и та грамота патриарха и ныне у него, Арсения. И государя он не известил именно по этой причине, ведь патриарх Паисий простил его и служить ему велел…
Тем и окончилось расспросное дело Арсения Грека.
Следователи не спрашивали, а Арсений не рассказывал, что, убегая в Россию, он пытался освободиться от тяготившей его зависимости от иезуитов…
Когда по заданию иезуитов Арсений отправился в Киев, Украина встретила его горьковатым дымом пожарищ и сладковато-тошнотным запахом разлагающихся трупов. Впрочем, здесь увидел Арсений и трупы, которые не разлагались. Более километра ехал Арсений по дороге с насаженными вдоль нее на колы повстанцами. Когда была совершена гетманом Вишневецким эта ужасная казнь? Бог знает… Под жаркими лучами солнца трупы людей ссохлись и под ветерком легко поворачивались на колах, погромыхивая костями.
Сажали на колы панов и казаки Богдана Хмельницкого, но у казацких палачей не хватало ни искусства, ни опыта. Скорчившиеся, расклеванные птицами останки панов болтались на месте их расправ.
Всю эту страшную дорогу от Варшавы до Киева прошел Арсений. Он всегда достигал цели, и достиг ее и на этот раз. Но на этот раз ему было страшно.
В Киеве надобно было Арсению ждать патриарха Паисия, суметь проникнуть в его свиту и ехать далее – в Москву. Осуществить это оказалось нетрудно.
Жадный Паисий, стремясь поразить Москву пышностью, чем ближе подъезжал к Москве, тем охотнее зачислял в свою свиту всех, кто выказывал желание служить ему. Арсений был зачислен как патриарший уставщик.
Он все сделал, как предписывалось, и только одного не знали его неведомые и самому Арсению повелители. Не знали, что едет Арсений в свите патриарха Паисия в Москву по своей собственной воле.
Страшный год, что провел он на Украине, изменил его.
Страх день за днем незаметно копился в душе, и вот Арсений вдруг обнаружил, что ему хочется спрятаться от совершавшихся вокруг ужасов, а главное, от тех могущественных людей, что, подобно брату Афанасию, внезапно появляются в жизни и, благодетельствуя, сразу же обрекают, неведомо зачем, на новые лишения и опасности.
Спрятаться Арсению – он это окончательно понял уже в Москве – очень хотелось. И только здесь, в этой бескрайней стране, куда покровители Арсения еще не нашли хода, и можно было спрятаться.
Тогда-то он и предпринял первый в своей жизни самостоятельный шаг.
Сдав, как и было условлено, все подарки, полученные в Москве, Арсений попросил у Паисия разрешения остаться и заняться учительством. Бережливый патриарх, которому не хотелось на обратном пути кормить свою многочисленную, сделавшуюся сейчас ненужной свиту, благословение дал.
Так что все правильно рассчитал Арсений, впрок пошли полученные уроки. Только одного не рассчитал он: у учителей тоже имелся опыт, и наказывать ослушников умели они быстро и верно… Письмо патриарха Паисия и было таким наказанием.
27 июля по указу государя описано было все имущество Арсения на Ростовском подворье, где он остановился. В основном это были греческие печатные книги… Кирилл Иерусалимский, Златоуст, Иоанн Дамаскин, Гомер, Аристотель, грамматики, лексиконы…
Самого Арсения сослали в Соловецкий монастырь «для исправленья православной христианской веры». Здесь и было составлено продолжение его биографии…
Арсений сознался на исповеди своему духовнику иеромонаху Мартирию, что в молодые годы, когда он обучался в латинских училищах, действительно переменял веру и был в унии, потому что иначе не принимали в училище. Но, возвратившись в Грецию, снова принял православие и даже посвящен был во священника, постригшись в монашество.
В Соловках прожил Арсений около трех лет «в добром послушании у инока Никодима» и успел научиться славянской грамоте и русскому языку.
Успел он на Соловках и полюбить русские православные обряды… Он даже и креститься стал не тремя, а двумя перстами, как крестились тогда иноки соловецкие.
– У нас много потеряно в неволе турецкой, – говорил Арсений, почти сбиваясь на цитату из трудов инока Филофея. – Нет у нас ни поста, ни поклонов, ни молитвы келейной. А вы сберегли все! Здесь, на Соловках, и встретил Арсения митрополит Никон, когда приехал сюда за святыми мощами «исповедника правды» митрополита Филиппа (Колычева).
Арсений сразу понравился Никону. Арсению и поручил Никон, став патриархом, основную работу по подготовке нового издания Скрижали.
Так получилось, что Арсений, посланный иезуитами, был уполномочен произвести соблазн церковный самим русским патриархом.
4
Хронология начальных событий раскола такова.
Перед наступлением Великого поста в 1653 года патриарх Никон разослал по всем московским церквам «Память», воспрещающую на святой Четыредесятнице класть многочисленные земные поклоны… «Но в пояс бы вам творити поклоны; еще и тремя персты бы есте крестились».
Как встретили эту «Память» в Казанском соборе, мы знаем из книги протопопа Аввакума.
«Мы же, – рассказывает Аввакум, – задумалися, сошедшеся между собою; видим, яко зима хощет быти: сердце озябло и ноги задрожали. Неронов мне приказал идти в церковь, а сам един скрылся в Чудов, седмицу в палатке молился. И там ему от образа глас бысть во время молитвы: “Время приспе страдания, подобает вам неослабно страдати”. Он же мне, плачучи, сказал, таже Коломенскому епископу Павлу… потом Даниилу, костромскому протопопу, таже сказал и всей братии. Мы же с Даниилом, написав из книг выписки о сложении перст и о поклонех, и подали государю, много писано было. Он же не вем, где скрыл их, мнится, Никону отдал».
Некоторые историки утверждают, что столь резкое неприятие наиболее популярными в Москве протопопами «Памяти» было вызвано личною обидою за отстранение их от исправления церковных книг.
Это не очевидно, хотя вполне возможно, что сам Никон именно так и воспринимал их протест. Он усмотрел в нем попытку подорвать патриаршую власть и, спровоцировав открытое выступление Неронова, пресек его со всей решительностью, на которую был способен…
В июле 1653 года в Крестовой палате был созван Собор, на котором слушали жалобу муромского воеводы на протопопа муромского Логгина, будто он похулил образ Спасителя и образа Пресвятой Богородицы и Всех Святых.
Логгин, находившийся тут же, объяснил, что не только словом, но и мыслию не хулил святых образов. А жалоба касается его стычки с женой муромского воеводы.
Будучи в гостях у воеводы, Логгин спросил у подошедшей под благословение воеводши: не белена ли она?
– Ты чего, протопоп, хулишь белила? – защищая смутившуюся супругу, пошутил воевода. – Без белил не пишутся и образа.
– Если на ваши рожи такие составы положить, какими пишутся образа, то вы сами не захотите, – ответил нерасположенный к шуткам Логгин и не осторожно добавил, что сам Спас, и Пресвятая Богородица, и все Святые честнее своих образов.
Повод для жалобы был ничтожным, однако Никон, «не испытав истины, по отписке того воеводы осудил Логгина в мучение злому приставу».
– За что наказывать Логгина? – попытался защитить протопопа Иван Неронов. – Нужно прежде произвести розыск… Тут дело великое, Божие и царево, и самому царю поистине следует быть на сем Соборе.
– Мне и царская помощь не годна и не надобна, – отвечал Никон. – На нее и плюю и сморкаю.
– Патриарх Никон! – завопил Неронов. – Взбесился ты, что такие хульные слова говоришь на государское величество! Все святые Соборы и благочестивые власти требовали благочестивых царей и князей в помощь себе и православной вере.
В тот же день царю Алексей Михайловичу был подан донос на патриарха.
Никон в ответ обвинил Ивана Неронова в клевете.
Ростовский митрополит Иона, на которого ссылался Неронов как на свидетеля, отперся. Неронов начал укорять и его, и Никона. Вспыхнула яростная перебранка, наговорено было много необдуманных, горячих слов…
Ивана Неронова обвинили в оскорблении и патриарха, и всего Собора, и на основании 55-го правила Святых Апостолов: «Аще кто из клира досадит епископу, да будет низвержен», определили послать протопопа на смирение в монастырь.
Но не угадал Никон.
Не запугала никого расправа с Нероновым. Скорее, напротив. Думали задуть огонек, а раздули пламя.
Грозный огонь вставал.
Уже не только в Казанской церкви, а по всей Москве толковали, что в ересь совращен патриарх жидовином Арсением и православных под проклятие Стоглавого Собора вовлекает.
Как крестились досель, мало задумывались. Теперь, прежде чем осенить себя крестным знамением, каждый о перстах думал. Так сложишь пальцы – от патриарха проклятие. Этак – под проклятие Стоглава пошел.
Страшно жить стало.
Что-то нехорошее в летней жаре встало. По окрестным селам мор на скот пошел. Умирая, дико кричали животные. Далеко их предсмертный рев слышно было…
Аввакум тем летом с костромским протопопом Данилой челобитную государю подал.
«О, благочестивый царю! – писали протопопы. – Откуда се привнедоша в твою державу?»
Долго Алексей Михайлович над челобитной сидел. Понятно было: коли начался огонь, коли вырвался из рук, побежал по сухой траве, затаптывать надо скорее…
Челобитную Алексей Михайлович передал патриарху, но вопрос остался – откуда се привнедоша в твою державу?
Никон протопопов подверг пыткам, а потом сослал в дальние края на верную, как он рассчитывал, смерть.
«Вем, яко скорбно тебе, государю, от докуки нашей. Государь-свет, православный царь! Не сладко и нам, егда ребра наша ломают и, розвязав, нас кнутьем мучат и томят на морозе гладом. А все церкви ради Божия страждем… – писал в челобитной царю протопоп Аввакум. – Никон, егда мя взял от всенощного с двора протопопа Иоанна Неронова, по ево патриархову велению, Борис Нелединский со стрельцами, ризы на мне изодрали, святое Евангелие, с налоя збив, затоптали; и посадя на дорогу с чепью, по улицам, ростяня мои руки, не в одну пору возили…»
5
Весною 1654 года, когда провожали в поход на Смоленск царя, патриарх Никон созвал в Крестовой палате Церковный Собор. Председательствовали на нем «благоверный и христолюбивый государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя России самодержец, и премудрый великий государь святейший Никон, патриарх Московский и всея Великия и Малыя России». Присутствовали – пять митрополитов: Новгородский Макарий, Казанский Корнилий, Ростовский Иона, Крутицкий Сильвестр, Сербский Михаил; четыре архиепископа: Вологодский Маркелл, Суздальский Софроний, Рязанский Мисаил, Псковский Макарий; один епископ – Коломенский Павел; одиннадцать архимандритов и игуменов и тринадцать протопопов – всего, кроме председательствовавших, тридцать четыре человека, «ту же и царскому синклиту предстоящу».
Епископ Павел Коломенский, ознакомившись с вопросами, вынесенными на Собор Никоном, не сразу и сообразил, что задумал патриарх.
Надо ли оставлять открытыми Царские врата с начала литургии до великого хода? Можно ли двоеженцам читать на амвоне? Употреблять ли земные поклоны во время чтения молитвы Ефрема Сирина?
Вопросы эти, конечно, нуждались в разрешении, но ради них незачем было собирать Собор. Решения по ним патриарх мог принять и единолично.
И вместе с тем ни одного действительно существенного вопроса патриарх перед Собором не поставил.
Не рассеялись недоумения епископа Павла и после патриаршего слова, которым открылся Собор.
Долго и путано толковал Никон, что современная Русская Церковь допускает в своих обрядах новшества, не согласные с древними русскими и современными греческими обрядами, что в церковных книгах накопилось немало ошибок, сделанных переписчиками, и поэтому надобно произвести исправления.
«Нет ничего богоугоднее, как поучаться в заповедях Божиих и крепко на них утверждаться, – говорил Никон. – По словам благочестивого царя Юстиниана, два величайшие дара даровал Бог людям по своей благости: священничество и царство, из которых одно служит Божественным, а другое правит человеческими делами… Но оба они, происходя от одного и того же начала, украшают человеческую жизнь и они тогда только могут выполнять свое призвание, если будут заботиться о сохранении между людьми Божественных заповедей и церковных правил. Посему должно и нам блюсти заповеди, преданные от Господа и Спасителя нашего, от святых апостолов и от святых отцов, собиравшихся на седми Вселенских и православных поместных Соборах. Православная Церковь получила совершенство не только в догматах боговедения и благочестия, но и в священно-церковном уставе, поэтому справедливость требует, чтобы и мы потребляли всякую новину в ограде Церкви, чтобы следовали мы уставам святых отцов, и чему научились от них, то хранили неповрежденным, без всякого отъятия!»
Затем Никон зачитал грамоту Восточных иерархов, собиравшихся в Константинополе в 1593 году и утвердивших патриаршество в России.
– Посему я должен объявить вам нововводные чины церковные, – сказал Никон, закончив чтение. – В Служебниках московской печати положено, чтобы архиерейские молитвы, которыми архиереи разрешают многие грехи людские, священник пред совершением литургии читал от своего лица за самого себя, а в греческих Служебниках и в наших старых, писанных за сто, за двести, за триста лет и более, тех молитв не обретается. Положено еще пред началом литургии говорить отпуст (после часов) на всю церковь, чего ни в греческих, ни в наших старых не положено… Есть разности и в действиях за литургиею и в ектениях. Посему прошу решения: новым ли нашим печатным Служебникам последовать или греческим и нашим старым, которые купно обои един чин и устав показуют?
– Достойно и праведно исправити противо старых – харатейных и греческих! – отвечали Никону.
– В Уставах наших написано отверзать Царские двери во время литургии только на малый выход и на великий, а у нас теперь они бывают постоянно отверсты от начала литургии до великого выхода, – сказал Никон. – Скажите: по Уставу ли действовать или по нашему чину?
– И мы утверждаем быть так же, как греческие и наши старые книги и уставы повелевают, – был ответ.
– В наших Уставах написано в воскресный день начинать литургию в начале третьего[55] часа, а у нас ныне, когда случается соборный молебен, литургия начинается в начале седмого и осьмого[56] часа. Что скажете: по уставу ли святых отцов начинать литургию или по нашему обычаю?
– Быть по уставу Святых Отцов!
– По седьмому правилу Седмого Вселенского Собора при освящении церквей должно полагать в них мощи святых мучеников, а у нас в России только в антиминсе вшивают частицы мощей, под престолом же мощей не кладут… А в старых наших Потребниках есть указ о том, чтобы под престолом класть три части святых мощей. Что об этом скажете?
– Быть по правилам Святых Отцов и по уставу!
Мысли, которые так долго излагал Никон, сомнения ни у кого не вызывали. Исправить ошибки, вкравшиеся в книги, решено было задолго до Никона, об этом хлопотали все прежние патриархи. И на церковных Соборах тоже обсуждалось уже это. И справщики работали…
Другое дело, как исправлять, какие образцы взять… Униаты ведь тоже свои книги исправили!
Жарко горели купола соборов за слюдяными окнами, в Крестовой палате прохладно было. Сидели русские иерархи, рассуждали, можно ли двоеженцам позволить на клиросе петь.
Никон, сидя в кресле, столь схожем с царским троном, внимал этим рассуждениям, оглаживая временами свою бороду. Сверкали драгоценные камни на перстнях, унизывающих патриаршую руку.
Неспокойно было сверкание рубинов и бриллиантов. Казалось, будто искорки огня с черной бороды своей патриарх снимает. Тревожили эти неспокойные искры епископа Павла.
Пытался владыка разгадку найти тревоге.
«Патриарх Никон отнюдь не навязывал Собору своих мыслей… – говорит в “Истории Русской Церкви” митрополит Макарий. – Он только напомнил своим сопастырям, отцам Собора, их священный долг хранить неизменно все преданное святыми апостолами, святыми Соборами и святыми отцами и потреблять всякие новины в Церкви, а потом указал некоторые новины в наших тогдашних книгах и церковных обычаях и спрашивал, что делать.
И сам Собор единогласно решил: достойно и праведно исправить новопечатные наши книги по старым – харатейным и греческим. Против такого решения нельзя было ничего сказать, потому что лучшего способа для исправления наших церковных книг не представлялось.
Можно было только не соглашаться, что те или другие обряды, на которые указал Никон, суть новины, и такого рода несогласие действительно заявил один из присутствовавших на Соборе, епископ Павел Коломенский».
Легко представить, как во время молитвы вдруг осенило епископа Павла. Ясно и совершенно отчетливо уразумел он, почему не вынес Никон на Собор самых главных, тревоживших всю Церковь вопросов. Кто будет из митрополитов и епископов спорить с патриархом о двоеженцах? Слишком малозначителен вопрос! Другое дело – троеперстие. Тут уж мнения бы непременно разошлись, а какое бы взяло верх – один Господь ведает.
Поэтому-то и не стал выносить этот вопрос на Собор Никон, но, добившись согласия Собора на необходимость исправления ошибок в книгах и получив согласие на те несущественные изменения в чине церковной службы, что обсуждались сейчас на Соборе, рассчитывал распространить это согласие и на существенные перемены.
Осенив себя крестным знамением, под Соборным Уложением епископ Павел Коломенский подписался так: «Смиренный епископ Павел Коломенский и Каширский, а что говорил на святем Соборе о поклонех, и тот Устав харатейной во оправдание положил зде, а другой писмяной».
И вот, сколько сил потрачено было Никоном, стольким пожертвовано, а что? Все Деяния Собора одной-единственной записью перечеркнул епископ Павел Коломенский, оговорившись, что хотя и подписывается он под Соборным уложением, но относительно земных поклонов во время чтения молитвы Ефрема Сирина остается при прежнем мнении.
Несущественная оговорка, но всю хитрую задумку Никона разрушила.
Не единомысленным оказался Собор.
Шибко Никон тогда разгневался.
Сразу после Собора лишил он Павла сана архиепископского и священнического.
Говорили, что жестоко избили епископа по приказанию патриарха, но это неправда. Пальцем никто низвергнутого епископа не тронул. Отвезли Павла патриаршие стражники в Новгородский край, завели в пустой дом, заперли двери и подожгли избу с четырех углов.
Ветер дул.
Изба в полчаса сгорела вместе с епископом Павлом…
6
«Епископа Павла, якоже слышу от боголюбцов, – писал Иван Неронов в письме к царскому духовнику Вонифатьеву, – и бездушная тварь, видев страждуща за истину, разседеся, показуя сим церковныя красоты раздрание».
Церковные историки пытаются объяснить церковныя красоты раздрание неумеренной ревностью патриарха Никона к православию, но подобные объяснения ничего не доказывают, ибо никакой насущной нужды в проведении церковной реформы тогда не было.
Более того…
Деятельность Никона не имела никакого отношения к охране православия и церковного благочестия, поскольку и православие и церковное благочестие находились в России на столь высоком уровне, что изумляли гостей нашей страны.
В 1653 году побывал в Москве бывший константинопольский патриарх Афанасий[57] с довольно многочисленною свитою. Щедро одаренный, покидая Москву, Афанасий написал:
«Твоя царская премногая милость, как солнце, сияет во всю вселенную; ты, государь, ныне на земле царь учинился всем православным христианам, а великий господин святейший Никон, патриарх Московский и всея Руси, по благодати Божией глава Церкви и исправление сущей православной христианской веры и приводит словесных овец Христовых во едино стадо… Только тебя, великого государя, мы имеем столп и утверждение веры, и помощника в бедах, и прибежище нам, и освобождение. А брату моему, государь, и сослужителю, великому господину святейшему Никону – освящать соборную апостольскую церковь Софии, Премудрости Божией…»
Святитель Афанасий, Лубенский чудотворец, – святой. Он видел то, что открыто было перед Русью, перед ее царем, перед патриархом Русской Православной Церкви.
А вот воспоминания другого путешественника по России архидиакона Павла Алеппского, приехавшего на Русь в 1654 году.
«Какая эта благословенная страна, чисто Православная!
…Гордость им совершенно чужда, и гордецов они в высшей степени ненавидят. Так мы видели и наблюдали, Бог свидетель, что мы вели себя среди них как святые, как умершие для мира, отказавшиеся от всяких радостей, веселья и шуток, в совершеннейшей нравственности, хотя по нужде, а не добровольно…
Все жители в течение ее (первой седмицы Великого поста) не производят ни купли, ни продажи, но неопустительно присутствуют за богослужениями в своих церквах. Царские ратники обошли питейные дома, где продают вино, водку и прочие опьяняющие напитки, и все их запечатали, и они оставались запечатанными в течение всего поста. Горе тому, кого встречали пьяным или с сосудом хмельного в руках! Его обнажали в этот сильный холод и скручивали ему руки за спиной: палач шел позади него, провозглашая совершенное им преступление и стегая его по плечам и спине длинной плетью из бычьих жил: как только она коснется тела, тотчас же брызнет кровь…
Мы заметили, что они казнят смертью без пощады и помилования за четыре преступления: за измену, убийство, святотатство и лишение девицы невинности без ее согласия…
Больше всего мы дивились их чрезвычайной скромности и смирению и их частым молениям с утра до вечера пред всякой встречной иконой. Каждый раз, когда они увидят издали блестящие кресты церкви, то хотя бы было десять церквей одна близ другой, они обращаются к каждой и молятся на нее, делая три поклона…
Празднование Вербного воскресенья в Москве. 1660-е гг. Из книги А. фон Мейерберга «Путешествие в Московию…»
Московиты множеством своих молитв превосходят, быть может, самих святых, и не только простолюдины, бедняки, крестьяне, женщины, девицы и малые дети, но и визири, государственные сановники и их жены…
У всякого в доме имеется бесчисленное множество икон, украшенных золотом, серебром и драгоценными камнями, и не только внутри домов, но и за всеми дверями, даже за воротами домов; и это бывает не у одних бояр, но и у крестьян в селах, ибо любовь их к иконам и вера весьма велики. Они зажигают перед каждой иконой по свечке утром и вечером; знатные же люди зажигают не только свечи, но и особые светильники…
У всех них на дверях домов и лавок и на улицах выставлены иконы, и всякий входящий и выходящий обращается к ним и делает крестное знамение… Равно и над воротами городов, крепостей и укреплений непременно бывает икона Владычицы внутри и икона Господа снаружи в заделанном окне, и пред нею ночью и днем горит фонарь… Так же и на башнях они водружают кресты. Это ли не благословенная страна? Здесь, несомненно, христианская вера соблюдается в полной чистоте… Исполать им! О, как они счастливы!..
Что сказать о твердом и неослабном исполнении ими всех религиозных обязанностей! Что сказать о самых этих обязанностях, которых достаточно для того, чтобы волоса дитяти поседели, и которые, однако, тщательно выполняются и Царем, и Патриархом, и боярами, и боярынями, и царевнами! Разве они не чувствуют усталости? Разве они железные, что могут жить без еды и выстаивать длинные службы на морозе, не обнаруживая утомления? Без сомнения, эти русские – все святые, ибо превосходят своим благочестием даже пустынных отшельников. Богу угодно было сделать этот народ Своим – и он стал Божиим – и все его действия от Духа, а не от плоти…
Все это происходит оттого, что они знают о случившемся с греками и о потере ими Царства…
Что за благословенная страна! Она населена только христианами, в ней нет ни одного жида, ни армянина, ни невера какой бы то ни было секты: здесь даже не имеют понятия о них».
7
Если мы сравним эти свидетельства со свидетельствами патриархов и других «учителей вселенских», которые прибудут в Россию через несколько лет, то увидим, что разница в восприятии ими православной жизни нашей страны столь огромна, словно эти свидетельства даны людьми, побывавшими в разных странах. И тут можно, конечно, говорить о корыстолюбии патриархов и митрополитов, рванувших в Россию, когда обнаружилось нестроение в ее церковном управлении, но все-таки причину этой перемены надобно искать не в них, а в самом Никоне.
Как ни парадоксально, но это он и вынудил Восточных патриархов изменить свою оценку Русского православия. Не раз и не два предостерегали Никона от его безумной затеи.
«Мы много благодарили и каждый день благодарим Бога, после того как получили грамоты твоего преблаженства чрез возлюбленного сына нашего Мануила, – писал Никону константинопольский патриарх Паисий. – Из них мы узнали твое величайшее благоговение к Богу и пламенную ревность, какую имеешь ты относительно предметов нашей православной веры и чинов нашей Церкви. И это соединяешь ты, как свидетельствует общая молва приходящих из вашей страны, с крайнею рассудительностию и благоразумием, с безупречным смиренномудрием и всякими другими благими действиями, какие украшают истинного пастыря овец Христовых. Да будет препрославлено вовеки имя Господа нашего Иисуса Христа, что Он из рода в род воздвигает людей достойных служить назиданию Его Церкви и благоустроению Его стада. Да соблюдет тебя благодать Его на многие лета, да пасешь овец твоих богоугодно, как начал, до конца и да представишь стадо твое непорочным Пастыреначальнику Иисусу. Таким мы признаем тебя и с радостию отвечаем на твои вопросы по благодати, какую благоволит подать нам Дух Святой, Которого призываем всегда на всякое наше начинание. Но только молю твое преблаженство, что если какой-либо ответ наш покажется вам вначале не согласующимся с вашими обычаями, то не смущайтесь, а напишите к нам снова, чтобы узнать нашу мысль, да будем всегда соединены как во единой вере и во едином крещении, так и во едином исповедании, говоря всегда одно и то же едиными устами и единым сердцем и не разнясь между собою ни в чем…
В.И. Суриков. Боярыня Морозова. 1887 г.
Вижу из грамот твоего преблаженства, что ты сильно жалуешься на несогласие в некоторых обрядах, замечаемое в поместных Церквах, и думаешь, не вредят ли разные обряды нашей вере. Хвалим мысль, ибо, кто боится преступлений малых, тот предохраняет себя и от великих. Но исправляем опасение, ибо мы имеем повеление апостола бегать только еретиков, по первом и втором наказании, как развращенных (Тит. 3: 11), равно и раздорников, которые, хотя кажутся согласующимися с православными в главных догматах, имеют, однако ж, свои особенные учения, чуждые общему верованию Церкви. Но если случится какой-либо Церкви разнствовать от другой в некоторых уставах, не необходимых и не существенных в вере, т. е. касающихся не главных членов веры, а вещей маловажных, каковы: время служения литургии или какими перстами должен благословлять священник и под., то это не делает никакого разделения между верующими, лишь бы только непреложно сохранялась одна и та же вера. Церковь наша не от начала приняла весь тот устав чинопоследований, какой содержит ныне, а мало-помалу (выделено нами. – Н.К.). Прежде, как говорит св. Епифаний Кипрский, читали в церкви только одиннадцать псалмов, а потом больше и имели разные степени постов и мясоядений… И прежде святых Дамаскина, Космы (Маюмского) и иных песнотворцев мы не пели ни тропарей, ни канонов, ни кондаков. Но так как во всех Церквах непреложно сохранялась одна и та же вера, то эта разность в чинах не считалась тогда чем-либо еретическим. Посему и ныне не должно думать, будто извращается наша вера православная, если кто-либо творит последование, немного отличное от другого в вещах несущественных, т. е. не касающихся догматов веры, – только бы в нужном и существенном оно было согласно с соборною Церковию».
Митрополит Макарий, цитируя это письмо в «Истории Русской Церкви», говорит, что оно «послужило, с одной стороны, новым подкреплением и оправданием решений этого Собора (1655 г. – Н.К.), а с другой – новою опорою и побуждением для Никона к ревностному продолжению начатого им дела».
Этот комментарий интересен только как пример отношения официальных церковных историков к расколу, их умения не видеть и не замечать того, что не заметить, кажется, невозможно.
О каком подкреплении и оправдании может идти речь, если патриарх Паисий прямо предостерегает Никона от осуждения и проклятий при проведении исправлений, если различия касаются вещей маловажных, каковы: время служения литургии или какими перстами должен благословлять священник…
Какую опору мог найти Никон в письме Паисия, если там прямо сказано, что особенности обрядов, за которые он сжег епископа Павла Коломенского, за которые мучил протопопов, не делают никакого разделения между верующими, лишь бы только непреложно сохранялась одна и та же вера.
8
Эволюция, произошедшая во взгляде патриарха Никона на греков, во многом была обусловлена тем, что грекофильские идеи исходили непосредственно от царя Алексея Михайловича и его окружения. Однако при этом Никон нисколько не притворялся. Перерождению его способствовало, как это ни странно, глубоко патриотическое отношение к Русской Православной Церкви, ощущение ее мессианского назначения.
Никон знал, как чтили Греческую Церковь строители Русской Церкви, как бережно и благоговейно принимали ее обряд, как бережно сохраняли его в веках среди войн и распрей, нашествий и разрух.
Единение Русской Церкви с Греческой Церковью было животворным и спасительным для гибнущего в татарских нашествиях молодого православного государства. Греческая Церковь питала тогда Русь духовным светом…
Никон остро ощущал эту живительную силу единения, и ему, когда он стал патриархом, показалось, что и он, подобно своим великим предшественникам, должен поддерживать это живительное и светоносное единение. Но Никон отличался от своих великих предшественников тем, что они были святыми и, даже если и не знали чего-то, прозревали это духовными очами.
Никон – увы! – святым не был.
Он вообразил себе, как хорошо было бы уподобиться древним предшественникам своим, и почему-то позабыл вспомнить или не потрудился сообразить, что сама Восточная Церковь стала за эти века другой. В обрушившихся на нее гонениях она приобретала не только доброе, но и злое…
И правы все-таки были те патриоты Русской Православной Церкви, которые полагали, что надо держаться старины, поскольку тогда, в старину, и было взято у Восточной Церкви лучшее и сохранено вопреки всем нововведениям.
И если бы Вселенские патриархи действительно стремились к объединению Церквей на основании чистоты начальной, семисоборной Церкви, они должны были объединиться на основе обрядов Русского православия, поскольку семисоборная чистота сохранилась на Руси в наибольшей полноте, нежели ее сохранила сама Восточная Церковь.
Но это требовало от Вселенских патриархов воистину святительской широты и проникновенности, а не той хитровато-алчной учительности, которой они одарили Русскую Церковь.
Злобную жестокость Вселенских патриархов Никону предстоит испытать на самом себе, но это впереди, а пока сурово и грозно звучат на Соборе 1655 года слова Никона:
«Аще кто отсели, ведый, не повинится творити крестное изображение на лице своем, яко святая восточная Церковь прияла и яко ныне четыре вселенские патриархи, со всеми сущими под ними Христианы творят, и яко у нас, до напечатания слова Феодоритова, прежде православные творили… отлучается тот от Церкве вкупе с писанием Феодоритовым»…
Страшные были произнесены слова… Тихо стало в Крестовой палате, так что слышно было, как звенит на улице весенняя капель.
Но это на улице.
Здесь же зима стояла. Многие из собравшихся в Крестовой палате не хуже Арсения знали, что двумя перстами крестились на Руси задолго до внесения в Псалтирь слова Феодорита. От крещения Руси, от равноапостольного князя Владимира творили так крестное знамение.
Но молчали.
Тяжело было против Вселенских патриархов, подтвердивших Никонову ложь, идти.
Еще страшнее идти против Никона. Тучка какая-то вдруг набежала на весеннее солнце. И сразу сумрачно – после яркого света – стало в Крестовой палате. Словно встала тень сожженного Никоном епископа Павла Коломенского. Легла эта тень на лица митрополитов и архиепископов. Бледно-серыми сделались они, как у мертвецов.
Но пробежало облачко в небесной синеве, снова засияло в Крестовой палате солнце, отступила скорбная тень мученика Павла.
Поднялся Антиохийский патриарх Макарий, озабоченный только своими барышами, и возгласил, сложив три перста:
– Сими тремя великими персты всякому православному христианину подобает изображать крестное знамение, а иже кто по Феодоритову писанию и ложному преданию творит, той проклят есть!
И поднялся униженный Никоном сербский патриарх Гавриил и повторил проклятие.
И никейский митрополит Геронтий…
И русские митрополиты тоже, один за другим, повторяли проклятие…
Мало кто из присутствующих на Соборе догадывался тогда, что открывается самая прискорбная глава в истории Русской Православной Церкви. И никто не знал, как долго придется отмаливать русским святым страшный грех, в который ввергали сейчас нашу Церковь патриарх Никон и подкупленные им Вселенские учителя.
Больше чем на месяц затянулся Собор. И вот надет был на Никона греческий белый клобук.
– Батюшка, добро… – похвалил Алексей Михайлович, возложив на патриарха клобук и камилавку.
И засияло лицо патриарха Никона.
Знал он, что к лицу будет новый убор.
Еще персонально прокляли на том Соборе протопопа Ивана Неронова.
9
Когда во времена равноапостольного князя Владимира шли прения, какую выбирать веру, побывали в Киеве и иудеи.
– Мы веруем во единого Бога – Бога отцов наших Авраама, Исаака и Иакова, – рассказывали они.
– Каков же у вас закон? – спросил князь Владимир.
– Обрезываться… Не есть свинины и зайчатины… Хранить субботу!
– А где земля ваша?
– В Иерусалиме…
– Но вы ведь пришли из Волжской Булгарии!
– Да! – ответили послы. – Бог за грехи отцов наших лишил нас отечества и рассеял по всей земле…
– Как же вы пришли обращать нас в свою веру, будучи отвержены от Бога?! – рассердился князь Владимир. – Если бы Бог любил вас и ваш закон, Он не расточил бы вас по чужим землям! Ужели такой участи вы желаете и нам?
Увы…
Во времена Алексея Михайловича задать такой вопрос приехавшим за милостынею Восточным патриархам и митрополитам не догадался никто.
А они входили во вкус навязанного им Никоном инспектирования Русской Церкви и уже как бы соревновались между собою в открытии того, что они считали язвами.
Многие из них были малограмотны и даже не догадывались, что изменение обряда произошло в самой Греции, а не в России.
В XI веке в Константинополе тоже служили по употребляемому сейчас в России Студийскому уставу. Преподобный Феодосий из Константинополя и привез устав в Киево-Печерский монастырь. Из Киева устав распространился по всем русским церквам и в нерушимой точности сохранился в течение всех веков.
На самом же греческом востоке Студийский устав постепенно сменился уставом Иерусалимским. В XII веке его приняли на Афоне, а к началу XIV века – и в самой Византии, а затем и в Южнославянской Церкви…
Бедствующая Церковь греческого востока хотя и чтила память преподобного Феодора Студита, но уже позабыла о его уставе.
После этого встал вопрос: что же считать порчей книг?
Если следовать наставлению Никона: «Праведно есть и нам всяку церковных ограждений новизну истребляти…» – следовало бы вернуться к докиприановским[58] служебникам, еще более увеличивая различие с греческой службой…
Этого ли ждал от своих справщиков Никон?
Едва ли…
Можно как угодно трактовать события, но объективно получалось, что именно вожди раскола, а не иерархи ее встали тогда на защиту поруганной Русской Церкви…
Еще существеннее, что раскол становился тогда попыткой ответа на вопрос, должна ли Россия изменяться в угоду другим странам, другим идеологиям или должна, исполняя свое предначертание, о котором говорил еще игумен Филофей, ощущать себя, как это и было на самом деле, Третьим Римом.
Россия шла своим путем и могла и дальше идти им, но иерархи нашей Церкви во главе с патриархом Никоном унизили Русскую Православную Церковь, сломили национальное сознание русского человека.
По сути, это они и заставили страну свернуть с собственного пути и следовать, рабски подражая другим странам.
Глава третья Падение патриарха
Великий человек был патриарх Никон.
Уважение, которое испытывал к нему государь, дивило и жителей Москвы, и приезжих.
«Любовь царя и царицы к Никону превышает всякое описание, – пишет архидиакон Павел Алеппский. – При личном свидании с патриархом царь всегда испрашивает у него благословение и целует его руку, а Никон в то же время целует царя в голову».
Запомнилось и новоселье, которое праздновал в 1655 году Никон.
Все архиереи, начиная с антиохийского патриарха Макария, а за ними настоятели монастырей, приветствовали Никона и подносили иконы с хлебом-солью, а некоторые, кроме того, большие вызолоченные чаши, куски бархата…
Затем поднесены были дары от белого духовенства, от купечества, от государственных сановников и от других лиц.
Наконец, явился сам царь.
Он поклонился Никону и поднес ему от себя лично три хлеба с солью и три сорока дорогих соболей, потом столько же хлебов и соболей от своего сына и царицы, от своих сестер, от своих дочерей – всего двенадцать хлебов и двенадцать сороков соболей.
И все эти дары одни за другими государь подносил сам.
Никон стоял в красном углу, а Алексей Михайлович спешно ходил через всю залу, брал из рук стольников, стоящих у дверей, свои подарки и нес Никону.
– Сын Ваш, царь Алексей, кланяется Вашему святейшеству и подносит Вам! – объявлял он.
«От долгого хождения взад и вперед и ношения немалых тяжестей царь очень устал, – отмечает Павел Алеппский. – Все присутствовавшие были поражены таким изумительным смирением и услужливостью его пред патриархом».
Когда государь уезжал из Москвы, министры и наместник каждое утро обязаны были являться в присутствие, или совет, к патриарху для обсуждения дел. Входили все сразу, как только раздавался звон колокольчика. Патриарх обращался к иконам и тихо прочитывал «Достойно есть», между тем как министры кланялись ему в землю все вместе. Затем каждый из них подходил и кланялся патриарху отдельно и получал от него благословение.
Если случалось, что кто-то из вельмож запаздывал к тому времени, как раздавался звон колокольчика, то ему долго приходилось ждать на улице, иногда на сильном холоде, пока патриарх не давал особого приказа войти.
Разговаривал с боярами патриарх стоя.
Министры делали ему доклад о текущих делах, и патриарх о всяком деле давал каждому свой ответ и приказывал, как поступить.
«Сколько мы могли заметить, – говорит Павел Алеппский, – бояре и сановники не столько боятся своего царя, сколько патриарха, и в некоторых случаях последнего боятся даже гораздо более. Прежние патриархи вовсе не вмешивались в государственные дела, но Никон при своих талантах, проницательности и различных знаниях достиг того, что равно искусен как в церковных, так и в государственных и даже мирских делах, потому что прежде был женат и долго жил в миру».
1
Но все это осталось в прошлом…
К 1658 году от былой любви к Никону у Алексея Михайловича мало чего осталось.
Некоторые историки видят причину разрыва в неумеренных амбициях патриарха, которые, как и следовало ожидать, начали раздражать государя.
Многие историки считают, что причиной охлаждения стали ошибки Никона при проведении исправления церковных книг и обрядов.
Эта причина представляется и нам наиболее вероятной, с тем только уточнением, что на разрыв царя толкнула не крутость, с которою взялся Никон за исправление церковных обрядов, а попытка отыграть реформу назад…
Об этом не принято говорить, но, то ли осознав свои ошибки, то ли испугавшись катастрофических последствий их, Никон действительно попытался дать задний ход церковной реформе. Он, например, помирился с Иваном Нероновым, ставшим старцем Григорием, и не только простил его, но и разрешил ему служить по старым книгам, заявив, что нет никакой разницы в этом…
Церковные историки, пожалуй, за исключением только Н.Ф. Каптерова, стараются этот момент обойти, а между тем он имеет принципиальное значение. Ведь, если патриарх Никон был удален за попытку примириться с раскольниками, пусть и после всех совершенных им ошибок, роль Алексея Михайловича в истории церковного раскола приобретает иное, гораздо более зловещее значение.
Вполне возможно, что какую-то роль в охлаждении Алексея Михайловича к «собинному другу» сыграли, как мы уже говорили, и всплывшие после кончины преподобного Елеазара подробности изгнания Никона из Анзерского монастыря.
Так или иначе, но 6 июля 1658 года, когда в Грановитой палате давался обед в честь грузинского царевича Теймураза, патриарха Никона «позабыли» пригласить на парадный обед.
День этот проходил в Москве с необыкновенным торжеством.
Москвичам приказано было не торговать и не работать, а нарядиться во все праздничное. Алым шелком, красными и зелеными сукнами, золотой парчою изукрасились серенькие московские улицы. В глазах рябило. Поглядишь – и непонятно, то ли огонь полыхает, то ли это москвичи спешат поглядеть на грузинского царевича. Ярко стало на улицах, словно вся Москва со всех сторон загорелась…
В Кремле еще ярче, еще гуще пылало. Драгоценные камни на одеждах переливались, золото сияло.
Возле Красного крыльца карета грузинского царевича остановилась. На крыльцо ближний боярин Василий Петрович Шереметев вышел. Отдал царевичу низкий поклон.
Освобождая царевичу путь, замахал палкой окольничий Богдан Матвеевич Хитрово. Не смотрел, куда бьет, некогда… Положено, по полному чину встреча была.
Попало палкой и Борису Нелединскому.
– Не дерись, Богдан Матвеевич! – вскричал Нелединский, за лоб хватаясь. – Ведь я с делом сюда пришедши.
– Кто таков? – спросил Хитрово, хотя и узнал Нелединского.
– Патриарший человек, с делом присланный… Святейший спросить послал.
– Эка важность! – сказал Хитрово и теперь уже прицельно ударил патриаршего посланца по лбу. – Это тебе, чтоб патриархом не особенно дорожился. Сойди с дороги, червь!
Наконец очищен был путь. Через Святые сени ввели царевича в Грановитую палату.
Огромен был пятисотметровый зал. Льющееся в слюдяные окна июльское солнце сверкало в золоченой резьбе, освещало покрытые богатой росписью стены и своды палаты.
Вся Русь собралась здесь. Древнерусские князья и цари смотрели со стен на входящего в Грановитую палату царевича. А тот ступал по полу, застланному персидскими коврами, и щурился от сияния золота. Вокруг колонн, на которые опирались парусные своды, на всю девятиметровую высоту сложены были золотые и серебряные кувшины, и казалось, что на эту груду золота и опирается тяжелый потолок.
На горящем драгоценными камнями троне сидел царь. Богатые, расшитые самоцветами одежды сияли на нем. На голове горел драгоценными каменьями царский венец.
И как колонну, скрытую за грудами золотой и серебряной посуды, так и государя трудно было разглядеть из-за сияющего вороха бриллиантов и рубинов. Все в белом, по три в ряд стояли с обнаженными мечами вокруг трона царские телохранители – рынды…
Стольники в обшитых пепельными соболями одеждах разносили наполненные напитками золотые чаши. После этого подана была на столы первая смена холодных яств. Стерляди, белуги, осетры, лебеди белые с крыльями, журавли под шафранным взваром, куры, разнятые по костям, под огурцом, косяки буженины, свиные лбы под чесноком, сандрики из ветчины…
Потом понесли яшмовые чаши с зажженным вином, начали подавать горячее.
Четыреста блюд сменилось на столах, когда принесли следующую смену – сласти…
И все эти четыреста блюд без патриарха кушали!
Нет-нет…
Уже не до обид, не до гордыни своей было Никону. Едва только поведал ему Нелединский о злоключениях, патриарх написал государю гневное послание.
Ответ пришел только на другой день.
«Сыщу и по времени сам с тобою буду видеться…» – писал государь.
А несколько дней спустя в Успенском соборе праздновали Положение ризы Господней, принесенной в Москву при Михаиле Федоровиче.
И снова не пришел в церковь государь. Его стольник Юрий Иванович Ромодановский объявил Никону после заутрени, что государь и на Святую Литургию велел не ждать.
– За что царь на меня гневается? – чужим голосом спросил Никон.
– Ты пренебрег его царским величеством! – ответил Ромодановский. – У нас один великий государь – царь, а ты тоже пишешься великим государем.
– Сам царь так восхотел, – растерянно сказал Никон. – У меня грамота есть, его царской рукой писанная… Я…
– Государь тебя почтил этим, как отца и пастыря! – перебил его Ромодановский. – А ты не уразумел. Теперь государь приказал сказать тебе, чтоб впредь не писался ты и не звался великим государем.
Никон с Ромодановским больше спорить не стал.
«Се вижу, на мя гнев твой умножен без правды… – написал он в ризнице. – Того ради и соборов святых во святых церквах лишаешись. Аз же пришелец есмь на земли, и се ныне, дая место гневу, отхожу от места и града сего, и ты имяши ответ пред Господом Богом во всем дати».
Письмо дьяку Каликину отдал, чтобы царю отнес.
Управившись с этим делом, начал служить Никон свою последнюю в Успенском соборе литургию.
Когда закончилось освящение даров и запели «Достойно есть…», вернулся Каликин. Государь прочитал письмо и вернул назад без ответа.
Никон кивнул, услышав это.
После причастия, когда спели: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века…» – Никон поучение сказал.
Многое видели древние стены Успенского собора.
Здесь на великое княжение и на царство русское венчались великие князья и цари, здесь происходили все наиболее важные для государства бракосочетания, здесь поставлялись митрополиты и патриархи, здесь, уходя на брань, получали воеводы благословение перед чудотворной иконой Владимирской Божией Матери.
Но нынешнего еще не видели древние стены храма…
Прочитав слово из Златоуста, Никон заговорил о самом себе. Речь эта сохранилась лишь в пересказах свидетелей.
Крутицкий митрополит Питирим вспоминал, что Никон говорил:
«Ленив я был учить вас, не стало меня на это, от лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени не буду вам патриархом; если же помыслю быть патриархом, то буду анафема».
А вот тверской архиепископ Иоасаф сознался, что не помнит, произнес ли Никон слово «анафема».
По сказке патриаршего ризничего диакона Иова, Никон говорил в своей речи к народу:
«Как ходил я с царевичем Алексеем в Колязин монастырь, в то время на Москве многие люди к Лобному месту сбирались и называли меня иконоборцем за то, что я многие иконы отбирал и стирал, и за то меня хотели убить. Но я отбирал иконы латинские, писанные с подлинника, что вывел немец из Немецкой земли, которым поклоняться нельзя».
И, указывая при этом в иконостасе соборной церкви на Спасов образ греческого письма, продолжал:
«Вот такому можно поклоняться, а я не иконоборец. После того называли меня еретиком: новые-де книги завел – и то чинится ради моих грехов. Я предлагал многое поучение и свидетельство Вселенских патриархов, а вы в непослушании и окаменении сердец ваших хотели меня камением побить. Но один Христос искупил нас Своею Кровию, а мне, если побьете меня камением, никого своею кровию не избавить. И чем вам камением меня побить и называть еретиком, так лучше я от сего времени не буду вам патриархом».
Окончив свою речь, Никон стал своими руками разоблачаться: снял с себя митру, омофор, саккос. Многие со слезами молили его:
– Кому ты оставляешь нас, сирых?! – кричали прихожане.
– Кого Бог вам даст и Пресвятая Богородица изволит, – отвечал Никон.
Надев черную мантию с источниками (следовательно, архиерейскую) и черный клобук, Никон поставил посох Петра-чудотворца на святительском месте, взял простую клюку и пошел из церкви. Но прихожане, заперев двери, из церкви его не пустили, а послали крутицкого митрополита Питирима известить обо всем государя. Государь отправил в собор своего знатнейшего боярина, князя Алексея Никитича Трубецкого.
Боярин прежде всего попросил благословения у патриарха, но патриарх боярина не благословил.
– Прошло мое благословение, – сказал он, – не достоин я в патриархах быть.
– В чем твое недостоинство и что ты сделал? – спросил Трубецкой.
– Ты хочешь, чтобы я покаялся тебе? – спросил Никон.
– То не мое дело, – ответил Трубецкой.
«Затем дал мне патриарх письмо и велел поднесть великому государю, – докладывал Алексей Никитич Трубецкой, – да приказывал бить челом, чтоб государь пожаловал велел дать ему келью. Про всё то я великого государя известил, и он послал меня к патриарху в другой раз, велел отдать ему письмо назад и сказать, чтобы он патриаршества не оставлял и был по-прежнему, а келий на патриаршем дворе много, в которой он захочет, в той и живи. Никон, приняв письмо, отвечал: “Я слова своего не переменю, да и давно-де у меня о том обещание, что патриархом мне не быть”. И пошел из соборной церкви вон».
Воистину еще не видели такого стены Успенского собора…
2
Нигде не стало мира в России.
28 июня 1659 года гетману Выговскому удалось заманить русскую конницу князей Семена Романовича Пожарского и Семена Петровича Львова под Конотопом в татарскую засаду.
В один день погиб весь цвет русской кавалерии, совершившей победные походы 1654 и 1655 годов. Одних только пленных взяли татары более пяти тысяч. Всех их по уговору с гетманом Выговским зарезали.
Горами дымящихся трупов покрылись конотопские поля…
16 февраля 1660 года в Москве открылся Церковный Собор.
– Отцы святые, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, архимандриты, игумены и протопопы! – обратился Алексей Михайлович к собравшимся в Золотой царской палате. – Изъявлением всесильного Бога, а наших грех ради, мать наша, святая соборная Церковь, вот уже год и семь месяцев не имеет жениха и пастыря, с тех пор как бывший ее пастырь самовольно оставил свой престол и отрекся от него. Это видели митрополиты Сарский и Подонский Питирим и Сербский Михаил, Тверской архиепископ Иоасаф, архимандриты, игумены и другие, которые были в тот день с Никоном в службе. От них взяты сказки за их руками, и те сказки мы пришлем к вам на Собор. И вам бы о Святом Духе рассудить о сем крепко, единодушно и праведно, без всякой ненависти и тщетной любви, по правилам святых апостолов и святых отцов, памятуя Страшный суд и воздаяние…
Ровно полгода, до 14 августа, рассуждали в Крестовой патриаршей палате восемнадцать архиереев, двадцать архимандритов, тринадцать игуменов и пять протопопов.
Почти полгода изучал Собор все обстоятельства ухода Никона. Опрашивали свидетелей, наводили справки, наконец, единодушно решили, что патриарший престол оставил Никон своей волей…
Попробовали миром решить дело… Объявили, что «Правила святых отцов все согласно и невозбранно повелевают на место епископа, отрекшегося своей епископии или оставившего ее без благословной причины более шести месяцев, поставить иного епископа».
Никон против мирового соглашения не возражал.
Посланный к нему в Крестный монастырь на Белом море стольник Пушкин возвратился и 6 марта дал письменную сказку о своих переговорах с Никоном.
– Когда ты изволил оставить патриаршеский престол… – говорил Никону Пушкин. – Ты подал великому государю благословение выбрать другого патриарха, кого пожелает…
– Великому государю от меня благословение всегда, – отвечал Никон, – невозможно рабу не благословить своего государя. Но на такое дело, чтобы поставить патриарха без меня, я не благословляю. Мне дали митру патриархи Вселенские, и митрополиту возложить на патриарха митру невозможно. Я оставил престол, но архиерейства не оставлял, и все власти моего рукоположения и при поставлении своем дали в своем исповедании клятвенное обещание пред всею Церковью не хотеть им иного патриарха, кроме меня… Как же им без меня ставить новоизбранного патриарха? Если государь изволит мне быть в Москве, то я по указу его новоизбранного патриарха поставлю и, приняв от государя милостивое прощение, простясь с архиереями и подав всем благословение, пойду в монастырь…
Почему царь Алексей Михайлович не согласился на предложенный Никоном вариант – тайна велика есть.
Да… Никон выговаривал себе условия почетной отставки, но цена ее, по сравнению с той, которую пришлось заплатить через несколько лет, была весьма умеренной. В принципе, вариант Никона устраивал всех, кто желал мирного разрешения конфликта…
И тут опять вынуждены мы задать вопрос: а желал ли царь Алексей Михайлович мирного разрешения проблемы?
«В прошлом 160 (1652-м. – Н.К.) году Божиею волею, и твоим, великого государя, изволением, и всего освященного Собора избранием был я поставлен на патриаршество не своим изволом… – писал Никон Алексею Михайловичу 25 декабря 1661 года. – Я, ведая свою худость и недостаток ума, много раз тебе челом бил, что меня на такое великое дело не станет, но твой глагол превозмог. По прошествии трех лет (1655 год. – Н.К.) бил я тебе челом отпустить меня в монастырь, но ты оставил меня еще на три года. По прошествии других трех лет (1658 год. – Н.К.) опять я тебе бил челом об отпуске в монастырь, но ты милостивого своего указа не учинил. Я, видя, что мне челобитьем от тебя не отбыть, начал тебе досаждать, раздражать тебя и с патриаршего стола сошел в Воскресенский монастырь».
Как правило, церковные историки рассматривают просьбы Никона об отставке только как ходы в выстраиваемых им интригах, но, право же, в таком подходе желания представить черное белым больше, нежели стремления к объективности.
Почему мы должны подозревать Никона в неискренности?
Если в первые годы своего правления он еще мог рассчитывать, что царь Алексей Михайлович будет упрашивать его, то в 1658 году абсолютно никаких оснований для подобных надежд у Никона уже не оставалось.
Увы… Алексей Михайлович отверг предложение Никона о полюбовном разрешении конфликта. Собору он, разумеется, не поведал о причинах своего отказа, а велел дальше рассуждать, как законным способом лишить Никона патриаршества.
Но теперь и на Соборе уже не рассуждения об отрешении Никона от патриаршества пошли, а одни только разногласия.
Одни считали, что коли самовольно оставил Никон патриаршество, то, значит, отрекся от сана и от престола отрешился.
Другие доказывали, что отречение только на словах было, что Никон все это время продолжал совершать архиерейские службы и, значит, в действительности от сана своего не отрекался, и об отрешении его от патриаршества еще долго рассуждать надо.
Третьи говорили, что и рассуждать нечего тут… Надо просто разобраться, достоин сана Никон или нет! Ведь еще Кирилл Александрийский – аще бы и Писанием отрекся, если достоин святительства – да служит. Если же недостоин, то пусть хоть и не отрицается, все равно, обличенный судом, должен быть низвержен – говорил…
Так и не додумались ни до чего… Никон тем временем перебрался с Белого моря в свой Новый Иерусалим – недостроенный Воскресенский монастырь. Еще когда во власти был, начал он строить под Москвой эту точную копию Святой земли…
Немало даров дано было от Господа Никону…
На великую высоту воздвиг Господь сына мордовского крестьянина Мины. Вровень с государем всея Руси поставил. Великие дела во славу Церкви Божией мог совершить Никон, дивным святительским светом озарив немереные просторы русской державы.
И что же вышло?
Уже который год сидел Никон в своем Новом Иерусалиме и ждал…
Неведомо чего ждал…
Иногда рассеивалась муть, и с печалью размышлял Никон, что все годы своего патриаршества только тем и занимался, что проклинал.
Проклял Логгина… Проклял Ивана Неронова… Проклял епископа Павла Коломенского… Потом всех двоеперстников разом проклял…
Страшно становилось, когда думал так.
Зачем проклинал? За что?
Задыхался Никон…
Но снова сгущалась муть, отступало удушье, снова становился похожим Никон на прежнего, известного всем Никона-патриарха. Снова ждал, когда, наконец, одумается государь, снова привычно и равнодушно проклинал тех, кто чем-либо не угодил ему.
Предал проклятию патриаршего местоблюстителя Питирима, осмелившегося в Вербное воскресенье во время шествия на осляти заменить его, патриарха Никона…
Проклял подрядчика Щепоткина, слишком дорого запросившего за колокольную медь…
Проклял окольничего Романа Федоровича Боборыкина, отсудившего у Воскресенского монастыря деревеньки Рычково и Кречково…
Три года тянулась тяжба и решилась в пользу Боборыкина. Когда Никон узнал об этом, он собрал братию в церкви и, положив под крест царскую грамоту, жалованную Воскресенскому монастырю, отслужил молебен, а потом возгласил клятвенные слова из 108-го псалма против обидящих.
– Боже хвалы моей! Не промолчи! Ибо отверзлись на меня уста нечестивыя и уста коварные; говорят со мною языком лживым! Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью! – возглашал Никон, и слезы блистали на выпуклых глазах его. Про него, несчастного и покинутого Никона, был этот сложенный царем Давидом псалом.
– Поставь над ним нечестиваго, и диавол да станет одесную его! – молил Никон Господа. – Когда будет судиться, да выйдет виноватым, и молитва его да будет во грех!
– Да будут дни его кратки, и достоинства его да возьмет другой! Дети его да будут сиротами, а жена его – вдовою! Да скитаются дети его, и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих!
Страшные слова звучали в храме. Гремел голос Никона, обрушивающего проклятия на голову несчастного Романа Боборыкина.
Страшно было монахам.
Еще страшнее стало, когда сообразили, что, коли жалованная грамота царская под крестом лежала, может, и на голову государя падут изреченные проклятия.
Зашептались тревожно монахи. Шепот быстро до Москвы добежал.
Здесь, в боярских хоромах, уже во весь голос заговорили, что Никон дерзнул самого государя проклясть. Не по себе стало Алексею Михайловичу!
– Я грешен! – сказал он. – Но в чем согрешили мои бедные дети?
И заплакал государь. Так жалко ему своих деточек стало.
Помянем тут, что тогда, в 1663 году, у царя Алексея Михайловича было шесть дочерей и двое сыновей – Алексей и Федор…
Сыну Алексею суждено умереть в пятнадцать лет…
Федор до двадцати одного года доживет.
Две дочери в монастырь насильно пострижены будут.
Четверо – старыми девами до шестидесятилетнего рубежа доживут.
Если так посмотреть, то и впрямь не напрасно государь о своих бедных деточках плакал…
Были тогда и другие огорчения у государя.
17 июля 1660 года И.А. Хованский потерпел поражение от Сапеги в Минской губернии и, печалуясь о гибели войска, не тешился Алексей Михайлович соколиной охотой. Десять дней, в самое золотое время, с 25 июня по 5 июля, скучали царские птицы – Атаман, Арап, Есаул, Копейка, Усач – в золоченых клетках…
3
Странные дела стали твориться в России.
Вроде и не изменилось ничего… Тот же царь-батюшка на троне сидит, так же колокола в церквах звонят, та же нужда горькая, бедность вокруг! Только в воздухе помрачение какое-то встало…
12 февраля 1662 года приехал в Москву газский митрополит Паисий Лигарид, прибытие которого в Россию митрополит Филарет (Дроздов) относил к самым большим несчастьям нашей Церкви…
Греки и раньше в Москву любили ездить, а при Алексее Михайловиче Восточные иерархи постоянно в Белокаменной жили. Везли сюда святыни, в которых у них недостатка не было, назад золото увозили, соболей, дорогие одежды.
«Между этими выходцами, остававшимися на более или менее продолжительное время в Москве, очень мало было таких лиц, которые бы переселялись в Россию с целью принести какую-либо действительную пользу приютившей их стране… – пишет Н.Ф. Каптеров. – В Москве единоверных выходцев с Востока принимали очень радушно, награждали щедрою милостынею и оказывали им всякое благоволение. К числу таких бродячих, не ужившихся дома архиереев, которым “не подобает возлагать на себя ни епитрахили, ни омофора”, принадлежал и газский митрополит Паисий Лигарид».
Эта характеристика, данная автором замечательного исследования, посвященного истории раскола, представляется нам излишне благодушной.
Если бы Паисий Лигарид жил в наше время, его, возможно, занесли бы в Книгу рекордов Гиннесса. Кажется, ни один человек в мире не собрал столько проклятий от различных патриархов. Причудливая биография его еще ждет своего описателя…
Паисий Лигарид (Лихарид), в миру Пантелеймон, родился в 1610 году на острове Хиос. Образование получил в Риме, в греческой иезуитской коллегии. В Константинополе он наладился издавать труды Неофита Радина и Петра Аркудина. Книги выходили со стихотворными посвящениями папе Урбану VIII, от которого и получал Пантелеймон регулярный пенсион. Издательские труды эти не остались незамеченными. Вскоре Лигарид был удостоен степени доктора богословия.
Однако в 1644 году, когда патриархом стал Парфений II[59], известный своей борьбой с иезуитами, Пантелеймону пришлось покинуть Константинополь.
Несколько лет Лигарид жил в Яссах, подрабатывая учительством и выжидая чего-то. Любопытно, что здесь, в Молдавии, и произошла его встреча с уже упоминавшимся нами Арсением Сухановым.
24 апреля 1650 года, когда Арсений Суханов спорил с греками о крестном знамении, Пантелеймон участвовал в диспуте и единственный из греков поддержал Арсения в вопросе о двоеперстии. Лигарид сказал тогда: «Добро у них так, еще лучше нашего».
Когда же патриарх Паисий попросил сыскать от писаний святых о крестном знамении, Лигарид ответил: «Немочно сыскать».
Неудивительно поэтому, что простоватый Арсений Суханов вскоре превратился в опекуна Паисия Лигарида.
16 ноября 1651 года, когда патриарх Паисий постриг Лигарида, Арсений Суханов и был его восприемным отцом, под его начало и отдал патриарх инока Паисия Лигарида, поручив Арсению держать его под началом «крепко, как держат на Москве в великих монастырях».
Забегая вперед, скажем, что именно Арсений Суханов и рекомендовал Лигарида патриарху Никону…
Тем не менее, приняв постриг, Паисий Лигарид недолго пробыл под началом Арсения Суханова. Вместе с патриархом Паисием[60] он уехал в Иерусалим, где на следующий год был посвящен в митрополита Газского.
Карьера, даже и учитывая специфику устроения Восточных Церквей, поразительно стремительная…
Некоторый свет на механику этой карьеры проливает переписка реформаторского пастора Клода с историком Д. Арно, опубликовавшим письма маркиза де Помпона, «чрезвычайного посланника его христианнейшего величества при дворе короля шведского»…
В письме от 10 сентября 1667 года де Помпон сообщил о сведениях, которые он получил от Лилиенталя, шведского резидента в Москве.
«По национальности он (Лигарид. – Н.К.) грек и монах ордена Святого Василия. Он учился в Риме и в Падуе и возвратился оттуда в Константинополь, был поставлен там архиепископом г. Газы в Палестине. Успех, с которым он проповедовал греческую религию туркам, и некоторое преследование, которое он боялся навлечь на себя за это, заставили его удалиться в Молдавию и Валахию…»
Эти сведения были записаны Лилиенталем едва ли не со слов самого Лигарида, и гораздо более заслуживает внимания сообщение о положении, которое занимал Лигарид в Москве.
«Он поместился, – пишет Лилиенталь, – в его (царя) дворце и находится в большом уважении при этом дворе. Если бы он знал язык страны, он, вероятно, был бы избран патриархом».
Всё здесь преувеличение, но преувеличение, опять-таки сделанное с подачи самого Лигарида. Так Лигарид желал выглядеть в глазах других.
«Собор, который собирался в Москве, утвердил низложение патриарха, обвиненного в гнусных пороках, а также и в том, что он втянул свою страну в войну со Швецией и Польшей»…
Разговоры об авторитете Лигарида чрезвычайно развеселили пастора Клода.
«Неужели мы только от Помпона и знали, кто такой этот архиепископ?» – спрашивал он, отвечая доверчивому другу-историку, и тут же приводил свидетельство грека Граденигра, обращенного в латинство: «Паисий Лигарид воспитывался в Риме, и когда он ушел оттуда, то явился горячим защитником латинян».
В работе Л. Лавровского «Несколько сведений для биографии Паисия Лигарида, митрополита газского», приведено так же чрезвычайно интересное свидетельство английского доктора Базайра (Basire):
«В 1652 году, находясь в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, для молитвы и обозрения святых мест, я заметил Паисия Лигарида, идущего ко мне от патриарха Иерусалимского, по имени тоже Паисий, чтобы предложить мне хлеб, на котором были изображены все события жизни Иисуса Христа, от Благовещения до Вознесения. Оставляя меня, он просил меня прийти завтра на его духовное обручение – это было его выражение – т. е. на его поставление в сан митрополита Газского.
14 сентября и я присутствовал при всей церемонии. Патриарх сидел на очень высоком троне, со всех сторон покрытом богатыми турецкими коврами, ниже сидели митрополиты, еще ниже – епископы, архимандриты и пр.
Во время службы Лигарид прочитал исповедание веры. Пред своим посвящением два или три раза он бросал под ноги изображение, на котором был представлен город, стоящий на семи горах, а вверху двуглавый орел.
Присутствующие здесь латинянине были ужасно скандализированы этим, ибо они хорошо понимали, что этот город был Рим»…
Доктор Базайр вспоминает, когда после обеда папский викарий, «человек умный и искренний», вступил с ним в беседу, вошел Лигарид и, бесцеремонно прервав разговор, попросил не возмущаться тем, что он сделал во время своего «обручения».
«Его оговорка была довольно забавна, ибо он уверял нас, что он менее всего думал о городе Риме и что в этом обряде, который практикуется в церкви греческой, выражается ничтожность мира, изображаемого этим городом, а таким действием – отречение от этого мира.
Однако это извинение не совсем хорошо было принято викарием, который был слишком умен для того, чтобы довольствоваться этим. После ухода Лигарида мы говорили, что он был отъявленный лицемер и что в то время, как он говорил таким образом, он получал от Папы ежегодный пенсион…»
Как явствует из этих воспоминаний, если бы объяснение происходило наедине, цель Паисия Лигарида, несомненно, была бы достигнута… Но викарий, возмущенный двуличностью папского стипендиата, оказался достаточно хитрым и постарался сделать объяснение это публичным. В результате оно стало известно патриарху Паисию. Патриарх потребовал, чтобы Лигарид покинул порученную ему митрополию.
К этому времени и относится начало хлопот Лигарида о переезде в Россию. Действуя сразу и через своего духовного отца – Арсения Суханова и через однокашника по иезуитскому коллегиуму – Арсения Грека, Лигарид добился от патриарха Никона приглашения в Россию.
«Слышахом о любомудрие твоем от монаха Арсения и яко желаеши видети нас, великого государя. Тем и мы тебе, яко чадо наше по духу возлюбленное с любовию прияти хощем, – писал патриарх Никон 1 декабря 1656 года, – точию прием сия наша письмена, к царствующему граду Москве путешествовати усердствуй».
Любопытно, что уже тогда Лигарид был запрещенным архиереем.
Впрочем, получив приглашение, он поехал не сразу.
Несколько лет жил в Валахии, участвуя в дворцовых заговорах и дорабатывая объемистое историческое сочинение об иерусалимских патриархах. То ли ждал, пока стихнет скандал, связанный с отлучением от митрополии, то ли спешил завершить свой новый труд.
О характере этого сочинения можно судить по отзывам самих патриархов.
Прочитав работу Лигарида, константинопольский патриарх Мефодий III[61] и иерусалимский патриарх Нектарий[62] предали Паисия Лигарида проклятию.
Только в начале 1662 года Лигарид начал собираться в Россию.
Он запасся удостоверительной грамотой константинопольского патриарха Парфения IV[63], в которой было написано, что он – митрополит газского Предтечева монастыря.
В дальнейшем выяснилось, что Парфений давать такую грамоту не имел права, поскольку газский Предтечев монастырь находился под юрисдикцией иерусалимского патриарха.
«Парфений IV человек неученый, неразумеющий законному правилу… – писал патриарх Досифей[64]. – А что он Парфений учинил газскому митрополиту, учинил яко неученый и неграмотный»…
Тем не менее 12 февраля 1662 года Лигарид был уже в Путивле, а 9 апреля 1662 года его принял государь.
Лигарид поднес ему в подарок модель Гроба Господня, иорданскую воду и иерусалимские свечи. От царя он получил серебряный кубок, сорок соболей, камку и тридцать рублей денег, а после челобитной еще сто рублей и пятьдесят рублей соболями.
Хотя Лигарид приехал по приглашению Никона, но – вот она нравственная гибкость подлинного иезуита! – принял сторону царя. Он посоветовал Алексею Михайловичу привлечь для суда над Никоном Восточных патриархов.
«Он прибыл в Москву (19 февраля 1669 года) в самое горячее время, когда дело о Никоне все больше и больше запутывалось, когда Московское правительство чувствовало свое полное бессилие так или иначе порешить это дело и потому крайне нуждалось в человеке, который бы помог ему выйти из затруднительнаго положения, – пишет Н.Ф. Каптеров. – Паисий Лигарид и был именно таким человеком, способным взяться за всякое дело, особенно которое сулило ему всевозможные выгоды, почет и влияние. Он сразу понял выгоды своего положения между двух борющихся сторон и, как и следовало ожидать от него, немедленно пристал к сильнейшей правительственной партии, стал душою и руководителем всех врагов Никона, дело которого, как он хорошо видел, было уже окончательно проиграно. Он скоро успел овладеть полным расположением и доверием к себе самого государя, у которого в некоторой степени даже занял место прежнего “собиннаго друга”, так что Алексей Михайлович, по свидетельству самого Никона, стал слушать во всем Лигарида и почитать его как “пророка Божия”. Это понятно: вкрадчивый, очень гибкий и льстивый гречанин, желавший только всячески угождать царю, представлял полную противоположность с суровым, гордым, неуступчивым и притязательным Никоном, и потому ему не трудно было приобрести расположение и любовь мягкого и привязчивого царя, нравственно измученного столкновением с Никоном, искавшего опоры, успокоения, оправдания своему поведению в этом деле. Никто не мог лучше Паисия успокоить встревоженного, неуверенного в своей правоте царя, оправдать его в своих собственных глазах, сообщить ему, колебавшемуся, нравственную устойчивость и решительность. Паисий пустил в ход всю свою ловкость и изворотливость, все свое остроумие и находчивость, весь запас своих научных знаний, чтобы во всем оправдать царя и, наоборот, во всем обвинить Никона».
Насчет ловкости и изворотливости Лигарида с Н.Ф. Каптеровым трудно не согласиться…
Но для нас важнее понять, действительно ли, обманывая Алексея Михайловича, Лигарид успокаивал «встревоженного, неуверенного в своей правоте царя», или же царь понимал, с кем он имеет дело, и использовал бесчестного мошенника в собственных целях.
Совершенно точно известно, что когда Паисий объявил себя патриаршим экзархом, Алексей Михайлович послал келаря Чудова монастыря Савву к патриарху Дионисию[65]. Тот разыскал бежавшего от турок патриарха Дионисия, и Дионисий самолично дал ответы на все волновавшие русских вопросы.
– Ехать в Москву я никак не могу… – сказал мудрый Дионисий. – Благословляю государя, чтобы он или простил патриарха, или другого поставил, смиренного и кроткого. Если он боится греха, то мы принимаем грех на свои головы. Царь – самодержец, ему все возможно… Стефан же грек у меня не бывал. Правда, хартофилакс[66] докучал мне, чтобы я написал грамоту – быть газскому экзархом. Но я этого не позволил, и если такая грамота появилась у царя, то это плевелы, посеянные хартофилаксом. Паисий Лигарид – лоза не Константинопольского престола, я его православным не называю, ибо слышу от многих, что он папежник, лукавый человек.
Считается, что Паисий Лигарид вывернулся, уверив царя, что и сам был обманут хартофилаксом, который доставил ему грамоту. Однако справедливее предположить, что Алексею Михайловичу самому хотелось увериться в оправданиях Лигарида, ибо он был нужен для низвержения Никона и завершения реформы Русской Православной Церкви.
Во всяком случае, послание патриарха Дионисия не испортило отношений Лигарида с Алексеем Михайловичем.
Никаких последствий не вызвало и сообщение патриарха Досифея, обвинившего Паисия Лигарида в сношениях с такими еретиками, каких в Иерусалиме нет ни в живых, ни в мертвых…
Это кажется преувеличением, но если вспомнить, какую аферу провернул Лигарид в России, ощущение гротеска превращается в обыденную реальность…
Увы…
Приходится признать, что у русского царя и у газского мошенника оказалось общее дело, исполнение которого в глазах Алексея Михайловича компенсировало и проклятия патриархов, и даже страх Божий…
Ведь и в дальнейшем, уже твердо зная о проклятиях, Алексей Михайлович не сразу нашел силы отстранить Лигарида от дел, связанных с устройством и управлением Русской Православной Церковью.
4
Накануне Собора, на котором Вселенские патриархи должны были в Москве судить Никона, надумал государь Поместный Собор провести, чтобы окончательно установить мир в Церкви.
Собор этот еще в феврале открылся.
Вначале велено было самим архиереям исповедание принести.
Три вопроса Лигарид предложил…
Православны ли Святейшие Греческие патриархи? Книги греческие печатные и древние как исповедати долженствует?
Еще нужно было высказать свое мнение о Соборе 1654 года… Ответы с архиереев требовали в письменном виде.
Заскрипели архиерейские перья…
«Аз смиренный Питирим, Божьей милостью митрополит Великого Новгорода и Великих Лук, исповедаю святейших греческих патриархов доднесь быти православными. Книги греческие печатныя и древния рукописныя… исповедаю быти православны и во всем приемлю. Собор, бывый… исповедаю и держу православным во всем».
«Аз смиренный Иона, Божьей милостью митрополит Ростовский и Ярославский…»
«Аз смиренный Павел…»
Одинаково отвечали митрополиты и архиепископы. Иначе и нельзя было ответить. Кто же Восточных патриархов не почитает? Кто же Собор, в котором сам участвовал, не признаёт? Так были вопросы поставлены, что иных ответов и дать невозможно.
Когда собраны были ответы, когда определили состав суда, тогда начали свозить в Москву подсудимых.
1 марта Аввакума приволокли с Мезени.
14 марта – старца Григория (Неронова)…
23 марта сожгли на Козельских болотах келью Ефрема Потемкина, а самого старца отправили под охраной в Москву.
Привезли дьякона Федора и попа Никиту Добрынина…
Ну а старец Епифаний на расправу своим ходом прибрел…
Принес старец царю писание, составленное им в уединенной келье. Думал, прочитает государь, откроются глаза у него, перестанет он губить веру православную на Руси.
В конце апреля, в Неделю святых жен-мироносиц, принимал государь в столовой царской палате съехавшихся на Собор архиереев и митрополитов.
– Радость сотворил нам Господь пришествием вашим! – сказал он.
Потом взял бумаги.
По бумажке читал свою речь Алексей Михайлович. Текст речи сохранился в деяниях Собора.
«Неся бо Домовит небесный благоговзавитую ниву православия державы нашея чистого благочестия пшеницею, но враг завистный»…
Чинно сидели русские иерархи, внимая благоуханию взрощенных Симеоном Полоцким цветов красноречия. Все пространство государевой речи густо засадил своими цветами Симеон, но смысл все-таки был понятен. Хотел государь всея Руси, чтобы восстановлено было единство Церкви, а раскольники осуждены.
После приема в столовой царской палате, благословясь, принялись архиереи за дело.
Судили мятежников церковных в патриаршей Крестовой палате.
Первым предстал перед Собором вятский архиепископ Александр.
«Многими книгами древними, хартейными и лепыми… – записывал Симеон Полоцкий, – доводи истину изъясняти. Он же, благодатию Божиею просвещен быв, абие написа покаянный список и прощение сподобився…»
Приняв покаяние архиепископа, произвел Собор Александра из подсудимых в судью. Рядом с другими сидел теперь архиепископ и сам судил заблудших.
Много веков назад святые Кирилл и Мефодий, создав славянскую азбуку, принесли нам Слово Божие. И возгорелся в языческих сумерках Русской земли ясный свет православия. Как к святыне, относились на Руси к этой азбуке. И монахи, и священники, и миряне…
Но этой азбуки – увы! – не знал Симеон Полоцкий, назначенный составлять Соборные Деяния. И впервые в истории Русской Православной Церкви, Деяния Архиерейского Собора оказались записаны латиницей.
Жутковато и сейчас читать это писанное на польский лад «Skasanie о Swkato' Sobore…»
Страшно это сказание…
«Poweleniem Blagothestiwogo Prawoslawnaho welkoho Cavia j welkoho Kniasia wryczisia straz jeia, вся куколь душевредный, его же еще ревность умедлит исторгнути и искоренити, бедство будет о пшеницы да не озизаниться»…
Не равны были силы.
В Крестовую палату, окна которой выходят на Успенский собор, вводят измученных долгими годами тюрем и ссылок, не шибко-то образованных попов и монахов. И они, прошедшие через многие испытания, подвергаются теперь испытанию авторитетом всей Православной Церкви. Митрополиты и архиепископы клятвенно утверждают им, что изданные при Никоне книги в точности переведены с древних греческих книг. Как тут православному человеку, паче всего боящегося гордыни, не признать ошибок и не покаяться?
И не выдерживали этого испытания православные.
И каялись.
И, как злобная усмешка дьявола, делалась в черновике Симеоном Полоцким торопливая пометка: «Wypisac z ksiegi przykazney».
Игумен Златоустовского монастыря Феоктист принес покаяние Собору и умер в монастыре, «что на убогих дому»…
Монах Ефрем Потемкин проповедовал на своих Козельских болотах о пришествии антихриста, лжепророчествовал о голоде на семь лет, но на Соборе, «аки от сна глубокаго очнувши», начал обличать себя, «многия слез горьких излия токи».
Долго бились и с попом Никитой.
Начали архиереи ему «отверзати очи и являти его невежество». Он же, «окаянный, уподобися аспиду, затыкающему ушеса своя». Но раскаялся и он. И «бысть на нем силою десницы Вышняго изменение из смраднаго козлища в тихое и незлобное овче»…
Симеон Полоцкий. Гравюра Н. Соколова. XIX в.
Но и тут не все каялись…
Мая, 13-го числа, предстал перед Собором «блядословный» Аввакум. Не убедили Аввакума свидетельства митрополитов и архиепископов о соответствии изданных Арсением Греком книг древним греческим и славянским. Точно знал Аввакум, что это не так! И отвергся Аввакум от единства Святой Православной Церкви. Не смог присоединиться ко лжи даже ради единства церковного.
– До сих пор святые отцы нашей Церкви к правде и истине присоединялись, потому и нерушима стояла Восточная Церковь… – сказал он и далее, как записал Симеон Полоцкий, «злобу к злобе прилагая, укори в лицо весь святой Собор, всех неправославными нарицая». Наверное, только теперь и поняли русские архиереи, сколь безжалостно точным был составленный Лигаридом сценарий Собора. Никакой возможности не оставалось для маневра, для особого мнения. Все заранее было определено.
«Аввакум иерейства лишен быти… – записывал Симеон Полоцкий решение Собора, – и анафеме предатися…»
И дьякон Федор не поддался на обман. «Изблева яд змеин из уст своих», он на вопрос, который должен был сразить его:
– Имеешь ли архиереев за православны пастыри?
– Бог их весть… – ответил.
Федора вместе с Аввакумом расстригли 13 мая 1666 года в Успенской церкви Кремля. Зело мятежно было в обедню ту. Открылись Царские врата.
«Иже херувимы…» – запели. Повели Аввакума на расстрижение. Анафеме предавать повели…
Только кто кого анафеме предавал, не сразу и разберешь. И на Аввакума проклятия говорились. И Аввакум проклинал. Со всех сторон навалились на протопопа и отхватили бороду. Волосы на голове – раз уж удалось зажать – тоже добро покромсали. Один хохол, как у поляка, оставили.
– Волки вы! – вырываясь, кричал Аввакум. – Оборвали, что собаки! Видите ведь, что дуруете, а отстать от дурна не можете! Дьявол омрачил вас!
Успенские священники тоже кричали. Сплошной крик с руганью в соборе стоял. Только святые на древних успенских фресках хранили молчание. Со скорбью смотрели на непристойную возню, и словно бы бледнели фрески, словно в дымку тумана отступали святые.
Зело мятежна в Успенском соборе обедня была. Зело мятежно было и в царском тереме. Заходилась в рыданиях царица Мария Ильинична, все глаза выплакала, умоляя государя не расстригать Аввакума.
– Прости его! – рыдала она. – Сведи меня с праздником! Пожалей и детей, и меня, бедную, и самого себя…
Прогнал государь царицу прочь. Сам темнее тучи ходил по терему.
Бесполезным или небесполезным было упорство расколоучителей, нужна была или нет та жертва, которую приносили они?
Официальные историки Церкви считают, что хотя и совершены были во время церковной реформы ошибки, но расколоучители все равно не правы. Они должны были смириться и подчиниться Церковным Соборам.
Нам кажется, что это не совсем верно. Смирение, разумеется, замечательное свойство, но именно упорство первых расколоучителей, именно их жертвенность и противостояла облигаридиванию Русской Церкви, которое при полнейшем попустительстве Алексея Михайловича могло совершиться тогда.
Напомним, что в 1666 году уже шесть русских епископов получили от Лигарида свое посвящение, еще недолго, и их стало бы больше, чем епископов Никонова посвящения…
И разве не жертвенность расколоучителей заставляла оробевших перед газским мошенником иерархов Русской Церкви смягчать свои решения.
То примирение, которое происходило до 1666 года в Русской Церкви, как церковные, так и старообрядческие историки обходят вниманием, но если изменить этому обычаю и все-таки познакомиться с материалами Церковных Соборов 1666 года, то нетрудно увидеть, что намечалась вполне реальная возможность избежать раскола, двигаясь в этом направлении, можно было мирно выбраться из вражды.
«В своем воззвании к пастырям церкви Собор 1666 года внушает всем пастырям держаться новоисправленных Никоном книг, при этом, однако, вовсе не упоминает о старых книгах, как неправых; вовсе умалчивает и о старом обряде, как испорченном, а только рекомендует обряд новоисправленный, не показывая его отношения к старому… – пишет Н.Ф. Каптеров. – Так, Собор предписывает знаменовать себя в крестном знамении тремя перстами, но при этом вовсе не говорит, чтобы двоеперстная форма перстосложения, которой в то время держалось большинство, была неправославная, еретическая-армянская, как ранее торжественно уверял в этом антиохийский патриарх Макарий, не говорит, чтобы двоеперстие было недопустимо для православных».
5
2 ноября 1666 года Москва встречала патриархов, прибывших для суда над Никоном.
Еще за городом ожидал высоких гостей рязанский архиепископ Иларион. У Земляного вала – крутицкий митрополит Павел с крестами, иконами и многочисленным духовенством. Павел сказал речь, которую тут же переводили на греческий язык.
Патриархи облачились в омофоры, епитрахили и митры. Приложившись к иконам и благословив духовенство, крестным ходом пошли в город.
У каменной ограды Белого города патриархов ждал ростовский митрополит Иона, а возле Кремля, на Лобном месте, – казанский митрополит Лаврентий. Перед Успенским собором – новгородский митрополит Питирим.
Молебствие было коротким. Утомленных патриархов провели на Кирилловское подворье.
В субботу они отдыхали, а в воскресенье, 4 ноября, патриархов принял государь.
– Даст тебе Царь Христос благоденственное житие на укрепление тверди церковной, – уверили патриархи Алексея Михайловича, – на радость греческого рода и на славу бессмертную русского народа.
Уверению этому – увы! – не суждено было сбыться, но Алексей Михайлович не знал еще, что впереди у него Крестьянская война Степана Разина, Соловецкое восстание, бесконечные самосожжения раскольников…
В ответной речи он поблагодарил Бога, подвигшего патриархов предпринять такое дальнее путешествие в Россию для избавления Русской Церкви от бедствий, поблагодарил и самих патриархов, перенесших все трудности пути, пожелал им щедрого за то воздаяния в настоящей жизни и будущей…
Нам неведомо, как сложилась вечная жизнь патриархов Макария[67] и Паисия[68], но насчет воздаяния в земной жизни пришлось хлопотать самому Алексею Михайловичу. Он очень много денег потратил из казны, добиваясь восстановления Макария и Паисия на престолах, с которых их согнали еще до поездки в Москву. Но и об этом тоже не знал тогда ничего благочестивый государь Алексей Михайлович…
На следующий день посланы были государем подарки патриархам, а 7 ноября начался суд над Никоном.
Дождался-таки Паисий Лигарид своего звездного часа.
Работа была поручена ему не шибко почетная – ознакомить патриархов с положением дел, но Лигарид любую работу умел сделать так, чтобы она и определяла дальнейший ход Собора.
Первым делом Паисий Лигарид перечислил оскорбления, которые нанес Никон Вселенским патриархам. Александрийского патриарха Никон оскорбил, присвоив себе имя патриарха-папы. Иерусалимского – тем, что именовал себя патриархом Нового Иерусалима, как по невежеству и бесстыдству своему назвал свой монастырь. Константинопольского – захватом Киевской митрополии. Антиохийского – попыткой поставить Русскую Церковь выше Антиохийской.
Затем Паисий Лигарид обвинил Никона в попытке уподобить себя Всевышнему. Отроков, прислуживающих ему при богослужении, Никон именовал херувимами и серафимами. В алтаре же сам Никон чесался гребнем. Был он, как заявил Лигарид, любостяжателен – закрывшись, любил пересчитывать деньги и драгоценные меха…
На заседании Собора 18 ноября блестяще и убедительно были отвергнуты претензии Алексея Михайловича назвать этот Собор Вселенским. Паисий Лигарид объяснил, что было семь дней творения, семь труб, от которых пал Иерихон, значит, и Вселенских Соборов тоже должно быть только семь.
Ну а если уж собирать Вселенский Собор, то с какой стати в Москве? Ни к чему было, считал Лигарид, поощрять московскую гордыню. Хватит москвичам и того, что к ним на Поместный Собор приехали Вселенские патриархи, они присутствуют здесь, чтобы судить русского патриарха Никона и Русскую Церковь, уклонившуюся от православия.
Не очень-то понравилось Алексею Михайловичу это решение, но убедительными были аргументы газского митрополита. Великий государь вынужден был согласиться. Обидно, конечно, что такая не очень-то православная страна досталась, а что поделаешь, где другую державу возьмешь?
5 декабря на седьмое заседание собрались в столовой избе государя.
Когда привели Никона, встал антиохийский патриарх Макарий и на всякий случай известил Никона, что они с Паисием пришли в Москву не милостыни просить, а судить.
– Мы все четыре патриарха – преемники святых апостолов. Я – преемник князя апостолов Петра. Мой брат Паисий – преемник Иакова, брата Господня. Все, что мы будем говорить – это от уст апостолов и евангелистов!
Затем слово взял патриарх Паисий.
– Никон! – вопросил он. – Зачем ты с клятвою от патриаршего престола из Москвы отошел?
Сурово и властно, как и подобает настоящему патриарху, говорил Паисий.
Но Никон тоже не прост был.
– Пошто ты спрашиваешь меня? – спросил он. – Кто ты такой?
– Разве ты не понял, что я, александрийский патриарх, вселенский судья! – сказал Паисий.
– Тогда и суди себя по тому же правилу, как и нас, – заявил Никон. – В Александрии и Антиохии, как и в Москве, патриархов нет. Александрийский – в Каире живет. Антиохийский – в Дамаске. Ну а московский патриарх – в Воскресенском монастыре.
Переглянулись Вселенские патриархи.
– Никон! – вопросил Макарий. – Зачем ты велел писать себя патриархом Нового Иерусалима?
– Еще одна вина моя забыта… – смиренно покаялся Никон. – В прошлом собрании рязанский архиепископ Иларион обвинял меня, будто я называл Макария и Паисия неистинными патриархами. Признаю, что говорил такое. Мне достоверно известно, что в Александрии и на Антиохийской кафедре другие теперь патриархи сидят. Пусть великий государь прикажет свидетельствовать, что это не так, а патриархи пусть присягнут на Евангелии.
Тягостное молчание воцарилось в столовой избе.
Беспощадно точный удар нанес Никон. И поклясться на Евангелии было нельзя, и не клясться невозможно. Долго переговаривались между собой патриархи. Макарий вроде готов был принести клятву, но Паисий опередил его.
– Мы – истинные патриархи! – объявил он громогласно. – Мы – не низверженные патриархи. Сами мы не отрекались от престолов. Разве турки чего без нас учинили. Но если кто-то дерзнул вступить на какой-либо наш престол по принуждению турок, то он не патриарх, а прелюбодей. А клясться на Святом Евангелии архиерею не подобает.
Мудро ответил отставной патриарх Паисий, только патриарха Никона ответ не удовлетворил.
– Свидетельствую Богом, – сказал он, – от сего часа я не стану говорить перед вами, пока константинопольский и иерусалимский патриархи сюда не будут.
6
Есть сведения, что Алексея Михайловича все-таки удивила фиктивность прибывших в Москву патриархов и он потребовал от Паисия Лигарида объяснений.
– Гнев ваш, великий государь, вызван незнанием вопроса, – спокойно ответил Лигарид. – Патриарх Макарий никогда в Антиохии не бывал, живет в Египте, но в этом нет ничего удивительного. То же самое и с Паисием. Он действительно не занимает сейчас патриаршего престола. В настоящий момент александрийским патриархом является Иоаким Первый. Но если государь употребит свое влияние и заплатит туркам достаточно денег, они выгонят Иоакима и восстановят на престоле Паисия. Это дело там обычное…
Потом он объяснил царю, что выхода у него все равно нет.
– К сожалению, великий государь, – сказал он, – это необходимо-таки сделать. В противном случае суд над патриархом Никоном не будет иметь никакой силы. А великий государь не может допустить этого. И не только из-за Никона. Русские иерархи признали, что александрийский патриарх является судьей Вселенной, а антиохийский – пастырем пастырей и архиереем архиереев. Если теперь вы изгоните Паисия и Макария, вы обидите всю Восточную Греческую Церковь. Великому государю надо-таки послать туркам деньги, чтобы выкупить престолы вселенских патриархов для Паисия и Макария.
Алексей Михайлович вынужден был последовать этому совету[69].
12 декабря в Благовещенской церкви Чудова монастыря зачитали Соборный приговор по делу Никона.
Государя не было, но зато были отставные патриархи и все митрополиты и епископы. Симон Вологодский пробовал отговориться от участия в этом подлом деле болезнью, но его принесли в церковь на носилках.
Греческий текст приговора прочитал эконом антиохийского патриарха Иоанн, а русский – архиепископ Иларион.
«Благословен Бог. Нам и Святому Духу и божественно коронованному Царю благоугодно… – звучал его голос, – и мы постановляем согласно решению Святейших патриархов наших братьев во Святом Духе и сослужителей, что Никон более не Патриарх Московский и не должен больше так называться…»
Между прочим, в приговор было включено и обвинение Никона в гибели коломенского епископа Павла.
«Низверг один, без Собора, Коломенского епископа Павла! И, рассвирепев, совлек с него мантию и предал его тягчайшему наказанию и биению, от чего архиерею тому случилось быть как бы без разума, и никто не видел, как погиб бедный, зверями ли растерзан или впал в реку и утонул»…
Как только был дочитан приговор, приезжие патриархи вскочили со своих седалищ и, бормоча на ходу молитвы, бросились к Никону. Начали срывать с него панагии, усыпанные бриллиантами, клобук с вышитым на нем огромными жемчужинами крестом.
Из-за дележки драгоценностей между Макарием и Паисием возник спор.
Печально смотрел на них Никон.
– Возьмите и мантию мою, бедные пришельцы! – сказал он. – Разделите на ваши нужды.
– Нет! – со вздохом ответил ему Макарий. – Мантию снимать с тебя великий государь не велел.
– Отчего не велел? – удивился Никон. – Это ваша добыча.
7
Конец света в 1666 году так и не наступил. Московские считальщики на 1669 год его перенесли. Но до 1669 года еще дожить надобно было – напасти-то одна за другой валились на голову…
И вот ведь уже и своего нового патриарха Иоасафа поставили, а приезжие сидели в Москве, никуда не съезжали. И уже и с турками – слава Богу, хоть тут Лигарид не обманул! – договорились.
Не столько и денег отдали, а добыли фирман от султана, позволяющий Макарию и Паисию возвратиться на свои кафедры. Не шибко и дорожились турки этими кафедрами.
Только теперь не турки, а православные заартачились. Торговаться стали: дескать, и тем Паисий плох, и этим не хорош, если не приплатите к нему, никак невозможно принять! С константинопольским и иерусалимским патриархами переписка завязалась.
Христом Богом умолял Алексей Михайлович выманить Макария да Паисия из России – своих мошенников полно.
А патриархи Паисий и Макарий, чтобы отплатить царю Алексею Михайловичу за его хлопоты, не покладая рук трудились.
Газский митрополит составлял определение Собора, а патриархи архиереев здешних подписывать эти бумаги примучивали.
– Пошто хлопочете-то, святители? – пытался утишить вошедших в азарт учителей патриарх Иоасаф. – Осудили уже мы обряды церковные. Все ладно устроено. Тремя перстами велено крестное знамение творить.
– Вы и Никона от патриаршества отрешали, – отвечал Макарий. – А что вышло? Только верхушку у сорняков удаляете, а их с корнями вырывать надобно. Почитай-ка, святейший, лучше из сочинения архимандрита Дионисия, мы ему насчет перстов все написать велели.
Хмурился Иоасаф. Не нравилось ему рвение учителей, но ругаться с ними боялся. Еще не чувствовал силы. Погодить надо…
Вздыхая, листал Дионисиеву книгу.
«Егда согбаем три первыя персты десныя руки, знаменуем, яко веруем и исповедуем во святей Троице едино Божество и едино существо, сиречь: един Бог триипостасный и единосущный, якоже сии трие первии персты десныя руки имеют токмо именование: первый, второй и третий; а который есть болши или менши, не можеши разумети или сказати… Три перста за Троицу, совокупление перстов ради единицы, сиречь, яко Троица и единица есть Бог… А вы глаголете: совокупити два персты: вторым и третием, а третий наклонен быти мало под вторым… Како дерзаете вы такие хульные слова на Бога глаголати? Како не боитеся, что распадется земля и поглотит вас, таких еретиков, и пойдете вы с душою и телом в муку вечную, в негасимый огонь? Ваше знаменование Троицы неподобно и неравно, слепцы вы от беззакония вашего. Ведь один перст болши, а четвертый менши, а пятый еще зело менший. Еще и числа их разны. Первый перст, и четвертый, и пятый, а непоряду, как у нас, – первый, второй и третий. О, мудрецы злобы! Како не зрите свет истины и блядствуете безместная?!»
Мудро Дионисий Грек писал… Понять ничего невозможно, но сразу видно – великой учености человек, не то что свои невежи, по простоте навыкшие. Куды тут спорить?
И не спорил патриарх Иоасаф с приезжими учителями. Как было спорить, если на Соборе 1667 года присутствовало 30 епископов. 14 из них были иноземными, а шестеро – епископами Лигаридова поставления…
Даже когда, выкорчевывая сорняки, до Стоглавого Собора добрались, промолчал патриарх Иоасаф. Покорно склонил голову, когда огласил Дионисий соборное решение:
«А собор иже бысть при благочестивом великом государе, царе и великом князе Иоанне Васильевиче, от Макария, митрополита Московского, и что писаша… еже писано неразсудно, простотою и невежеством…
И мы, Папа и Патриарх Александрийский и судия вселенский, и Патриарх Антиохийский и всего востока и Патриарх Московский и всея России, и весь освященный Собор, тую неправедную и безрассудную клятву Макариеву разрешаем и разрушаем…»
Страшно было рязанскому архиепископу Илариону слова эти слушать. Кого в невежестве и безрассудстве попрекают? Ведь это про святителя Макария, создавшего Великие Четьи Минеи, на которых и возрастала Русская Церковь, говорится!
– Теперь ты, владыко, подпись клади! – прервал его раздумья голос Дионисия.
– Святейшие! – сказал Иларион, обращаясь к патриархам. – Не надобно бы такое про великого святителя писать!
– Преслушающие же сию заповедь и правило наказаны да будут запрещением и отлучением! – сказал александрийский патриарх Паисий.
– А кто пребудет в упрямстве своем до скончания своего, да будет и по смерти отлучен, и душа его с Иудою предателем и с распявшими Христа жидовы, и со Арием, и с прочими проклятыми еретиками. Железо, камения и древеса да разрушатся и растлятся, а той да будет не разрешен и не растлен, и яко тимпан во веки веков, аминь! – добавил Макарий.
Отчаянно взглянул Иларион на своего патриарха. Тот отвел глаза. Пришлось покориться и Илариону. Вместе со всеми русскими отцами Собора подписался Иларион под обвинением в невежестве и безумии русского чудотворца святителя Макария.
8
Осуждение Стоглавого Собора – кульминация трагедии Русской Православной Церкви.
Полтора века исполнялось в 1667 году, как обрела она самостоятельность.
Случилось это, когда Византия, принявшая Унию, потеряла свою государственную независимость. Русские святые и чудотворцы увидели связь между отступлением от догматов православия и утратой государственного суверенитета Византийской империи.
Наверное, можно спорить, насколько основательными были притязания, сформулированные игуменом Филофеем, на роль Москвы как Третьего Рима. Но совершенно бесспорно, что за полтора столетия, сберегая незыблемыми догматы православия, определенные апостолами и святыми отцами, Русская Церковь сохраняла свою руководящую роль в созидании православного царства Святой Руси.
Никакие военные и политические потрясения не поколебали значения Церкви в народной жизни. В годы Смуты на русский престол был возведен католик Григорий Отрепьев, но Православная Церковь не только устояла и в эту страшную годину, но и, согнав Отрепьева, упрочила свое положение.
Самой историей доказана была правильность пути, избранного Стоглавым Собором, святителями и святыми Русской Церкви.
И в правильности этого пути нимало не сомневались ни Алексей Михайлович, ни Никон, поставленные волей политических обстоятельств перед необходимостью сблизить обрядность Русской Церкви с обрядностью Западнославянской и Греческой Церквей.
Можно опять-таки обсуждать, компенсировали ли политические выгоды этой реформы те издержки, которые она вызывала, можно говорить о противоречии некоторых исправлений постановлениям Стоглавого Собора, но безусловно, что все разногласия носили внешний характер и легко преодолевались.
Тот же патриарх Никон, как свидетельствуют его отношения с Иваном Нероновым, начал осознавать необходимость единоверия, разрешающего старый обряд наравне с новым.
И даже Собор 1666 года, предавший анафеме наиболее непримиримых староверов, не осмелился открыто назвать неправославными всех святых Русской церкви.
Это сделано было на Соборе 1667 года, проходившем под председательством Вселенских патриархов Паисия и Макария.
По-человечески можно понять их подозрительное отношение к Русской Церкви. И зависть, и корысть, и неумность – все присутствовало здесь. Но – это необходимо подчеркнуть! – их мнение не было мнением всей Восточной Церкви.
Даже формально Паисий и Макарий не имели права представлять на Соборе 1667 года Восточных патриархов. Они были лишены своих кафедр не турками, а решением константинопольского патриарха именно за согласие участвовать в суде над патриархом Никоном, решение судьбы которого Константинопольская и Иерусалимская патриархии считали сугубо внутренним русским делом.
И уж тем более ни морального, ни юридического права не имели патриархи Макарий и Паисий для суда над Русской Православной Церковью.
Мнение Восточной Церкви по поводу реформ, затеянных Никоном, очень мудро и осмотрительно еще в 1655 году сформулировал константинопольский патриарх Паисий. Он сказал, что только в главном и необходимом требуется единообразие и единство, в том, что относится к вере. А в «чинопоследовании» и во внешних богослужебных порядках, подчеркивал константинопольский патриарх, разнообразия и различия не только допустимы, но и исторически неизбежны.
«Не следует думать, – писал этот мудрый святитель, – будто извращается наша православная вера, если кто-нибудь имеет чинопоследование, несколько отличающееся в вещах несущественных и не в членах веры, если только в главном и важном сохраняется согласие с кафолической церковью».
Повторим, что по-человечески понятны мотивы поведения патриархов Паисия и Макария. Серьезно рискуя своим положением, они приехали в Россию на заработки, и меркантильные соображения руководили ими во все время пребывания здесь. Обстоятельства благоприятствовали патриархам, и они воспользовались этими обстоятельствами.
Стремясь задобрить константинопольского патриарха, они сообщали, что потребовали у русских давать отчет Константинопольскому престолу в церковных делах, а кроме того, «обаче и обычной милостыни великому престолу, и прочим убогим престолам даянной, надеямся обновитеся, паче ж большей и довольнейшей быти».
И тут можно было бы усмехнуться убожеству целей, которые были поставлены патриархами Паисием и Макарием, если бы ради сиюминутных выгод не приносили патриархи в жертву не только саму Русскую Церковь, судьба которой была безразлична им, но и отношения ее с Восточным православием, ради которого якобы и старались они.
Нет!
Макарий и Паисий не только не смогли повернуть историю и подчинить Константинопольскому престолу Русскую Церковь, но в результате еще более оттолкнули Россию от сближения с греками…
Не будем всецело приписывать Паисию и Макарию погубление православного царства Святой Руси, но вклад в это черное дело они внесли немалый.
Современному читателю, весьма теплохладно относящемуся к православной вере, могут показаться несущественными последствия совершенного Паисием и Макарием преступления против России.
В самом деле, рассуждает такой читатель, все это касается лишь Церкви, а Россия – не только Церковь…
Рассуждение это глубоко ошибочное. Православная церковь и культура, Православная церковь и просвещение были синонимами для русского человека XVII века.
Безоговорочно осуждая самобытность Русской Православной Церкви, Вселенские патриархи объявляли невежеством и все русское просвещение, и всю русскую культуру, существовавшую до сей поры.
Опять-таки можно говорить об изъянах русского просвещения (как, впрочем, и о достоинствах его), но безусловно, что приравнивать его к невежеству было нелепостью. Совершенно неверно, будто в России не стремились овладеть полезными знаниями западной культуры. И стремились, и овладевали, хотя это и непросто было. Другое дело, что, осознавая необходимость заведения регулярных училищ, в которых бы велось фундаментальное изучение иностранных языков, весьма осторожно относились к подбору учителей, совершенно справедливо опасаясь, что под видом полезных знаний будут привнесены ими и разрушительные, враждебные русской православной культуре идеи.
Насколько основательными были эти опасения, свидетельствуют события последующих столетий. Насаждаемая и принятая в господствующих классах культура оказалась настолько инородной для России, что основная масса населения была неспособной воспринять ее. И только в XIX веке начинается постепенное сближение западнической культуры с русской культурой, считавшейся в предыдущие века невежеством.
Трагические же последствия насильственного внедрения западной культуры в Россию мы ощущаем до сих пор. Не случайно ведь великий знаток русского языка писал: «У нас же, более чем где-нибудь, просвещение – такое, какое есть, – сделалось гонителем всего родного и народного. Как в недавнее время еще первым признаком притязания на просвещение было бритие бороды, так вообще избегалась и прямая русская речь, и все, что к ней относится. Со времен Ломоносова, с первой растяжки и натяжки языка нашего по римской и германской колодке, продолжают труд этот с насилием и все более удаляются от истинного духа языка. Только в самое последнее время стали догадываться, что нас леший обошел, что мы кружим и плутаем, сбившись с пути, и зайдем неведомо куда. С одной стороны, ревнители готового чужого, не считая нужным изучить сперва свое, насильственно переносили к нам все в том виде, в каком оно попадалось и на чужой почве, где оно было выстрадано и выработано, тогда как тут могло приняться только заплатами и лоском; с другой – бездарность опошлила то, что, усердствуя, старались внести из родного быта в перчаточное сословие».
И еще об одном последствии урока, данного «вселенскими учителями» на Соборе 1667 года, необходимо сказать. Патриархи Паисий и Макарий сознательно обманывали русских архиереев, выдавая свои убеждения за убеждения всей Греческой Церкви. Они не стеснялись тут и шулерского передергивания фактов, и откровенной лжи.
Расчет был простым.
И Макарий, и Паисий прекрасно знали, что ни патриарх Иоасаф, ни царь Алексей Михайлович, ни другие высокопреосвященные члены Собора не пойдут ради разоблачения их мошенничества на подрыв авторитета всей Вселенской Православной Церкви, они сознательно спекулировали этим авторитетом.
К сожалению, этот «урок» греческой хитрости тогдашними иерархами нашей Церкви оказался усвоенным наиболее успешно. Очень скоро, когда, воспитанные протестантским Западом новые Романовы обрушат жестокие казни на Русскую Православную Церковь, не найдется среди архиереев ни Геннадия Новгородского, ни Иосифа Волоцкого, ни митрополита Филиппа…
9
Велик был авторитет Вселенских патриархов.
Не дерзал спорить с ними патриарх Иоасаф. Молчали и русские архиереи.
И все же голос в защиту Русской Православной Церкви прозвучал на Соборе!
«Лазарь же окаянный не содрогнувся. Не токмо в покаяние прииде или прощение требова, но во всем противно упорствовал, но и весь Священный Собор неправославным нарече».
А 17 июля 1667 года предстал перед «вселенскими учителями» и Аввакум.
– От невежества все ваше упорство! – сверяясь с книгой Дионисия, начал поучать его патриарх Паисий. – От незнания риторики и диалектики. Ссылаетесь вы на Петра Дамаскина[70], который двумя перстами учил знаменоватися крестом. Разумейте же… Во-первых, книга Петра Дамаскина не всем в нашей Греческой Церкви приятна. Во-вторых, Петр Дамаскин только о двух перстах беседует, только о втором и третьем, которые знаменуют два естества Христова… О прочих же перстах и он не мудрствует… Главное же, надобно постигнуть, что хотя и дозволялось сложение двух перстов ради еретиков-единовольников, то потом было воспрещено. С многими вещами так поступлено. Одни святые отцы повелевали так, а другие повелевали лучше делать. И вам надобно не упорствовать в невежестве, а принять, как мы повелеваем. Все ли тебе понятно, невежа?
Молчал Аввакум.
– Что ты упрямишься?! – недовольно проговорил Макарий. – Вся ведь наша Палестина: и сербы, и албанцы, и волохи, и римляне, и ляхи – тремя персты крестится, один ты стоишь в своем упрямстве!
– Вселенские учители! – наконец ответил Аввакум. – Вам должно быть ведомо, что Рим давно упал и лежит не разгибаясь, а ляхи с ними же погибша, стали врагами православных христиан. Да ведь и у вас, учители, православие пестро от насилия турецкого Магомета. Нешто сами не видите, как немощны вы стали? И впредь приезжайте к нам учиться! У нас, Божией благодатию, самодержство. До Никона-отступника у наших князей и царей православие было чисто и непорочно и Церковь была немятежна. Это Никон-волк с диаволом трямя перстами креститься учат. А первые наши пастыри, якоже пятью персты крестились, такоже и нас благословили. Такоже и Собор при царе Иване в Москве бывый утвердил. А на Соборе том были знаменосцы: Гурий, смоленский епископ, Варсонофий тверской, казанские чудотворцы, Филипп, соловецкий игумен, и иные от святых русских!
Любопытно сопоставить эти рассуждения Аввакума с письмом Паисия Лигарида, отправленным спустя полгода папскому нунцию в Варшаве.
«Я сам, единственное лицо, которое могло бы проводить это дело, – писал 25 сентября 1668 года Лигарид, – и которое воспламенено самым горячим усердием видеть успех его… подавлен несчастьями, преследуем заговорами, окружен клеветами. Патриарх Иерусалимский Нектарий прислал плохое сообщение обо мне, что я поклонник Папы, как продавшийся ему и имеющий ежегодную пенсию в 200 золотых дукатов, как клирик Римской Церкви… Пусть святая Пропаганда рассмотрит внимательно этот пункт и определит, что вдохновит ее Святой Дух через милость и благодать нунция, которого я прошу повлиять в этом деле, помня, что патриарх Московский Иоасаф II сделает все, что может, чтобы лишить меня всякого места в рангах духовенства, выталкивая меня и отсекая всякую нить моей надежды быть выбранным в патриархи (выделено нами. – Н.К.). Прошу тебя, как отца, не оставить ни одного камня не перевернутым, чтобы сделать что-либо для меня».
В одном городе, в одно время прозвучали эти слова, но такое ощущение, что разделяют их века и бесконечные километры.
Из разных миров написаны они.
Столь подробно описываем мы этот омерзительный тип газского митрополита, чтобы показать, кем были «учителя» и «судьи» Русского православия.
Но еще важнее другое.
К сожалению, царь Алексей Михайлович, первый урожденный царь Дома Романовых, был в том мире, где находился Лигарид, и жуликоватые экспатриархи.
К сожалению, власти (государь и его окружение) не были даже обмануты, они прекрасно понимали, что газский митрополит является мошенником, но это не послужило поводом для отстранения Лигарида. И это, конечно, самое страшное.
И Алексей Михайлович, и его ближайшее окружение считало, что русских людей может судить любой заграничный авантюрист.
Это уже не маска. Это подлинное лицо пришедшей к власти династии. Вместо династии русских царей на троне оказалась династия поработителей русского народа.
Вообще вся история с исправлением служебников чрезвычайно похожа на манипуляцию наперсточников. Помимо прямого разрушительного воздействия реформаторов на православное сознание было достигнуто много побочных результатов, тлетворное воздействие которых на русского человека было более опосредованным, и только сейчас, много веков спустя, оно начинает осознаваться…
Именно тогда удалось намертво связать русский традиционализм с малограмотностью. По сути, все раскольники были объявлены темными, необразованными людьми, хотя, безусловно, они намного превосходили интеллектом и образованностью тогдашних реформаторов.
И тогда так было, и сейчас…
Для того чтобы прослыть образованным человеком, совершенно ни к чему загружать свою голову знаниями. Достаточно просто объявить, что тебе ненавистна русская старина, и дело сделано. Все будут считать тебя необыкновенно умным и образованным…
Как после удачного набега, съезжали с Москвы вселенские учителя…
Вереницею шли обозы с соболями, золотом, драгоценной костью, другим добром, которое выклянчили патриархи за эти годы, которое успели наторговать в Москве.
Сравнимым с вражеским нашествием был урон, нанесенный отставными патриархами государевой казне, десятками тысяч рублей исчислялся он.
А вот Паисию Лигариду не повезло. Его труды по наведению порядка в Русской Православной Церкви не нашли должной оценки.
30 мая 1672 года (между прочим, в этот день родился Петр I) Паисия Лигарида почти силком погрузили на телегу и повезли в Киев, стоявший на границе Российской державы. Дальше Лигариду велено было самому до своей митрополии добираться.
И позабыл тогда Лигарид о русском невежестве, начал предрекать в своих посланиях Алексею Михайловичу, что освободит тот греков от турок и овладеет Константинополем, начал хлопотать о присоединении Валахии к России.
Но в Москве хорошо помнили, во что царской казне обошлись устроенные Лигаридом уроки вселенских учителей, и дипломатические инициативы Лигарида поспешили пресечь самым решительным образом. Немедленно увезли его в Москву, где несколько лет держали под строгим домашним арестом.
Попытался было предложить Лигарид свои услуги в составлении писем римским кардиналам, но ему велели уезжать.
На этот раз на дорогу ему было дано всего пятьдесят рублей. И снова только до Киева и добрался митрополит-авантюрист.
В Киеве 24 августа 1678 года и умер в нищете этот человек, собравший за свою жизнь, наверное, самую большую коллекцию анафем. Его проклинали патриархи Парфений II, Мефодий, Паисий, Нектарий.
Проклинали в Константинополе и Иерусалиме.
Кажется, только русские патриархи и позабыли проклясть Лигарида.
Недосуг было.
Другие заботы одолевали…
Глава четвертая Русские смерти
В 1669 году конец света тоже не наступил.
А ждать-то его ждали. Крестьяне целыми деревнями снимались с мест и уходили в пустыни…
Алексей Михайлович тоже ждал…
Какая-то непонятная болезнь поразила в этом году семейство государя. Рыхлело все тело, грузно наливалось оно и расползалось под собственной тяжестью.
1
Первая смерть пришла в Царскую Семью в феврале 1669 года, с рождением тринадцатого ребенка.
Вначале новорожденная Евдокия умерла, а следом и сама Мария Ильинична…
18 июня преставился царевич Семен. Потом – шестнадцатилетний Алексей, наследник престола.
Частенько смерть к великому государю наведываться стала. Видел Алексей Михайлович, что и оставшиеся сыновья Федор и Иван не крепки здоровьем.
В семье страшно было.
В державе – еще страшнее.
На юге бушевали воровские казаки Стеньки Разина. Уже не суда на Волге грабили, а большие города захватывали, как ляхи или басурманы!
В Астрахани – страх какой! – бояр и служилых людей предавали лютой казни. Одних с раската сбрасывали, других вверх ногами вешали, третьих на крюке, поддетом под ребро, умерщвляли. В Петров пост принуждали горожан мясо и молоко есть!
Сатанинской силою Стенька Разин встал на юге. Поднимались по Волге на стругах, город за городом брали…
А на севере – тоже беда. Соловецкий монастырь восстал.
Отправление царских войск против Разина. Рисунок XVII в.
«Милосердный государь! – писали соловецкие монахи. – Помилуй нас, нищих своих богомольцев… Не вели преподобных Зосимы, Савватия, Германа и Филиппа предания нарушить и вели государь нам в том же предании быть, чтоб нам врознь не разбрестись и твоему богомолию, украйному и порубежному месту от безлюдства не запустеть».
Плакал государь, челобитие это читая. Всем сердцем, всей душою своей доброю милостивым хотел к богомольцам быть, да куда там… Антиохийский патриарх Макарий строгую грамоту с дороги прислал. Писал, что в России, как он заметил, много раскольников и противников не только между невеждами, но и среди священников.
«Вели их смирять и крепким наказанием наказывать!» – внушал патриарх.
Как ослушаться святейшего?
Уже не скажешь сейчас, что самозванец это говорит. Сам ведь Алексей Михайлович и хлопотал, столько денег потратив, чтобы на кафедре восстановить. Теперь чего же, теперь слушаться надо! Велик государь, вся сила у него, все державное веление, но что сила тут? Лучше слезами, усердием и низостью пред Богом помысел чинить, чем силой и славой!
Вот ведь заварили кашу учителя вселенские, теперь и за сто лет не расхлебать будет!
И что поделаешь? Покориться надо… Плакал Алексей Михайлович, заливался слезами, войско на осаду Соловецкого монастыря снаряжая.
На севере – соловецкие монахи, на юге – Разин, вся Русь между Богом и дьяволом…
Что делать?
Слухи по Москве ходили, будто у Степана Разина в ватаге, что по Волге подымается, два струга идут черных. На одном – мертвый царевич Алексей плывет, на другом – патриарх Никон, который в Ферапонтовом монастыре под замком сидит.
«Если неразумная запретительная клятва восточных патриархов осуждением русского Первосвятителя, наложенная на весь русский народ, не снимется, добра ждать нечего», – писал Никон царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова.
«Царь-государь! – писал из Пустозерска Алексею Михайловичу другой узник, Аввакум. – Из темницы, яко из гроба, тебе глаголю: помилуй единородную душу свою и вниди паки в первое свое благочестие, в нем же ты порожден еси и преже бывшими тебя благочестивыми цари, родители твои и прародители!»
И добра хотелось государю, и душу свою помиловать тоже хотелось.
Но рыхлым, совсем рыхлым было тело.
Гасло в нем все. Разина страшно было. Макария страшно. Смерти тоже боялся теперь Алексей Михайлович…
2
Впрочем, помирать Алексей Михайлович не спешил.
Когда страшно становилось, шел к ближнему боярину своему – начальнику московских стрельцов Артамону Сергеевичу Матвееву.
У него спокойно было…
Артамон Сергеевич на шотландке Гамильтон женат был, и в доме у него – вроде как и не в России терем стоял! – русских тревог не слышали.
И хозяйка дома Евдокия Григорьевна хоть и с акцентом по-русски говорила, но очень Алексею Михайловичу нравилась. С племянницей Матвеева – Натальей Кирилловной Нарышкиной вдвоем государя от тревог развлекали.
На Наталье Кирилловне и решил жениться Алексей Михайлович…
Но женился он, как и положено государю.
По обычаю!
Тогда на Руси царицею могла, по обычаю, стать любая девушка. Если, конечно, красотой уродилась. Если здоровье доброе. Если разум имеет. Если счастье ей государевыми очами улыбнется…
И повезли, повезли на смотр девушек.
Из Владимира везли и из Рязани. Из Новгорода и из Костромы. Вначале близкие царю бояре девиц смотрели, потом самому царю показывали. Которой отдаст государь платочек с колечком, той и быть невестой царя.
Всем девицам, которые были в приезде для выбору, роспись делалась…
Иевлева дочь Голохвастова Оксинья…
Смирнова дочь Демского Марфа…
Васильева дочь Векентьева Каптелина, живет у головы московских стрельцов у Ивана Жидовинова…
Анна Кобылина, живет у головы московских стрельцов у Ивана Мещеринова…
Марфа Апрелева, живет у головы московских стрельцов у Юрья Лутохина…
Львова дочь Ляпунова Овдотья…
Князя Григорьева дочь Долгорукого княжна Анна…
Печатника Алмаза Ивановича внуки Анна да Настасья…
Тимофеева дочь Дубровского Анна…
Княж Михайловы дочери Гагарина, княжна Анна, княжна Марфа…
Матвеева дочь Мусина-Пушкина Парасковья…
Андреева дочь Дашкова…
Соломонида Редрикова…
Алексеева дочь Еропкина Настасья…
Елизарьевы дочери Уварова Домна да Авдотья…
Истопничева Иванова дочь Протопопова Федора…
Романовы дочери Бунина Ольга да Авдотья…
Кириллова дочь Нарышкина Наталья…
Андреева дочь Незнанова Дарья…
Из Великого Новгорода Никитина дочь Овцына Анна…
Петрова дочь Полтева Дарья из Суздаля…
Васильева дочь Апраксина Марья с Костромы…
Назарьева дочь Колемина Оксинья с Рязани…
Елисеева дочь Житова Овдотья…
Нестерова дочь Языкова Хомякова
Марья из Владимира, живет у пушного клюшника у Михаила Михачева…
Петра дочь Скобелицына Офимья из Новгорода…
Из Вознесенского девича монастыря Иванова дочь Беляева Овдотья. Привез дядя ее родной Иван Шехирев да бабка ея Ивановская посестрия Егакова старица Ироида.
Артемьева дочь Линева Овдотья…
Шестьдесят девять отборнейших красавиц в кремлевских сенях уложили спать, и по ночам бродил государь в сопровождении «немца-дохтура», осматривая спящих девиц. Выбранная им Наталья Кирилловна тоже здесь была, но про то Алексей Михайлович и «немцу-дохтуру» ничего не сказывал. Полгода государь девиц смотрел… Полгода в кремлевских сенях спали Марьи, Натальи, Дарьи, Агафьи, Оксиньи, Анны, Марфы, Татьяны, Парасковьи, Василисы, Настасьи…
Одна другой краше!
Но в царицы государь выбрал, как заранее решено было, Кириллову дочь Нарышкину Наталью, воспитанницу Артамона Матвеева.
Скоро после свадьбы Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной поймали-таки и Стеньку Разина.
2 июня 1671 года ударили колокола на московских церквах. Это в городские ворота въехала запряженная тройкой лошадей необычная повозка.
На повозке виселица стояла. В виселице – прикованный руками к столбам, казак с кудрявой бородой.
Сзади повозки, прикованный цепью, спотыкаясь, брел другой казачок.
Это и были знаменитый атаман Степан Разин и его брат Фрол.
Однако еще четыре дня оставалось жить Степану Разину.
Четыре дня то на дыбу Степана поднимали, то огнем испытывали, то кнутом секли.
Допросы боярин князь Долгорукий снимал. Иногда и сам Алексей Михайлович в застенок наведывался.
Про шубу, которая столько шуму на Волге наделала, которую астраханский воевода Прозоровский отнял у вернувшегося из Персии Разина, спрашивали…
Про ясырь[71], который митрополиту Иосифу Степан посылал… Про патриарха Никона…
– За что Никона хвалил, а нынешнего патриарха Иоасафа бесчестил? За что Вселенских патриархов хотел побить?
В расспросе и с многих пыток, и с огня рассказал Степан, что приезжал к Симбирску старец от Никона, говорил, чтобы идти Разину вверх по Волге, а Никон со своей стороны пойдет, ибо тошно ему от бояр.
– Как звали старца?
– Сергием… – ответил Степан Разин. По его рассказу получалось, что настоящим богатырем старец Сергий был. В бою под Симбирском исколол своими руками сына боярского, и это Степан Разин сам видел.
Хрустели суставы вздымаемого на дыбу атамана. Свистел кнут, лоскутами срезая кожу. Брызгами летели на земляной пол капли крови. Паленым мясом пахло в застенке.
Крутил головой великий государь Алексей Михайлович.
К молодой жене тянуло его…
Фрол Разин пожиже своего брата на пытке оказался. Он тоже о старце твердил. И другие разинцы видели старца и под Симбирском, и под Царицыном. Видели в Астрахани. И так получалось, что всюду одновременно старец был…
Долго расспрашивать Разина побоялись.
Неспокойно в Москве было…
6 июня поставили Степана Разина и его брата Фрола на Лобном месте.
«Вор и богоотступник и изменник донской казак Степка Разин! – читал дьяк. – Забыв страх Божий и великого государя и великого князя Алексея Михайловича крестное целование и ево государскую милость, пошел с Дону для воровства на Волгу и на Волге многие пакости чинил… Отступя от святыя соборные и апостольские церкви, будучи на Дону, говорил про Спасителя нашего Иисуса Христа всякие хульные слова и на Дону церквей Божиих ставить и никаково пения петь не велел, и священников с Дону сбил, и велел венчаться около вербы… И невинную кровь христианскую проливали, не щадя и самих младенцев…»
Когда дьяк замолк, Разин поклонился на все четыре стороны.
– Простите, православные! – сказал и лег на плаху, раскинув ноги и руки, чтобы палачу было удобнее отсекать их. Сверкнул на солнце топор – по локоть отхватили правую руку Разина. Затем по колено была отрублена левая нога.
Ввоз Степана и Фрола Разиных в Москву. Рисунок XVII в.
Закричал, забился на помосте ожидающий казни Фрол.
– Молчи, собака! – услышала вся толпа слова истекающего кровью Разина.
– Кончай! – закричал палачу дьяк. Снова сверкнул топор – голова Разина откатилась от тела.
Уже мертвому отрубили ему правую ногу и левую руку. Потом разрубили на части туловище. Кишки выбросили собакам, а куски тела накололи на колья, поставленные вокруг Лобного места.
А Фрола, крикнувшего на эшафоте «слово и дело», еще пять лет пытали, допытываясь про старца Сергия, про вербу на донском острове, где зарыл Разин кувшин с тайными грамотами…
До конца года шел розыск и в Поволжье.
В одном Арзамасе казнили больше десяти тысяч повстанцев.
Еще страшнее карали жителей Астрахани и Царицына. Резали языки, секли пальцы, закапывали живыми в землю. Повсюду стояли виселицы, торчали колья с насаженными на них разинцами, валялись отрубленные головы и руки…
Искали повсюду старца Сергия.
Всех разинцев на допросах о старце спрашивали…
3
Еще когда царицу выбирал Алексей Михайлович, начались приготовления к царской свадьбе и на севере Руси.
Долго увещевал государь соловецких монахов. Чего, в самом деле, за своих малограмотных чудотворцев Зосиму и Савватия стоять, крестились бы, как антиохийский патриарх Макарий учит, и ладно было бы.
Но упрямились соловецкие иноки.
Пятнами накипного лишайника на валунах разрасталась соловецкая боль…
«Вели, государь, – написали, – на нас свой царский меч прислать и от сего мятежного жития переселити нас на оное безмятежное и вечное житие…»
Плакал государь, снаряжая стряпчего Игнатия Волохова с тремястами стрельцами в монастырь. Жалко ему было старцев соловецких переселять насильно на вечное житие, а чего делать-то? Сами ведь просятся…
Это патриарх Макарий, на которого столько денег из казны потрачено, велел. Дорого России антиохийский патриарх стал. Дорого и указание его. Послал царь стрельцов, пусть уж казнят монастырь…
Только обманули Алексея Михайловича монахи: вместо того чтобы мирно переселяться, закрыли перед Волоховым монастырские ворота, и стрельцам не карать монахов пришлось, а осаду неприступной крепости держать. Три года, все лето до поздней осени, осаждал Игнатий Волохов монастырь.
Вот беда-то. Непокорство, мятежи кругом встают.
Боярыню Морозову Алексей Михайлович не хотел трогать… Далекая, а родня все-таки…
Стрелецкого голову к боярыне Морозовой послал.
Обещал царь Морозову назад в первую честь возвести. Сулил карету прислать свою с аргамаками царскими. Обещал бояр прислать, чтоб на своих головах страдалицу понесли…
Дай, просил только, приличие людей ради, что недаром тебя взял. Не крестись тремя перстами, но точию руку показав, сложи те три персты вместе! Послушай, мати праведная, Федосья Прокопьевна, аз сам царь кланяюся головою своей, сотвори сие!
– Езживала я и в калганах, и в каретах! – отвечала Морозова. – На аргамаках и бахматах. Чего меня головами боярскими прельщать? И так худо на плечах держатся. Вот слыхала я от князя Ивана, что уготован есть для меня сруб на болоте, что велми добро и чинно дом тот устроен, и соломою снопами уставлен… Сие мне преславно. Желаю такого дара от царя получити!
Опять не удалось уговорить, решать надобно – что делать?
Иоаким, уж поставленный из чудовских архимандритов в новгородские митрополиты, сжечь Морозову предлагал.
Иоаким всего пятнадцать лет только в духовном звании был, до этого он, Иван Савелов, по военной части двигался. Привык, если что – сразу жечь! И грамоте только в монастыре выучился… Не понимал многого. Великий государь предложение его отверг. Зачем сжигать? Указал отвезти сестер в Боровской острог, посадить в земляную тюрьму и не давать ни еды, ни воды, пока креститься, как приказано Вселенским патриархом Макарием, не будут.
Так и сделали…
«…Звезда утренняя, зело рано возсиявшая! Увы, увы, чада моя прелюбезная! Увы, други моя, сердечная! Кто подобен вам на сем свете, разве в будущем святые ангелы! Увы, светы мои, кому уподоблю вас? Подобны вы магниту-каменю, влекущу к естеству своему всяко железное. Тако же и вы своим страданием влекуще всяку душу железную в древнее православие. Иссуше трава, и цвет ее отпаде, глагол же Господень пребывает во веки. Увы мне, увы мне, печаль и радость моя осажденная, три каменя в небо церковное и на поднебесной блещашеся!» – плакал в Пустозерске протопоп Аввакум, сведавший о мученической кончине Федосьи Прокопьевны Морозовой, княгини Евдокии Прокопьевны Урусовой, дворянской жены Марии Герасимовны Даниловой…
4
Много новых наук приходило на Русь из Украины, из Польши, из немецкой стороны.
Вот и Симеон Полоцкий, которого высмотрел Алексей Михайлович, когда Полоцк брали, не только к исправлению церковных книг да к учительству способным оказался.
В ночь на 11 августа 1671 года он заметил вблизи Марса «звезду пресветлую» и предсказал царю Алексею Михайловичу, что «по небесным картам» в утробе Натальи Кирилловны зачался ребенок, «имя которому наречется Петр» и рождение которого будет 30 мая 1672 года[72].
По этому поводу после Нового года[73], едва только закончился Успенский пост, перед отъездом из Преображенского, была учинена комедия «Артаксерксово действо». Учинил «действо» в особой хоромине, специально для этого построенной в Преображенском лютеранский пастор Иоганн Готфрид Грегори, а участвовали в нем немцы и дворовые люди Артамона Сергеевича Матвеева.
Велико, как и Алексея Михайловича, было царство царя Артаксеркса. И со всех концов царства, как и Алексею Михайловичу, свозили самых красивых девушек, чтобы выбрал себе Артаксеркс новую царицу взамен прежней. Артаксеркс разумно поступил, выбрав Эсфирь.
На Наталью Кирилловну Эсфирь похожа была…
Опухший от жира, неподвижно смотрел Алексей Михайлович, как плетет на сцене коварный Аман заговор, убеждая Артаксеркса истребить евреев и вместе с ними верного советчика государя Мардохея.
И вот уже помчались во все концы царства гонцы, понесли страшную весть. И разорвал на себе одежды Мардохей, и пошел к Эсфири, которая оказалась воспитанницей его, и рассказал о великом горе.
И хотя и запрещено было под страхом смертной казни являться незваным к Артаксерксу, но, чтобы спасти свой народ, вошла Эсфирь к царю, и подкосились от страха ее ноги, и без чувств упала Эсфирь перед царем. Точно так упала, как первая избранница Алексея Михайловича. Только не решился тогда Алексей Михайлович, подобно Артаксерксу, подойти, побоялся учителя своего Бориса Ивановича Морозова, не простер царский скипетр, защищая свою Эсфирь…
Слезы навернулись на голубые глаза государя. Осторожно взглянул на царицу. Вытаращившись, смотрела Наталья Кирилловна на сцену. Красивыми были глаза у нее, добрыми и глупыми.
Вздохнул государь.
С Натальей Кирилловной его свели в шотландско-русской семье Артамона Матвеева[74], там она воспитана была, как Эсфирь у Мардохея.
Будет ли Артамон, как Мардохей, верным?
Снова заслушался государь, как упрашивает красавица Эсфирь Артаксеркса, чтобы повесили на воротах Амана, врага ее народа и врага царя.
И повесил Артаксеркс Амана.
И возвеличил Мардохея, отдав ему перстень для запечатывания указов. И послал Мардохей запечатанные этим перстнем указы во все концы страны, чтобы убивали евреи всех своих недоброжелателей, и детей недоброжелателей убивали, и жен недоброжелателей. А князьям и начальникам областей приказано было помогать евреям убивать их врагов, детей врагов и жен врагов.
Только в Сузах, столице Артаксеркса, по указу Мардохея, было убито за день пятьсот недоброжелателей евреев.
И сказал растроганный Артаксеркс возлюбленной Эсфири:
– Скажи желание твое! И оно будет удовлетворено…
И сказала Эсфирь царю:
– Пусть позволено будет иудеям, которые в Сузах, делать завтра то же, что сегодня! И десятерых сыновей Асадовых пусть повесят на дереве!
И приказал Артаксеркс сделать так, и повесили сыновей Амана на дереве. А евреи на следующий день убили в Сузах еще триста своих врагов. А по всему царству за тот день было истреблено семьдесят пять тысяч недоброжелателей евреев.
И возвеселились иудеи и предались пиршеству и веселию, установив в эти весенние, четырнадцатый и пятнадцатый, дни месяца Адара веселый еврейский праздник Пурим, потому что «пурим» на их языке означает «жребий».
Шумел на сцене в Преображенском веселый еврейский праздник Пурим…
Десять часов шумело в особой храмине действо, учиненное пастором Грегори Иоганном Готфридом. Великий государь, приученный выстаивать долгие церковные службы, выдержал и это, а беременная Наталья Кирилловна сомлела.
И дети царя тоже устали…
Ну, ничего. Надо и им маленько к образованию навыкать.
Федора-то Симеон Полоцкий уже научил польские книжки читать, дак веселее наследник стал. Великое дело просвещение…
Не повредило и Наталье Кирилловне «Артаксерксово действо».
30 мая 1672 года зазвонили колокола по всей Руси – у Натальи Кирилловны и Алексея Михайловича родился первенец, будущий русский император Петр I, человек, которого назовут в России антихристом…
В год его рождения начались самосожжения раскольников…
5
Все-таки удалось Алексею Михайловичу Русскую Церковь устроить, как антиохийский патриарх Макарий учил. Все теперь строго по-гречески делалось. Даже патриархи и те не засиживались на престоле, как в прежние времена, а менялись почти так же часто, как в Константинополе.
После Никона уже и Иоасаф II в патриархах побывал, и Питирим. Теперь Иоаким патриархом стал.
Когда выбирали его, сомневались многие. Говорили, что шибко необразован митрополит. Десяти лет еще не прошло, как грамоте научился! Да и в духовном звании недавно. Всего пятнадцать лет назад из мира в монастырь пришел. Все-таки поставили. Нынче патриарху на Руси не духовное, а военное образование требовалось. А военный опыт у дворянина Савелова имелся…
Восемь лет уже безуспешно штурмовали царские войска Соловецкий монастырь. Вместо Волохова послали стрелецкого голову с тысячей стрельцов, но и Клементий Иевлев ничего не достиг.
Теперь иевлевских стрельцов с изъеденными цингой зубами сменило войско воеводы Ивана Мещеринова.
Патриарх Иоаким добро помнил военную науку. Войскам Мещеринова была придана артиллерия и стенобитные орудия, а главное, все командиры были иностранцами – майор Келин, ротмистр Гаврила Буш, поручики Василий Гутковский и Федор Стахорский. Многие из них и грамоте умели только немецкой, и потому в вере на них положиться можно было…
В конце декабря расставили, как положено по регламенту, орудия и начали расстреливать Соловецкий монастырь. Несколько дней били из пушек ядрами и гранатами по святым церквам.
Стихла на третий день пальба. Кончился огневой припас у Мещеринова…
Началась в монастыре цинга, но и тогда устояла монастырская твердыня, сложенные из дикого камня стены монастыря словно бы из этой земли и вырастали…
И стоял монастырь, пока в метельную ночь 22 января 1676 года не провел монах Феоктист стрельцов в монастырь через тайный ход.
В эту ночь и завершилась семилетняя осада. Тревога поднялась, когда уже вливались в распахнутые ворота темными волнами отряды стрельцов и рейтар. И не было никакой схватки. Оставляя за собой чернеющие на снегу тела убитых монахов, уже растекалось войско по монастырю.
Ночь была ясная, морозная, озаряемая полярным сиянием. Далеко было видно в ту ночь… Всё видели пищальщики, предусмотрительно оставленные Мещериновым за стенами монастыря…
В эту ночь, 22 января 1676 года, так и не дал поспать стрельцам Мещеринов. Семь лет государь великий этого дня ждал, надо было завершать дело с переселением, как положено.
Приглянувшихся ему иноков Мещеринов на крюк вешал. В бок монаху вонзался железный крюк, поддевался под ребро, и так и поднимали на виселицу человека.
Келин сердился. Ругался, что без толку это. Все равно на таком морозе не чувствуют боли монахи, не успеешь на виселицу поднять – уже замерз…
Верно говорил Келин. Только ведь не для одного мучительства казнь, а для острастки. Но когда заполнили озаряемую жуткими небесными огнями виселицу, другую Мещеринов ставить не велел.
Теперь связанных попарно монахов опускали в прорубь.
Эти трупы потом, когда пришло пронзительно белое лето, море выбрасывало на берег, и они лежали среди прибрежных камней и не разлагались.
И бродили, бродили между низкорослыми, кривыми елками сошедшие с ума стрельцы. Столько месяцев прошло, а они не спускал глаз с берега, караулили, чтобы не ожили выброшенные морем монахи.
А тогда, долгой полярной ночью, управились с казнями. Можно было теперь докладывать государю, что и эту семилетнюю войну закончили, и переселили всех куда положено.
Только хоть и торопились с казнями, а не успели.
Когда прибыло в Москву донесение Мещеринова, уже не было Алексея Михайловича, великого государя всея России… 29 января разорвалось изнутри его заплывшее жиром тело…
Помер сорокавосьмилетний голубоглазый царь.
Кончина Алексея Михайловича во всех подробностях описана.
«Расслаблен бысть прежде смерти, и прежде суда того осужден, и прежде бесконечных мук мучим. От отчаяния стужаем, зовый и глаголя, расслаблен при кончине: “Господие мои, отцы соловецкие, старцы! Отродите ми, да покаюся воровства своего, яко беззаконно содеял, отвергся христианские веры, играя, Христа распинал, и панью Богородицею сделал, и детину голоуса – Богословом, и вашу Соловецкую обитель под меч поклонил, до пяти сот братии и больши. Иных за ребра вешал, а иных во льду заморозил, и бояронь живых, засадя, уморил в пятисаженных ямах. А иных пережег и перевешал, исповедников Христовых, бесчисленно много. Господие мои, оградите ми поне мало!” А изо рта, и из носа, и из ушей нежит течет, быдто из зарезанные коровы. И бумаги хлопчатые не могли напастися, затыкая ноздри и горло».
Такую вот страшную картину его кончины нарисовал в своей книге протопоп Аввакум.
– Пощадите! Пощадите! – умирая, кричал государь.
– Кому ты, великий государь, молился?! – спрашивали испуганные бояре.
– Соловецкие старцы пилами трут меня! – со стоном ответил Алексей Михайлович. – Велите войску отступить от их монастыря!
Но запоздало, запоздало это повеление.
Уже взят был монастырь иноземцами под командой Мещеринова. Уже переселены были по указу Алексея Михайловича соловецкие иноки на небеса. Сейчас и Алексея Михайловича ответ держать Господь призвал…
Так и не дождался награды Иван Мещеринов.
Следствие было начато, в ходе которого выяснилось, что Мещеринов еще и ограбил монастырь. При обыске его ладьи было изъято восемнадцать дорогих икон, украденных Мещериновым из соборной церкви…
Скорые кары обрушились после смерти Алексея Михайловича и на голову его верного Мардохея – Артамона Матвеева.
Все нажитые богатства были отобраны, сам Матвеев обвинен в чернокнижии и сослан вначале в Казань, а потом в Пустозерск, где от его спутников и узнали пустозерские узники о страшной кончине своего православного царя…
6
5 сентября 1678 года новый великий государь всея России, шестнадцатилетний Федор Михайлович, осматривал Новый Иерусалим.
Тетка его, Татьяна Михайловна, почитательница патриарха Никона, сама показывала племяннику монастырские строения, а там, где не поспели начать строительство, не жалела пояснений, из слов своих, как из кирпичей, воздвигая задуманные Никоном строения.
Помолились в Голгофской церкви. Постояли на истринском берегу. Осмотрели скит бывшего патриарха…
Велик был замысел Никона – воссоздать в Подмосковье священные места погребения и Воскресения Господня. Долго стоял шестнадцатилетний государь в незаконченном строительством храме Воскресения Господня, воздвигаемого по точным чертежам иерусалимского храма. «Дитятком красным, церковным…» – назвал царя Федора в своей челобитной сосланный в Пустозерск протопоп Аввакум. Страшные слова писал об отце Федора, покойном Алексее Михайловиче. Будто возвещено было Аввакуму от Спасителя, что в муках сидит батюшка.
Страшное известие, коли так. Страшно было про батюшку царю Федору думать.
Такой богомолец был, а патриарха Никона в тюрьме запер, Аввакума в Пустозерский острог зарыл. Боярыню Морозову и княгиню Урусову голодом в яме заморил, Соловецкий монастырь мечу предал…
Воротить бы сейчас всех умученных им, наказать бы им, каб молились за батюшку – может, полегче ему стало бы… Только куда же воротишь?
Сам Аввакум в челобитной пишет, что «как бы царь-государь ему волю дал, то, что Илья-пророк перво бы Никонатого собаку рассек начетверо, а потом и никониян тех…».
Воротишь такого, потом самому унимать придется, на свою душу грех брать. Нет уж…
А Новый Иерусалим очень царю Федору полюбился. Повелел он продолжать строительство обители и часто теперь наведывался сюда помолиться Богу за батюшку, погоревать о судьбе устроителя этой обители патриарха Никона, все еще томящегося в заточении…
* * *
Еще за два дня до прибытия царских посланцев оживился вдруг Никон и начал собираться в дорогу. Окружающие думали, что «в скорби и в беспамятстве сие творит», но царские посланцы действительно прибыли. Перенесли больного старика на берег Шексны, положили в струг и повезли.
Почти всю дорогу Никон лежал. Торжественным было его возвращение. Сгоняемые стрельцами, собирались на берегах Волги толпы людей. Многие со страхом шли, боясь антихриста воочию увидеть. Но антихриста не было – слабый, немощный умом старик сидел в струге. Многие плакали, глядя на него.
Нешто он сотворил такую беду?
Трудно было поверить…
Когда вышли в Волгу, Никон совсем ослабел.
Порою проваливался в забытье, бормотал что-то испуганное и непонятное.
Иногда казалось ему, что он совсем мал еще, что по-прежнему живет во власти злой мачехи, и ему хотелось убежать. Силою тогда удерживали, чтобы не выпрыгнул из струга.
Иногда чудилось Никону, что Елеазара Анзерского, святого, который изгнал его из своего скита, видит. Говорили, что святой Елеазар во время литургии, совершавшейся Никоном, вдруг увидел на ученике своем «змия черна и зело велика». Бледнело лицо Никона, когда казалось ему, что святого старца зрит.
Спутники Никона тоже волновались.
Казалось им, что отходит Никон.
17 августа 1681 года, когда приплыли к вечеру в Ярославль, беспокоен стал Никон. Начал тревожно озираться, будто кто-то пришел к нему…
Архимандрит Никита, провожавший Никона, понял все, начал читать отходную. Дочитал, когда уже скончался бывший патриарх.
Мертвым привезли его в Новый Иерусалим. Здесь, в церкви Иоанна Предтечи, где еще до суда своими руками вырыл он себе могилу, и погребли его. Но еще почти три столетия непогребенным будет зло, которое принес Никон Русской Церкви…
7
Хотя и приохотил Симеон Полоцкий своего воспитанника польские книжки читать, хотя и издан был царский указ, чтобы, являясь к царю, польское платье надевали бояре, но все одно в России царю Федору царствовать пришлось. А в России царствовать – русским царем и будешь. Дела, которые батюшкой начаты, завершать нужно.
Раньше срока прибрал Господь батюшку. Сколько уже десятилетий за Украину воевали, а все не кончается война. Теперь у турок, которым передала Польша Украину, отбивать ее надо было.
Много дел, батюшкой не законченных, осталось…
Тюрьму в Пустозерске так и не достроили…
Еще когда только помер батюшка, сообщил в Новгородский приказ пустозерский воевода, что присланных соловецких иноков сажать негде.
Из Разрядного приказа велели тогда перевести Аввакума, Лазаря, Епифания, Федора в Кожеозерский монастырь. Но пока выясняли, где этот Кожеозерский монастырь, как везти туда заключенных, совсем запутались и решили оставить Аввакума с товарищами на месте.
Через два года великий государь своей грамотой известил об этом пустозерского воеводу. Еще сказано было, что надобно укрепить тюремные помещения, коли они обветшали.
На эту грамоту пустозерский воевода сообщил в Новгородский приказ, что тюрьмы действительно обветшали – насквозь прогнили закопанные в землю срубы, – но чинить их без лесу нет никакой возможности. Пустозерский воевода просил указать, «ис каких доходов те тюрьмы делать».
Долго в Новгородском приказе чесали головы, обдумывая, что ответить. Где те доходы взять? В конце концов, решили заменить Гаврилу Яковлевича Тухачевского. Послали в Пустозерск стряпчего Андреяна Тихоновича Хоненева.
И вроде и ладно было придумано, а тюрьма все равно не построилась. В феврале 1681 года подал новый воевода отписку, что тюрьмы, где сидят Аввакум, Лазарь, Федор и Епифаний, все худы и почти развалились. Починить тех тюрем нельзя, а строить новые не с чего…
В ответ указано было Хоненеву, чтобы строил он тюрьму с великим бережением, каб из тюрьмы никто не ушел, а насчет средств, указывалось в грамоте, снесся бы Хоненев с приказом Большой казны.
Так и не удалось тюрьмы построить хорошей, как покойный Алексей Михайлович собирался.
Но если с тюремным строительством не ладилось дело, то с реформами все ладно шло.
23 января 1682 года – знаменательный день.
В передних сенях царского дворца развели огонь и сожгли Разрядные книги. Благое дело было сделано! По приговору царя, патриарха и всего Собора покончили на Руси с местничеством. С одной стороны, хорошо было. Путаницы меньше стало. Сколько ведь сил и времени отнимали расчеты, чей род знатнее… Теперь уже не надобно было смотреть на родовитость при назначении на службу, теперь любого проходимца можно было во главе любого дела поставить! Но это – с другой стороны… Одновременно в эти дни заседал и Церковный Собор.
Обсуждал патриарх Иоаким с архиереями, как дальше указания Вселенских патриархов в жизнь проводить. Велено было антиохийским Макарием по греческому образцу всю Россию разделить на митрополии, в подчинении которых находились бы мелкие епархии. Но тут уже не об обрядах церковных разговор, не о том, сколькими пальцами креститься, тут о власти говоря. И хотя настаивал царь с боярами, чтобы приняли предложение антиохийского патриарха, но уперлись архиереи. И так много чего Вселенскими учителями переделано…
Ничего не добился царь Федор на этот раз от Собора.
– А с раскольниками как поступить теперь? – спросил великий государь.
– По государеву усмотрению… – благодушно ответили архиереи.
Вот она, доля царева, русская! Ничего по полной своей воле совершить не дадут, а все грехи на себя бери…
Лучше бы тюрьму новую пустозерским сидельцам построить, пускай бы сидели уж, пока Господь не приберет, раз батюшка туда посадил. Да вот, отвечают, что средствов нет тюрьму новую строить… что же делать тогда?
– По государеву усмотрению поступать…
За великие на царский дом хулы в Страстную пятницу, 14 апреля 1682 года, сожгли в Пустозерске протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Федора, инока Епифания…
В тот же день отправил в Москву капитан Лещуков донесение об исполнении царского указа, но «дитятко красное, церковное» – так звал царя Федора Алексеевича Аввакум – лещуковского донесения прочитать не успело…
После расправы над соловецкими монахами царь Алексей Михайлович прожил всего шесть дней.
После сожжения пустозерских мучеников царь Федор Алексеевич прожил почти две недели. Вдвое дольше отца. Как-никак он и моложе отца вдвое был. Двадцать один год исполнилось царю Федору, когда оборвалась его жизнь.
На опустевший русский престол при живейшем участии патриарха Иоакима был возведен Петр I.
8
Царь Алексей Михайлович умер 29 января 1676 года.
Его сын, Иоанн V, царствовавший одновременно с Петром I, – 29 января 1696 года.
Что-то зловещее есть в совпадении чисел в датах смерти отца и сына…
Но если мы вспомним, что и Петр I умирает 28 января 1725 года, то вверх тормашками улетает теория вероятностей. Ведь переведя эти даты на новый стиль, инициатором введения которого в России был все тот же Петр I, мы обнаружим, что смерти отца и двух его сыновей попадают на одно число – 8 февраля.
Увы… Ангажированные Романовыми историки и писатели старательно не замечали злого рока, явно тяготевшего над императорским домом.
После Алексея Михайловича царствовало шестнадцать Романовых. Двое из них – царь Федор и император Петр II – умерли в юношеском возрасте. Пятеро были убиты.
Смерти Александра I, Николая I и отчасти Александра III окружены загадками.
Еще четыре правления – правления женщин, две из которых – обе Екатерины – не имели ни капли романовской крови и занимали престол, мягко говоря, не вполне законно.
У истока династии, прошедшей путь от монастыря Святого Ипатия до подвала дома Ипатьева в Екатеринбурге, стоял отец царя Михаила Федоровича, патриарх Филарет, поставленный в митрополиты самозванцем Григорием Отрепьевым, а в патриархи – Тушинским вором.
Внуком патриарха Филарета был изгнан патриарх Никон.
Правнуком – отменено патриаршество вообще.
Восстановление патриаршества самым непосредственным образом связано с падением династии. Святителя Тихона избрали уже после отречения Романовых от престола…
Трудно назвать случайностью совпадение смертей Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича с казнями соловецких и пустозерских староверов, произведенными этими царями…
Но череда совпадений тут не заканчивается.
Введение Единоверия[75], снявшего запрет на употребление старых обрядов (этого и добивались соловецкие иноки), совпадает по времени с прекращением вакханалии дворцовых переворотов…
Мистическая связь тут, несомненно, существует…
Но более важно другое.
Святые Русской Православной Церкви, пастыри ее и простые православные очень быстро сумели осознать пагубность решений Большого Московского Собора 1667 года, и молитвами их, по Промыслу Божиему, раскол начал преодолеваться задолго до издания соответствующих постановлений Священного Синода. Способствовали этому, как это ни парадоксально звучит, гонения, обрушенные протестантски ориентированным поколением Романовых на всю Русскую Православную Церковь.
Преследования священников при Анне Иоанновне – их отдавали в солдаты и ссылали в Сибирь – сравнимы по своим размерам с большевистскими репрессиями.
Император Петр III, как известно, пошел еще дальше, отдав приказ «очистить русские церкви» от икон, а священникам обрить бороды и облачиться подобно лютеранским пастырям.
Развратная жена Петра III, императрица Екатерина II, подобных приказов не отдавала, но сумела уничтожить православных монастырей больше, чем их было уничтожено за все вражеские нашествия на Русь.
Удары, которые наносили Романовы по Русской Православной Церкви, сокрушили бы любую другую конфессию, но наша Церковь устояла. Униженная и оскорбленная, она сумела перенести страшные гонения и уже в XIX веке, дезавуировав решения Церковных Соборов 1656 и 1667 годов и приняв единоверие, снова засияла, как и в прежние века, дивными молитвенниками и святыми.
Серафим Саровский и Игнатий Брянчанинов…
Феофан Затворник и Иоанн Кронштадтский…
Оптинские старцы…
Сонм новомучеников российских, которыми украсилась Русская Православная Церковь, когда, по примеру Петра I, большевики решили подчинить ее себе.
Великие подвиги были совершены тогда Русской Церковью в борьбе с мерзостью обновленчества, великие принесла она жертвы и устояла и в этой, такой неравной борьбе…
Всей этой жестокой войны с православием, которая велась практически до воцарения Николая I, дворянская литература и историография старательно не замечали, сосредоточивая внимание на грандиозных успехах, достигнутых Романовыми в военном и государственном строительстве. И тут трудно возражать, только вот какова была их цель…
Русским трудом и русской кровью воздвигалась действительно могущественнейшая империя, но воздвигалась для того, чтобы основная часть населения, сами русские, находилась в рабстве в своей собственной стране. Отметим тут, что только там и не было крепостного права, где сохранялось прежнее, дониконовское православие.
На Севере…
В Сибири…
Строительство империи обернулось в результате тем, что народ окончательно оказался расколот, и хотя после Екатерины II и предпринимались попытки преодолеть и этот раскол, ликвидировать его так и не удалось.
И не могло удастся. Слишком разным стало все. Язык… Культура…
Само православие и отношение к нему и то, кажется, было различным у дворян и у крестьян.
9
Увы.
Злой рок Дома Романовых становился бедою всей страны. Великим святым и молитвенникам, подобным Серафиму Саровскому, всей нашей Православной Церкви, удалось отмолить его. Одновременно с введением единоверия начинается отход Романовых от соблазнов протестантства. Тогда же происходит и отмена крепостного права.
Понимали ли сами Романовы мистическую, роковую зависимость династии от преступлений, совершенных против православия Алексеем Михайловичем, Петром I и их преемниками?
Несомненно…
Весь XIX век – это попытка Романовых исправить совершенные отцами династии ошибки. Подвиг последнего царя-мученика – вершина этих попыток и нравственное осуществление их. Кажется, единственному из Романовых, Николаю II удалось подчинить свою личную жизнь нормам православной морали, и вот оно чудо! – единственный, восходит он в сонм благоверных князей.
Однако, как отмечалось еще в ходе Предсоборного Присутствия в 1906 году, необходимо было «не одно разъяснение клятв патриарха Макария… а совершенная отмена этих клятв, как положенных от “простоты и неведения”». Тогда же и постановили: «Ходатайствовать перед Всероссийским Собором об отмене означенной клятвы, как положенной по “недоброму разумению”».
Этот Всероссийский Собор Русской Православной Церкви, который, восстановив патриаршество, должен был снять и проклятие с раскольников, открылся 15 августа 1917 года в Успенском соборе Кремля. Открылся через две недели после того, как увезли в Тобольск семью Романовых.
Патриаршество Собор восстановил, а снять клятву, положенную на раскольников, не успели. 27 октября 1917 года загремели на улицах Москвы выстрелы. Начался расстрел кремлевских соборов, учиненный новыми вселенскими учителями…
И вот, словно в зеркальце недоброго фокусника, 17-й год XX столетия превратился в 71-й год, когда удалось все-таки снять роковые для всей России и Православной Церкви проклятия Собора 1667 года. Какими были годы, вместившиеся между двумя датами с переставленными цифрами, для Русской Церкви и русского народа – нет нужды говорить…
Три столетия потребовалось России, чтобы очиститься от греха, в который ввели нашу Церковь алчные вселенские учителя…
Но 2 июня 1971 года наконец-то прозвучали долгожданные слова:
«Мы, составляющие Поместный Собор Русской Православной Церкви, равносильный по своему достоинству и значению Московскому Собору 1656 года и Большому Московскому Собору 1667 года, рассмотрев вопрос о наложенных этими Соборами клятвах с богословской, литургической, канонической и исторической сторон, торжественно определяем во славу Всесвятого Имени Господа нашего Иисуса Христа:
1. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года о признании старых русских обрядов спасительными, как и новые обряды, и равночестными им.
2. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года об отвержении и вменении, яко не бывших, нарицательных выражений, относящихся к старым обрядам, и в особенности к двуеперстию, где бы они ни встречались и кем бы они ни изрекались.
3. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года об упразднении клятв Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 года, наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православных христиан, и считать эти клятвы, яко не бывшие…
Да приведет Господь растоящаяся паки воедино, и в любви друг ко другу да исповедуем и славим едиными устами и сердцем Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущую и Нераздельную».
Аминь.
Глава пятая Игрушки Петра Первого
Первый русский император родился ночью.
Произошло это 30 мая 1672 года на память преподобного Исаакия Далматского.
Патриарха на Руси тогда не было, потому что Иоасаф II скончался 17 февраля, а новгородского митрополита Питирима избрали патриархом только 7 июля.
По обычаю, принятому у русских царей, духовник, приходя к новорожденному, сразу нарекал ему имя, считая вперед на восьмой день. «Которого Святого день, и ему то же имя и будет», но сейчас, воспользовавшись тем, что приближался Петров пост, Петром и нарекли царевича, которому предстояло стать первым русским императором.
Из-за поста[76] и пиршественное торжество заменили малым обедом в царицыной Золотой палате. У стола были бояре, окольничии, думные дворяне, а в сенях «кормили» священников дворцовых церквей. Государь жаловал всех водкой, гости закусывали коврижками, яблоками и цукатами в патоке.
Отец царицы Кирилл Полуэктович Нарышкин и Артамон Сергеевич Матвеев, в русско-шотландтской семье которого и воспитывалась Наталья Кирилловна, были пожалованы в окольничии, а дяде царицы Федору Полуэктовичу Нарышкину «сказали думное дворянство».
Большой «родильный» стол в Грановитой палате устроили только месяц спустя, 30 июня, уже после крещения царевича, которое произошло в шесть часов утра, в церкви Святителя Алексия в Чудовом монастыре.
Из угощений, как сообщает в своем исследовании М.М. Богословский, были поданы тогда «коврижка сахарная большая, изображавшая герб государства Московского, другая коврижка сахарная же коричная; голова большая (сахару), “росписана с цветом” весом в два пуда двадцать фунтов, орел сахарный большой литой белый, другой орел сахарный же большой красный с державами весом по полтора пуда каждый; лебедь сахарный литой весом два пуда, утя сахарное литое же весом двадцать фунтов, попугай сахарный литой весом девять фунтов, голубь сахарный литой весом восемь фунтов, город сахарный Кремль с людьми с конными и с пешими, башня большая с орлом, башня средняя с орлом, “город четвероугольной с пушками”…
Все присутствовавшие за обедом были пожалованы еще сахарными блюдами, отнесенными к ним на дом»[77].
Поскольку у Петра были старшие братья от царицы Марии Ильиничны (Милославской), никто из гостей и не подозревал, что присутствует на крестинах будущего государя.
Ну а тем, кому довелось дожить до начала самодержавного правления Петра I и до его реформ, предстояло доподлинно удостовериться, какой едкой горечью для страны обернутся сладости родильного стола.
1
Впрочем, и в 1672 году не очень-то сладко жилось на Руси…
Жестоким и страшным расколом Русской Православной Церкви обернулось затеянное по инициативе «вселенских учителей» исправление церковных книг. Организованные митрополитом Газским Паисием Лигаридом и проведенные «бродячими» патриархами Макарием и Паисием Соборы XVII века еще сильнее подорвали авторитет Русской Православной Церкви.
За год до рождения Петра, возложив «чепь на выю», увезли в заточение боярыню Морозову, а в 1672 году, когда уже шла осада Соловецкого монастыря царскими войсками, начались самосожжения старообрядцев. «Светлая Русь потемнела, а мрачный Дон – монах Иов основал тогда пустынь на реке Чире, сделавшуюся новым центром раскола, – воссиял и преподобными отцами наполнился…»
В Пустозерской земляной тюрьме огненный протопоп Аввакум приступил тогда к созданию своего «Жития»…
Однако о староверах больше говорили в теремах царевен, а у Натальи Кирилловны, воспитанной в европейской семье Артамона Сергеевича Матвеева, церковными «дикостями» интересовались меньше…
Не стихающие народные волнения, а главное, живые воспоминания о Смуте, когда самозванцы появлялись один за другим, накладывали особый отпечаток на семейный быт русский царей. Никому, кроме самых близких, не полагалось видеть лица царских детей.
«Царевичи же, во младых летех… – писал бежавший за границу дьяк Гр. Котошихин, – внегда случися им идти к церкви, и тогдо около их по все стороны несут суконные полы, что люди зрети их не могут, так как и в церкви стоят, люди видети их не могут, кроме церковников, а бывают в церкве завешены тафтою»…
Так и проходили младенческие годы будущего императора.
Колыбель его – «бархат турской золотной, по червчетой земле репьи велики золоты, да репейки серебрены не велики, в обводе морх зелен, подкладка тафта рудожелта, на обшивку ременья бархат червчет веницейский, к яблокам на обшивку объярь по серебреной земле травы золоты с шолки розными» – помещалась в комнате обитой серебряными кожами.
В 1674 году царевичу построили «верхние новые хоромы», где все полы, лавки и подоконники обиты были «сукном червчатым амбурским», а слюдяные окна были так расписаны живописцем Иваном Салтановым, что «из хором всквозе видно было, а с надворья в хоромы невидно было».
В душных завесях из тафты, в особых хоромах, вход куда разрешался лишь немногим приближенным, начиналось детство будущего преобразователя России…
Говорят, что он начал ходить на шестом месяце.
Когда Петру исполнился год, ему сделали деревянного коня на колесиках. Вырезал его из липы старец Ипполит, а затем коня обтянули жеребячьей шкурой…
Неизвестный художник конца XVII в. Портрет царицы Натальи Кирилловны
Хотя и предназначалась игрушка для годовалого ребенка, все снаряжение делалось как для настоящего скакуна. Деревянное седло обили войлоком и красным сафьяном, а упряжь в самых малых деталях копировала подлинную. Уздечку – все пряжки, наконечники и запряжники – сделали из серебра. А паперс – нагрудник – украсили серебряными запанами с изумрудами…
Если судить по записям «Выходов царей и великих князей», первое паломничество в Троице-Сергиевый монастырь Петр совершил в полуторагодовалом возрасте. Царский поезд с только что разрешившей от бремени царицей[78] двигался медленно и только 15 октября 1673 года прибыл к Троице.
В мае 1674 года на Вознесение Господне совершали паломничество в монастырь преподобного Саввы Сторожевского, и здесь и отпразднованы были именины двухлетнего царевича…
А вот в театре будущий император, как мы уже говорили, впервые побывал еще до своего рождения, и второй раз на представление «Артаксерксова действа» его водили осенью 1674 года, когда ему было уже два года…
Тогда снова «тешили великого государя немцы ж да люди боярина Артамона Сергеевича Матвеева: как Артаксеркс велел повесить Амана по царицыну челобитью и по Мардохеину научению».
Так проходило младенчество будущего русского императора…
2
В Оружейной палате Московского Кремля до сих пор хранится «потешная» карета, которую подарил Петру, когда ему исполнилось два года, Артамон Сергеевич Матвеев.
Чуть выше колеса большой кареты, от настоящего экипажа она отличалась только размерами. И лошади в эту карету тоже запрягались настоящие, только очень маленькие – особой «пигмейской» породы. Во время торжественных выездов эта карета занимала свое место в царском поезде.
Такими были первые игрушки ребенка, которому предстояло стать Петром Великим. И вроде бы ничем не отличались они от тех, которыми и положено играть царским детям…
Качель на веревках, обшитых червчатым бархатом… Цынбальца книжкой в сафьяновом алом переплете с золотым неводом и серебряными застежками… Потешная баба деревянная во всем наряде…
Но Петр рос, и очень быстро все эти цынбальцы, бабы и качели заменяются игрушками с явным милитаристским уклоном…
Когда просматриваешь описи приобретаемых для двухлетнего царевича игрушек, возникает ощущение, что читаешь описание небольшого арсенала.
20 июня 1674 года – куплено для царевича девять луков с жильной тетивой, «жильничков»…
14 июля – живописец Иван Безмин расписал красками для царевича пять маленьких знамен, а еще через день – шесть игрушечных барабанов…
Приобретались бердыши, копья, топоры, булавы… Как свидетельствует каталог «Юбилейной выставки в память державного основателя Санкт-Петербурга к 200-летнему юбилею Петербурга», в мае 1903 года в Летнем дворце были выставлены две пушки, подаренные, по преданию, еще царем Алексеем Михайловичем Петру для его потешных забав[79].
Случайно ли такое обилие военных игрушек у маленького Петра?
Конечно, нет. Шла изнурительная война с Турцией, недавно закончилась война с Польшей… О войне всё время говорили, о войне непрерывно думали.
И все-таки, как нам кажется, была и еще одна причина, по которой мать Петра – Наталья Кирилловна Нарышкина и ее мудрый Мардохей – Артамон Сергеевич Матвеев поощряли увлечение Петра военными игрушками.
Петр был третьим сыном у Алексея Михайловича. От первой жены, Марии Ильиничны Милославской, у царя остались дочери и два сына – Федор и Иван. Они и должны были унаследовать трон[80].
И хотя по закону о престолонаследии практически не оставалось у Петра шансов сделаться царем, Наталье Кирилловне трудно было смириться с такой участью сына. Поэтому-то, как могла, и поощряла она его увлечение оружием. Очень выгодно отличался ее подвижный и жизнерадостный первенец от болезненных пасынков – Федора и Ивана.
Юный Петр, разумеется, не понимал тайных расчетов матери и Артамона Сергеевича Матвеева, он просто с увлечением играл, не замечая, что детская игра уже начинает сливаться с будущей жизнью, с историей всей страны…
Петру не исполнилось и четырех лет, когда умер отец – царь Алексей Михайлович.
3
Умирая, Алексей Михайлович благословил на царство старшего сына, пятнадцатилетнего Федора.
Артамон Сергеевич Матвеев пытался склонить умирающего царя в пользу Петра и жестоко поплатился – все нажитые богатства отобрали у него, а самого верного Мардохея обвинили в чернокнижии и сослали. Вначале в Казань, а потом в Пустозерск, где от его челяди и узнал протопоп Аввакум подробности страшной кончины государя…
Для Нарышкиных опала Матвеева стала крахом всех надежд. Несбыточными становились их планы посадить на трон Петра.
Но сам малолетний Петр не осознавал и не мог осознавать, что его звезда, появившаяся вблизи Марса в ночь на 11 августа 1671 года, еще не разгоревшись, готова скатиться с небосклона.
Напротив, перебравшись с матерью в Преображенское, Петр вдруг почувствовал, что стесняющие его правила и запреты, принятые в воспитании наследников престола, начали слабеть и теперь он может пользоваться куда большей свободой, нежели раньше.
Воспитанница Артамона Матвеева Наталья Кирилловна, как отмечал С.Ф. Платонов, «вышла из такой среды (Матвеевы), которая, при отсутствии богословского воспитания, впитала в себя влияние западноевропейской культуры». Поэтому после смерти Алексея Михайловича она и не захотела отдать сына монахам, а призвала в учителя Петру своего близкого человека, подьячего Челобитного приказа Никиту Моисеевича Зотова[81].
Поскольку шансов на престол у Петра не оставалось, учением его Зотов не обременял.
Петра учили по картинкам из «Царственной книги». Это была краткая летопись страны, в которой на 1613 листах размещалось более тысячи рисунков.
Учил Зотов юного Петра и русской грамоте, но особых успехов и здесь будущий император не достиг. Всю жизнь потом он писал с ошибками, забывая отделять слова друг от друга.
И если и сумел получить Петр какие-то знания, то это случилось благодаря играм, которые усложнялись с каждым днем.
В Писцовых книгах за 1676 год можно найти такие записи:
«Мая 15-го. Велено сделать царевичу и великому князю Петру Алексеевичу в лубье саадашское саадан (колчан. – Н.К.) стрел, по счету 17 стрел, да 10 гнезд стрел яблоневых с белохвосцы перьями, да 10 гнезд стрел березовых с простым перьем…
Июня 2-го. Велено сделать два лука недомерочков (малого размера. – Н.К.) жильников…
Сентября 30-го. Для царевича куплен пояс сабельный шелковый, турецкого дела, к сабле потешной…
Декабря 20-го. Куплено кожи на пять барабанов…
Декабря 23-го Поданы в хоромы потешные пистоли, карабины, пищали винтованные с замком деревянныя…»
Одному Петру такого обилия игрушечного оружия не требовалось, но в его играх уже участвовали сверстники – дети из наиболее близких Нарышкиным семей. Среди участников игр находим мы имена и будущих соратников Петра.
Как и дети, в малиновые суконные кафтаны на беличьем меху были одеты четыре карлика – Никита Комар, Василий Радионов, Иван и Емельян Кондратьевы. Подражая детям, участвовали они в игре и при этом следили изнутри игры за детьми, вовремя упреждая опасность. Мера предосторожности вполне понятная. Детское оружие Петра сохранилось, и когда видишь, насколько неотличимо оно, если позабыть про размер, от настоящего, то понимаешь, что оставлять детей с такими игрушками без присмотра взрослых просто было нельзя…
4
При вступлении на трон пятнадцатилетнего брата Петра – Федора Алексеевича главным лицом в государстве стал Иван Михайлович Милославский, принявший на себя руководство важнейшими приказами.
Чрезмерное усиление Милославского встревожило бояр.
Богдан Матвеевич Хитров и начальник Стрелецкого приказа Юрий Алексеевич Долгорукий повели свою интригу через самого царя. Они сумели сблизить с Федором верных им молодых людей – Ивана Максимовича Языкова и братьев Лихачевых. Благодаря этой троице царь Федор решил жениться на Агафье Семеновне Грушецкой.
Иван Михайлович Милославский, пытаясь расстроить невыгодный ему брак, оклеветал невесту, но клевета была разоблачена, и Милославскому запретили являться ко двору.
18 июля 1680 года царь Федор обвенчался с Грушецкой, а ровно через год – 14 июля – Агафья Семеновна умерла родами. Спустя несколько дней умер и ее сын Илья, который мог бы унаследовать престол.
Тогда молодые фавориты царя сблизились с партией Нарышкиных.
В невесты царю была предложена четырнадцатилетняя крестница Артамона Сергеевича Матвеева – Марфа Матвеевна Апраксина. В декабре 1681 года состоялось обручение, и невеста упросила царя вернуть крестного из ссылки…
Нарышкины воспрянули духом, снова у Натальи Кирилловны затеплилась надежда посадить на трон после Федора, в обход болезненного царевича Ивана, своего сына.
Так, по-русски неспешно, составлялись заговоры, образовывались партии и гибли репутации. Мы подробно рассказываем об этих интригах еще и потому, что героям их предстоит вновь появиться в нашем повествовании…
А государственные дела шли своим чередом, и на них борьба партий при дворе – в этом-то и заключается целомудрие допетровских монархий! – кажется, никак и не отражалась.
3 января 1681 года заключили Бахчисарайский договор с Турцией. Турция признала переход Левобережной Украины и Киева к России…
В Москве начали изготовлять свой шелк и бархат…
Открылось училище, в котором учили греческому языку…
Через восемьдесят лет, в 1741 году, в результате дворцового переворота на русский престол взойдет «дщерь Петрова» императрица Елизавета. Тогда и начнет внедряться в общественное сознание культ Петра I, который будут затем поддерживать и Павловичи, и сменившие их в 1917 году большевики.
Сам принцип организации петровского культа требовал изображать предшествовавшее Петру I царствование так, чтобы оно выгодно оттеняло преобразовательную деятельность Петра. Поэтому-то многие новшества, введенные при Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче, замалчивались, как бы передвигались на годы правления Петра I.
Разумеется, противопоставлять «прогрессивность» Петра «консерватизму» Федора Алексеевича нельзя. Как и его прославленный брат, царь Федор достаточно смело пытался разрешать назревающие в стране проблемы, не особенно просчитывая возможные риски.
Отличие с Петром I, может быть, только в том и заключалось, что подобно отцу, царю Алексею Михайловичу, Федор прикрыт был в своих реформах Соборным авторитетом. Как и трагические, приведшие к церковному расколу решения Алексея Михайловича, формально были приняты Церковными Соборами, так и спорные, ведущие к непредсказуемым последствиям реформы Федора тоже формально были приняты Земским собором.
По решению Собора провели военную реформу, а в начале 1682 года, словно расчищая путь будущим петровским реформам, уничтожили местничество.
«Во всех делах разрядом не считаться», – пытался еще Борис Годунов, но ввести это в практику суждено было именно Федору Алексеевичу. 19 января 1682 года в сенях Государственной палаты сожгли разрядные книги.
Это – одна из важнейших дат русской истории.
До сих пор на Руси назначения осуществлялись не в соответствии со способностями людей, а согласно тому положению, что занимали их предки. Теперь этот обычай отменили. И никто и не подумал в горячке, что сожжение разрядных книг облегчает путь к власти не только своим отечественным талантам, но и иноплеменным авантюристам.
Самому Федору Алексеевичу так и не удалось завершить начатую реформу…
14 апреля 1682 года «за великие на царский дом хулы» сожгли в Пустозерске гениального писателя протопопа Аввакума, а 27 апреля, не прожив и трех месяцев со своей второй женой Марфой Матвеевной Апраксиной, в четвертом часу пополудни царь Федор умер.
Неожиданная смерть венценосного брата переменила судьбу Петра.
По старшинству на трон должен был заступить царевич Иван, но патриарх Иоаким осуществил переворот, склонив и Боярскую думу, и еще не разъехавшийся Земский собор в пользу младшего сына Алексея Михайловича.
Было тогда Петру десять лет…
В тот год возле его хором была устроена площадка. Там стоял деревянный шатер, рогатки и игрушечные пушки – нечто вроде военного лагеря.
Из пушек можно было стрелять деревянными ядрами, обтянутыми кожей.
Здесь, в шатре, и узнал десятилетний Петр, что провозглашен государем всея Руси…
5
Впрочем, на пути к трону стояла сестра – царевна Софья, а многоопытный Мардохей – Артамон Сергеевич Матвеев все еще не вернулся из ссылки, хотя уже 27 апреля ему был послан Указ: быть «из опалы» в Москве.
Софья не стала дожидаться его возвращения…
Во время погребения царя Федора в Успенском соборе помимо вдовствующих цариц Марфы Матвеевны и Натальи Кирилловны, а также десятилетнего царя Петра появилась и она.
Наталью Кирилловну появление падчерицы оскорбило, царица торопливо простилась с покойником и, не дослушав литургии, увела сына из храма.
Это так изумило народ, что в дальнейшем Наталье Кирилловне пришлось оправдываться: дескать, десятилетний Петр не мог вынести долгой службы и голода, но тем самым она только сильнее повредила и себе, и Петру.
А уж царица Софья вдоволь поголосила над гробом брата, причитая: дескать, извели нашего любезного братца лиходеи, оставили круглыми сиротами, нет теперь у нас ни батюшки, ни матушки, никакого заступника, вот и не выбрали братца нашего Ивана Алексеевича на царство[82].
– Умилосердитесь над нами, сиротами! – рыдала Софья. – Или отпустите в чужую землю к королям христианским.
Вольно было причитать Софье…
В династических делах слезы недорого стоят, но в противостоянии Наталье Кирилловне, «этой медведице, – как называла ее Софья, – забежавшей Бог знает откуда в наше семейство», царевну поддерживали сильные и достаточно опытные члены «антинарышкинской» партии…
События первых чисел мая 1682 года развиваются стремительно и непредсказуемо.
30 апреля стрельцы подали челобитные на полковников, особо притеснявших их.
7 мая велено было полковников от приказов отставить и рассадить по тюрьмам, вотчины у них отобрать и взыскать стрелецкие убытки.
2 мая биты кнутом полковник Семен Грибоедов и Александр Карандеев. Остальные полковники биты батогами.
12 мая наконец-то вернулся в Москву из ссылки Артамон Сергеевич Матвеев. Иван Михайлович Милославский, который, как считают историки, и раздувал стрелецкий мятеж, оказался единственным из московской знати, кто не приехал к Матвееву засвидетельствовать почтение. В тот день Милославский, обложенный кирпичами, лежал в горячих отрубях и «лечился»…
Все эти дни были заполнены у маленького Петра подготовкой к новой, еще невиданной игре. Ведь «игрушки» он получал теперь – его уже объявили царем! – из Оружейной палаты, главного арсенала страны…
Но долгожданная игра так и не состоялась.
15 мая Александр Иванович Милославский и Петр Андреевич Толстой пустили слух: дескать, Ивана-царевича Нарышкины задавили!
Ударили в набат, и стрелецкие полки потекли к Кремлю.
Началось стрелецкое восстание. Пытаясь успокоить бунтарей, Наталья Кирилловна вышла на Красное крыльцо с Петром и Иваном, но мятежники, кажется, и не заметили этого.
Вначале был убит князь Долгорукий. Затем с Красного крыльца сбросили «верного Мардохея» Матвеева, а «товарищи внизу приняли его на копья».
Афанасий Кириллович Нарышкин пытался спрятаться в алтаре, но его вытащили оттуда и убили. Порешили и Петра Фомича Нарышкина, а притомившись, разошлись по домам.
Однако на следующий день стрельцы снова собрались в Кремле и потребовали брата царицы – Ивана Кирилловича Нарышкина, думного дьяка Аверкия Кириллова, «дохтуров Степана жида да Яна».
На расправу были выданы все, кроме брата царицы, – его выдадут только 17 мая…
А в тот день, 16 мая, неведомо кем были произведены новые назначения. В Стрелецкий приказ назначили князя Ивана Андреевича Хованского, в Судный – его отца Андрея Ивановича. Иноземный, Рейтарский и Пушкарский приказы возглавил отлежавшийся в пареных отрубях боярин Иван Михайлович Милославский.
18 мая постригли в монахи деда царевича Петра – Кирилла Полуэктовича Нарышкина и под стражей увезли в Кирилло-Белозерский монастырь.
26 мая стрельцы потребовали, чтобы царевич Иван царствовал вместе с Петром, а царевну Софью провозгласили правительницей…
Даже сейчас, когда читаешь описания стрелецкого мятежа, потрясает нереальное соединение крайней озлобленности и какого-то детского добродушия и доверчивости.
Убив накануне молодого князя Долгорукова, стрельцы на следующий день отправились к его отцу извиняться. Старый князь стерпел, даже приказал угостить непрошеных гостей, но когда стрельцы ушли, не выдержал.
– Злодеи! – сказал он. – Щуку вы съели, да зубы ее остались. Придет пора, что сами развешены по городу будете!
«Верный» слуга, слышавший это, немедленно побежал за стрельцами и передал им слова князя. Стрельцы воротились и убили старика, а дом разграбили. Труп Долгорукова они засыпали соленой рыбой из погреба…
Петр I столкнулся со стрельцами 15 мая, когда мать вывела его вместе с царевичем Иваном на Красное крыльцо.
Всех ужасов стрелецких расправ Петр не видел, но день, когда перекошенные яростью лица стрельцов заслонили детские игры, врезался ему в память.
С этого дня голова у него начала трястись, а плечи стало сводить судорогой…
6
25 июня в Успенском соборе короновали и Петра, и Ивана, но события продолжали развиваться стремительно и непредсказуемо.
5 июля поднялись волнения среди стрельцов-раскольников. Неся перед собою аналои, образа, зажженные свечи, а за пазухой камни, стрельцы начали собираться у Архангельского собора в Кремле. С трудом уговорили их переместиться в Грановитую палату. Здесь и начались «прения о вере» патриарха Иоакима с Никитой Константиновичем Добрыниным, прозванным потом Никитой Пустосвятом.
Напрасно патриарх Иоаким приводил неопровержимые, как ему казалось, доказательства в пользу «новой» веры, его не слушали. Староверы возвращались из Кремля с криком: «Победили! Веруйте по-нашему, мы переспорили!»
Между тем точку в спорах о вере поставила царица Софья. Она пригрозила депутации стрельцов покинуть Москву вместе с государями.
– Не променяйте нас и все Российское государство на шестерых чернецов, не дайте в поругание святейшего патриарха и всего освященного Собора! – попросила она.
– Нам до старой веры дела нет! – отвечали ей подкупленные подарками делегаты, и тогда власти и привели свой самый главный аргумент в церковной дискуссии – 11 июля на Лобном месте Никите Константиновичу Добрынину была отрублена голова.
Таким вот образом удалось загасить «прения о вере», но тут поползли слухи, что князь Андрей Иванович Хованский задумал жениться на царевне Екатерине Алексеевне и собирается объявить ее правительницей…
Софья, захватив коронованных на царство братьев, бежала из Москвы.
Смута прекратилась только осенью, когда оба князя Хованских были казнены и начальником над стрельцами стал любезный сердцу Софьи Федор Леонтьевич Шакловитый…
Все управление страной сосредоточилось в руках Софьи, хотя внешне демонстрировалось, что правят венчанные на царство цари Иван V и Петр I.
«В приемной палате обитой турецкими коврами на двух серебряных креслах под святыми иконами сидели оба царя, в полном царском одеянии, сиявшем драгоценными камнями… – записывал очевидец. – Старший брат (Иван. – Н.К.), надвинув шапку на глаза, опустив глаза в землю, никого не видя, сидел почти неподвижно, младший смотрел на всех, – лицо у него открытое, красивое – молодая кровь играла в нем, как только обращались к нему с речью».
Кровь играла в Петре, и он стремился поскорее вернуться к прерванным стрелецким мятежом играм.
Впрочем, теперь эти игры все больше и больше напоминали обычные военные учения.
В день рождения Петра I, 30 мая 1683 года, в Воробьеве под руководством огнестрельного мастера Симона Зоммера была произведена первая потешная огнестрельная стрельба, а 4 июля стольник Гаврила Головкин выдал по требованию царя уже 16 пушек малых.
А в конце года Петру I вздумалось составить в Преображенском особый потешный полк.
Набирали в него добровольцев.
Первым записался в полк дворцовый конюх Сергей Леонтьев Бухвостов.
Этот человек и стал первым петровским солдатом. Потом он участвовал в Полтавской битве, дослужился до чина майора, и еще при жизни Сергея Леонтьевича Петр I приказал Растрелли отлить его статую, которая стала первым памятником, поставленным в новой столице Российской империи[83].
Но это будет еще не скоро, а пока Петр I с увлечением отдался новой игре. Командирами в Преображенском полку были иностранные офицеры, а сам Петр принял чин бомбардира и, как пишет Михаил Петрович Погодин, «начал знакомиться с подчиненностью, проходить по всем ступеням службы, узнавать мало-помалу ее нужды и потребности, искать и находить средства для их удовлетворения, изворачиваться в стесненных обстоятельствах».
«Велено сделать к нему великому государю в хоромы, – записывал 13 января 1685 года царский писец, – две пушки деревянныя потешные, мерою одна в длину аршин, другая в полтора аршина и посеребрить, на станках и с колесы окованными, на станках клеймы, и в кругах орлы, и клейма литыя оловяные, и расписать их зеленым аспидом»…
Потом к Преображенскому полку прибавился и Семеновский.
Дни и месяцы пролетали в учебных сражениях, в походах…
Из Оружейной палаты беспрестанно требовали в Преображенское пищали, мушкеты, карабины, копья, стрелы…
Учения потешных полков в Преображенском под командованием Петра I. Рисунок XVIII в.
При этом, как и царь Иван, Петр I поначалу участвовал в основных дворцово-обрядовых церемониях. Известно, например, что на Вербное воскресенье 1685 года во время «шествия на осляти» он вел под уздцы лошадь, на которой восседал его благодетель, несгибаемый борец со староверами патриарх Иоаким.
Но церковная обрядовость, как, впрочем, и участие в парадно-дипломатических приемах, все меньше занимали будущего императора.
Зимой того же 1685 года по чертежам немецких мастеров в Преображенском была выстроена «потешная» крепость – Пресбург.
По стенам городка возведены были башни, а в самом городке построены царские хоромы, каменная церковь, съезжая изба и избы для офицеров потешного отряда, казенный и оружейный амбары, потешная конюшня и другие постройки…
7
Поразительно, насколько естественно сливаются детские игры первого русского императора со зрелой деятельностью, за которую и назвали его Великим.
Но если приглядеться внимательнее, то окажется, что и тот ужас, который несло России правление Петра I, тоже во многом из детства, из отроческих лет первого русского императора…
Потрясение, пережитое десятилетним царем 15 мая 1682 года во время стрелецкого бунта, породило в душе подростка необъяснимую, подсознательную ненависть к русской старине, зачастую выливавшуюся в отрицание вообще всего русского.
С годами неприятие русского только усиливалось воспитанием Петра I.
Вообще-то по примеру старших детей царя Алексея Михайловича, после завершения первоначального учебного курса, Петру надлежало пройти высший словесный курс. Однако Наталья Кирилловна считала всех ученых украинцев (а других учителей при царском дворе тогда не было!) агентами и пособниками царевны Софьи и поэтому медлила с продолжением учебы.
Но у Петра был слишком деятельный характер, и он уже учился всему сам.
Так получилось, что офицерами в Преображенском полку были иностранцы.
Общаясь с ними, юный Петр осваивал языки, знакомился с точными науками, которым традиционное воспитание царских детей почти не уделяло внимания.
Как это происходило, Петр I сам и описал в предисловии к Морскому уставу, изданному в 1720 году:
«Перед посылкою князя Якова Долгорукова во Францию, между другими разговоры сказывал вышеупомянутый князь Яков, что у него был такой инструмент, которым можно было брать дистанции или расстояния, не доходя до того места. Я зело желал его видеть; но он мне сказал, что его у него украли. И когда поехал он во Францию, тогда наказал ему купить между другими вещами и сей инструмент. И когда возвратился он из Франции и привез, то я, получа оный, не умел его употреблять. Но потом объявил его дохтуру Захару фон-дер Гулсту, что не знает ли он? который сказал, что он не знает, но сыщет такого, кто знает; о чем я с великою охотою велел его сыскать. И оный дохтур в скором времени сыскал голландца, именем Франца, прозванием Тиммермана, которому я вышеописанные инструменты показал, который, увидев, сказал те ж слова, что князь Яков говорил о них, и что он употреблять их умеет: к чему я гораздо пристал с охотою учиться геометрии и фортификации. И тако сей Франц чрез сей случай стал при дворе быть беспристанно и в компаниях с нами»[84].
Разумеется, Петр I не писал, что едва ли не с одиннадцатилетнего возраста после каждого «потешного» боя зазывал он иностранцев-офицеров потешного полка к себе на обед.
По обычаю, в конце обеда приглашенным подносили бокал вина. Выпив, должно было откланяться и уйти. Однако иностранцы, плохо знакомые с русскими обычаями, обойтись одним бокалом не могли. «Им, – как пишет историк М.П. Погодин, – мало было и по два, и по три…»
Юный Петр, не стесняемый строгим надзором, старался не отставать от «учителей», и уже к двенадцати годам приучился к алкоголю. Так что дикие, безобразные пьянки его – тоже из детства…
8
Петру не исполнилось еще и семнадцати лет, когда 27 января 1689 года в дворцовой церкви Петра и Павла его обвенчали с красавицей Евдокией, дочерью окольничего Федора Абрамовича Лопухина.
Почему Наталья Кирилловна поторопилась с женитьбой сына – понятно. Правительница Софья вошла во вкус власти и делала все, чтобы упрочить свое положение.
После заключения 26 апреля 1686 года вечного мира с Польшей, по которому Киев – это была, безусловно, выдающаяся дипломатическая победа! – навсегда оставался за Московским государством, Софья начала именовать себя в грамотах рядом с именами царей Петра и Ивана.
Был напечатан и портрет правительницы в царском облачении, в короне и со скипетром в руке…
В окружении царицы Натальи Кирилловны действия Софьи трактовались однозначно – царевна подготавливает народ к венчанию ее царским венцом. К тому же поползли слухи о попытках Софьи снова возбудить стрельцов против Нарышкиных.
Насколько реальную опасность представляли эти разговоры, судить трудно. Наиболее активные и беспокойные стрельцы были разосланы из Москвы, но в окружении Натальи Кирилловны слухи воспринимались, как реальная угроза.
Женитьба Петра, которая подчеркивала, что он вступил в совершеннолетие и может взять управление государством в свои руки, становилась ответным ходом в политической игре, которую Наталья Кирилловна вела с правительницей Софьей.
Петр исполнил волю матери, не прекословя, однако и энтузиазма по поводу женитьбы он тоже не проявил. Как только закончился медовый месяц, Петр немедленно отправился в Переславль, где на Плещеевом озере была затеяна «Нептунова потеха» – новая игра в строительство потешного флота.
Нет нужды пересказывать общеизвестные события развернувшегося летом 1689 года противостояния, и тем не менее о его церковном, так сказать, аспекте сказать надо.
Хотя молодой Петр еще не проявлял открыто недовольства дворцовыми порядками, но московский церковно-придворный ритуал уже откровенно начал тяготить его.
Увлекшись новой «Нептуновой потехой», Петр все реже появляется в храмах. В свою очередь царевна Софья, кажется, специально старалась подчеркнуть равнодушие брата к церковным службам. Будучи весьма религиозной женщиной, сейчас она еще более усилила свое рвение.
14 июня в навечерие памяти Ионы, митрополита Московского, Софья второй раз за день выходила в Успенский собор к всенощному бдению.
15 июня, в самый день памяти митрополита, Софья слушала в Успенском соборе литургию, а вечером в канун празднества Тихона-чудотворца была у всенощной во вновь сооруженной церкви Тихона в Белом городе у Смоленских ворот.
Утром 16 июня царевна присутствовала на освящении церкви Тихона у Смоленских ворот и слушала литургию.
20 июня Софья «изволила для моления о дожде иттить к церкви пророка Илии, по прозванию Обыденного, что за Пречистенскими вороты близ Москвы-реки, и той церкви слушать всенощного пения».
Утром 21 июня Софья вместе с царем Иваном Алексеевичем шла в крестном ходу из Успенского собора в церковь Ильи Обыденного и была там за обедней.
23 июня, в день празднования Сретения Владимирской иконы Богоматери, царевна шествовала в крестном ходу из Успенского собора в Сретенский монастырь, отстояла там литургию, а после литургии с крестным ходом вернулась в Успенский собор.
26 июня Софья «изволила иттить для моления» в Новодевичий монастырь, была там у обедни и молебного пения. 27 июня в Новодевичий монастырь прибыл и царь Иван Алексеевич, и из монастыря царевна вернулись с братом на рассвете 28 июня.
Действуя так, Софья вернее, чем интригами, достигала своих тайных замыслов. Отсутствие Петра на церковных службах, где присутствовали Софья и царь Иван, становилось вызывающим. Наталья Кирилловна понимала всю опасность положения, но исправить его не могла – жертвовать ради церковно-придворного ритуала своими «Нептуновыми потехами» Петр не собирался.
Можно предположить, что 8 июля, на празднование Казанской иконы Божией Матери, Петр приехал после настоятельных просьб Натальи Кирилловны.
Однако лучше бы он не ездил.
Царевна Софья пришла в собор не с другими царевнами, а отдельно, в сопровождении пышной свиты. На голове царевны покоилась корона, составленная из драгоценных камней и жемчуга в виде двенадцать башенок – по числу апостолов. Поверх платья, расшитого жемчугом и драгоценными камнями, была накинута отороченная черным лисьим мехом мантия.
Какое-то время Петр сдерживал раздражение, но когда крестный ход должен был выйти из Успенского собора, чтобы отправиться в Казанский собор, взорвался. Он потребовал у Софьи, стоящей с образом «О тебе радуется», чтобы она не ходила на крестный ход.
Софья не послушала его, и Петр, распираемый гневом, не сумел дойти даже до Архангельского собора, покинул процессию и уехал в Коломенское.
Затеянная Софьей «храмовая война» с Петром, если бы она велась последовательней и тверже – а, скорее всего, так бы и произошло! – неизбежно должна была завершиться победой царевны. Порукой тому – непоседливая, увлекающаяся натура будущего императора.
Но на это требовалось время, тем более что и тут Софья порою совершала непростительные ошибки.
5 июля, вернувшись с Троицкого подворья, Софья вместе с царем Иваном отправилась в Успенский собор на молебствие по поводу победы над раскольниками.
Молебен был установлен самой царевной Софьей в 1682 году, но очевидно, что сейчас напоминать стрельцам, среди которых многие сочувствовали староверческому движению, о расправе над ними не стоило бы. Тем более если предполагалось использовать стрельцов для нового дворцового переворота…
Впрочем, в 1689 году Петр был еще несовершеннолетним, и Софья рассчитывала, что регентство ее на законном основании может продолжаться еще несколько лет…
Но уже не было этих лет у Софьи…
9
В ночь с 7 на 8 августа 1689 года, то ли испугавшись новой стрелецкой опасности, то ли сделав вид, что он испугался, Петр I прискакал к Троице-Сергиевой лавре и укрылся за ее стенами.
Утром к нему приехали царица-мать Наталья Кирилловна и царица Евдокия Федоровна.
Из Троицкого монастыря Петр I распространил прокламацию, в которой указывал, что против него учинен заговор, цель которого – уничтожить как его самого, так и близких ему людей, а посему требовал от войск своих защиты.
Продолжая затеянное его благодетелем Артамоном Сергеевичем Матвеевым дело, патриарх Иоаким открыто поддержал Петра I в противостоянии с сестрой. Поддержали Петра и солдатские полки, управляемые Алексеем Васильевичем Голицыным.
Не было единодушия и в стрельцах. Скоро они перешли на сторону Петра, и Петр в противостоянии с сестрой, достигшем в августе 1689 года наивысшей точки, одержал окончательную победу.
Софье не оставалось ничего другого, как признать поражение. Ее фаворит, начальник Стрелецкого приказа Федор Леонтьевич Шакловитый, был казнен. Софья надеялась, конечно, на помощь брата Иоанна, но тот уговорил ее не противиться Петру.
5 октября Софья переехала в Новодевичий монастырь, где на ее содержание выдавалось каждый день по ведру меда и мартовского пива и по два ведра приказного и хмельного пива, а также по два ведра браги. Ежедневно присылали царевне с царского кормового двора десять стерлядей, щуку, леща, трех язей, два звена белой рыбы, зернистую икру, просольную стерлядь и белужину. Вдоволь было у царевны сладостей, ей выдавали по четыре фунта белых и красных леденцов, полфунта сахара «кенарского», по три фунта заграничных конфет и сколько угодно пряников, коврижек и всякой другой сласти.
Сладкой жизни хватило Софье на десять лет…
Когда 21 октября 1698 года после монашеского пострига вернулась она в келью, то увидела за своими окнами стрельцов с челобитными, зажатыми в руках. Вровень с окнами кельи были подняты на виселицах эти распухшие и посиневшие стрельцы…
Впрочем, это произойдет спустя десять лет, а сейчас отметим еще одно чрезвычайно существенное для нашего повествования обстоятельство.
Петр победил, хотя в ходе своей «храмовой войны» царевна Софья уже успела достаточно наглядно для окружающих проявить столь несвойственное облику русского государя равнодушие Петра I к церковным обрядам и службам.
Почему это небывалое для московского государя поведение никак не сказалось на поддержке его войсками и даже самим патриархом? Неужели их не тревожило, как относится царь к Церкви?!
Можно только догадываться, какой ответ на этот вопрос нашел патриарх Иоаким, для которого осознание, что он и привел Петра I на престол, и отстаивал его право занимать его, станет саднящею язвой последних лет жизни.
Петр же, безусловно, понял тогда, что и далее серьезного сопротивления его своеволию ни со стороны Церкви, ни со стороны военных не будет.
Определяла эту покорность не только верность подданных своему монарху – был ведь тогда и второй царь Иван V, – а те «никоновские» и «антиниконовские» Церковные Соборы XVII века, которые раскололи Русскую Православную Церковь и уронили ее авторитет в глазах паствы.
Впрочем, сам Петр I едва ли затруднял себя объяснениями совершившегося чуда. Похоже, что именно тогда, с августа 1689 года, начало крепнуть в нем ощущение, что он находится под прямым водительством Божиим.
Глава шестая Царские потехи
Петр I стал царем благодаря роковому для Руси – ранняя смерть оставшегося бездетным Федора – стечению обстоятельств, и он был, наверное, первым русским царем, которого не готовили к царскому венцу, который так фатально оказался не готовым к верховной власти…
Это может показаться противоречащим тому, что мы говорили, рассказывая об играх Петра, но никакого противоречия тут нет.
«Потехи», конечно, развивали Петра физически и умственно, но тому величайшему смирению, которое необходимо для царского служения, которое и должен проявлять государь, сообразуя и подчиняя свою волю интересам своей державы, своего государства, своих подданных, детские игры не научили и не могли научить…
1
Как справедливо отметил С.Ф. Платонов: «Петр вырос не под таким сильным влиянием богословской науки и не в такой благочестивой обстановке, как росли его братья и сестры».
Увы, так это и было…
Сама православная мораль, на которой основывалась вся жизнь Руси, почти ничего не значила для Петра I, который совместил в себе безудержность нрава портового забияки с абсолютной неограниченной властью.
Отказываясь от соблюдения дворцово-церковной обрядовости, восемнадцатилетний Петр – вспомните, сколь покаянно мог вести себя в этом же возрасте царь Иоанн Грозный! – тем самым дистанцировался не столько от благочестия, сколько от самого царского служения в его традиционном старомосковском понимании.
Характерно, что, низложив царевну Софью, сам Петр I никакого желания принять на себя тяготы государственного правления не проявил. По-прежнему, только по настоянию матери появляется он в Кремле, в государственные дела не вникает, всецело отдаваясь «Марсовым и Нептуновым потехам».
Более того…
На первых порах и саму царскую власть Петр I употребляет лишь для решения сугубо личных проблем. Так случилось, например, когда он решил заменить немецким платьем свою традиционную одежду русских царей.
Известно, что по этому поводу у Петра I был в присутствии матери прямой разговор с патриархом Иоакимом.
– Не гоже русскому царю в иноземной одежде у себя дома ходить! – попытался образумить его Иоаким и начал объяснять, что царь не для себя живет, а служит и служение это, как и духовному лицу, пристойнее совершать в той одежде, которая определена для этого дела.
Он говорил так, рассчитывая, что просто память о поддержке, которую он, патриарх, всегда оказывал Петру, заставит того задуматься над его словами.
В принципе, Петр I не страдал неблагодарностью, но только, разумеется, в тех случаях, когда это не противоречило его желаниям. Сейчас Петр посоветовал своему верному союзнику и недавнему спасителю думать не о портных, а о делах Церкви.
Для Иоакима столь резкий ответ был особенно болезненным, поскольку после раскола нестроения и неисправности в Русской Православной Церкви действительно бросались в глаза, и ради того, чтобы поддержать хотя бы внешний авторитет Церкви, высшее духовенство и патриарх Иоаким в том числе и готовы было идти на любые уступки государственной власти.
Резкий ответ Петра I свидетельствовал еще и об уверенности молодого царя в незыблемости приобретенной власти. И то, что в первые после свержения Софьи годы Петр I использовал эту власть только для организации «потех», говорит о многом. Без осмысления этого обстоятельства невозможно понять характер преобразователя России.
«В природе Петра, богатой и страстной, события детства развили долю зла и жестокости, – пишет С.Ф. Платонов. – Воспитание не могло сдержать эти темные стороны характера, потому что воспитания у Петра не было».
2
«Царь не вел образа жизни в соответствии с священным достоинством Царя и с этой высоты спустился до попойки в немецкой слободе и жизни простого мастерового, – справедливо отмечает профессор М.В. Зызыкин. – Церковь с ее стремлениями спасения и с ее неизбежным при ее почитании влиянием на гражданскую жизнь, отходит на второй план, и, как следствие этого, является целый ряд изменений в обычаях. Раньше первосвятители и другие иерархи привлекались в совет Царя и по гражданским делам; они привлекались к участию в земских соборах и Боярской Думе; теперь Петр удаляет Церковных представителей от участия в делах государственных; он еще при матери сказал об этом патриарху и не призывает его к совету».
Тем не менее наши историки, анализируя отношения Петра I с православием, почему-то скорее пытаются найти оправдания первому русскому императору, нежели разобраться в этом вопросе.
«С первых же шагов своей сознательной жизни он сошелся с “еретиками немцами” и, хотя остался православным по убеждениям человеком, однако свободнее относился ко многим обрядностям, чем обыкновенные московские люди, и казался зараженным “ересью” в глазах старозаветных ревнителей благочестия, – пишет С.Ф. Платонов. – Можно с уверенностью сказать, что Петр от своей матери и от консервативного патриарха Иоакима (ум. 1690) не раз встречал осуждение за свои привычки и знакомство с еретиками. При патриархе Адриане (1690–1700), слабом и несмелом человеке, Петр встретил не более сочувствия своим новшествам, вслед за Иоакимом и Адриан запрещал брадобритие, а Петр думал сделать его обязательным. При первых решительных нововведениях Петра все протестующие против них, видя в них ересь, искали нравственной опоры в авторитете церкви и негодовали на Адриана, который малодушно молчал, по их мнению, тогда, когда бы следовало стать за правоверие. Адриан действительно не мешал Петру и молчал, но не сочувствовал реформам, и его молчание, в сущности, было пассивной формой оппозиции. Незначительный сам по себе, патриарх становился неудобен для Петра, как центр и объединяющее начало всех протестов, как естественный представитель не только церковного, но и общественного консерватизма».
«Петр не был атеистом, напротив – он был несомненно человеком верующим, но его религиозность не носила того церковного характера, который был свойственен русскому благочестию времен Московской Руси… – говорит И.К. Смолич в “Истории Русской Церкви”. – На взгляды юного Петра оказали также влияние его встречи с иностранцами из Немецкой слободы в Москве – его религиозность приобрела протестантский оттенок. Именно поэтому он дистанцировался от обрядового благочестия Московской Руси, в атмосфере которого провел свои детские годы».
«Петр не понимал, что такое Церковь, – писал Ю.Ф. Самарин, – он просто ее не видел; ибо сфера ее выше сферы практической, и потому он поступал, как будто бы ее не было, отрицал ее не злоумышленно, а скорее по неведению».
Примеры можно продолжать…
Независимо от степени остроумия, все они лишь демонстрируют арсенал оправданий, изготовленный историками, но сами по себе они ничего не объясняют. Разумеется, можно назвать демонстративные бесовские игрища на первой седмице Великого поста дистанцированием от обрядового благочестия Московской Руси, можно подменить то внутреннее ожесточение или, вернее, озверение, которое нарастало в Петре, объяснениями: дескать, патриарх становился неудобен для Петра, но заявить, что Петр отрицал Церковь не злоумышленно, а скорее по неведению, можно, только закрыв глаза на факты…
3
18 февраля 1690 года должно было стать еще одной важной вехой в возмужании и взрослении Петра I – у него родился сын, царевич Алексей.
Должно было…
Но не стало.
Хотя Петр I и совершил положенные по такому случаю церемонии, но при этом явно тяготился своим новым положением, вел себя скорее как ребенок, которого оторвали от игры, а не как человек, ставший отцом.
Уже вечером 19 февраля он вызвал главного организатора «потех» шотландца Патрика Гордона и провел с ним всю ночь, а на утро сбежал в подмосковную вотчину Л.К. Нарышкина и вернулся в Москву только утром 21 февраля.
Между тем рождение наследника стало поводом для еще одной стычки Петра I с патриархом Иоакимом, ставшей для того роковой.
22 февраля в Грановитой палате, как и положено, был устроен «радостный стол». Пригласили патриарха с освященным Собором, касимовских царевичей, думных чинов, ближних людей, начальников приказов, командиров полков. От себя, нарушая установленную традицию, Петр I пригласил еще и закадычного друга Патрика Гордона.
Тут и восстал патриарх Иоаким, посчитавший невозможным сидеть за «радостным столом» с иноземцем-католиком. Петр I вынужден был уступить, но уступил с таким гневом, что патриарх Иоаким, в котором повиновение властям было воспитано всеми годами военной службы, и месяца не протянул после застолья.
18 марта патриарх Иоаким отдал Богу душу.
В завещании, оставленном патриархом, содержалась запоздалая просьба к великим государям запретить подданным всякое общение с еретиками-иноверцами латинами, лютерами и кальвинами. Патриарх Иоаким – тут он позабыл, видимо, о своем благодетеле Артамоне Сергеевича Матвееве! – советовал государям удаляться от иноверцев, как от врагов Божиих, не ставить еретиков-иноверцев начальниками в полках над служилыми людьми, потому что такие проклятые еретики, богомерзкие живые идолы, в полках никакой пользы воинству православному не принесут, а только гнев Божий на него наведут.
«Всякое государство свои нравы и обычаи имеет в одеждах и поступках, свое держат, – молил умирающий патриарх, – чужого не принимают, чужих вер людям никаких достоинств не дают».
Ответ на эту предсмертную мольбу патриарха Петр I дал, не задумываясь.
Как значится в записях царской Мастерской палаты, уже 1 апреля 1690 года Петру было сделано «немецкое платье»: камзол, чулки, башмаки, шпага на шитой золотом перевязи и «накладные волосы»[85].
Значит, заказ от Петра поступил раньше, и получается, что окончательное решение переоблачиться в немецкое платье Петр I принял буквально сразу после прочтения завещания.
Святую неделю 1690 года Петр I провел в Москве, а 27 апреля выехал в село Коломенское.
Этот обычный переезд в загородную резиденцию тоже оказался осуществлен совершенно не обычным образом. В Коломенское великий государь «изволил иттить в плавном судне… особым обрасцом, на корабелное подобие, с парусы и с конаты». Рядом с царским судном «в малых стружках и в лодках потешные конюхи с ружьем, с пищали и с корабины и из ружьев стреляли».
Однако не только водным путешествием в Коломенское удивил Петр I москвичей. 30 мая он ужинал вместе со свитой у Патрика Гордона и был весьма удовольствован. Удовольствованными должны были себя чувствовать и москвичи – ведь это был первый в истории Московской Руси случай посещения русским царем дома иностранца.
У этого ревностного католика и провел Петр I ночь перед избранием 23 августа нового патриарха Всея Руси. В патриархи избрали преосвященного Адриана, митрополита Казанского и Свияжского.
Никто не знал тогда, что это последний русский патриарх, избранный при Романовых!
Следующего патриарха будут избирать уже при советской власти.
4
Управившись с насущными государственными и церковными делами, Петр I снова самозабвенно окунулся в «потехи».
1 сентября четыре залпа из двадцати одной пушки возвестили, что наступило Новолетие, и начались военные маневры в Преображенском.
Стремянной стрелецкий полк вышел тогда сражаться против семеновской пехоты и конницы московского дворянства.
Потешные битвы – вот два стрелецких полка действуют друг против друга, вот потешные бьются со стрельцами Сухарева полка – сменяли одна другую, сражения завершались фейерверками, фейерверки – разгульными пирами.
Петр I так увлекся «потехами», что начал уклоняться от участия не только в дворцово-обрядовом протоколе[86], но и в традиционных для Романовых богомольях.
19 сентября он должен был ехать к Троице, где еще год назад искал укрытия от Софьи, но у дочери Патрика Гордона случилась свадьба с капитаном Даниилом Кравфордом, и Петр I так и не выбрался к празднику преподобного Сергия Радонежского.
И все чаще и чаще среди описаний развлечений Петра мелькает имя Франца Лефорта. Как отмечает М.М. Богословский, «3 сентября мы видим Петра у Лефорта и затем в последние месяцы 1690 года царь беспрестанно в Немецкой слободе то у одного, то у другого из своих новых, столь различных по характеру приятелей-иноземцев. Патрик Гордон, шотландец по происхождению, ревностный католик по вере и верный яковит по политическим убеждениям, рано покинул родину, служил в шведских и польских войсках, в 1660-х гг. попал в Россию и участвовал в войнах времени царя Федора и царевны Софьи. В момент знакомства с Петром это был уже человек немолодой – в 1690 г. он отпраздновал свое 55-летие. Его прямая и честная натура, продолжительная и богатая опытом служба снискали ему глубокое уважение не только в Немецкой слободе, но и в московских правительственных сферах. Молодому Петру он стал необходим как опытный советник и руководитель, в особенности в воинских потехах.
Иного характера был Лефорт. Швейцарец из Женевы, следовательно, француз, человек, не отличавшийся ни выдающимися способностями, ни обилием знаний, но полный жизни, весельчак, занимательный собеседник и добрый товарищ… Лефорт сделался поверенным Петра в его сердечных делах в слободе»…
Франц Лефорт, как отмечал князь Б.И. Куракин, научил Петра I «с дамами иноземными обходиться, и амур первый начал быть».
«Амур первый» – это роман русского царя с Анной Монс, любовницей самого Лефорта. Чтобы сделать и любовницу свою, и всю семью Монсов, как выражался Гюйсен, соучастницей своего счастья, Лефорт и свел Анну Монс со своим другом – двадцатилетним русским царем.
Сводничество Лефорта вызвало его ссору с братом царицы Евдокии Анрамом (Абрамом) Лопухиным. В ссору вмешался Петр I, зверски избив шурина. Веселая и любвеобильная дочь виноторговца умела плясать без устали и так ловко осушала бокалы, что совершенно покорила Петра.
«Это был тип женщины легкого поведения, обладающей наружным лоском, тем кокетством, которое кажется отсутствием всякого кокетства и способно обворожить пылкого человека, но само по себе заключает неспособность любить никого и ничего, кроме суеты и блеска житейской обстановки», – пишет Н.И. Костомаров.
По утверждению немецких источников, Анхен, напротив, была умна и добродетельна, не знала кокетства и пленяла мужчин, сама того не желая.
Насчет добродетельности Анны Монс говорить трудно, как и о добродетельности любой другой проститутки. Из показаний, зарегистрированных в Столбцах Преображенского приказа, явствует, что, даже вступив в связь с Петром, Анна Монс продолжала поддерживать любовную связь с Францем Лефортом.
Началом романа с Анной Монс и завершается 1690 год, который действительно стал переломным и в царствовании Петра I, и в истории всей России.
5
Как оценить значение первых лет последнего десятилетия XVII века, когда после смерти патриарха Иоакима Петр I лишился, кажется, последней стесняющей его своеволие узды?
Н.И. Павленко, исследуя биографию Петра I, справедливо отметил, что «правительство молодого Петра было скудно талантами. Печать этой скудности лежит на поверхности – достаточно перелистать страницы, на которых запечатлено законодательство первых лет царствования Петра: в нем невозможно обнаружить твердой направляющей руки. Оно плелось в хвосте событий, как-то реагируя лишь на то, что вызывалось потребностями сегодняшнего дня»[87]…
Но, собственно говоря, а что еще могло произойти, когда царь, удерживающий в своих руках всю полноту власти (царь Иван с самого начала смирился с первенством Петра!), при этом как бы устраняется от правления…
Действительно, когда читаешь подробные описания «Марсовых и Нептуновых потех», фейерверков и бесконечных пьянок в Немецкой слободе, возникает ощущение, что Петр I совершенно отказался от власти, поскольку собственно царскую власть он использует лишь для материального обеспечения собственных игр.
Затраты эти, правда, постепенно разрастались до государственных масштабов. В Переславле-Залесском началось строительство царского дворца, необходимого для проведения «Нептуновых потех», а «Марсова потеха», происходившая 6–9 октября 1691 года, по материальным затратам сравнима со сражением настоящей войны.
Все полки тогда были разделены на две армии.
Первой армией, которую Петр именовал «нашей», командовал «генералиссимус» князь Федор Юрьевич Ромодановский. В состав ее входили Преображенский и Семеновский полки, а также два выборных солдатских полка с конным отрядом рейтар и гусар.
Второй «неприятельской» армией командовал другой «генералиссимус» – Иван Иванович Бутурлин, и в состав ее входили стрелецкие полки.
Ключевой эпизод сражения произошел 6 октября, когда Иван Иванович Бутурлин, видя, что дело «приходит к худобе, а не к лучшему», попытался захватить конными ротами армию Ромодановского врасплох и взять «генералиссимуса» в плен. Он почти достиг успеха, но тут в дело вмешался «ротмистр» Петр Алексеев, который не «допустил» Голицына до Ромодановского, самолично «захватив» Голицына в плен. Нетрудно догадаться, что отважным ротмистром был сам царь Петр I, который никак не мог допустить, чтобы наша, то есть его, армия потерпела поражение от стрельцов-неприятелей. В «Марсовых потехах» стрельцам, по воле Петра, всегда отводилась роль побежденных.
С этой победой и вернулись в Преображенское.
Впереди шла конница, за ней ехал «генералиссимус» Ромодановский. Перед ним волокли по земле поверженные знамена стрелецких полков.
Знамена эти были совсем не игрушечными. По капризу Петра I или по подсказке иностранных советников, но волокли по грязи знамена настоящих боевых русских полков…
Все это тоже следовало бы включить в расходы на развлечения царя Петра I.
И каков же был результат?
«Все эти маневры, в которых было так много маскарадного, – отмечает М.М. Богословский, – были не более как наивной юношеской игрой, не преследовавшей никаких сознательных и заранее поставленных целей. Игра нравилась сама по себе. В этом и был ее единственный смысл».
В принципе, не преследовала «никаких сознательных и заранее поставленных целей» и серьезно ударившая по государственному карману экскурсионная поездка Петра I в Архангельск. Если она и принесла какую-то пользу, то только в смысле образования самого Петра.
Впрочем, никак не сопрягалась с государственными заботами и его вторая поездка к Белому морю. И даже настоящий морской корабль «Святой Павел», что выстроили на Соломбальской верфи, несмотря на огромные затраты, никак не послужил государственной пользе, а так и остался затейливой игрушкой для великовозрастного государя, не желающего расставаться с детскими потехами.
6
Принято считать, что, пока жива была царица Наталья Кирилловна, Петр I не выступал против обычаев старины.
Если это и верно, то только в том смысле, что страсти и пороки Петра еще не приобрели тех устрашающих размеров, которых они достигли по мере его возмужания…
Между тем уже сама подмена царского служения ничем не контролируемым и не ограниченным самовластием, хотя она и не объявлялась и никак не декларировалась Петром I, но тем не менее четко и последовательно начала осуществляться задолго до кончины Натальи Кирилловны.
Уже тогда, одновременно с вялой и немощной политикой Кремля, никак не влияющей на положение дел в стране, происходят решительные изменения в самом укладе царской власти. Она трансформируется, освобождаясь не только от утомительных церемоний, но вместе с тем и от самой идеи царского служения.
Прослеживая деятельность Петра I в первые годы его самостоятельного правления, мы видим, что государственная власть стремительно утекает из Кремля в Преображенское, в Немецкую слободу, на Плещеево озеро, обретая при этом не только немецкое обличье и одеяние, но порою выливаясь в откровенное беснование.
Именно тогда в стенах потешного Пресбурга зарождается знаменитый «всешутейший, сумасброднейший и всепьянейший собор».
Большинство историков – одни снисходительно, другие осуждающе – относятся к этой затее Петра как к неприличной, но достаточно безобидной забаве.
«Он (“всешутейший собор”. – Н.К.) состоял под председательством набольшего шута, носившего титул князя-папы, или всешумнейшего и всешутейшего патриарха московского, кокуйского и всея Яузы, – пишет В.О. Ключевский. – При нем был конклав 12 кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов, носивших прозвища, которые никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам сочинил для него устав, в котором обнаружил не менее законодательной обдуманности, чем в любом своем регламенте. В этом уставе определены были до мельчайших подробностей чины избрания и поставления папы и рукоположения на разные степени пьяной иерархии. Первейшей заповедью ордена было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. У собора, целью которого было славить Бахуса питием непомерным, был свой порядок пьянодействия, “служения Бахусу и честнаго обхождения с крепкими напитками”, свои облачения, молитвословия и песнопения, были даже всешутейшие материархиерейши и игуменьи. Как в древней церкви спрашивали крещаемого: “Веруеши ли?”, так в этом соборе новопринимаемому члену давали вопрос: “Пиеши ли?” Трезвых грешников отлучали от всех кабаков в государстве: инако мудрствующих еретиков-пьяноборцев предавали анафеме. Одним словом, это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшаяся набожным людям пагубой души, как бы вероотступлением, противление коему – путь к венцу мученическому… Бывало, на первой неделе Великого Поста его всешутейшество со своим собором устроит покаянную процессию: в назидание верующим выедут на ослах и волах или в санях, запряженных свиньями, медведями и козлами, в вывороченных полушубках…»
Неизвестный художник начала XIX в. Петр I
Из этой пространной цитаты видно, что В.О. Ключевский, как и многие другие историки, рисует «всешутейший, сумасброднейший и всепьянейший собор» как разовую игру, смешивая ее начало и ее завершение.
Между тем звание «архидьякона Пахома Пихай х… Михайлова» Петр I получит уже в последние годы своей жизни одновременно с официальным титулом Отца Отечества.
Это принципиально важно. Деятельность «всепьянейшего собора» протянута сквозь всю жизнь Петра, и уже одно это не позволяет относиться к ней просто как к безобидному чудачеству.
«От молодых лет до конца своей жизни Петр постоянно изменял его (всешутейшего собора. – Н.К.) устав новыми добавлениями и всевозможными вариациями, – отмечал М.И. Семевский, – к нему он обращался, когда хотел отпраздновать торжество победы, празднество мира, спуск корабля… к нему же обращался в черные минуты»…
Впрочем, о страшных последствиях, к которым приведет эта не в меру затянувшаяся игра, мы еще поговорим, а пока попытаемся разобраться, как начинался «всешутейший собор».
7
Безусловно, что в основании «всешутейшего собора» дерзости, охальничества, подростковой озабоченности половыми органами было больше, нежели какой-то выстроенной идеологической системы.
Другое дело, что эти естественные позывы, как правило, достаточно строго пресекаемые у обыкновенных подростков и молодых людей родителями и учителями, в потешном Пресбурге были ограждены не только стенами крепости, но и реальной монаршей властью. За этой оградой и возрастали невыносимо причудливые и ядовитые соцветия «монаршей» похабщины.
Постепенно в «соборянах» вырабатывалась некая культура похабной удали, которая не только крепче привязывала друг к другу членов «кумпании», не только позволяла им легко переходить на другой, совершенно непонятный посторонним уровень общения, но и определяла политические задачи.
С самого начала «всешутейший, сумасброднейший и всепьянейший собор» возрастал в противостоянии «женскому правлению» Софьи, в утверждении «мужского» облика царствования Петра. Оформление «соборной» идеологии началось, видимо, в октябре 1690 года, тогда в Мастерскую палату был куплен Устав церковный, который восемнадцатилетний Петр I и взял за образец для составления устава «всешутейшего и всепьянейшего собора».
Как видно из дневника Патрика Гордона, через полтора года в шутейном Пресбурге поставлен был свой, шутейный патриарх. Им стал неизменный член «кумпании» – Никита Моисеевич Зотов».
Возможно, со временем историкам удастся четче проследить влияние Немецкой слободы на преображение подростковой похабщины «кумпании» в вакхическую мистерию Преображённого царства… Однако и сейчас можно говорить совершенно определенно, что превращение Преображенского с его потешным Пресбургом в страшное пространство Преображенского приказа, где будет литься кровь и воздух наполнится криками безвинных людей, преданных лютым пыткам, началось еще при жизни Натальи Кирилловны.
Тогда же обозначился богохульственный характер «всешутейшего собора». Церемонии служения Бахусу становились откровенными пародиями на церковные службы[88].
Нет, Алексей Михайлович не напрасно понуждал беременную Наталью Кирилловну девять часов подряд смотреть устроенное пастором Грегори и А.С. Матвеевым «Артаксерксово действо».
Не пропали даром труды пастора…
8
«К своему совершеннолетию, – писал С.Ф. Платонов, – Петр представлял собою уже определенную личность: с точки зрения “истовых москвичей” он представлялся необученным и невоспитанным человеком, отошедшим от староотеческих преданий».
Любопытное совпадение.
В 1690 году свадьба дочери Патрика Гордона с капитаном Даниилом Кравфордом не позволила Петру I выбраться к празднику преподобного Сергия Радонежского.
Свадьба этой же дочери Патрика Гордона, уже успевшей стать вдовой и выходившей вторым браком за майора Карла Снивинского, помешала Петру I появиться 12 мая 1692 года на похоронах своего второго сына, царевича Александра Петровича.
За гробом племянника шел царь Иван Алексеевич, а великого государя Петра Алексеевича, как сказано в разрядной записке, «к выносу, и к божественной литургии, и к погребению в собор Архистратига Божия Михаила выходу не было».
Можно, конечно, говорить о случайности этого совпадения, можно толковать о холодности Петра I к царице Евдокии, но сын остается сыном, и отказ от прощания с ним приобретает черты некоего мистического действа.
Учитывая то, что и январские дни 1694 года, когда умирала Наталья Кирилловна, Петр провел не у ее постели, а в компании Патрика Гордона, следует говорить уже о традиции, установившейся при дворе Петра I.
В соответствии с этой традицией прошли и похороны Натальи Кирилловны 26 января. Звонили колокола Ивана Великого, открывая похоронную процессию, стольники несли покрытую черным бархатом гробовую «кровлю» от Красного крыльца к Вознесенскому монастырю. Следом шли дьяконы и священники; за ними несли иконы и кресты, а за иконами двигалось высшее духовенство: протопопы, игумены, архимандриты, епископы, архиепископы и митрополиты. Далее следовали царские и патриаршие певчие с пением надгробных песнопений.
Перед гробом шел патриарх Адриан. Гроб окружали дьяконы с кадилами. За гробом «в печальном смирном платье» шел пасынок Натальи Кирилловны царь Иван Алексеевич, самого же Петра I на похоронах матери не было.
Не было Петра I и 27 января в Вознесенском монастыре на заупокойной литургии, на которой присутствовал царь Иван Алексеевич.
Правда, в тот же день после вечерни он один, без свиты, зашел в Вознесенский монастырь, и это неурочное появление Петра на могиле матери некоторые историки трактуют как проявление глубины и искренности его горя. Они утверждают, что Петр I поступил «как пораженный глубокой скорбью искренний человек, которому невыносимо было являться на людях в официальной церемонии и который желал остаться со своим горем наедине, не считаясь при этом ни с какими требованиями этикета».
Патриарх Адриан. Гравюра. XIX в.
Рассуждения эти, к сожалению, грешат абсолютной оторванностью от реальных фактов, которые свидетельствуют о том, что горе, с которым Петр I якобы желал остаться наедине, не помешало ему принять 28 января участие в застолье у Франца Лефорта, где живо обсуждались подробности новой экскурсии в Архангельск. Патрик Гордон был в тот вечер назначен контр-адмиралом будущей морской экспедиции.
29 января застолье у Франца Лефорта было продолжено.
«Я писал по приказанию его царского величества в Амстердам к бургомистру Витзену о корабле, который снабжен 40 пушками и всем к тому принадлежащим, – свидетельствовал Франц Лефорт в письме брату. – Отдан уже приказ о переводе 40 000 талеров для уплаты за него. Я буду иметь честь командовать на нем в качестве капитана, князь Голицын будет лейтенантом, наш великий монарх – шкипером, а рулевым будет служить прежний его рулевой. Кроме того, у нас будут еще два корабля, их будут вести два генерала, из коих один – мой зять Гордон, а другой по имени Бутурлин. Все господа, которые обыкновенно следуют за двором, поедут с нами. Делаются большие приготовления, и всем распоряжаюсь я».
Не рискнем рассуждать о мистической составляющей столь странного и для рядового обывателя поведения Петра I, но о подсознательном страхе, владевшем им, поговорить можно.
Несомненно, что Петр I в своих играх, в потешных войсках и своем потешном Пресбурге пытался в том числе и спрятаться от пережитого в детстве ужаса. Вероятно, сам он не осознавал, но с годами – детские страхи, если они не побеждены, никуда не уходят от человека! – по мере взросления Петра I, это значение «Марсовых и Нептуновых потех» становится, кажется, преобладающим.
И так получалось, что, приобретя царскую власть, Петр I подсознательно стремился все более и более расширить пространство игры, захватывая в нее всю реальную жизнь.
Естественным рубежом для этого становилась смерть близких людей.
И у гроба сына, и у гроба матери Петр оказывался бы вне пространства защищающей его игры, и, очевидно, поэтому его и не было на этих похоронах.
Ну а второе путешествие в Архангельск, с его морской прогулкою, едва не стоившей жизни самому Петру, конечно же, было еще одной игрой.
Как, собственно говоря, игрою были и оба Азовских похода Петра…
9
В Азовских походах Петра I были задействованы столь большие воинские контингенты[89], страна понесла столь значительные потери, что говорить о них как о продолжении детских и отроческих «потех» неловко.
И тем не менее, когда читаешь описания этих походов, трудно отделаться от ощущения, что читаешь описание еще одной «Марсовой потехи»…
Те же, что и в «Марсовых потехах», участники – в первом походе семью стрелецкими полками командовал Патрик Гордон, а по воде к Азову подошли полки Федора Алексеевича Головина и Франца Лефорта…
Те же «шутейные» письма-донесения Петра Ф.Ю. Ромодановскому: «Письмо вашего пресветлейшества, государя моего милостивого, в стольном граде Пресшпурхе мая в 14-й день писанное, мне в 18-й день отдано, за которую вашу государскую милость должны до последней капли крови своей пролить»…
Те же «шутейные» правила деления полков на «наших» и «не наших», столь ярко проявившиеся в разборе предпринятой турками 15 июля 1695 года вылазки. Тогда к туркам перебежал голландский матрос Янсен, взятый Петром I на русскую службу в Архангельске. Янсен рассказал туркам о порядках в стрелецких полках Патрика Гордона. Воспользовавшись этим, турки и предприняли вылазку, стоившую русской армии 400 убитых и потери 16-пушечной батареи.
В принципе, эпизод достаточно обыкновенный для боевых действий, но необыкновенна реакция на него Петра. Весь его гнев обрушивается не на Патрика Гордона, который и являлся главным виновником, не сумевшим подготовить полки к противодействию подобным вылазкам, а на стрельцов.
Впрочем, и к невозвратимым человеческим потерям отношение у Петра I тоже как в «Марсовой потехе», когда после окончания игры все «убитые» участники ее вставали и отправлялись пировать.
Если известно, что после первого штурма Азова русская армия потеряла 1500 человек убитыми, то во втором штурме, тоже неудачном, потерь даже и не считали.
Тем более не считали потерь и при возвращении армии, когда, как пишет Н.И. Павленко, «надлежало отбиваться от татарской конницы, нападавшей на арьергарды, а затем наступила непогода, чередование заморозков с мокрым снегом, опустошавшая ряды отступавших войск».
В полном соответствии с «шутейными» правилами деления войск на «наших» и «не наших» делились и заслуги. В принципе, успех второго Азовского похода решила «морская баталия» донских казаков, которые 20 мая 1696 года напали на османский флот и сожгли один большой и девять мелких турецких кораблей, еще один большой корабль турки вынуждены были затопить. Остальные турецкие галеры вынуждены были отойти в море.
Тем не менее главные заслуги во взятии Азова были приписаны адмиралу Францу Лефорту, впервые вставшему тогда на корабельную палубу.
Как триумфатора встречали его в Москве.
Лефорт восседал в санях, запряженных шестеркой лошадей. За Лефортом пешком следовал царь Петр I в черном немецком платье и шляпе с белым пером, с пикой в руке.
У триумфальных ворот Виниус приветствовал Лефорта стихами:
Генерал-адмирал! Морских всех сил глава, Пришел, зрел, победил прегордого врага…Кажется, впервые столь ярко проявилось столь неумеренное и незаслуженное восхваление Петром иностранцев перед своими русскими, даже когда именно русские люди и определили успех предприятия.
Отметим тут, что если в первый Азовский поход Петр I отправлялся, когда царь Иван еще находился на троне и пусть и формально, но олицетворял собою высшую власть, то во втором походе – царь Иван Алексеевич умер 29 января 1696 года в возрасте тридцати лет – Петр I был уже единодержавным правителем.
И столь неумеренное восхваление иностранцев перед русскими не могло не пугать москвичей.
Глава седьмая Антихрист на троне
Мы говорили до сих пор об отношении молодого Петра I к Церкви.
Резонно задаться вопросом: а как сама Русская Православная Церковь относилась к Петру?
Понятно, что в правление царевны Софьи и даже потом, пока трон с Петром разделял его брат Иван V, своевольное поведение будущего русского императора хотя и шокировало окружающих, но еще не воспринималось как непосредственная угроза установленному порядку вещей.
После завершения второго Азовского похода положение изменилось – Петр I стал единственным самодержавным правителем, и Церкви необходимо было более четко выразить свое отношение к проводимой Петром I политике, к методам, которыми эта политика осуществляется.
Этого ждали от Церкви, потому что налицо было посягательство на самое существо Русской Православной жизни, а значит, и на отношение к царю, которое устаивалось на Руси веками.
«Как следствие идеи “третьего Рима”, – пишет И.К. Смолич в “Истории Русской Церкви”, – возникла особая теория о православном царе. Последний выступает как “царь праведный”, подчиняющийся только Божественной справедливости, “правде”, пекущийся о сохранении и поддержании православной веры во всех ее формах и учреждениях, с ее церквами и монастырями. Царь управляет по воле Божией во имя спасения душ, во имя охранения своих подданных от телесных и душевных треволнений. На основе этих предпосылок утверждались новые права царя в религиозной сфере. Со времени Ивана IV цари рассматривали вмешательство в церковные дела как исполнение своего долга по сохранению чистоты и неприкосновенности православной Церкви. Ни царь, ни церковная иерархия не усматривали в этом никакой “тирании” со стороны государственной власти. Правовая сторона дела совершенно не принималась во внимание… Коль скоро абсолютная власть царя, ограниченная лишь волей Божией и ответственностью царя перед Богом, не закреплялась каким бы то ни было законом, то не существовало и определения царских прав по отношению к Церкви. Москва не знала норм римского права. Важнее, однако, другое – та своеобразная черта древнерусского мышления, которая предоставляла самой жизни переплавлять обязанности царя по отношению к Церкви в нормы права».
Трагизм ситуации, сложившейся в России в конце XVII века, заключался в том, что именно глава Русской Православной Церкви патриарх Иоаким и способствовал утверждению Петра I на троне, а патриарх Адриан, который хотя и не любил и боялся петровских реформ, но, как справедливо отметил А.В. Карташов в «Очерках по истории Русской Церкви», «по убеждению и завету патр. Иоакима, был верен Петрову преемству трона».
Впрочем, хотя патриарх Адриан и «был силен своим старорусским благочестием», но ни ораторскими, ни публицистическими талантами не блистал. И даже если бы он и захотел составить оппозицию Петру I, вряд ли сумел бы организовать ее в условиях, когда и знатные и простые московские люди «от злоглагольств лютерских, кальвинских и прочих еретиков и от пипок табацких объюродели».
«При патриархе Адриане, слабом и несмелом человеке, Петр встретил не более сочувствия своим новшествам… – отмечал С.Ф. Платонов. – При первых решительных нововведениях Петра все протестующие против них, видя в них ересь, искали нравственной опоры в авторитете Церкви и негодовали на Адриана, который малодушно молчал, по их мнению, тогда, когда бы следовало стать за правоверие».
Далее С.Ф. Платонов поясняет, что патриарх Адриан действительно не мешал Петру и молчал, но и не сочувствовал реформам, и его молчание, в сущности, было пассивной формой оппозиции, он превращался в «центр и объединяющее начало всех протестов, как естественный представитель не только церковного, но и общественного консерватизма».
Другое дело, что превратиться в действительный «центр и объединяющее начало всех протестов» патриарху Адриану было трудно, поскольку хотя и верил он «теократически, величественно», но «вел себя обывательски законопослушно» (А.В. Карташов). Не находя никакого приемлемого для себя выхода, патриарх заболел, и «21-го февраля 1696 года на сырной неделе в пяток патриарху припала параличная болезнь».
От болезни этой он так и не смог оправиться до самой смерти…
Разумеется, люди мудрые и просветленные прозревали исходящую от Петра I опасность для Православной Руси и пытались выправить положение.
Известно жертвенное смирение нашего великого пастыря Митрофана Воронежского, которое употребил тот, чтобы достучаться до Петра I. Святитель Митрофан, любимым размышлением которого было памятование о смерти, о загробной жизни, а любимой молитвой – молитва об умерших, благословил начало строительства русского военного флота в Воронеже и добровольно жертвовал на это дело немалые церковные средства.
К прискорбию, материала, чтобы показать во всей полноте отношения, возникшие между царем и святителем, у нас нет, однако известно, что сам Петр I к святителю Митрофану относился гораздо уважительнее, чем к патриархам Иоакиму и Адриану.
Апологеты Петра I любят пересказывать историю приглашения святителя Митрофана в воронежский дворец государя, украшенный копиями античных статуй. Святитель отказался прийти на прием, объяснив, что не может ходить туда, где стоят статуи языческих богов. Петр был в хорошем настроении и приказал убрать статуи.
Эпизод, конечно, замечательный.
Петр I действительно понимал, кто такой святитель Митрофан, коли готов был из уважения к нему убрать статуи, которые оскорбляли святителя.
Но ведь это и все…
Никакой внутренней перемены, никакого духовного очищения в Петре не происходило даже и под влиянием почитаемого им святителя!
Завершился эпизод со статуями в духе петровского времени. Стоило только Митрофану покинуть дворец, как сразу статуи античных нимф вернулись на прежние пьедесталы.
1
Были, однако, со стороны церковных людей и открытые протесты…
В 1697 году, отбывая в Великое посольство, Петр I провел для своих подданных две акции устрашения.
Первая касалась так называемого заговора стрелецкого полковника Ивана Евсеевича Циклера. Заговорщики якобы собирались зажечь дом, в котором находился Петр I, и на пожаре убить самого царя.
Заговор был раскрыт, заговорщики арестованы и после пыток, которые возле потешного Пресбурга проводил сам царь, казнены. Полковника И.Е. Циклера, окольничего А.Ф. Сорокина и Ф.М. Пушкина казнили над вырытым из земли гробом Ивана Михайловича Милославского.
Пожалуй, впервые так открыто забавы «всешутейшего собора» вторгаются уже и в загробную жизнь. Гроб Ивана Михайловича Милославского был привезен на свиньях в Преображенское и поставлен возле плах так, чтобы кровь осужденных стекала в него[90].
И свиньи, везущие вырытый из могилы гроб, и живая еще кровь, льющаяся на разложившийся труп, – это элементы некоей черной мессы, которая как бы наугад, как бы на ощупь совершается Петром I в Преображенском во имя Преображённого царства. В Преображенском возле потешного Пресбурга зарождается тогда совсем уже не потешный Преображенский приказ.
Вторая акция, проведенная Петром перед отъездом за границу, касалась челобитья старца Авраамия, вздумавшего пробудить религиозную совесть царя.
Вообще-то монах, строитель Андреевского московского монастыря, старец Авраамий, принадлежал к числу тех деятельных людей, которых, как считают исследователи, и искал Петр I в Немецкой слободе, на поиски которых и отправлялся он в Великое посольство.
Помимо игуменских обязанностей, Авраамий занимался придумыванием различных технических новинок и с Петром I познакомился, когда тот явился в монастырь, чтобы осмотреть изготовленный Авраамием и И.Т. Посошковым «денежный стан» (вероятно, усовершенствованное приспособление для штампования монет).
Но оказалось, что изобретательством интересы старца не ограничиваются.
Давно уже с тревогою наблюдал Авраамий за происходящим, давно уже одолевали его невеселые мысли о судьбе страны, и мысли эти он и изложил на бумаге к приезду государя…
«Седя аз в келье моей, во обители великого в мученицех страстотерпца святаго Андрея Стратилата и пострадавших с ним… слышал от приходящих ко мне от розных чинов людей, глаголющих сице: ныне де в настоящее время мнози тужат и гораздо болезнуют, и есть де о чем болезновать и тужить нам»…
Когда читаешь челобитную Авраамия, восхищаешься удивительной смелостью старца, возвысившего свой голос до прямого обличения неправд нового царствования: «И они де ныне со дьяки да с подьячими, позабыв страх Божий и крестное целование и смертный час, губят государство нагло, судят неправедно и с судимых емлют, кто даст почести посуленой, тот и прав».
Но еще более восхищает мудрость старца. Дрожащим голосом перечисляет он те вины и беззакония Петра, которые до сих пор боятся называть своими именами наши историки: «Кого де было надеелися и ждали того, как возмужает и сочетается законным браком, и тогда де оставит младенческое мудрование и будет яко муж совершен, и тогда де все поправит на лучшее.
И тое они надежди яко бы погрешили, возмужав де и женяся, уклонился в потехи непотребные, оставя, яже подобаше творити всем полезное, нача творити всем, разум имущим здрав, печальное и плачевное в словах смехотворных, и в шумах, и в делах богонеугодных, от каких было надобно ему возбранять подданных своих, и он де то сам творит, и яко уже бы впредь и добра вскоре не чают.
Покинув де всякое правление государства своего и приказал правити его похотником, мздоимцем, неимущим страха Божиа и непомнящим крестнаго целования, ни часа смертнаго, и како ответ дати праведному всех судии Богу, хотящим богатеть»…
Как мог решиться Авраамий говорить такое в лицо царю, известному своей необузданной яростью?
Похоже, вопрос этот занимал и самого Авраамия.
В своих «тетрадях» он пишет, что уже давно слышал жалобы на Петра I и советовал своим собеседникам бить челом государю, чтобы он «покинул» «не угодное Богу и людям добрым непотребное» и принялся за «угодное и потребное».
«И они сказали мне, не смеют для того: скажут де про нас, будто мы заводим бунт, и блюдутся казни и разорения домов своих и ссылок. Из них, ково пошлют в сылку, жена, дети восплачют, а наипаче, у ково есть отец али мать в старости или один кто из них, к тому же род и племя»…
И тогда и понял Авраамий, что это его слабый голос и должен стать голосом всей Церкви, всего гонимого народа, что это он должен указать государю на существующие ошибки и на средства к их исправлению…
«А у меня, убогова чернца, уже на сем свете несть ни отца, ни матери, аз един и возплакать по мне и опечалится некому. А заступников себе никово не имею, окроме Господа Бога и заступницы за род христианский, пресвятые Богородицы Девы Марии, и тебе, помазаника Божия, великого государя»…
Какой изумительный портрет русского человека XVII века возникает под его пером! Человек этот решился сказать правду, решился обличить царя, полагая своими заступниками помимо Бога и Богородицы еще и саму идею русского православного царя – помазанника Божия!
Свою челобитную Авраамий попытался передать Петру, когда тот посетил его келью после возвращения из второго Азовского похода.
Петр I, бегло взглянув на листки, приказал Авраамию челобитную «переписать, а честь не давать». Авраамий исполнил приказ, переписал челобитную в тетрадь.
Эту тетрадь и изучал в Преображенском приказе Ф.Ю. Ромодановский на допросах старца. Пытали Авраамия жестоко. Его дважды поднимали на дыбу и «на втором подъеме» били кнутом…
«Иные существа вырастают и стареют в год, а другие и в месяц, – писал старец в челобитной, не подозревая даже, насколько пророческими окажутся его слова. – А мню аз, есть и такие вещи – и во един день срастет и того же дни падает и, чаю аз, того, а в писании о том нигде не видал».
2
10 марта 1697 года началось небывалое в истории России предприятие, названное Великим посольством в Европу.
Великими полномочными послами были назначены генерал и адмирал, наместник новгородский Франц Яковлевич Лефорт, генерал и воинский комиссарий, наместник сибирский Федор Алексеевич Головин, думный дьяк, наместник белевский Прокопий Богданович Возницын. Сам царь ехал инкогнито, он числился в посольстве как урядник Преображенского полка Петр Михайлов.
Первая встреча с заграницей произошла в Риге, где посольство вынуждено было задержаться из-за ледохода через Двину. Петр надеялся, что он попадет здесь в родную Немецкую слободу, но в Риге все было чужое. В отличие от Немецкой слободы, приезд русского царя не пробудил в здешних немцах никакой радости. Из пушек, правда, выстрелили в честь прибытия Великого посольства, но это и все, даже генерал-губернатор Эрик Дальберг не соизволил встретиться с урядником Преображенского полка Петром Михайловым.
И с крепостными сооружениями Петру было запрещено знакомиться.
Однако он не привык ни в чем себе отказывать и, вытащив из кармана подзорную трубу, тут же принялся разглядывать укрепления. Только когда караул пригрозил применить оружие, Петр I прервал это занятие.
Любопытно, что «рижская обида» будет в дальнейшем использована Петром как предлог для начала войны со Швецией.
Надо сказать, что Петр I вел себя за границей с детской непосредственностью и сумасбродностью, ни в чем себя не ограничивая, как в Немецкой слободе или игрушечном Пресбурге.
Весьма впечатляющее представление о поведении Петра за границей дает опись состояния дома, который английское правительство арендовало у адмирала Джона Бенбоу для проживания русского царя. Здесь пострадали и стены, и потолок, и пол. Особенно существенный урон был нанесен интерьеру. Изломаны были кровати, столы, стулья, кресла, измараны картина, приведены в негодность перины, подушки и одеяла. Такое ощущение, что размещался в доме не царь со своей свитой, а дикая орда юных сорванцов.
Впрочем, и в дальнейшем Петр I вел себя за границей схоже.
Рассказывают, что, увидев в копенгагенском музее мумию, Петр выразил желание купить ее. Получив отказ, он вернулся в музей, оторвал у мумии нос и сказал: «Теперь можете хранить».
Очень много написано о плотницких потехах Петра I за границей, немало сказано об экскурсиях для постижения европейской учености…
Меньше говорится о дипломатических переговорах, которые вел Петр I во время своего посольства, о тех контактах, которые удалось ему установить с владетельными особами Европы, и почти ничего не говорится о результате этих переговоров и контактов, потому что значение официально достигнутых договоренностей и союзов оказалось ничтожным.
Но результаты, безусловно, были.
Как пишет А.Дж. Тойнби, «западный мир, куда прибыл Петр I, был уже безрелигиозный мир и объевропеившиеся русские, прибывшие с Петром Великим, стали агентами этой европеизации, не стремясь нисколько принимать форму западного христианства».
Некоторые историки считают, что именно в ходе Великого посольства Петр I начал усваивать европейскую идею: quius relio, eius religio – чья власть, того и вера. Если государь католик, считали тогда в Европе, то и подданные его должны быть католиками. Если он переходит в протестантизм – должны перейти и они.
И протестантскую идею о том, что «Государь есть глава религии», Петр тоже почерпнул уже во время Великого посольства.
«Единственно реальное и ощутительное, что вынес Петр из своей поездки в чужие края, это отрицательное отношение к православной религии и русскому народу, – пишет В.Ф. Иванов. – Сомнение и скептицизм в истинности своей веры, вынесенные им из общения с Немецкой слободой, окрепли во время заграничной поездки».
Суждение это, безусловно, верно, но нужно сразу уточнить, что это касается лишь той веры, которую исповедует Православная Церковь.
В самом Петре I недовольство устройством Русской Православной Церкви, скептицизм и сомнения в истинности православной Веры, а также похабнейшие антицерковные выходки непостижимым образом уживались с достаточно глубокой личной религиозностью. Самой веры в Бога – бесы тоже веруют и трепещут![91] – Петр I не терял никогда. Более того, вера в то, что он находится под прямым водительством Бога, по мере отчуждения Петра от Русской Православной Церкви, только крепла в нем год от года.
Чрезвычайно любопытны в этом смысле сведения о встречах Петра I с крупными масонскими деятелями во время Великого посольства.
Понятно, что говорить, будто Вильгельм III Оранский тогда и вовлек Петра в масонскую ложу, рискованно, но, с другой стороны, и преуменьшать значение подобных встреч тоже не следует. Безусловно, беседы с такими выдающимися мастерами убеждения и внушения весьма способствовали укреплению в Петре мистического ощущения своей избранности. Петр четче начал уяснять себе цель, которую под прямым водительством Бога он может достигнуть.
Подытоживая, можно сказать, что Петр I привез из Европы не только еще не оформившуюся до конца мысль о полном подчинении себе Русской Православной Церкви, не только заимствованный из лютеранской практики новый арсенал издевательств над католицизмом, который он будет применять непосредственно против Русской Православной Церкви, но и план преобразования России в европейскую страну.
3
Управление страной на время Великого посольства было возложено на боярина Т.Н. Стрешнева и князя Ф.Ю. Ромодановского.
Им, уезжая за границу, Петр I оставил и последствия своих «азовских потех».
Как мы уже говорили, за взятие Азова были награждены в основном любимцы Петра, преимущественно иностранцы из ближайшего окружения, а стрельцов частично оставили в Азове или передвинули на южную и западную границы.
Петр I обошелся со стрелецкими полками, как обыкновенно обходятся малые дети с нелюбимыми игрушками: забросил подальше с глаз и позабыл о них.
Стрельцы в пограничных городах терпели недостаток в продовольствии и обнищали до того, что вынуждены были просить милостыню по деревням. Кроме того, в Москве, в стрелецких слободах, оставались их семьи – жены и дети. На исходе был второй год такой службы, а конца разлуке не предвиделось.
В марте 1698 года из стрелецких полков, расположенных близ польской границы, в Москву отправили депутацию из 175 стрельцов.
Им ответили в Москве, чтобы они не бунтовали, а возвращались в полки.
Ситуацией этой решила воспользоваться царевна Софья.
И.Е. Репин. Царевна Софья в Новодевичьем монастыре. 1879 г.
«Теперь вам худо, а впредь будет еще хуже! – писала она стрельцам из Новодевичьего монастыря. – Ступайте к Москве, чего вы стали? Про государя ничего не слышно».
В воззвании Софьи призыв к новому бунту был сформулирован еще более прямо:
«Вам бы быть в Москве всем четырем полкам, и стать под Девичьим монастырем табором и бить челом мне, идти к Москве против прежнего на державство… А кто бы не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой».
Скоро четыре взбунтовавшихся стрелецких полка двинулись к Москве. Навстречу им выступили из Москвы войска под начальством боярина Шеина и генерала Гордона. Они встретили стрельцов у Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря на берегу реки Истры.
После подавления мятежа начался розыск.
К возвращению Петра I из заграничного путешествия розыск был завершен.
Сто тридцать стрельцов повесили, около двух тысяч – разослали по разным городам и монастырям.
«На далеком Западе слабели последние связи Петра с традиционным московским бытом, – отметил С.Ф. Платонов. – Стрелецкий бунт порвал их совсем. Родина провожала Петра в его путешествие ропотом неодобрения, а встретила его возвращение прямым восстанием».
Тот план преобразований, которые Петр I собирался произвести в стране, был в своей основе удручающе прост. Решено было все старое заменить новым, причем сделать это так, словно в России вообще ничего раньше не было.
Осуществить такой план затруднительно, но для Петра I не существовало невозможного.
Вернувшись в Москву, Петр I прямым ходом – вот она европейская культура! – проехал в Немецкую слободу к полюбовнице.
Здесь Петр I узнал неприятную новость.
Оказывается, приказ о насильственном пострижении в монашество его жены Евдокии (Лопухиной) все еще не выполнен!
Петр вызвал Евдокию в дом почтмейстера Винуса и беседовал с нею несколько часов.
– Почему, – кричал он, топая на нее ногами, – повеления не исполнила? Как смела ослушаться, когда я приказывал отойти в монастырь, и кто тебя научил противиться? Кто тебя удерживал?
Когда царица начала оправдываться, что на ее попечении находится маленький сын, царевич Алексей, что она не знает, на кого ребенка оставить, сестра Петра Наталья вырвала Алексея из ее рук и увезла в своей карете в Преображенское.
Объяснений Петр потребовал и от патриарха.
Патриарх Адриан начал сбивчиво объяснять, что насильственное пострижение царицы во время отсутствия в Москве царя могло вызвать нехорошие толки… Дело кончилось тем, что арестовали одного архимандрита и четырех попов. Все они были допрошены, но казнить их Петр из-за недостатка времени не стал.
Дожидаясь объяснений патриарха, Петр уже приказал свозить в Преображенское оставшихся в живых после недавнего розыска стрельцов и теперь целыми днями пропадал в Преображенском. Там, возле потешного Пресбурга, было устроено четырнадцать пыточных застенков.
Новый стрелецкий розыск, поразивший современников беспредельной жестокостью, Петр I начал 17 сентября в день именин Софьи.
По свидетельству современников, все Преображенское с его потешным Пресбургом превратилось тогда в страшное пространство Преображенского приказа, где лилась кровь, и воздух наполнился криками безвинных людей, преданных лютым пыткам. Ежедневно здесь курилось до 30 костров с угольями для поджаривания стрельцов. Сам царь с видимым удовольствием присутствовал на этой похожей на жутковатую мистерию пытке.
Пытаясь умилостивить царя, патриарх Адриан явился к нему с иконой «печаловать» о казнимых.
– К чему эта икона? – закричал Петр, увидев патриарха. – Разве твое дело приходить сюда? Убирайся скорее и поставь икону на свое место. Быть может, я побольше тебя почитаю Бога и Пресвятую Его Матерь, но мой долг – казнить злодеев, умышлявших против общего блага!
23 сентября наконец-то устроены были на европейский лад семейные дела Петра I. Жену его, царицу Евдокию, увезли в Суздальский Покровский девичий монастырь и там насильно постригли в монахини под именем Елена…
Надо сказать, что за приготовлениями к стрелецкому розыску Петр I «позабыл», что и в монастыре надо бы устроить жену.
Евдокия единственная из русских цариц, которая не получила при пострижении в монастырь прислугу, которой не было назначено никакого содержания…
«Покамест жива, пожалуйста, поите, да кормите, да одевайте нищую», – писала она жене брата.
Еще большие мучения, чем нищета и голод, доставляла Евдокии разлука с сыном. Поразительно, но и, проходя через мучения, которым без всякой вины подверг ее муж, она не озлобляется на него.
«Долго ли мне так жить, что ево, государя, не слышу и не вижу, ни сына моего, – напишет Евдокия боярину Стрешневу в 1705 году. – Уже моему бедствию пятый год, а от нево, государя, милости нет. Пожалуй, Тихон Никитич, побей челом, чтоб мне про ево государево здоровье слышать и сына нашего такожде слышати, пожалуй и о сродниках моих попроси, чтобы мне с ними видеться. Яви ко мне бедной милость свою, побей челом ему государю, чтобы меня пожаловал жить, а я на милость твою надеюся, учини милостиво, а мне ни чем тебе воздать, так тебе Бог заплатит»…
Но это попутное замечание…
30 сентября состоялась первая массовая казнь стрельцов.
Пятерым стрельцам Петр I лично отрубил головы еще в Преображенском, а остальных повезли из Преображенского к Покровским воротам на телегах, с зажженными свечами в руках.
Здесь им был зачитан петровский указ.
«А у пущих воров и заводчиков ломаны руки и ноги колесами: и те колеса воткнуты были на Красной площади на колья; и те стрельцы, за их воровство, ломаны живые, положены были на те колеса и живы были на тех колесах не много не сутки, и на тех колесах стонали и охали…»
Петр I в тот день, вечером, был на пиру, устроенном Лефортом, и, по свидетельству современника, «оказывал себя вполне удовлетворенно и ко всем присутствующим весьма милостивым». Так, с пострижения в монахини законной жены – матери наследника престола, с привезенной из Европы невиданной на Руси смертной пытки – колесования и начиналась петровская европеизация нашей страны.
Иначе, как сатанинской остервенелостью, невозможно объяснить невероятную жестокость Петра в эти дни.
11 октября были казнены 144 стрельца.
12 октября казнены 205 стрельцов.
13 октября казнен 141 стрелец. Поражает неутомимая изобретательность Петра на все новые и новые зверства.
17 октября рубить головы стрельцам он приказал своим ближайшим сотоварищам. Члены «кумпании», прошедшие школу «всешутейшего собора», легко справились с экзаменом. Князь Ф.Ю. Ромодановский отсек тогда четыре головы, а Александр Данилович Меншиков – недаром так любил его Петр! – обезглавил 20 стрельцов.
Всего 17 октября было казнено 109 стрельцов.
18 октября казнили еще 63 стрельца.
19 октября казнено было 106 стрельцов.
21 октября постригли в монахини Новодевичьего монастыря с именем Сусанна сестру Петра I царевну Софью.
Когда после пострига она вернулась в свою келью, ее ждал подарок брата: 195 стрельцов были повешены им в этот день возле Новодевичьего монастыря. Трое из них – возле самых окон кельи сестры. В руки им всунули челобитные. Трупы провисели в петлях пять месяцев. В свои палаческие забавы Петр втягивал и русскую аристократию.
«Каждый боярин, – пишет С.М. Соловьев, – должен был отсечь голову одного стрельца: 27 октября для этой цели привезли сразу 330 стрельцов, которые и были казнены неумелыми руками бояр, Петр смотрел на зрелище, сидя в кресле, и сердился, что некоторые бояре принимались за дело трепетными руками».
Превращая знатных представителей древних родов в палачей, Петр I не просто глумился над ними в устроенной мистерии, а ломал их.
Трудно было представителям знатных русских родов превращаться в палачей, но иного места не оставляла им затеянная Петром кровавая мистерия. Трясущимися руками рубили бояре головы обреченных страдальцев.
Схожую цель преследовало и насильственное брадобритие. Оно специально осуществлялось в предельно жесткой и унизительной манере, чтобы сломить волю русского человека, сделать его не способным к какому бы то ни было сопротивлению.
В Астрахани, например, поставлены были у церковных врат петровские солдаты, которые и рвали с корнем бороды.
«Стали мы в Астрахани, за веру христианскую и за брадобритие, и за немецкое платье, и за табак, и что к церкви нас и жен наших и детей в русском старом платье не пущали, а которые в церковь Божью ходили и у тех платье обрезывали и от церквей Божьих отлучали, выбивали вон и всякое ругательство нам и женам нашим и детям чинили воеводы и начальные люди».
Надо признать, что Петр действительно не терял времени за границей. Он блестяще овладел там психологией устрашения и подавления поданных…
Разумеется, не случайно совпадают эти жестокие казни, насильственное заточение в монастыре жены и указы о бритье бород.
Петр меняет все.
Жену… Армию… Страну… В следующем году он изменит само русское время, введя новый календарь.
В ноябре 1698 года со стрельцами было покончено.
Раскассировали по указу Петра 16 московских стрелецких полков. Стрельцов разослали по разным городам и там записали в посадские люди.
Их запрещено было принимать в солдаты.
Через два года, под Нарвой, жестоко аукнулось России добровольное разоружение ее Петром І…
4
С самого начала Великого посольства, сразу после рижского конфуза, Петр І начал вынашивать мысль о войне со Швецией. Разъезжая по городам Европы, он прорабатывал планы создания коалиции, искал и, как ему казалось, находил союзников.
Это свидетельствует о том, что к войне он готовился.
И вот, по сути, накануне этой тяжелой войны он раскассировал 16 московских стрелецких полков, то есть практически распустил всю свою армию!
Историки обыкновенно «забывают» этот факт, поскольку он свидетельствует о поразительной беззаботности Петра, о его абсолютной неподготовленности к исполнению царской должности.
Впрочем, не говорят историки и о том, что и сама идея добыть выход к Балтийскому морю начала осознаваться как стратегическая задача уже в ходе Северной войны, а вначале она заслонялась какими-то подростковыми обидами и планами отмщения…
19 августа 1700 года с Постельного крыльца был объявлен царский указ: «Великий государь указал за многие неправды свейского короля и в особенности за то, что во время государева шествия чрез Ригу от рижских жителей чинились ему многие противности и неприятства, идти на свейские города ратным людям войною с фельдмаршалком и адмиралом Ф.А. Головиным».
Разумеется, можно возразить, что формальная причина войны – это только предлог, а подлинные цели войны обыкновенно принято скрывать, пока они не будут достигнуты…
Это так…
Однако в нашем случае можно совершенно определенно говорить, что «царь горел желанием начать военные действия еще и потому, что в начале июля Томас Книпперкрон вручил Посольскому приказу вызывающий ответ шведского правительства на жалобу Ф.А. Головина о неучтивом приеме великого посольства в Риге. Вместо того чтобы наказать рижского генерал-губернатора Дальберга, на что рассчитывали в Москве, король взял его под защиту и отклонил все притязания русской стороны»[92].
Так же, не по-царски, вел себя Петр I и в ходе недолгой Нарвской кампании…
18 ноября 1700 года, узнав о приближении армии Карла XII, он, подобно напуганному ребенку, в сопровождении А.Д. Меншикова и «фельдмаршалка и адмирала» Ф.А. Головина бежал в Новгород.
Генерал-фельдмаршал К.Е. де Кроа, на которого Петр I бросил под Нарвой всю свою армию, тотчас же перешел на сторону шведов, и 8-тысячный отряд восемнадцатилетнего Карла XII играючи разгромил брошенное царем 40-тысячное русское войско. Вся русская артиллерия досталась шведам. В плен были взяты десять генералов.
Таких позорных поражений еще никогда не знала русская армия.
После Нарвской победы в Швеции выбили медаль.
На ней был изображен Петр I, бегущий от Нарвы, – шпага брошена, царская шапка свалилась с головы. Надпись гласила: «Изшед вон, плакася горько».
Сопоставим поступки Петра I, знаменующие его телесное возрастание.
Начал тяготиться церковно-дворцовыми церемониями… Не пришел на похороны сына и матери… Бросил под Нарвой свою армию…
Разумеется, это разнородные события, но вместе с тем есть в них и нечто общее. Повсюду тут своеволие превалирует над служением. И если поначалу подростковые проступки не влекут за собою никаких серьезных последствий, то постепенно они оборачиваются катастрофами для всей страны.
5
Патриарх Адриан не дожил до этого совсем не потешного позора русского оружия. 16 октября 1670 года он умер в Перервинском монастыре под Москвой.
«Кто ми даст криле таковы, – писал он в своем завещании. – Да постигну дни моя протекции? Кто ми возвратит век мой, да – выну смерть поминая – вечнаго живота сотворю деяния? Ибо суетно уже тень ловити и тщетно неподобных ждати. Уплыве бо невозвратное время. Утекоша невоспятимая лета. Прейдоша дние, яко слово, никогда не обращающеся к языку. Точию Божие не уплыве мне милосердие».
Впрочем, Петр I, похоже, внимательнее изучал не завещание патриарха, а донесение «прибыльщика» Алексея Курбатова, сообщившего ему на девятый день после кончины Адриана, что, по его мнению, с избранием патриарха «достоит до времени обождати», а пока учредить контроль над «домовой казной» патриарха: «Зело, государь, ныне во всем видится слабо и неисправно. Также, государь… чтоб в архиерейских и монастырских имениях усмотреть и, волости переписав, отдать все в охранение, избрав кого во всяком радении тебе, государю, усердного, учинив на то расправный приказ особливый. Истинно, государь, премногая от того усмотрения собиратися будет казна, которая ныне погибает в прихотях владетелей».
Если Нарвское поражение и поколебало уверенность Петра I, что он находится под прямым водительством Бога, то ненадолго. Столь своевременная кончина патриарха Адриана открывала ему возможность для грабежа Русской Православной Церкви и создания за ее счет новой армии.
Вернувшись в Москву, Петр I издал 16 декабря 1700 года указ об упразднении главного патриаршего управления, а 24 января 1701 года учредил Монастырский приказ.
Колоссальные средства, изымаемые из Церкви, тяжелое ярмо, возложенное на податное сословие, позволили Петру I в достаточно короткий срок не только восстановить потерянную под Нарвой армию, но и нарастить военное могущество.
Но никуда тут не уйти от мысли, что за трусость Петра, за бездарность его окружения заплатить пришлось Русской Православной Церкви и всему русскому народу.
Пытаясь оправдать Петра I, его сторонники говорят: дескать, шла страшная война как за выживание России, так и за сохранение Церкви Русской. Государство быстро оскудело в средствах, а у монастырей были большие имения по всей России, которые «реально помогли отстоять последний земной оплот Православия и превратить его в империю, превзошедшую по мощи Второй Рим».
Что же касается снятия колоколов, утверждают эти защитники Петра I, то опять же надо вспомнить, на сколь низком уровне обстояло в то время в России дело с добычей и выплавкой металлов и что ждало Русскую Церковь, в том числе и монастыри, в случае победы шведов.
И тут только руками остается развести…
Про какую это войну за выживание России идет речь?
Вообще-то хотя Швеция и являлась противницей России и загораживала выход к Балтийскому морю, но это не Швеция напала на Россию, а Петр I объявил ей войну…
Да и когда война уже началась, Карл XII не ставил своей задачей уничтожение России, что, разумеется, и невозможно было осуществить.
А потом, вспомним еще раз, кто уничтожил испытанное стрелецкое войско? Кто бросил свою новую армию под Нарвой?
На это возразят, что была еще и Полтава, был и Гангут…
Были…
Но был ведь еще и Прутский поход, когда Петр I завел в окружение всю свою армию и разом лишился всех приобретений на южных рубежах…
А главное, какой ценой дались России победы Петра I?
6
В столь печальном для России 1700 году, когда даже и одежда русская была запрещена, а носить приказали платье венгерского, саксонского и французского образца, а сапоги и шапки – немецкие[93], наша страна не только проиграла Нарвскую кампанию, не только потеряла своего патриарха, но и лишилась патриаршества вообще.
Историки считают, что Петр I не захотел созывать Собор для выборов нового патриарха, потому что у него не было кандидата на патриарший престол, а кроме того, Петр I так и не решил: оставлять сам институт патриаршества или нет.
«Нет нужды предполагать, как делают некоторые, что уже тотчас после смерти Адриана Петр решился упразднить патриаршество, – пишет С.Ф. Платонов. – Вернее думать, что Петр просто не знал, что делать с избранием патриарха. К великорусскому духовенству Петр относился с некоторым недоверием, потому что много раз убеждался, как сильно не сочувствует оно реформам… Выбрать патриарха из среды великорусов для Петра значило рисковать создать себе грозного противника. Малорусское духовенство держало себя иначе: оно само подвергалось влиянию западной культуры и науки и сочувствовало новшествам Петра. Но поставить малоросса патриархом было невозможно потому, что во время патриарха Иоакима малорусские богословы были скомпрометированы в глазах московского общества как люди с латинскими заблуждениями»…
Соображения эти, безусловно, имели место, но они были сопутствующими. Главное – Петру I нужно было создать новую армию, и любой патриарх, независимо от своего происхождения, помешал бы ему производить бесконтрольный грабеж Русской Православной Церкви.
Местоблюстителем патриаршего престола Петр I назначил сорокадвухлетнего Стефана (Яворского)…
Стефан окончил Киевскую академию, затем, приняв ради «кражи науки» униатство, постигал богословские науки в иезуитских коллегиях Львова и Познани, а в 1687 году вернулся в Киев и принёс покаяние в своём отречении от Православной Церкви.
Через три года Стефан (Яворский) приехал в Москву, сказал здесь на похоронах генералиссимуса А.С. Шеина речь и сразу был поставлен в митрополита Рязанского и Муромского.
Петр I внимательно следил за своим выдвиженцем и вскоре определил его к допросам Григория Талицкого, объявившего Петра I антихристом.
Петр I придавал делу Григория Талицкого большое значение, и князь Ф.Ю. Ромодановский, глава Преображенского приказа, пытал Талицкого, а новый митрополит поучал его, призывая к покаянию в своем «воровстве».
Несчастного Григория Талицкого Ф.Ю. Ромодановский «закоптил насмерть»[94], а митрополит Стефан (Яворский), на глазах которого и произошло это зверское убийство, написал книгу «Знамения пришествия антихристова и кончины века», опровергающую измышления Талицкого.
Так что назначение Стефана (Яворского) местоблюстителем патриарха было не случайным. Петр I ожидал от молодого малороссиянина, обязанного только ему столь головокружительной карьерой, если и не полной поддержки своим реформ, то, по крайней мере, лояльности к ним.
Так и было.
По крайней мере, поначалу. Григорий Талицкий, кажется, первый, кто назвал Петра антихристом, а Москву – Вавилоном.
Прошло совсем немного времени и о Петре І как об антихристе начали говорить по всей России.
«Не понимая происходящего, – писал С.Ф. Платонов, – все недовольные с недоумением ставили себе вопрос о Петре: “какой он царь?” и не находили ответа. Поведение Петра, для массы загадочное, ничем не похоже на старый традиционный чин жизни московских государей, приводило к другому вопросу: “никакого в нашем царстве государя нет?” И многие решались утверждать о Петре, что “это не государь, что ныне владеет”. Дойдя до этой страшной догадки, народная фантазия принялась усиленно работать, чтобы ответить себе, кто же такой Петр или тот, “кто ныне владеет?”»
И столь страшной была эта мысль, что люди, чтобы не попасть в руки Петра І, предпочитали коллективные самоубийства.
Снова запылали на Руси костры, где погибали в огне старообрядцы со своими женами и детьми.
2700 человек сожгли себя в Палеостровском скиту.
1920 человек – в Пудожском погосте.
А в 1705 году вспыхнуло восстание в Астрахани. Оно продолжалось восемь месяцев и было жестоко подавлено.
Но можно было казнить людей – их и казнили самой лютой смертью! – можно было писать какие угодно разъяснительно-объяснительные сочинения, но простой и ясный вопрос: «Если б он был государь, стал ли б так свою землю пустошить?» – перевешивал любые страхи и любые доводы.
Самое удивительное, что на этот вопрос нет ответа у историков и сейчас.
Оправдания, которые придумывают они Петру І, рассыпаются при первой же попытке рассмотреть их.
«Греша непристойными забавами, затрагивавшими духовный и царский чины, – рассуждает, например, Н.Д. Тальберг, – царь Петр был верующим и церковным. Он любил петь на клиросе и читать Апостола, в частности в воздвигнутом им Свято-Троицком храме в только что создавшемся С.-Петербурге».
Ну что тут скажешь?
Хотя обрядовое благочестие было совершенно не в духе Петра І, но по живости своего характера он действительно читал иногда в церкви Апостол, точно так же, как любил пытать людей возле своего потешного городка Пресбурга и собственноручно рубить им головы.
«Легко указывать на темные штрихи характера Петра и на тягостные проявления его нрава, то срывы, не заслуживающие, конечно, оправдания, но объяснение известное находящие в страшном опыте его отрочества, – возражает архимандрит Константин (Зайцев). – Судить по этим срывам Петра значит вершить суд над ним пристрастный. Пусть у него были уклоны в протестантизм; пусть на его совести лежат кощунства: он не был ни протестантом, ни безбожником. Сыном Церкви был он и им остался, кончив жизнь примиренный – верим в то! – с Богом».
Верить, конечно, можно во что угодно, особенно когда выгодно в это верить…
Но все-таки приговор, который производит в своем стихотворении Борис Алексеевич Чичибабин:
Будь проклят, ратник сатаны, Смотритель каменной мертвецкой, кто от нелепицы стрелецкой натряс в немецкие штаны. Будь проклят тот, кто проклял Русь — сию морозную Элладу! Руби мне голову в награду, что вместе с ней, – НЕ ПОКОРЮСЬ! —на сегодняшний день выглядит нравственно более убедительным.
«Не будет преувеличением сказать, что весь духовный опыт денационализации России, предпринятый Лениным, бледнеет перед делом Петра, – справедливо говорил русский философ Г.П. Федотов. – Далеко щенкам до льва. И провалившаяся у них “живая” церковь блестяще удалась у их предшественника, который сумел на два столетия обезвредить национальные силы православия».
7
Сохранилась записка Петра I, озаглавленная «О блаженствах против ханжей и лицемеров». На одной стороне листа приведены заповеди, а на другой – сделаны рукою Петра пометки… «Описав все грехи против заповедей, один токмо нахожу грех лицемерия и ханжества не обретающийся между прочих вышеописанных, что зело удивительно, – чего для?» – спрашивает Петр. И сам же и отвечает: «Того ради, понеже заповеди суть разны и преступлении разны – против каждой; сей же грех все вышеописанные в себе содержит»…
Далее приводится очень четкая протестантская и по форме и по духу программа отрицания Православной (и Католической тоже) Церкви.
Первая заповедь гласит «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози иние, разве Мене».
«Против первой грех есть атеистство, который в ханжах есть фундаментом, – пишет Петр, – ибо первое их дело – сказывать видения, повеления от Бога и чудеса все вымышленные, которых не бывало; и когда сами оное вымыслили, то ведают уже, что не Бог то делал, но они, – какая ж вера в оных? А когда оной нет, то суть истинные атеисты.
Против второй (заповеди. – Н.К.) – страха Божия не имущий. О сем же и толковать не надобно, понеже-де, когда лгут на Бога, какой уже страх Божий обрестися может…
Против четвертой. Может быть, что натуральных отцов некоторые и почитают (но сие наудачу), но пастырей, иже суть вторые по натуральных отцы от Бога определены, как почитают, когда первое их мастерство в том, чтоб по последней мере их обмануть, а вяще тщатся бедство им приключить подчиненных пастырей оболганном у вышних, а вышних – всеянием в народе хульных про оных слов, подвигая их к бунту, как многих головы на кольях свидетельствуют».
Петр, как мы видим, даже и не пытается разобраться в существе заповедей, у него уже есть готовый ответ. Насколько он исчерпывающий, не так и важно, поскольку интересуют Петра не ответы, а обвинения, которые привязываются к этим ответам.
Атеизм есть фундамент ханжества, заявляет он.
И далее сразу терминологическая подтасовка: оказывается, что ханжество – это вера в чудеса, в прозрения…
Подразумевается, что чудес не бывает, все они вымышлены.
Ну а коли человек осмеливается придумать чудо и рассказывает о нем, значит, он не имеет страха Божия, значит, не верит в Бога…
Забегая вперед, скажем, что примерно в то же время, когда производит Петр I свой разбор заповедей, ведется дело царевича Алексея…
Об обмане, на который пошел Петр, заманивая царевича на расправу, мы еще будем говорить, точно так же, как и о жестокости пыток, под которыми умер царевич…
Сейчас скажем только, что 27 июня 1718 года, на следующий день после зверского убийства сына, Петр I составит инструкцию своим заграничным министрам, как следует описывать кончину Алексея.
После объявления сентенции суда царевичу «мы, яко отец, боримы были натуральным милосердия подвигом, с одной стороны, попечением же должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего – с другой, и не могли еще взять в сем зело многотрудном и важном деле своей резолюции. Но всемогущий Бог, восхотев чрез собственную волю и праведным своим судом, по милости своей нас от такого сумнения, и дом наш, и государство от опасности и стыда свободити, пресек вчерашнего дня его, сына нашего Алексея, живот по приключившейся ему по объявлении сентенции и обличении его толь великих против нас и всего государства преступлений жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии. Но хотя потом он и паки в чистую память пришел и по должности христианской исповедовался и причастился Св. Тайн и нас к себе просил, к которому мы, презрев все досады его, со всеми нашими зде сущими министры и сенаторы пришли, и он чистое исповедание и признание тех всех своих преступлений против нас со многими покаятельными слезами и раскаянием нам принес и от нас в том прощение просил, которое мы ему по христианской и родительской должности и дали; и тако он сего июня 26, около 6 часов пополудни, жизнь свою христиански скончал».
Как это говорил сам Петр?
Главный грех – ханжество и лицемерие… Ибо первое дело ханжей – сказывать видения, повеления от Бога и чудеса все вымышленные, которых не бывало; и когда сами оное вымыслили, то ведают уже, что не Бог то делал, но они…
Про церковные чудеса, о которых и слышать не мог Петр, мы знаем, что многие из них точно были не вымышлены. Некоторые могли быть и придуманными, но чего больше в вымышлении их – лицемерия или прелести, неведомо…
А вот говорить, что всемогущий Бог, восхотев чрез собственную волю и праведным своим судом, по милости своей нас от такого сумнения, и дом наш, и государство от опасности и стыда свободити, пресек вчерашнего дня его, сына нашего Алексея, живот, зная, что сын умер под пытками, которым его подвергли по твоему приказу, это действительно верх лицемерия… Говорить такое мог только человек, действительно страха Божия не имущий.
Впрочем, тут мы забежали вперед. Резюмируя свои замечания, Петр пишет: «Наконец, Христос Спаситель ничего апостолам своим боятися не велел, а сего весьма велел: Блюдитеся, рече, от кваса фарисейска, еже есть лицемерие». Кому, как не Петру, и помнить бы эту великую заповедь Спасителя… И не только в полемике, но и в практической деятельности.
Возможно, Петр и не замечал в себе ни фарисейства, ни лицемерия, ни ханжества. Он был протестантом не по букве, а по сути. Будучи достаточно начитанным в Священном Писании, Петр брал из него только то, что подходило и было удобно для него, нимало не затрудняя себя необходимостью сообразовать выдернутое из контекста с духом христианства.
И делал это Петр, как мы видим из проанализированной нами записки, вполне сознательно. Все шаги на пути усмирения, подчинения, подавления Русской Православной Церкви были строго продуманы им.
И он не останавливался на этом пути, даже когда напрямую сталкивался с наполненными высочайшим смыслом чудесами Божиими.
8
Отношение Петра I к чудесам – тема особая.
Одна из самых ярких и значительных побед его – взятие переименованной шведами в Нотебург русской крепости Орешек.
Стеснённые на полоске земли между крепостными стенами и водой, русские полки несли тогда огромные потери. И был момент, когда заколебался Петр I и послал на остров офицера с приказом командиру штурмующего отряда подполковнику Семёновского полка князю Михаилу Голицыну отступить.
– Скажи царю, что теперь я уже не его, а Божий, – ответил посыльному Голицын и, взобравшись на плечи солдата, стоящего на верху лестницы, залез в пролом. – Вперед, ребята!
Долго шел кровопролитный бой, но шведы не выдержали.
«Неприятель от множества нашей мушкетной, так же и пушечной стрельбы в те 13 часов толь утомлен и видя последнюю отвагу тотчас ударил шамад»…
11 октября 1702 года Нотебург был взят.
Сохранились списки русских солдат, погибших при штурме крепости. Когда просматриваешь их, в самом звучании имен и фамилий павших героев обнаруживаешь столько нерастраченной русским языком красоты, столько богатырской силы, что весь этот список звучит как гимн России:
«Иван Рукин, Яков Борзов, Дмитрий Емцов, Андрей Ребриков, Алексей Ломакин, Семен Котенев, Семен Мишуров, Иван Чесноков, Клим Варенихин, Гаврило Башмаков, Иван Писарев, Илья Кондаков, Петр Жеребцов, Андрей Посников, Фома Следков, Петр Булкин, Алексей Дубровский, Федор Оставцов, Павел Копылов, Фрол Чурин, Ерофей Пылаев, Никифор Котловский, Прокофий Коротаев, Федор Булатов, Федор Путимцев, Иван Лебедев, Матвей Черкасов, Иван Чебалов, Иван Быков, Яков Отавин, Иван Волк, Лаврентий Путилов, Семен Казаков, Федот Махов, Петр Крюков, Антон Ремезов, Григорий Бровиков, Агафон Толанков, Анисим Посняков, Михайло Попрытаев, Андрей Кудряков, Григорий Зыков, Матвей Полчанинов, Григорий Овсянников, Дмитрий Шаров, Ларион Деделин, Терентий Белоусов, Павел Чеботарев, Федор Захаров, Иван Нижегородов, Анисим Чистяков, Тимофей Стушкин, Иван Баскаков, Иван Зерковников, Борис Грызлов, Михайло Осанов, Кондратий Лытков, Константин Глазунов, Якав Ушаков, Василий Панов, Иван Дубровин, Степан Хабаров, Петр Братин, Иван Быстров, Семен Побегалов, Трофим Судоплатов, Василий Мамонтов, Афанасий Подшивалов, Герасим Ротунов, Иван Сорокин, Анисим Зверев, Алексей Шабанов, Артамин Мордвинов, Роман Маслов, Василий Лыков».
Любопытно сравнить этот список со списком побывавших в Шлиссельбурге народовольцев…
«Николай Морозов, Михаил Фроленко, Михаил Тригони, Григорий Исаев, Михаил Грачевский, Савелий Златопольский, Александр Буцевич, Михаил Попов, Николай Щедрин, Егор Минаков, Мейер Геллис, Дмитрий Буцинский, Михаил Клименко, Федор Юрковский, Людвиг Кобылянский, Юрий Богданович, Айзик Арончик, Ипполит Мышкин. Владимир Малавский, Александр Долгушин, Николай Рогачев, Александр Штромберг, Игнатий Иванов, Вера Фигнер, Людмила Волкенштейн, Александр Тиханович, Николай Похитонов, Дмитрий Суровцев, Иван Ювачев, Каллиник Мартынов, Михаил Шебалин, Михаил Лаговский, Иван Манучаров, Людвиг Варынский, Людвиг Янович, Пахомий Андреюшкин, Василий Генералов, Василий Осипанов, Александр Ульянов, Петр Шевырев, Михаил Новорусский, Иосиф Лукашевич, Петр Антонов, Василий Конашевич, Герман Лопатин, Борис Оржих, Софья Гинсбург, Павел Карнович, Фома Качура, Григорий Гершуни, Егор Сазонов, Иван Каляев, Хаим Гершкович, Яков Финкельштейн, Михаил Ашенбреннер…»
Хотя в этом списке есть и достойные люди, но ощущение такое, будто идешь не то по пожарищу, не то по старой вырубке, заросшей неведомо чем.
И что из того, что в первом списке собраны солдаты-герои, а во втором («Мы имеем тех преступников, каких заслуживаем», – говорил тюремный врач Шлиссельбургской крепости Евгений Рудольфович Эйхгольц!) – государственные преступники. Нет… В первом списке люди, принадлежащие прежней Московской Святой Руси, а во втором – люди, которые о Святой Руси, благодаря Петру I и его реформам, не слышали и слышать не желали.
Но это попутное замечание.
После освобождения Орешка Петр I на радостях переименовал Нотебург в Шлиссельбург, в ключ-город. Он сказал тогда, что «сие (взятие Орешка. – Н.К.) учинено и только единому Богу в честь и чуду приписать».
Эти слова – слова русского царя. Когда караульный солдат в Шлиссельбургской крепости увидел замерцавший из-под кирпичной кладки стены свет Казанской иконы Божией Матери, он смотрел глазами русского солдата.
И явственно было явлено и царю, и солдату, как смыкаются эпохи…
В 1612 году, перед тем как пойти на штурм Китай-города, молились ратники Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского перед Казанской иконой Божией Матери.
В 1702 году, задержавшись на девяносто лет, 1612 год пришел и в древнюю русскую крепость Орешек. И здесь, завершая освобождение Руси от иноплеменных захватчиков, как и у стен Кремля в 1612 году, явилась Казанским ликом своим Пречистая Богородица!
Как известно, священник Ермолай, который первым взял в руки икону Казанской Божией Матери, превратился в святителя Гермогена.
Нам неведомо, кем стал солдат, первым увидевший замурованный в стене Шлиссельбургский образ Казанской иконы Божией Матери. Может, он погиб в бесконечных петровских войнах, а может быть, закончил жизнь в крепостной неволе.
Другая эпоха, другое время пришло… Петр I – сохранились только глухие упоминания о его распоряжении поместить обретенную икону в крепостной часовне – по сути, никак не отреагировал на находку, не захотел рассмотреть то великое значение, которое скрыто было в обретении Шлиссельбургской иконы Казанской Божией Матери.
Почему он поступил так? Почему не пожелал придать значения государственного события чудесному обретению иконы Казанской Божией Матери в Шлиссельбурге?
Может быть, припомнилась ему неприятная стычка с царевной Софьей на крестном ходе в день Казанской иконы Божией Матери? Или просто не хотелось начинать историю новой столицы с Казанской иконы Божией Матери, поскольку это вызывало воспоминания и параллели, не вмещающиеся в новую мифологию?
Это ведь потом стали говорить, что Петр I прорубил окно в Европу…
На самом деле окно в Европу здесь было всегда, и требовалось только отодрать старые шведские доски, которыми оно было заколочено.
Но Петр всё делал сам, и даже когда он совершал то, что было предопределено всем ходом русской истории, он действовал так, как будто никакой истории не было до него и вся она – это болезнь всех послепетровских реформаторов в нашей стране! – только при нем и начинается.
И в этом, вероятно, и заключен ответ на вопрос, почему Петр не захотел узнать о чудесном явлении Шлиссельбургской иконы Божией Матери…
Не русский Орешек освободил Петр, а взял шведскую крепость Нотебург и тут же основал свой Шлиссельбург. Как могла вместиться сюда Казанская икона Божией Матери, неведомо когда, до всяких прославлений, появившаяся здесь? Казанская икона Божией Матери, как мы знаем, вопреки своеволию Петра, все равно пришла в Санкт-Петербург. Ее привезла в Петербург вдова Иоанна V, царица Прасковья Федоровна, известная своим старомосковским благочестием.
Ну а чудотворный Шлиссельбургский образ Казанской иконы Божией Матери почти целое столетие прождавший за кирпичной кладкой государя, который освободит здешнюю землю от неприятеля и вернет икону России, так и остался за стенами крепости.
9
В принципе, рассказом об обретении Шлиссельбургского образа Казанской иконы Божией Матери можно было бы подтвердить скептическое отношение Петра I к чудесам, если бы полгода спустя не случилось другое «чудо», отношение к которому у Петра оказалось совершенно иным.
День 14 мая 1703 года на берегах Невы был теплым и солнечным…
В этот день Петр I, как утверждает анонимное сочинение «О зачатии и здании царствующего града С.Петербурга», совершал плавание на шлюпках и с воды «усмотрел удобный остров к строению города»…
Государь высадился здесь, и тут раздался шум в воздухе, и все увидели «орла парящего».
Слышен был «шум от парения крыл его».
Сияло солнце, палили пушки, а орел парил над государем и в Пятидесятницу, когда царь, вопреки советам фортификаторов, отверг неподверженное наводнениям место при впадении Охты в Неву и заложил новую крепость на Заячьем острове.
Тогда государя сопровождало духовенство, генералитет и статские чины. На глазах у всех, после молебна и водосвятия, Петр I взял у солдата башнет, вырезал два куска дерна и, положив их крестообразно, сказал: «Здесь быть городу».
Потом в землю был закопан ковчег с мощами Андрея Первозванного. Над ковчегом соорудили каменную крышку с надписью: «От воплощения Иисуса Христа 1703 мая 16-го основан царствующий град С.-Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем самодержцем всероссийским».
И снова возник в небе орел – «с великим шумом парения крыл от высоты спустился и парил над оным островом».
Однако закладка города этим не ограничилась.
Поразмыслив, Петр I приказал «пробить в землю две дыры и, вырубив две березы тонкие, но длинные, и вершины тех берез свертев», вставил деревца в землю наподобие ворот.
Орел тут же опустился с высоты и «сел на оных воротах». С ворот орла снял ефрейтор Одинцов и поднес его государю, который пожаловал гордую птицу комендантским званием…
«Оной орел зимовал во дворце; по построении на Котлине острову крепосьти святого Александра оной орел от Его Царского Величества во оной Александровой крепости отдан на гобвахту с наречением орлу комендантского звания».
Ручной орел, на котором оттачивало свое остроумие не одно поколение российских историков, сделался комендантом Кронштадтской крепости!
Как тут не повторить уже процитированную нами петровскую записку «О блаженствах против ханжей и лицемеров».
«Против первой (заповеди. – Н.К.) грех есть атеистство, который в ханжах есть фундаментом, – отмечал там Петр, – ибо первое их дело – сказывать видения, повеления от Бога и чудеса все вымышленные, которых не бывало; и когда сами оное вымыслили, то ведают уже, что не Бог то делал, но они, – какая ж вера в оных?»
И конечно, сопоставляя это замечание Петра с явлением ручного орла, парившего над ним в день закладки Санкт-Петербурга, можно было бы сказать и о двуличии царя-реформатора, однако никакого двуличия тут нет.
Знакомясь с богословскими теоретизированиями Петра I, понимаешь, что вся его критика всегда направлена против других и никогда против себя.
Петр I отвергал чудеса, которые происходили сами по себе, но чудеса, которые творились по его монаршей воле, он признавал и по мере сил сам способствовал их устройству.
Никакого ханжества в этом Петр I не усматривал, потому что всегда почитал себя помазанником Божиим, всегда ощущал себя находящимся под водительством Божиим, всегда считал, что воля его совпадает с Волей Божией.
Это обстоятельство весьма причудливо искажало тот незамысловатый протестантизм, который усвоил Петр I в Немецкой слободе и в ходе Великого посольства.
Глава восьмая Сыноубийца
Примерно в то же время, когда производил Петр I свой разбор евангельских заповедей, велось дело царевича Алексея…
Воистину, по Божьему Промыслу, безумие, поразившее Петра I, прежде всего и наиболее ярко проявилось в его отношении к собственной семье. Кажется, Петру I давался шанс увидеть, куда ведет путь, по которому пошел он, давалась возможность – остановиться, покаяться и исправиться…
Шансом этим Петр I не воспользовался.
1
Петра женили на Евдокии Федоровне Лопухиной, когда ему было шестнадцать лет. С женитьбой можно было бы не спешить, но, по расчетам Натальи Кирилловны, это была не просто свадьба, а знак, что Петр вырос и уже не нуждается в опеке сестры Софьи.
Невесту Петру подобрала мать, однако разговоры о том, что едва ли Петр выбрал бы женщину на три года старше его, если бы женился сам, и что именно это и послужило причиной будущего разрыва, едва ли основательны.
Начало супружества было спокойным и счастливым.
Прошло чуть больше года, и родился сын – царевич Алексей. Еще через год – следующий сын, Александр. За ним – Павел. Младшие сыновья умерли в младенчестве, но по тем временам это было делом обычным…
Неизвестный художник начала XVIII в. Портрет Евдокии Лопухиной
Иногда говорят, что Евдокия закоснела в предрассудках, богомольстве и праздности и не удовлетворяла духовным запросам Петра I. При этом забывают, что было Евдокии, когда она вышла замуж, всего двадцать лет, а уже в двадцать девять ее насильно постригли в монахини. Говорить о закоснелости в общем-то молодой женщины как-то не очень серьезно. Ну а уж назвать праздной мать, которая едва ли не каждый год рожает по сыну, – совсем не получается. В поминальных записках беременные женщины, как известно, именуются «непраздными».
Разумеется, взращенная в теремном заточении Евдокия Федоровна, кроме семьи и церкви, не хотела ничего знать… Но напомним еще раз, что, когда она вышла замуж, ей было всего двадцать лет. Если бы Петр захотел изменить ее, направить ее внимание на другие сферы жизни, Евдокия, без сомнения, сумела бы измениться, хотя бы в угоду обожаемому супругу.
Она писала Петру: «Здравствуй, свет мой, на множество лет! А я при милости матушкиной жива. Женишка твоя Дунька челом бьет».
Конечно, если судить по письмам, особым умом Евдокия Федоровна не блистала.
Но ведь и другие избранницы Петра тоже не отличались высоким интеллектом! В том числе и императрица Екатерина Алексеевна, которая и грамоте научилась, будучи уже императрицей…
Екатерина, разумеется, превосходила Евдокию умением подать себя, опытностью в обращении с мужчинами, умением сделать свои мысли и желания мыслями Петра… Безусловно, Евдокия проигрывала из-за своей бесхитростности, но это тоже, как известно, проходит с возрастом…
И конечно же, совсем рискованно говорить, будто счастливая соперница Евдокии – Анна Монс удовлетворяла духовным запросам Петра. Очень уж неказистыми тогда должны были быть запросы первого русского императора.
«Ларчик проще открывается, – справедливо заметил Н.И. Костомаров. – Петр поступил так же, как поступал обыкновенно русский удал добрый молодец, когда, по выражению песни, зазнобит ему сердце красна девица или “злодеюшка чужа жена” и станет ему “своя жена полынь горькая трава”… Петр не умел удерживать своих страстей и как самодержавный царь не считал нужным себе отказывать в удовлетворении своих побуждений».
Хотя, конечно, насчет простоты тут еще надо подумать… Приведенное Костомаровым объяснение очень хорошо подходит к мастеровому, к загулявшему купчишке или к солдату… Труднее отнести его к помазаннику Божию.
И тут надо сказать, что Петр I скинул с себя русскую жену – этот образец московских цариц – одновременно с тяжелым царским платьем, стеснявшим его движения.
Петр решил, что сумеет оставаться помазанником Божиим и превратившись в мастерового. Он оказался единственным русским царем, который пошел на разрыв с законной супругой и на заточение ее в монастыре не потому, что был озабочен продолжением династии, а лишь повинуясь своей похоти или – это уж кому как пожелается! – голосу сердца.
Кто же была счастливая соперница царицы Евдокии?
2
Отец Анны, Иоанн Монс, был родом из Миндена на Везере, содержал там таверну. Приехал вначале в Ригу, потом, в 1676 году, перебрался в Москву, в Немецкую слободу. Здесь он, по одним источникам, торговал вином, по другим – сделался золотых дел мастером.
Старшая дочь Монса, Матрена Ивановна, вскоре вышла за Федора Балка, ставшего генерал-поручиком.
Младшая Анна стала любовницей знаменитого Лефорта.
Как говорил Гюйсен, Лефорт старался сделать и любовницу свою, и всю семью Монс соучастницей своего счастья и свел Анну Монс с двадцатилетним русским царем.
Петр I щедро вознаграждал свою пассию за постельные услуги, оплачивая их крестьянскими душами своих подданных. Известно, что в январе 1703 года Анна Монс получила в подарок село Дудино в Козельском уезде (295 дворов).
Добродетельной Анхен, однако, этого было мало. Она продолжала выпрашивать все новые и новые подарки.
«Благочестивый великий государь, царь Петр Алексеевич, многолетно здраствуй! О чем государь я милости у тебя, государя, просила, и ты, государь, поволил приказать Федору Алексеевичу Головину выписать из дворцовых сел волость, и Федор Алексеевич, по твоему государеву указу выписав, послал к тебе, государю, через почту, но о том твоего государя указу никакого не учинено… Умилостивися, государь…»
Еще страшнее, что Петр позволил Монсам заниматься гешефтом в государственных учреждениях. По свидетельству Гюйсена, «в присутственных местах было принято за правило: если madame и mademoiselle Montzen имели дело и тяжбы собственные или друзей своих, то о том делались особенные reflexion salva jnstitia и вообще Монсам в делах до их имений должно было оказывать всякое содействие».
Возможно, это самое первое проявление соединения западного «свободомыслия» с традиционным беззаконием московского абсолютизма, породившим при дворе первых Романовых чудовищные цветы государственного разврата.
При всей своей алчности Анна Монс не уставала внушать Петру мысль о своей необыкновенной любви.
Любопытно сравнить ее письмо Петру в Азов в 1696 году с письмом царицы Евдокии.
«Только я бедная, на свете безчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровье совсем, – со слезами и вздохами пишет Петру Евдокия. – Не презри, свет мой, моего прошения!»
«Если б у меня убогой крылья были, – пишет Анна Монс, – я бы тебе, милостивому государю, сама принесла цедриоль».
Конечно же, в письме Монс все романтичнее (как-никак на крыльях собирается лететь к своему возлюбленному) и по-немецки практичнее (не просто так в полет собирается Анна Монс, а чтобы «цедриоль» дорогому Питеру доставить), но при этом и фальшивее. Несмотря на свою необыкновенную любовь к Петру, Анхен после смерти Лефорта немедленно завела себя еще одного любовника, закрутила роман с поступившим в 1703 году на русскую службу Кенигсеном.
Известно это стало вскоре после взятия Шлиссельбурга.
К несчастью для Анны Монс, 15 апреля 1703 года Кенигсен утонул и в кармане его нашли любовное письмо Анны.
Этой измены своей Анхен Петр I не простил.
С 1704 года Анна Монс находилась под арестом. Пострадала и Матрена Ивановна Балк, которая пособляла сестре в ее романе с Кенигсеном. За эти хлопоты Матрене Ивановне тоже пришлось отсидеть три года в тюрьме. Ну а Анна Монс все-таки вышла замуж.
Как хлопотал посланник Георг Иоганн фон Кейзерлинг за свою будущую супругу и ее семью, видно из его письма, написанного прусскому королю 11 июля 1707 года в Люблине: «Вчера же перед началом попойки, я в разговоре с князем Меншиковым, намекнул, что обыкновенно день веселия бывает днем милости и прощения, и потому нельзя ли будет склонить его царское величество к принятию в военную службу мною привезенного Монса (Виллима, брата Анны. – Н.К.). Князь Меншиков отвечал мне, что сам он не решится говорить об этом его царскому величеству, но советовал воспользоваться удобной минутой и в его присутствии обратиться с просьбой к царю, обещая свое содействие и не сомневаясь в успешном исходе. Я выжидал отъезда польских магнатов, – почти все они присутствовали на пиру.
Когда же я обратился к царю с моей просьбой, царь, лукавым образом предупрежденный князем Меншиковым, ответил сам, что он воспитывал девицу Монс для себя с искренним намерением жениться на ней, но так как она мною прельщена и развращена, то он ни о ней, ни о ее родственниках ничего слышать не хочет.
Я возражал с подобающим смирением, что его царское величество напрасно негодует на девицу Монс и на меня, что если она виновата, то лишь в том, что, по совету самого же князя Меншикова, обратилась к его посредничеству, исходатайствовать у его царского величества всемилостивейшее разрешение на бракосочетание со мною.
Князь Меншиков вдруг неожиданно выразил свое мнение, что девица Монс, действительно, подлая, публичная женщина, с которой он сам развратничал, столько же, сколько и я…»
После этих слов Алексея Даниловича началась перебранка, и кончилась она тем, что Меншиков и Петр, «ибо они, несмотря на то, что Шафиров бросился к ним и именем Бога умолял не оскорблять меня, напали с самыми жестокими словами и вытолкнули меня не только из комнаты, но даже вниз по лестнице, через всю площадь…».
Разумеется, Петру было досадно, что его любовница, ради которой он заточил в монастырь свою законную супругу, предпочла ему вначале Кенигсена, а сейчас желает утешиться с Кейзерлингом, но он ведь сам и поставил себя в один ряд с этими людьми.
Вообще, вся сцена прекрасно иллюстрирует нашу мысль о том, что, скинув с себя тяжелые и неудобные одежды, в которых совершалось царское служение, Петр I превратился в портового забияку, обладающего никем не ограниченной властью.
В другом письме, отправленном 16 июля 1707 года, Кейзерлинг опишет, что конкретно произошло во время «нападения».
«Когда князь Меншиков не переставал обращаться со мною с насмешкой и презрением и даже придвигался ко мне все ближе и ближе, я, зная его всему миру известное коварство и безрассудство, начал опасаться его намерения, по московскому обычаю ударом “под ножку” сбить меня с ног – искусством этим он упражнялся, когда разносил по улицам лепешки на постном масле, и когда впоследствии был конюхом. Я, вытянутой рукой, хотел отстранить его от себя, заявив ему, что скорее лишусь жизни, нежели позволю себя оскорбить, и не считаю доблестным человеком того, кто осмелится меня позорить»…
Подозванным Шафировым офицерам удалось развести Кейзерлинга и Меншикова, но пока Кейзерлинг приводил себя в порядок, Меншиков вытолкал из залы его лакеев и снова подступил к посланнику с вопросом: зачем он хочет с ним ссориться?
«На что я отвечал, что я не начинал ссору и никогда не начну ее, но не позволю никому на свете оскорблять меня. Тогда он сказал, что если я не считаю его благородным человеком, то и он меня таковым не считает, что как я первый позволил себе его толкнуть, то и он может меня толкать, что действительно, он тут же и исполнил, ударив меня кулаком в грудь и желая вывернуть мне руку; но я успел дать ему затрещину и выругать его особливым словом.
Тут мы схватились было за шпаги, но у меня ее отняли в толпе, как легко можно догадаться, по его же наущению.
В-четвертых, вслед за сим его царское величество в ярости подошел ко мне и спросил, что я затеваю и не намерен ли я драться?
Я отвечал, что сам я ничего и драться не могу, потому что у меня отняли шпагу, но что если я не получу желаемого удовлетворения от его царского величества, то готов, во всяком другом месте, драться с князем Меншиковым.
Тогда царь с угрозой, что сам будет драться со мною, обнажил свою шпагу в одно время с князем Меншиковым; в эту минуту те, которые уже держали меня за руки, вытолкнули меня из дверей, и я совершенно один попал в руки мучителям или лейб-гвардейцам князя Меншикова; они меня низвергли с трех больших каменных ступеней, и мало того, проводили толчком через весь двор…
Мой слуга, поджидавший меня во дворе, готов присягнуть, что князь Меншиков сам кричал в окно, чтобы меня вытолкали со двора».
«Умоляю ваше королевское величество… – охваченный ужасом, писал Кейзерлинг, – как о великой милости, уволить меня, чем скорее тем лучше, от должности при таком дворе, где участь почти всех иностранных министров одинаково неприятна и отвратительна».
Прусский король, однако, – не та политическая конъюнктура была! – не внял мольбам своего посланника. Кейзерлинг вынужден был извиниться за пьяную вспыльчивость перед Петром I и Меншиковым, но при этом просил наказать лейб-гвардейцев, которые толкали его.
«Смиренно льщу себя надеждой, что ваше царское величество поступит с тою любовью к справедливости и с тем несравненным великодушием прославленным всем светом, не только вознегодуете на позор, мною перенесенный, но и даруете должное удовлетворение, в виде примерного наказания преступников за оскорбление, сделанное в лице моем, величию всемилостивейшего моего государя и короля».
Лейб-гвардейцев Петру I было не жаль. Ценою их унижения, неприятный эпизод, более напоминающий драку в портовом кабаке, чем прием в резиденции русского царя, завершился.
Видимо, вскоре после этого Анне Монс была предоставлена свобода, и вскоре Георг Иоганн Кейзерлинг обвенчался с нею.
Кейзерлинг умер по дороге в Берлин 11 декабря 1711 года.
«Любезный, от всего сердца любимый братец! – писала ставшая вдовой Анна своему брату Виллиму. – Нет конца моей печали на этом свете; не знаю чем и утешиться… Привези вещи и деньги покойного мужа, потому что лучше, когда они у меня, чем у чужих людей…»
Как видно, Виллим Монс не слишком-то хлопотал об устройстве дел сестры, поскольку, в следующем письме, она обрушивается на него с упреками.
«Я была до крайности поражена при известии, что ты занял уже до 700 рейхсталлеров. Боже мой! Неужели это значит поступать по-братски? Этак ты меня совсем разоришь! Подумал ли ты, сколько слез я проливаю во вдовьем своем положении и сколько у меня расходов?.. Слезы мешают мне писать. Призываю Бога на помощь, да исправит он тебя, быть может, ты станешь лучше обо мне заботиться».
С этими словами, кажется, и умерла в Москве в Немецкой слободе 15 августа 1714 года «сластолюбивая, – как пишет М.И. Семевский, – развратная эгоистка, расчетливая до скупости, алчная до корысти. Суеверная, необразованная, малограмотная…».
Последние годы она сожительствовала с неким Миллером.
После смерти Виллим Монс судился с ним из-за имущества Анны. По челобитью Виллима сожитель его сестры был взят на допрос в Преображенский приказ и посажен в тюрьму.
Вот на эту развратную, малограмотную, скупую и алчную шлюху и променял Петр I свою жену.
Напрасно плакала Евдокия, напрасно говорила Петру, что Монсиха приворожила его, что это Меншиков да Лефорт против ее семьи мудруют, что околдовали они царя кабацкой дочкой! Напрасно ссылалась на авторитет Церкви: дескать, сказывал Святейший патриарх, что не будет на Руси порядку, покуда произрастают безбожие и гнусные латинские ереси!
Все эти обвинения только отделяли Евдокию от государя, только укрепляли Петра I в решении избавиться от законной жены.
Ведь Петр I потому и привязался к Анне Монс, что в смазливой немке из Немецкой слободы его пленила, по меткому замечанию Н.И. Костомарова, не красота, а иноземщина. Та иноземщина, которая и самого Петра побуждала сшить и надеть на подвластную ему Московскую Русь европейскую одежду…
3
Когда тридцатилетняя царица Евдокия стала старицей Еленой, царевичу Алексею было девять лет. Еще семи лет от роду он научился читать и, конечно же, хорошо понимал, что происходило в семье.
Он жил под присмотром тетки, но никак не проявил недовольства отцом, обрекшим его на такую жизнь. У него хватило сил преодолеть свое горе, он много и достаточно успешно учился.
Обучение Алексея совмещалось не столько с играми, как у отца, а с реальной службой. Одиннадцати лет от роду Алексей ездил с Петром в Архангельск, двенадцати лет был взят в военный поход и в звании солдата бомбардирской роты участвовал 1 мая 1703 года во взятии крепости Ниеншанц.
В четырнадцать лет во все время осады Нарвы царевич Алексей неотлучно находился в войсках. Когда город был взят, Петр сказал сыну речь в присутствии всех генералов:
«Сын мой! Мы благодарим Бога за одержанную над неприятелем победу. Победы от Бога, но мы не должны быть нерадивы и все силы обязаны употреблять, чтобы их приобресть. Для того взял я тебя в поход, чтобы ты видел, что я не боюсь ни труда, ни опасности. Понеже я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то ты должен убедиться, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен, при твоих летах, любить всё, что содействует благу и чести твоего Отечества, верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить никаких трудов для блага общего… Если ты, как я надеюсь, будешь следовать моему отеческому совету, и примешь правилом жизни страх Божий, справедливость и добродетель, над тобой будет всегда благословение Божие; но если мои советы разнесет ветер и ты не захочешь делать то, чего желаю, я не признаю тебя своим сыном и буду молить Бога, чтобы он наказал тебя в сей жизни и будущей (выделено нами. – Н.К.)».
«Всемилостивейший государь, батюшка! – восторженно отвечал на это Алексей. – Я еще молод и делаю что могу. Но уверяю Ваше Величество, что я, как покорный сын, буду всеми силами стараться подражать вашим деяниям и примеру. Боже сохрани вас на многие годы в постоянном здоровье, чтобы я еще долго мог радоваться столь знаменитым родителем».
19 декабря 1704 года на триумфальном шествии в Москве царевич Алексей у Воскресенских ворот поздравил Петра I с победою и по окончании приветствия стал в ряды Преображенского полка в строевом мундире.
Петр I упрекал потом сына за то, что он так и не полюбил войну.
Упрек, несомненно, справедливый.
Но нелепо относить эту нелюбовь к недостаткам развития царевича. Вот если бы Алексей, с двенадцати лет познакомившийся с реальной, а не игрушечной войной, полюбил ее, тогда бы, конечно, следовало крепко задуматься. Это ведь только Петр I, который продолжал относиться к войне как к детской забаве, любил ее, а для Алексея война была хотя и необходимым, но трудным и неприятным делом.
Когда Алексею было семнадцать лет, он был послан в Смоленск для заготовки провианта и сбора рекрут. И с этим поручением, исполнение которого заняло пять месяцев, судя по его письмам и донесениям, он справился вполне успешно.
В 1709 году царевич привел в Сумы пять собранных им полков. Как пишет Гизен, «царское величество так был тем доволен, что ему публично показал искренние знаки отеческой любви».
Алексею было тогда девятнадцать лет. Исполняя порученные ему дела, он продолжал учебу. К двадцати годам он свободно владел немецким и французским языками, неплохо знал историю, любил читать труды Отцов Церкви. Точные науки давались труднее, но царевич достаточно успешно изучал и математику, и фортификацию…
Мы говорим все это, чтобы показать, что никаких объективных причин для недовольства сыном у Петра I не могло быть. По уровню своего образования и реального опыта Алексей превосходил большинство русских царей в его годы. Сам Петр в этом возрасте еще только развлекался строительством ботика на Плещеевом озере.
Да Петр I, собственно говоря, вполне был доволен сыном. Конечно, он делал ему внушения, поругивал, даже бивал, но все это, учитывая взрывной темперамент государя, не выходило за рамки принятого при дворе стиля обращения.
Настоящий гнев Петра I вызвало только свидание шестнадцатилетнего царевича с матерью. Тогда, в 1706 году, Алексей самовольно навестил мать в Суздальском монастыре. Тетка Наталья Алексеевна немедленно «настучала» царю об этом проступке, и Алексей был призван в Жолкву, в Галиции, и получил нагоняй.
Однако нагоняем тогда и ограничилось дело.
И так и продолжалось дело вплоть до 1711 года…
В этом году состоялось немало знаменательных событий, но три из них чрезвычайно важны для нашего повествования.
6 марта 1711 года. Тайное венчание Петра с Мартой, бывшей любовницей Шереметева и Меншикова, будущей русской императрицей Екатериной Алексеевной. Между прочим, произошло оно на Крестопоклонной седмице Великого поста, когда церковь вообще не должна никого венчать.
8–10 июля. Прутская трагедия. 40-тысячная армия Петра I окружена 270-тысячной армией турок. Только благодаря взятке, которую вице-канцлер П.П. Шафиров дал Махмет-паше, удалось заключить мир на сравнительно мягких условиях. Россия отдавала османам Азов, срывала Таганрог и Каменный Затон.
14 октября. В Торгу (Саксония) заключен брак царевича Алексея Петровича с Шарлоттой-Христиной-Софией кронпринцессой Брауншвейг-Вольфенбюттельской.
Историки обыкновенно никак не комментируют сочетания этих трех дат, поскольку не видят взаимосвязи между ними, но нам кажется, что, по крайней мере, этическая взаимосвязь между этими событиями несомненно имеется.
Но прежде чем говорить о этой связи, напомним, кем была новая сожительница Петра I…
Чернобровая красавица возникла в русской истории 25 августа 1702 года, когда войсками Б.П. Шереметева был взят Мариенбург (Алуконе). Среди пленных оказалась и служанка пастора Глюка – Марта. Она обладала богатырским здоровьем и незаурядной физической силой, позволявшей легко переносить тяготы походной жизни. Поначалу Марта обреталась в качестве прачки у фельдмаршала Шереметева, а потом перебралась к Меншикову. В 1705 году двадцатитрехлетнюю круглолицую красавицу привезли Петру I, и из Марты она превратилась в Екатерину Васильевскую.
Особенно хороши были глаза новой сожительницы Петра I – черные, большие, живые, пронзительные…
28 декабря 1706 года у нее родилась дочь, и Петр начал называть ее в своих письмах маткой. Дочка умерла 27 июня 1708 года, и в письмах появляется новое прозвище Екатерины – мудер.
И вот 6 марта 1711 года, отправляясь в поход, Петр I тайно обвенчался с нею…
4
Мы уже говорили, что царь на Руси – это не только верховный правитель, а, прежде всего, помазанник Божий, священный чин. И русские цари появлялись в схожих со священническими одеяниях не потому, что они удобно чувствовали себя в одежде из тяжелой парчи, а потому, что этого требовало их звание.
Православие для русского царя не было его личным делом, православие – это содержание мистического договора, в который вступил он с Богом и со своими подданными, это его жизненный путь, главный руководящий мотив его деятельности. Русский царь был связан с народом, над которым он царствовал, не пунктами неких кондиций, а православной верой, православной моралью…
Петр I, который осмысливал свою деятельность исключительно в теократических категориях[95], никогда и не помышлял отказываться от сана помазанника Божия, он хотел отказаться (и отказался!) лишь от обязанностей, связанных с этим саном. Это было невозможно, но Петр I, никогда не веривший в чудеса, всегда верил – упорство его в этом пункте было маниакальным, почти безумным! – в то, что и не бываемое бывает…
С материалистической точки зрения демонстративно выставленный напоказ роман Петра I со шлюхой из Немецкой слободы никак не связан с катастрофой русской армии под Нарвой в 1700 году.
Но с материалистической точки зрения не очень-то понятно, почему Петр I бежал в Новгород, оставив перед решающим боем свою армию без управления – на верную гибель…
Сам Петр в «Истории Свейской войны» объяснял бегство из армии перед сражением необходимостью «идущие достальные полки побудить к скорейшему приходу под Нарву, а особливо, чтоб иметь свидание с королем польским». Историки XIX века таким нелепым объяснением ограничиться не могли и придумывали, что Петр якобы собирался укрепить оборону Новгорода и Пскова и т. д. и т. д.
А С.Ф. Платонов пишет прямо, дескать, «зная мужество и личную отвагу Петра, мы не можем объяснить его отъезд малодушием»… И с этим не согласиться нельзя. Трусом Петр I действительно не был.
Но чем же тогда объяснить его бегство?
Точно так же, как нет приемлемого объяснения прутской трагедии, случившейся через несколько месяцев после тайного венчания Петра I с его новой сожительницей.
В 1711 году за спиною Петра I уже была Полтава. Хотя Петру и пришлось заплатить за свое обучение военному ремеслу потоками русской крови, бездарно пролитой в начале войны, он все-таки выучился воевать. По общему мнению, и сама Полтавская битва, и предшествующие ей сражения и маневры были осуществлены Петром I блестяще.
И вот после этого – нелепейшие просчеты и ошибки Прутского похода! Такое ощущение, как будто Петр I, заведший на Пруте свою армию в окружение, никогда и не бывал под Полтавой!
Именно невозможность сыскать мало-мальски подходящее объяснение этим двум самым большим и самым нелепым военным поражениям Петра I и заставляет нас вернуться к мысли, что связь между этими поражениями и сумасбродным нарушением всех уставов и приличий, соблюдение которых необходимо для помазанника Божия, все-таки существуют.
Более того…
Попрание своего царского сана и последующая военная катастрофа следуют в такой пугающей близости друг к другу, что не заметить их невозможно.
И особым значением наполняется тут смирение царевича Алексея, с которым он исполняет повеление отца – женится на подобранной ему Петром I принцессе.
С одной стороны, эта женитьба поддерживала пошатнувшуюся репутацию России на международной арене и при этом одновременно становилась попыткой восстановления того мистического договора, который был разорван очередным сумасбродством Петра I.
Мы не знаем, каким полководцем оказался бы царевич Алексей.
Его жизнь прервалась не на поле битвы, а в отцовском застенке. Было тогда царевичу двадцать восемь лет. Ровно столько же, сколько отцу, когда он бежал из-под Нарвы, бросив свою армию перед сражением.
В истории нет сослагательного наклонения, и бессмысленно гадать о том, чего никогда не было. Да и не нужно это, чтобы увидеть духовное торжество подлинно царского смирения царевича Алексея над портовым сумасбродством Петра I.
Для этого достаточно просто внимательно посмотреть на события реальной истории…
5
Кампанию на уничтожение сына Петр I развернул в 1715 году, не имея никаких объективных поводов для недовольства сыном. Царевич Алексей не был гением, но не был и ленивым идиотом, как его пытаются порою представить. Разумеется, он переживал за свою мать, сочувствовал ее положению, но этим только и ограничивалось его несогласие с отцом. Поэтому и поводы для недовольства Петра I сыном надобно искать не в царевиче, а в новой семье императора…
Кухарка Марта кухаркой и оставалась, превратившись в Екатерину Алексеевну и поднявшись на русский трон. Вильгельмина Байрейтская вспоминала, что, приехав к ним в 1719 году, «царица (Екатерина. – Н.К.) начала с того, что принялась целовать у королевы руки, причем проделала это много раз». Екатерина не давала Петру I никаких советов, только высказывала удовольствие и радость от сообщаемых новостей и, играя так, приобретала все большее и большее влияние на царя.
Ж.-М. Наттье. Портрет Екатерины I. 1717 г.
Мы уже говорили, что в письмах 1706–1709 годов Петр I называет Екатерину маткой. Всего у Петра и Екатерины было пятеро незаконнорожденных детей: Павел и Петр, оба умерли в 1707 году; Екатерина, которая умерла в 1708 году; Анна, ставшая матерью императора Петра III; и Елизавета, сама ставшая императрицей…
Постепенно в письмах 1709–1711 годов обращение «матка» меняется на «мудер». В 1711 году Екатерина превращается в Катеринушку, в «друга моего»… В 1716 году, когда Екатерина становится матерью законнорожденного Пиотрушки, впервые появляется обращение – «Катеринушка, друг мой сердешный»…
Словно сквозь зубы, сквозь годы петровской эпохи, выцеживают эти слова… Письма беременной Екатерины Петру I показывают, насколько по-женски умной была она. Пиотрушка еще не родился, а она уже сумела сделать его реальным участником жизни отца. Так было и в дальнейшем.
«Прошу, батюшка мой, обороны от Пиотрушки, понеже немалую имеет он со мною за вас ссору, а именно за то, что когда я про вас помяну ему, что папа уехал, то не любит той речу, что уехал, но более любит то и радуется, как молвишь, что здесь папа».
Упрекать Екатерину невозможно. Она – мать, и она действует как мать.
Пиотрушка – ее восьмой ребенок и на него возлагаются все надежды… Другое дело, что слова ее падают в почву, во тьме которой вызревает чудовищное преступление сыноубийства…
«Дорогой наш шишечка часто своего дражайшего папа упоминает и при помощи Божией, во свое состояние происходит и непрестанно веселится муштрованием солдат и пушечною стрельбою»…
Семьи царевича Алексея и Петра I – погодки[96]. Параллельно с появлением новых наследников в семье императора, появляются дети и в семье царевича Алексея.
Рождение их Екатерина воспринимала как прямую угрозу своим детям и сумела устроить так, что как только появился у царевича Алексея сын (будущий русский император Петр II) и началась война на уничтожение царевича.
Отметим справедливости ради, что Петр I не сразу выступил в поход. Более того, есть явные свидетельства, что он пытался уберечь семью сына от происков Екатерины и Меншикова.
В 1714 году перед разрешением от бремени царь приставил к кронпринцессе двух доверенных женщин, госпожу Брюс и князь-игуменью Ржевскую.
«Я не хотел бы вас трудить, – написал он невестке с корабля из-под Ревеля, – но отлучение ради супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предварить лаятельство необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь… дабы о том некоторой анштальт учинить, о чем вам донесет г. канцлер, граф Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были».
Кронпринцесса была и удивлена, и огорчена, но желанию свекра перечить не посмела. «По указу вашему, у ее величества у кронпринцессы, я и Брюсова жена живем и ни на час не отступаем… – доносила Ржевская. – И я обещаюсь самим Богом, еже-ей-ей, ни на великие миллионы не прельщусь, и рада вам служить от сердца моего, как умею».
«Что это значит? – приводя эти письма, задавался вопросом Михаил Петрович Погодин. – Какой анштальт учинить предполагал Петр? Какие подозрения и в ком возбуждала богобоязненная кронпринцесса? Не боялся ли он подлога в случае неблагополучного разрешения? Кажется, так поняла и кронпринцесса, в ответе своем именно сказавшая: “…и на уме мне не приходило намерение обмануть Ваше Величество и кронпринца!” Если же Петр боялся подлога, то, значит, рождение детей у сына занимало его сильно».
Но так было в 1714 году, когда кронпринцесса рожала дочь Наталью…
12 октября 1715 года роды кронпринцессы проходили совсем в другой обстановке.
«Замечали при царском дворе зависть за то, что она родила принца, – доносил Плейер, – и знали, что царица тайно старалась ее преследовать, вследствие чего она была постоянно огорчена… Деньги, назначенные на ее содержание, выдавались очень скупо и с затруднениями… Смерти принцессы много способствовали разнородные огорчения, которые она испытывала».
Об этом же рассказывал в Вене и царевич Алексей…
«Отец ко мне был добр, но с тех пор, как пошли у жены моей дети, все сделалось хуже, особенно когда явилась царица и сама родила сына. Она и Меншиков постоянно вооружали против меня отца; оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни совести (выделено нами. – Н.К.)».
Обратимся далее к сухой хронике…
22 октября 1715 года. Не оправившись после родов будущего русского императора Петра II, кронпринцесса умерла.
28 октября. После похорон принцессы Петр I, в доме царевича, во время поминок публично вручает сыну письмо с требованием «нелицемерно исправиться».
«Егда же сию Богом данную нашему отечеству радость (победы над шведами) рассмотряя, обозрюсь на линию наследства, едва не равная радости горесть меня снедает, видя тебя наследства весьма на правление дел государственных непотребного (Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отъял: ибо хотя не весьма крепкой природы, обаче не весьма слабой); паче же всего о воинском деле ниже слышать хощешь, чем мы от тьмы к свету вышли и которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтобы охоч был воевать без законные причины, но любить сие дело и всею возможностию снабдевать и учить: ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона…
Сие все представя, обращусь паки на первое, о тебе рассуждати: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеписаное с помощию Вышнего насаждение и уже некоторое и возращенное оставлю? Тому, иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю (сиречь все, что Бог дал, бросил)! Аще же и сие воспомяну, какова злого нрава и упрямого ты исполнен! Ибо сколько много за сие тебя бранивал, и не точию бранивал, но и бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобой, но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться, хотя от другой половины и все противно идет. Однако ж всего лучше, всего дороже безумный радуется своею бедою, не ведая, что может от того следовать (истину Павел святой пишет: како той может церковь Божию управить, иже о доме своем не радит?) не точию тебе, но и всему государству.
Что все я с горестию размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо избрал сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, аще не лицемерно обротить. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангрезный, и не мни себе, что один ты у меня сын (выделено нами. – Н.К.) и что я сие только в устрастку пишу: воистину (Богу извольшу) исполню, ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то как могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый, чем свой непотребный».
29 октября. Рождение Петра Петровича – сына Петра I и Екатерины Алексеевны.
31 октября. Отказ царевича Алексея от притязаний на престол. Алексей просит отца отпустить его в монастырь.
6
Нет никакой нужды анализировать содержание упреков в письме Петра I.
Что такое «нелицемерно исправиться»?
Историки часто упрекают Алексея в притворстве, в равнодушии к отцовским делам. И вместе с тем никто из них не отрицает, что Алексей всегда старался угодить деспоту отцу: прилежно учился, выполнял все приказы и поручения, и никогда, как это говаривали в старину, не выходил из-под его воли.
Мы уже говорили, что царевич Алексей действительно не любил войну. Война никогда не была для него игрой, которую можно бросить в любой момент. Войну царевич воспринимал как тяжелую и грязную работу. Он достаточно исправно, несмотря на молодые годы, трудился на войне, но радоваться крови и грязи войны так и не научился.
Однако Петру, который сам в двадцативосьмилетнем возрасте бросил на произвол судьбы всю свою армию перед сражением под Нарвой, упрекать сына за неготовность воевать, по меньшей мере, неосмотрительно. Это как раз проявление того поразительного ханжества и лицемерия, которых Петр I так не любил в других, но которых в самом себе никогда не замечал.
Ни о чем, кроме поразительного ханжества Петра I, и не свидетельствует его письмо сыну. Гораздо более интересными представляются его слова: не мни себе, что один ты у меня сын…
Как показывают исследования, письмо было написано 11 октября, накануне рождения сына Алексея Петра, а отдал его Петр I накануне рождения своего сына.
«В недоумение приходит всякий здравомыслящий и беспристрастный исследователь, – говорит М.П. Погодин. – Что за странности? Царь пишет письмо к сыну с угрозою лишить его наследства, но не отдает письма, и на другой день по написании рождается у царевича сын, новый наследник; царь держит у себя письмо и отдает только через 16 дней, в день погребения кронпринцессы, а на другой день после отдачи рождается у него самого сын!
Вопросы, один за другим, теснятся у исследователя.
Если Петр написал письмо в показанное число в Шлиссельбурге, то зачем не послал его тотчас к сыну? Зачем держал 16 дней, воротясь в Петербург?
Рождение внука должно б было изменить решение: если сын провинился, то новорожденный внук получал неотъемлемое право на престол!
Зачем бы определять именно число? Пролежало оно 16 дней в кармане, для чего же напоминать о том, для чего напирать, что письмо писано за 16 дней? Ясно, что была какая-то задняя мысль».
«Задняя мысль» Петра, о которой пишет М.П. Погодин, с веками так выдвинулась вперед, что сейчас различается и без дополнительных исследований. Вопреки обычаю, праву и здравому смыслу Петр I предпринимает отчаянные усилия, чтобы не допустить на русский престол не только своего сына Алексея, но и внука – будущего императора Петра II. Все силы измученного болезнью, впадающего в припадки ярости императора оказываются направлены на то, чтобы отобрать престол у русской ветви своей семьи.
И когда, пытаясь проследить связанные с этим события, видишь, как много энергии и изобретательности было растрачено Петром I в борьбе с собственными сыном и внуком, становится страшно…
К сожалению, даже когда были опубликованы все документы, связанные с делом царевича Алексея, наши историки (за исключением, может быть, только М.П. Погодина и Н.И. Костомарова) более были заняты попытками оправдать Петра I, нежели анализом подлинных причин трагедии.
Стремление вполне понятное…
Эти историки, следуя в кильватере политики культа Петра I, и здесь заранее, априори, переносили всю вину на царевича, дабы нечаянно не бросить тень на монументальный образ Петра Великого.
Между тем мотивы антипатии Петра I очевидны и легко объяснимы. Алексей был сыном от нелюбимой, более того – ненавистной жены. И какие бы способности ни проявлял он, как бы терпеливо ни сносил упреки и притеснения, – все это не имело значения для отца, не могло переменить его мнение о сыне.
В деспотически-самодержавном сознании Петра I личностное легко сливалось с государственным, переплеталось, подменяло друг друга. В царевиче Алексее – сыне от ненавистной жены Евдокии Лопухиной – Петр I видел прежде всего то русское, духовное начало жизни, которое он стремился выкорчевать навсегда, по всей стране…
И даже если допустить, что Алексей и по характеру своему, и по душевному складу, и по воспитанию олицетворял только русскую косность – а это все-таки ничем не подкрепленное допущение! – то все равно: можно ли от живого человека требовать, чтобы он вот так, вдруг, переменил свою душу?
Потребовать-то, конечно, можно, только вот исполнить подобное требование не удавалось еще никому!
Сам Петр I наверняка понимал это. И Алексей тоже понимал, что требование «нелицемерно исправиться» на самом деле содержит приказ самоустраниться, каким-то образом самоуничтожиться, освобождая дорогу только что родившемуся «шишечке».
31 октября Алексей достойно и мужественно ответил отцу. Он отказывался от притязаний на престол и просил отпустить его в монастырь.
Но Алексей – не для Петра, а для уже родившегося «шишечки»! – опасен и в монастыре. В царевиче Алексее измученная страна видит избавление от ужаса и несправедливостей петровского режима. Алексей – надежда огромной империи, миллионов и миллионов людей. И кто даст гарантию – нашептывали Петру I сановники из “кумпании”, которые действительно не знали ни Бога, ни совести, – что оскорбленная, растоптанная русская старина не выведет Алексея из монастыря после смерти Петра? Не провозгласит царем, отталкивая от престола обожаемого «шишечку»?
Н.Н. Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. 1871 г.
Петр I и сам видел, что нет этой уверенности. А раз так, значит, и действовать нужно иначе. Алексея необходимо не в монастырь заточить, а уничтожить физически. Тем более что вместе с ним будут уничтожены и надежды страны на возвращение к тому пути, по которому шла Святая Русь!
Совершить задуманное было непросто. Все-таки Алексей был законным наследником престола… Но на стороне императора – самодержавная власть, бесконечная сила воли, зрелый ум, житейская опытность и, разумеется, дьявольская хитрость советников.
Интрига, задуманная Петром I и его сподвижниками, разыгрывается почти как на театральных подмостках. Петр отклоняет просьбу сына, запретив принять монашеский сан. Отправляясь за границу, он приказывает сыну «подумать»…
Психологически расчет очень точный. Петр знает и о мечтательности сына, и о его привязчивости. И он не ошибается. Уже отрекшийся было от мирской жизни, Алексей начинает мечтать, строить планы.
Преградой на пути в монастырь становится и Евфросиния – женщина, которую он полюбил… Крепостная Н.К. Вяземского, воспитателя царевича Алексея, сумела не на шутку влюбить его в себя. Некоторые исследователи полагают, что Евфросиния была шпионкой Меншикова и «светлейший» подсунул ее царевичу, исполняя давно задуманный план…
Как бы то ни было, но именно Евфросиния отвлекает царевича от спасительных – речь идет не только о нравственном, но и физическом, и политическом, и даже историческом спасении – мыслей о монастыре.
Счастье сына, разумеется, не цель Петра I, а лишь средство достижения задуманного. Едва только разгорается в мечтательном Алексее надежда на счастье – какой безжалостно точный расчет! – курьер вручает ему новое письмо. Алексей немедленно должен ехать за границу или, не мешкая, отправиться в монастырь.
В самой возможности выбора и заключалась ловушка. Возможность бежать от деспота отца, который – Алексей уже наверняка знал это! – и в монастыре не даст ему покоя, прельстила царевича.
Ловушка сработала. Алексей принял решение – бежать. Хитроумный капкан защелкнулся… Дальше – вынуть добычу из капкана – было делом техники.
7
Прибыв в Вену, царевич Алексей явился к вице-канцлеру графу Шенборну и просил того о покровительстве императора. Убежище Алексею было предоставлено. Царевича отправили в тирольский замок Эренберг, и скоро туда прибыли тайный советник П.А. Толстой и гвардии капитан А.И. Румянцев. Алексея Петровича перевели в Неаполь, в замок Сент-Эльмо, но посланцы отца легко нашли его и там. Они уговаривают Алексея Петровича вернуться, обещая отцовское прощение.
Это подтвердил с легкостью и сам Петр I.
«Мой сын! – писал он царевичу Алексею 17 ноября 1717 года. – Письмо твое, в 4-й день октября писанное, я здесь получил, на которое ответствую, что просишь прощения: которое уже вам перед сим, через господ Толстова и Румянцева, письменно и словесно обещано, что и ныне подтверждаю, в чем будь весьма надежен…»
Дата этого письма совпадает с подготовкой к церемонии поставления на место умершего Никиты Зотова нового князя-папы Петра Ивановича Бутурлина, которая проводилась Петром I в Преображенском.
Обряд этот во всех тонкостях был разработан самим Петром.
«Поставляющий глаголет: “Пьянство Бахусово да будет с тобою, затмевающее и дрожающее, и валяющее и безумствующее тя во вся дни жизни твоея”».
Далее в дело вступали жрецы с пением:
«О всепьянейший отче Бахусе, от сожженные Семиллы рожденный, из юпитеровой (неприличное слово) возвращенный! Изжателю виноградного веселия и проведшему оное сквозь огнь и воду, ради вящыя утехи возследователем вашим! Просим убо тебя со всем сим всепьянейшим собором: умножи сугубо и настави сего вселенского князь-цезаря стопы во еже тещи вслед тебе! И не точию тещи сему, но и во власти сущих вести. Такоже да вси последуют стопам твоим! И ты, всеславнейшая Венус, множа умножи от своего (неприличное слово) к сего заднему! Аминь!»
Хотя тексты эти и были опубликованы М.И. Семевским в работе «Петр Великий, как юморист», но, право же, более чем шуточное представление, они напоминают сатанинский обряд.
И поскольку по времени все совмещается с ожиданием в Преображенском царевича Алексея, зловещая тень этого «обряда» ложится и на затеянное Петром «следствие».
8
Еще когда царевича Алексея только привезли в Москву, были произведены аресты среди его друзей. 14, 15, 16 марта в Москве им рвали ноздри, резали языки, сажали на колья…
Не забыли во время сыска и царицу Евдокию.
Обнаружилось, что она вела переписку, и переписка эта и корреспонденты были немедленно взяты в розыск. В петровских застенках применялись такие изощренные пытки, что и мужественные, не раз смотревшие в лицо смерти стрельцы становились болтливыми, словно женщины, и возводили на себя и на своих товарищей любую напраслину. Вот и теперь выяснилось возмутительное злоумышление. Оказывается, бывшая царица скинула монашеское платье и ходила в мирском! Выяснилось, что подвиг ее к этому епископ Досифей, который приезжал в монастырь, и «служил, и поминал ее царицею Евдокиею, и сказывал, что он от святых слышал гласы от образов, что нынешнего года, в котором ей сказывал, будет царицею по-прежнему»…
Епископ Досифей покаялся на пытке, что «сказывал он ей, бывшей царице, что она будет по-прежнему царицею и с сыном будет жить; а гласов о том от образов не слыхал и святые ему не явилися и того не сказывали; а он ей, бывшей царице, сказывал и о том к ней писал, будто он гласы от образов слышал и святые ему явилися и сказывали, что она будет по-прежнему царицею; и то он говорил и писал, утешая ее, для того, что она того желала; и она к нему писывала, и те письма он драл; а таких-де слов, что видал отца ее Федора Лопухина из ада выпущенного до пояса, а в другой ряд до коленей, того он ей не сказывал и денег за вышеписаное пророчество не бирал; а говорил ей для того, чтоб она Бога не отпала, для того, что она ему говаривала многажды, что она Богу молится много: Бог ее не слушает».
К тому же выяснилось, что был случай, когда бывшая царица пила чай вместе с майором Степаном Глебовым, и это переполнило чашу императорского терпения. Майор был казнен, а старицу Елену (приближалось ее пятидесятилетие) 20 марта повезли в Ладожский Успенский монастырь.
20 марта 1718 года послан был сюда капитан Семен Маслов принять царицу. «Приехав в Ладогу, пребывающую в состоящем девичьем монастыре, бывшую царицу у присланного при ней из Москвы от гвардии офицера принять и во всем ея содержании поступать не оплошно, – гласила данная ему инструкция. – Ради караулу при ней и около всего монастыря, употреблять данных шлютельбургского гарнизона капрала, и преображенских солдат, которые оттуда дадутся, а именно двенадцать человек.
3. Потребные ей припасы, без которых пребыть невозможно, без излишества, брать от ладожского ландрата Подчерткова, о чем к нему указ послан.
4. В монастырь не токмо мужеска, ни женска пола, никакого состояния и чина людей, також из монастыря, как ее бывшую царицу, так и прочих пребывающих в том монастыре монахинь и определенных для отправления Божией службы священников отнюдь не впускать.
5. Иметь доброе око, чтобы каким потаенным образом ей царице и сущим в монастыре монахиням, так же и она к монахиням никаких, ни к кому, ни о чем писем отнюдь не имели, чего опасаясь под потерянием живота, смотреть неусыпно и для лучшей в той осторожности велеть днем и ночью вкруг всего монастыря солдатам, скольким человекам возможно, ходить непрестанно, и того, чтобы кто тайне не учинил, смотреть накрепко».
Любопытно, что князь Меншиков, составивший инструкцию, как надобно содержать бывшую царицу, вопросами ее дальнейшего обеспечения не озаботился.
Капитан Семен Маслов, охранявший царицу, потребовал содействия у местных властей. Ландрат Подчертков послал рапорт на Высочайшее имя в Санкт-Петербург, но канцелярия не озаботилась ответить.
Недосуг было…
В Петербурге и император, и светлейший князь были заняты тогда пытками самого царевича Алексея.
9
На следующий день, после убийства в Трубецком раскате Петропавловской крепости царевича Алексея, Петр I устроил 27 июня 1718 года шумный бал, отмечая годовщину Полтавской победы[97]…
Да и от чего было не радоваться ему, если – как ему казалось! – удалось победить сам Божий Промысел и, вопреки судьбе, оградить права на престол любимого «шишечки»!
Петр веселился, не зная, что меньше чем через год «шишечка» умрет и при вскрытии выяснится, что он был неизлечимо болен от рождения…
Не знал Петр и того, какой злой насмешкой над ним обернется его безграничная любовь ко всякой иноземщине.
Ради сожительства со шлюхой из Немецкой слободы он заточил в монастырь законную жену, но Анна Монс не оценила этого, при первом же удобном случае наставила грозному царю рога с саксонским посланником Кенигсеном…
Петр I порвал тогда с Анной Монс, посадив любовницу под арест, а сам немедленно сошелся с кухаркой Мартой, уже прошедшей через постели Шереметева и Меншикова. Петр возвел ее в императрицы и посадил на русский трон. То, что Екатерина едва-едва научилась ставить свою подпись и разбирать написанное, его нисколько не волновало. По наущению ее Петр I убил своего сына, царевича Алексея, и был вознагражден еще более грязной, чем во времена сожительства с Анной Монс, изменой.
Впрочем, об этом дальше…
Глава девятая Император Преображенского царства
Рассуждая по поводу заповеди «Чти отца твоего», Петр I печалился: дескать, подданные его духовных отцов не почитают. А и как почитать, если первое их мастерство в том, чтоб по последней мере их обмануть, а вяще тщатся бедство им приключить подчиненных пастырей оболганном у вышних…
Можно попытаться проследить, каким похотливо-извилистым путем выходит петровская мысль на решающий аргумент, о котором «многих головы на кольях свидетельствуют», но важнее – другое.
В принципе, если вспомнить о расправе, учиненной «вселенскими учителями» над Русским православием, когда миллионы православных русских людей ушли в раскол, ясно, что в израненной, истекающей кровью Русской Церкви можно было обнаружить самые причудливые явления.
Но ведь надо вспомнить и то, кто насаждал в этой раненой, измученной Церкви завезенное с Украины униатско-иезуитское ханжество. Зачем же забывать о том, что и сам Петр I, продолжая линию своего отца, усиленно продвигал на все ключевые кафедры Русской Православной Церкви прошедших через иезуитские коллегиумы выходцев с Украины.
Уместно будет вспомнить здесь, что Петр I, проявляя завидную терпимость к протестантизму, резко изменил свое отношение к раскольникам, как только понял, что раскол не является сектой, что раскольники борются не только с иерархией Русской Православной Церкви, но и отстаивают традиционные духовные ценности.
Долго, почти всю жизнь искал Петр подходящего духовного наставника, который способен был постигнуть великую правду «воли монаршей, которая превыше всего».
И нашел-таки человека, способного выразить всю правду Преображенского царства.
Звали его Феофан Прокопович.
1
Будущий архиепископ рано остался сиротой и воспитывался у дяди – ректора Киево-Братской коллегии и наместника Киево-Братского монастыря. Образование он получил в Киево-Могилянской академии, а потом перешел в унию и принял монашество с именем Самуил.
В базилианском ордене, к которому теперь принадлежал Самуил Прокопович, обратили внимание на способного монаха и направили его в Рим. Здесь Самуил поступил в Коллегию Святого Афанасия, прошел полный курс католической схоластической теологии и обратил на себя внимание папы Климента XI.
Вернувшись в Киев, Самуил снова перешел в православие и, сделавшись Феофаном, начал преподавать в Киево-Могилянской академии то, чему научили его в Риме.
10 июля 1709 года, когда Петр I проезжал через Киев, Феофан произнес в Софийском соборе панегирическую проповедь по случаю Полтавской виктории, объясняя, какое значение она имеет для будущего.
Петру особенно понравились рассуждения о Мазепе.
– Пси не угрызают господий своих, звери свирепые питателей своих не вредят; лютейший же всех зверей раб пожела угрызти руку, ею же на толь высокое достоинство вознесен… – возглашал Феофан. – Лжет бо, сыном себе российским нарицая, враг сый и телолюбец!
Вскоре Феофан Прокопович произнес похвальное слово А.Д. Меншикову, которого он назвал «истинным изображением» самого Петра I, и вопрос о его карьере оказался решенным.
В 1710 году, собравшись на войну с турками, Петр захватил с собою и Феофана, чтобы в походе еще раз послушать его речь на годовщину Полтавской виктории.
Феофан и речь сказал, и начал уже было описывать новую викторию Петра Великого, но тут случился конфуз…
За могилою Рябою Над рекою Прутовою Было войско в страшном бою. В день недельный от полудни Стался час нам вельми трудный — Пришел турчин многолюдный.Все так и было, как в виршах Феофана.
Усела Новое Станилешти 270-тысячная армия Баталджи-паши окружила 40-тысячное войско Петра I.
Вице-канцлеру П.П. Шафирову, которому Петр I разрешил отдать за свое спасение всё, кроме Петербурга, удалось, предложив Баталджи-паше солидную взятку, заключить мир на сравнительно мягких условиях. Россия возвращала османам Азов, срывала Таганрог и Каменный Затон.
Тем не менее для Феофана Прутский поход завершился его полной личной викторией. Петр I назначил его игуменом Киево-Братского монастыря и ректором Киево-Могилянской академии.
Надо сказать, что Феофан оказался благодарным назначенцем. Так же легко, как менял он свои имена и конфессии, он расстался с католическими привязанностями и тут же создал «Догматику», в которой порвал со схоластической методой и явил себя убежденным протестантом.
В 1716 году Петр вызвал этого «не только антилатинствующего, но и протестантствующего» богослова в Петербург.
«Феофан Прокопович был человек жуткий, – писал протоиерей Георгий Флоровский. – Даже в наружности его было что-то зловещее. Это был типический наемник и авантюрист… Феофан кажется неискренним даже тогда, когда он поверяет свои заветные грезы, когда высказывает свои действительные взгляды. Он пишет всегда точно проданным пером. Во всем его душевном складе чувствуется нечестность. Вернее назвать его дельцом, не деятелем». Один из современных историков остроумно назвал его «агентом Петровской реформы».
Тем не менее именно такого «агента» и искал Петр I.
2
Надо сказать, что с Феофаном Петр I не ошибся. Лично ему Феофан-Самуил был предан беззаветно.
В своих проповедях он почти не обращал внимания на религиозные нужды верующих, но очень убежденно и горячо разъяснял проводимые Петром реформы. Феофан искренне считал, что с Петром I никто не может сравниться. Такого монарха «толико Россию пользовавшаго, яко от начала государства Всероссийского, еликия могут обрестися истории, сему равного не покажут».
Поиском аргументов в восхвалении государя Феофан не затруднял себя – сразу переходил к обличению людей, не понимающих величия Петра I.
«Ибо понеже на двоих сих вся государская должность висит, на гражданском, глаголю, и воинском деле. Кто у нас когда обоя сия так добре совершил, яко же сей? – вопрошал Феофан в “Слове о власти и чести царской”, составленном в 1718 году. – Во всем обновил, или паче отродил, Россию? Что ж, сие от нас награждение будет ему? Да его же промыслом и собственными труды славу и безпечалие все получили, той сам имя хульное и житие многобедное имеет? Кая се срамота! Кий студный порок! Страшен сый неприятелем, боятися подданных понуждается! Славен у чуждих, безчестен у своих! Удивляются сему самии лютейшии враги наши, и хотя и приятны им сии о нас вести (угождают бо зависти их), однако же таковое неистовство обругают и поплюют. И смотрим, да бы не выросла в мире притча сия о нас: достоин государь толикаго государства, да не достоин народ таковаго государя».
Мысль о том, что русский народ не достоин такого государя, как он, была близка Петру I. 2 июня 1718 года он поставил Феофана во епископа Псковского и Нарвского, и тот стал главным его помощником в делах духовного управления. Через руки Феофана-Самуила проходят теперь все важнейшие законодательные акты по делам Церкви; по поручению Петра он пишет богословские и политические трактаты, составляет «Слово похвальное о флоте российском», «Слово о власти и чести царской», пишет предисловие к Морскому уставу и краткое руководство для проповедников…
Как отметил И.К. Смолич в «Истории Русской Церкви», «взгляды Феофана на взаимоотношения между государством и Церковью целиком совпадали со взглядами Петра: оба искали подходящий образец в церковных установлениях Пруссии и других протестантских стран. Для царя было естественно поручить написание “Духовного регламента” Феофану, так же как для Феофана было естественно ждать такого поручения».
Поручение было дано, и Феофан отнесся к разработке реформы Русской Православной Церкви с полной самоотдачей. Уже 25 января 1721 года составленный Феофаном Прокоповичем Духовный регламент был обнародован.
Важнейшей реформой, вводившейся в церковное управление Регламентом, было упразднение патриаршества и учреждение вместо него, по образцу протестантских государств, Святейшего Правительствующего Синода (Духовной коллегии).
«А яко Христианский Государь (Петр I. – Н.К.), правоверия же и всякаго в церкви Святей благочиния блюститель, посмотрев и на духовныя нужды, и всякаго лучшаго управления оных возжелав, благоволил уставити и духовное Коллегиум, которое бы прилежно и непрестанно наблюдало, еже на пользу церкви, да вся по чину бывают, и да не будут нестроения, еже есть желание Апостола, или паче Самаго Бога благоволение».
Строго предостерегал Духовный регламент от любой попытки защиты патриаршества. «Всегдашний Синод или Синедрион, совершеннейшее есть и лучшее, нежели единоличное правительство, наипаче же в Государстве Монаршеском, яковое есть Наше Российское».
Регламент вполне соответствовал своему названию и с протестантской четкостью регламентировал сложные духовные вопросы.
«…определить, что оныя многочисленныя моления, хотя бы и прямыя были, однако не суть всякому должныя, и по воли всякаго на едине, а не в соборе церковном употреблять оных мощно, дабы по времени не вошли в закон, и совести бы человеческой не отягощали»…
«О мощах святых, где какия явятся быть сумнительныя, розыскивать: много бо и о сем наплутано… Смотреть же, нет ли и у Нас такого безделия?»…
«Аще где проявится нетленное тело, или пройдет в слух видение чие или чудотворение, Коллегиум долженствует испытовать тоя истины, призвав к допросу оных повестителей, и прочиих, которые о том свидетельствовать возмогут»…
3
Надо сказать, что Духовному регламенту, как и остальным сочинения Феофана Прокоповича, присущи стремление к подмене подлинной проблемы ее карикатурным изображением и поиск решения проблемы именно в этом предельно упрощенном пространстве.
Да, после раскола Русской Православной Церкви уровень образования на Руси резко снизился, а за четверть века реформ, проводимых Петром I, неграмотность приобрела катастрофический характер.
Разумеется, Петр I создавал новые формы обучение, но это никак не могло компенсировать того образования, что осуществлялось в русских монастырях, и которое сейчас было уничтожено полностью.
Поэтому предписание Духовного регламента «осмотреть, есть ли у нас довольное ко исправлению Христианскому учение?», выглядело вполне своевременно, как и замечание Феофана Прокоповича, что для того «пастырский чин от Бога уставлен, дабы от Священнаго Писания научал вверенное себе стадо».
Но вот решение проблемы предлагалось откровенно протестантское.
Поскольку мало священников, «которые бы наизусть могли проповедать догматы и законы Священнаго Писания; то всеконечная нужда есть имети некия краткия и простым человекам уразумительныя и ясныя книжицы, в которых заключится все, что к народному наставлению довольно есть; и тыя книжицы прочитовать по частям в недельные и праздничные дни в церкви пред народом».
Это же относится, по мнению Феофана Прокоповича, и к святоотеческой литературе. Поскольку «книги великих учителей, Златоустаго, Феофилакта и прочих писаны суть Еллинским языком, и в том токмо языке внятны суть, а перевод их Славенский стал темен (когда это он стал темным и для кого? – Н.К.) и с трудностию разумеется от человек и обученных, а простым невежам отнюдь непостизаемый есть», поэтому и не надо их читать, а простому народу надобно внушать «всякому собственно, по своему званию должное».
«И того ради нужно есть сочинить три книжицы небольшия. Первую о главнейших спасительных догматах веры нашея; тако ж и о заповедях Божиих, в Десятословии заключенных.
Вторую о собственных всякаго чина должностях.
Третию таковую, в которой собранныя будут с разных Святых учителей ясныя проповеди, как о главнейших догматах, так и наипаче о грехах и добродетелях и собственно о должностях всякаго чина. Первая и вторая книжица иметь будет доводы своя от самаго Священнаго Писания, но внятныя всем и краткия. Третия же от Святых Отец тоеж, что в первой и во второй поучающая».
Помимо создания «трикнижия» от Самуила-Феофана Духовный регламент предписывал епархиальным архиереям создавать при архиерейских домах училища для детей священников.
Священник не должен быть ни мистиком, ни фанатиком. Следовало удостовериться, не имеет ли он «видений» или «смущающих снов».
«А который бы ученик был крайне туп, или хотя и остроумен, да развращен, и упрям и непобедимой лености, таковых бы, по довольном искушении, отпускать от школы, отняв им всю надежду чина священническаго».
Столь же строг был Регламент и в отношении епископата.
«Ведал бы всяк Епископ меру чести своея, и невысоко бы о ней мыслил и дело убо великое, но честь никаковая, почитай в писании знатная определена».
Определялся и порядок поездок епископов по своим епархиям…
«Время летнее кажется быть угоднейшее к посещению, нежели зимнее. Се же того ради, что не так много летом, как зимою и сам Епископ и церкви посещаемыя на корм и иныя нужды его издержать. Не надобе сена, а дров мало треба. Хлеб, рыба, корм конской дешевее.
И может Епископ не далече от города на поле в палатке время перестоять, чтоб не трудить священства, или граждан квартирою, наипаче где город убогий».
А вот насчет порядка и содержания молитв на литургиях все было определено строго.
«По приезде своем Епископ на другой день или на третий, собрав градских и сельских пресвитеров, священную литургию совершит, по Литургии со всеми Священники отпоет молебен о здравии и победе Державнейшаго Монарха, о исправлении и благосостоянии церквей, о обращении раскольников, о благорастворении воздуха, о обилии плодов земных и прочая. И собственный канон составлен будет, всякия нужды содержащий».
Регламент вводил строгую духовную цензуру и другие новшества, призванные предельно зарегулировать жизнь Русской Православной Церкви.
Мужчинам запрещалось поступать в монастырь до тридцатилетнего возраста; монахам запрещалось посещать частные дома и женские монастыри (деятельность Серафима Саровского в Дивеевском монастыре или Амвросия Оптинского в Шамордине, таким образом, была, оказывается, согласно Духовному регламенту, совершенно незаконной). Монахиням воспрещалось давать окончательные обеты до пятидесятилетнего возраста, и послушничество, продолжавшееся до тех пор, не могло служить препятствием для вступления в брак.
Говорилось в Духовном регламенте и об отношении к милосердию: «О подаянии милостыни должно… сочинить наставление; ибо в сем не мало погрешаем. Многие бездельники, при совершенном здравии, за леность свою пускаются на прошение милостыни, и по миру ходят безстудно; и иные же в богадельни вселяются посулами у старост, что есть богопротивное и всему отечеству вредное… И потому здравии, а ленивии прошаки Богу противни суть. И аще кто снабдевает оных, и той есть яко помощник, тако и участник оных же греха; и что либо на таковую суетную милостыню издерживает, все то вотще ему, а не в пользу духовную».
Впрочем, Духовный регламент и не скрывал, что подлинная причина такого отношения к нищим не одна только забота о пользе духовной.
«Сверх того еще ленивии оные нахальники сочиняют некая безумная и душевредная пения, и оная с притворным стенанием пред народом поют, и простых невеж еще вяшше обезумливают, приемля за то награждение себе».
4
«Между многими, по долгу Богоданныя нам власти, попечениями о исправлении народа нашего и прочих подданных нам государств, не смотря на духовный чин и видя в нем много нестроения и великую в делах его скудость, – было сказано в императорском Манифесте, – не суетный по совести нашей возымели мы страх да не явимся неблагодарны Вышнему, аще толикая от Него получив благопоспешества в исправлении как воинского, так и гражданского чина, пренебрежем исправления чина духовнаго. И когда нелицемерный Он судия воспросит от нас ответа о толиком нам от Него врученном приставлении, да не будем безответны. Того ради образом прежних, как в Ветхом, так и в Новом Завете благочестивых царей, восприяв попечение о исправлении чина духовного, не видя лучшаго к тому способа, паче соборного правительства (понеже в единой персоне не без страсти бывает; к тому-ж не наследственная власть, того ради вящше небрегут) уставляем Духовную Коллегию, т. е. духовное соборное правительство, которое, по следующем зде регламенте, имеет всякие дела управлять».
14 февраля 1721 года в день своего открытия Духовную коллегию преобразовали в Святейший Правительственный Синод. Высочайшим указом повелено было возносить его имя вместо Патриаршего в церковных молениях.
Президентом Синода назначили митрополита Стефана Яворского, вице-президентом – епископа Феофана Прокоповича.
По сути, Синод становился ведомством в общем составе государственной администрации и подчинялся самому государю. В государственной присяге членов Синода Петр I именовался «крайним судиею духовной коллегии». Наконец-то, как отмечают историки Церкви, и произошло то, чего больше всего опасались при низложении патриарха Никона иерархи нашей Церкви: «власть Царская подчинила во всей полноте власть Бога на земле – Святую Церковь Христову».
Только напрасно Петр I объявлял в своем Манифесте, что он, «как в Ветхом, так и в Новом Завете благочестивых царей, восприял попечение». Идея подобного устройства церковной жизни, вернее, ее полного подчинения светской власти, была заимствована им не в книгах Ветхого и Нового Завета, а в сектантской Англии.
Если называть вещи своими именами, то надо сказать, что, согласно церковной реформе Петра I, Русская Православная церковь была превращена в инструмент воспитания верноподданных.
Эта задача в разработанном Феофаном Прокоповичем Духовном регламенте проводится четко и последовательно. Даже самые важные Таинства православной веры – «Должен всяк Христианин и часто, а хотя бы единожды в год причащатися святой Евхаристии» – превращаются в некие полицейские мероприятия, ибо «аще который Христианин покажется, что он весьма от Святаго Причастия удаляется, тем самым являет себе, что не есть в теле Христове, сиесть, не есть сообщник церкви, но раскольщик. И несть лучшаго знамения, почему познать раскольщика. Сие прилежно подобает наблюдать Епископом, и приказывать, чтоб им священницы приходские по вся годы о своих прихожанах доносили, кто из них не причащался чрез год»…
Не заставили себя ждать и последующие указы, развивающие полицейскую идеологию Духовного регламента.
17 мая 1722 года по настоянию Петра I Синод принял позорнейший указ об отмене тайны исповеди.
Если о замене патриарха Синодом, составленным из вчерашних иезуитов, можно хотя бы дискутировать, то разрушительные для православного самосознания последствия Указа от 17 мая 1722 года, по сути дела отменившего важнейшее церковное таинство, очевидны.
Некоторые ревностные защитники идеи монархии договариваются до того: дескать, тайна исповеди отменялась только касательно злоумышлений против монаршей особы, против государственного порядка, а об остальном священник не должен был сообщать в Тайную канцелярию…
Что тут ответить?
Разве только напомнить, что и ГПУ от сотрудничавших с ним священников-обновленцев тоже ждало сообщений не о супружеских изменах, а только о злоумышлениях против государственного порядка, против колхозов, против вождей революции…
Да и не в том ведь дело, о чем должен, а о чем не должен доносить священник. Приходящий на исповедь человек исповедует свои большие и малые прегрешения перед Богом, а не перед сексотом, и священник, который отпускал ему грехи, отпускал их властью, данной ему Богом, а не полицейским управлением.
И тут не аргументы в пользу Петра I придумывать надо, а просто разобраться: что нам дороже? Православие или Петр I, который вполне осознанно проводил губительные для православия и для православного самосознания реформы?
Очень трудно немножко верить в Бога, а немножко в идею, которая эту веру подрывает.
Даже если и называется идея – монархической…
Тем более что именно для идеи монархии и были губительными в самую первую очередь петровские реформы.
Как ни крути, а без указа от 17 мая, может, и не было бы никогда и 17-го года…
5
Мы говорили, что стремление Петра I превратить Россию в нечто похожее на Германию или Голландию, а своих подданных – в немцев или голландцев, зарождается в нем под влиянием детских страхов, от которых он так и не смог освободиться вследствие неправильного воспитания.
Стремление заведомо неисполнимое, но тем не менее так дорого стоившее стране.
Наверное, Петр I и сам понимал, что подсознательное стремление уничтожить ненавистную русскую старину, а народ России обратить в покорных рабов, для владения которыми он завезёт из-за границы «культурных» иностранцев, не исполнимо.
Но в том-то и заключалась трагедия Петра, что, понимая все, не мог пересилить себя и смириться, а тем более признать свою ошибку…
Если можно объяснить нежелание Петра избрать нового патриарха сразу после поражения под Нарвой чисто прагматическими мотивами – разрасталась война и необходимы были для ведения ее все церковные денежные ресурсы! – то введение Духовного регламента, как бритье бород и запрещение русского платья, преследовало цель изменить не только внешний, но и духовный облик своих подданных, изменить, как сейчас говорят, сам национальный менталитет русского человека.
И привлекалась для этого вся мощь созданной русской кровью и каторжным трудом петровской империи.
Уже скоро табельные праздники, соблюдение которых было строго обязательно, заметно начинают теснить в церковном календаре память почитаемых на Святой Руси святых.
1 января – Новый год.
3 февраля – тезоименитство цесаревны Анны Петровны.
19 февраля – «воспоминание брака императорского величества».
30 мая – рождение Петра I.
25 июня – коронование Петра I.
27 июня – «преславная виктория под Полтавою».
29 июня – тезоименитство Петра I.
29 июля – «взятие фрегатов, первее – при Ангуте, потом – при Грингаме».
5 сентября – тезоименитство Елизаветы Петровны.
28 сентября – «виктория над генералом Левенгауптом».
11 октября – взятие крепости Нотебург (Шлиссельбург).
23 ноября – день Александра Невского.
24 ноября – тезоименитство Екатерины.
30 ноября – день «Святого апостола Андрея Первозванного, торжество кавалеров российских».
Завершая эту главу, хотелось бы сказать, что уже в сентябре 1721 года Петр отправил послание константинопольскому патриарху с просьбой «учреждение и сочинение Духовного Синода за благость признати».
23 сентября 1723 года патриарх Иеремия III прислал Утвердительную грамоту со словами, которые и жаждал услышать Петр: «Синод в Российском Святом Великом Государстве есть и нарицается нашим во Христе братом, Святым и Священным Синодом от всех благочестивых и православных христиан»…
Правда, хотя и признавалось, что Синод «имеет право совершать и установлять то же, что и четверо Апостольских Святейших Патриарших Престола», но завершалась грамота предписанием «хранить и держать неизменными обычаи и правила Священных Вселенских Святых Семи Соборов и прочее содержимое Святою Церковью и пребудет непоколебимо во веки».
Исполнение этого предписания никак не входило в планы реформаторов Русской Православной Церкви, но – Божьей волей! – оно было исполнено.
6
К концу жизни Петр I, кажется, достиг всего…
Фактически встав во главе Русской Православной Церкви, он получил абсолютную власть в стране. Наконец-то был заключен и долгожданный Ништадтский мир.
За два десятилетия беспрерывных войн, обескровивших и разоривших народ, уплатив Швеции компенсацию в два миллиона талеров, Россия получала Эстляндию, Лифляндию, Ингрию и часть Финляндии с Выборгом…
Такой вот успех, такая вот победа.
В конце 1721 года по случаю заключения Ништадтского мира Сенат упразднил титул царя и провозгласил Петра I императором.
Также Петру был преподнесен титул Отца Отечества.
Получил тогда Петр повышение и в своем «всешутейшем соборе».
Как видно из списка слуг «архикнязя-папы», составленного в самом начале 20-х годов XVIII века, «Пахом Пихай х… Михайлов» возвысился уже до архидьякона.
Совпадение не случайное. После того как Петр стал главой Русской Православной Церкви, потеснив, как ему казалось, на этом месте самого Бога, темные силы, движущиеся в эскорте великого реформатора, таким вот образом зафиксировали и отметили этот факт.
Отец Отечества мог торжествовать. Он и торжествовал.
Празднества и фейерверки шли непрерывною чередой, и посреди этого грохота салютов, 29 мая 1723 года, накануне табельного дня своего рождения, будучи в Александро-Невском монастыре, вспомянул Петр о святом благоверном князе и указал: обретающиеся в соборе Рождества Богородицы во Владимире мощи Александра Невского перенести в Петербург.
И срок назначил.
Велено было приурочить встречу мощей в Санкт-Петербурге к празднованию годовщины Ништадтского мира 30 августа 1723 года…
Это решение Петра I трактуется на разные лады, но при этом упускается из виду, что приказано было не просто перенести мощи, а перенести их к дате.
Между тем это обстоятельство весьма существенно.
Святой благоверный князь Александр Невский, разгромив на берегах Невы и Чудского озера силы тогдашнего НАТО, выбрал путь и «повенчал Русь со степью», чтобы сохранить православную веру.
Петр I строил Петербург еще и как знак разрыва Российской империи с прежней Московской Русью, построенной потомками Александра Невского. Ломая и корежа страну, практически отказавшись от православия и национальных обычаев, он утвердился на берегах Финского залива, чтобы переменить проложенный святым благоверным князем путь, и жалким по сравнению с петровским прорывом Запада в Россию выглядел десант крестоносца Биргера, разгромленного здесь Александром Невским пять столетий назад…
Петр победил всех.
Победил старую Русь, победил шведов, победил даже саму историю вместе с благоверным князем Александром Невским.
И перенесение в Санкт-Петербург святых мощей князя становилось свидетельством этой победы, освящало совершенные Петром победы, врастало в новую мифологию рождающейся империи.
Но есть своеволие Петра I, и есть Воля Божия…
29 мая 1723 года Петр указал перевезти мощи Александр Невского…
И не такой уж огромный груз требовалось доставить, не такой великий путь от Владимира до Санкт-Петербурга, а проходили месяцы, мощей все не было.
И не жалела сил снаряженная за мощами команда, ломали стены, прорубали дорогу сквозь рыночные ряды, двигались, как положено в петровской империи, не считаясь ни с какими затратами и потерями, но только 18 августа дошли до Москвы, а в Твери были только 26 августа.
Уже безнадежно опоздали к празднованию годовщины Ништадтского мира, но никто не смел остановиться, и 10 сентября вынесли святые мощи из Софийского собора в Новгороде, где не раз бывал при земной жизни Александр Невский, и продолжили путь.
15 сентября 1723 года ковчег с мощами привезли в Шлиссельбург.
Здесь остановились, ожидая дальнейших указаний императора.
Император молчал.
Наконец, пришел указ Святейшего Синода – разместить святые мощи в Шлиссельбурге, поставив их в каменной церкви. Здесь и находились они до августа 1724 года…
Воистину воля Петра I – это воля Петра I, а воля Божия – воля Божия! И ничего не совершается в мире вопреки Божией воле.
Грозным предупреждением обернулось само перенесение в Петербург святых мощей Александра Невского.
Подобно пожару, охватившему церковь Рождества Богородицы 13 мая 1491 года, когда распространилась в Москве ересь жидовствующих, шлиссельбургский пожар очень близок по времени к петровским реформам Русской Православной Церкви.
Петр I не внял этому грозному предупреждению. Грандиозные забавы «всешутейного собора» занимали его внимание.
Шлиссельбургский пожар почти совпадает по времени с устроенным Петром I гуляньем в Санкт-Петербурге. Еще никогда столько масок не окружало Петра I, шутовские наряды заполнили дворцы и улицы города. «По улицам Петербурга прогуливались и разъезжали голландские матросы, индийские брамины, павианы, арлекины, французские поселяне и поселянки и т. п. лица: то были замаскированные государь, государыня, весь Сенат, знатнейшие дамы и девицы, генерал-адъютанты, денщики и разные придворные чины. Члены разных коллегий и Сената в эти дни официального шутовства нигде, ни даже на похоронах не смели скидывать масок и шутовских нарядов; в них они являлись на службу, в Сенат и в коллегии».
Свой «всешутейный собор», называвшийся «великобританский славный монастырь», был создан теперь и у петербургских иностранцев.
С.Ф. Платонов, который первым проанализировал устав «монастыря», щедро изукрашенный фаллической символикой, был поражен похабностью его и неприличием. Между тем среди членов «монастыря» были иностранные финансисты, купцы и специалисты в различных областях, которые были очень близко связаны с царём и оказывали ему, как, например, «медикус» Вильям Горн, оперировавший царя незадолго до смерти, различные «особые» услуги.
Увы… Дьявольщины в «великобританском монастыре» было еще больше, чем во «всешутейном соборе». Это повышение градуса функционирования «великобританского монастыря» с сатанинской точностью зарегистрировало тот факт, что сделал Петр с изнасилованной Россией.
Настоящая вакханалия творится в 1724 году вокруг «Отца Отечества». Все карикатурно в окружении Петра, отовсюду лезут маски и искривленные дьявольской злобою рыла…
7
В духе этого непристойного шутовства совершена была и супружеская измена только что коронованной Екатерины Алексеевны.
Как и положено в шутовском действе, героем адюльтера стал ее камергер… Виллим Монс, брат известной нам Анны Монс.
В 1708 году Виллим по ходатайству его сестры Матрены Ивановна Балк (в ее доме в Эльбингенгене Петр поселил тогда Екатерину) был принят в армию. Виллим участвовал в битве при Лесной и Полтаве, служил генеральс-адъютантом у генерала Боура и в 1716 году был определен камер-юнкером ко дворцу императрицы.
Иностранцы в Немецкой слободе. Гравюра XVII в.
«Ах счастье мое нечаянное… Рад бы я радоваться об сей счастливой фортуне, только не могу, для того что сердце мое стиснуто так, что не возможно вымерить и слез в себе удержать не могу! – писал пылкий любовник своему “высокоблагородному патрону, ее премилосердному высочеству”. – Прими недостойное мое сердце своими белыми руками и пособи за тревогу верного и услужливого сердца».
Любовную пылкость, подобно своей сестре Анне, Виллим совмещал с не менее пылкой любовью к деньгам. Вместе с Матреной Ивановной Балк они поставили взяточничество на конвейер и брали за протекцию со всех, кто обращался к ним.
«Брала я взятки с служителей Грузинцевых, с купецкого человека Красносельцева, с купчины Юринского, с купца Меера, с капитана Альбрехта, с сына “игуменьи” князя Василия Ржевского, с посла в Китае Льва Измайлова, с Петра Салтыкова, с астраханского губернатора Волынского, с великого канцлера графа Головкина, с князя Юрия Гагарина, с князя Федора Долгорукова, с князя Алексея Долгорукова»…
Два дня, 13 и 14 ноября, диктовала Матрена Ивановна Балк на допросе имена своих дачников[98]…
В тот день, когда Петру стало известно об измене супруги с Монсом, он провел вечер в Зимнем дворце с Екатериной и ее друзьями. Был здесь и Монс.
Он был в ударе, много шутил.
– Посмотри на часы! – приказал государь.
– Десятый! – сказал камергер.
– Ну, время разойтись! – сказал Петр и отправился в свои апартаменты. Виллим Монс, вернувшись домой, закурил трубку, и тут к нему вошел страшный посланец царя, начальник Тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков.
Он отвез Монса к себе на квартиру, где его уже ждал император.
Впрочем, как говорит М.И. Семеновский, на все остальные вины Виллима Монса Петр «взглянул как-то слегка!» и приказал обезглавить брата своей первой любовницы, а потом утешался тем, что возил Екатеринушку смотреть на отрубленную голову любовника.
Мы рассказываем об этой истории не только ради того, чтобы прибавить пикантности повествованию. Это кружение Монсов вокруг русского престола – вначале в образе Анхен, а потом Виллима, совершенно в духе того недоброго шутовства, до которого был такой охотник Петр I, совершенно в духе его кровавых игрищ и «маскерадов».
В духе этого сатанизма и спасение Виллимом Монсом из долговой тюрьмы Бирона. Петр ненавидел Россию и хотел отдать ее на растерзание Монсам.
Но оказалось, что и Монсы не самое страшное для выстроенной им империи. Следом за ними позлее явились собаки, Бироны пришли на Русь…
«Что мешало в послепетровские времена вернуться к едва протекшим временам? – задавал вопрос А.И. Герцен. – Все петербургское устройство висело на нитке. Пьяные и развратные женщины, тупоумные принцы, едва умевшие говорить по-русски, немки и дети садились на престол, сходили с престола, горсть интриганов и кондотьеров заведовала государством.
Одна партия сбрасывает другую, пользуясь тем, что новый порядок не успевал обжиться, но кто бы ни одолевал, до петровских оснований никто не касался, а все принимали их – Меншиков и Бирон, Миних и сами Долгорукие, хотевшие ограничить императорскую власть не в самом же деле прежней боярской думой. Елизавета и Екатерина льстят православию, льстят народности для того, чтобы захватить трон, но, усевшись на нем, они продолжают его путь. Екатерина II – больше, нежели кто-нибудь».
8
Ну а обгоревшие мощи святого благоверного князя Александра Невского все-таки были доставлены в Санкт-Петербург, как и было указано, к очередной годовщине заключения Ништадтского мира. Державная воля государя, пусть и с опозданием на год, одержала верх.
И казалось, Петр I, как всегда, настоял на своем.
Государственная, державная символика преобладала. Политический смысл затенил мистическую суть происходящего.
Но посмотрите, где встречают мощи! В устье Ижоры…
Именно там, где и происходила Невская битва, хотя местом ее Петр I ошибочно считал территорию нынешней Александро-Невской лавры.
Святой благоверный князь все же остановился на месте своей первой блистательной победы. И это ли не знак, явленный нам свыше? Это ли не глагол, в сиянии которого меркли все помпезные торжества, ожидавшие процессию в Петербурге?
Александр Невский великий русский святой.
Таким он был в своей земной жизни, где он не проиграл ни одной битвы. Таким он стал, сделавшись небесным заступником Руси.
Говорят, августовской ночью 1380 года в храме Рождества Богородицы во Владимире вдруг вспыхнули сами по себе свечи, раздался ужасающий гром, и, когда вбежал в церковь испуганный пономарь, то увидел двух старцев, вышедших из алтаря.
Они шли к гробнице Александра Невского…
– Александре! – сказал один. – Встани и спаси правнука твоего Димитрия!
И пораженный ужасом и трепетом пономарь увидел, как осиянный дивным светом встал из гроба Александр Невский и скрылся со старцами.
На следующий день мощи святого князя были открыты и поставлены в раке посреди собора.
Начались чудеса исцеления от них. Главное же чудо произошло тогда, 8 сентября, на поле Куликовом… Теперь, три с половиной столетия спустя, мощи святого князя насильно были доставлены в Санкт-Петербург, более походивший на Вавилон времен строительства знаменитой башни, чем на русский город.
В этом городе правил император, убивший своего родного сына и подчинивший себе Русскую Православную Церковь. И никого не было вокруг, кто мог бы возвысить свой голос в защиту Святой Руси…
Мощи святого благоверного князя привезли к назначенной императором дате в город этого императора…
Через полгода императора не стало… Диагноз болезни Петра тщательно скрывался, но итальянский врач, лечивший его, считал, что «источником болезни послужил старый и плохо вылеченный сифилис».
Это подтверждается и результатами вскрытия, сделанного доктором Паульсоном. При вскрытии тела императора «увидели совершенный антонов огонь в частях около пузыря; некоторые же части так отвердели, что весьма трудно было прорезать их анатомическим ножом».
Как бы то ни было, но умирал Петр мучительно трудно, словно не в своей постели умирал он, а под пытками в Трубецком раскате Петропавловской крепости…
«За год до его кончины весьма ослабел в своем здоровье и частые имел припадки… неумолчно кричал, и тот крик далеко слышен был»…
Начиная с 16 января 1725 года предсмертный вой императора стало слышно и за стенами дворца.
9
Было уже темно, когда император очнулся от беспамятства.
В зальце с низким потолком, где лежал он, горели свечи. Какие-то люди толпились у дверей. Боль стихла, но по всему телу расползалась невесомая, предсмертная пустота… Вглядываясь в лица приближенных, Петр нахмурился. Тут терся и светлейший Алексашка Меншиков, которому запрещено было являться ко двору… Но не оставалось уже времени для гнева. С трудом разжав ссохшиеся губы, потребовал перо и бумагу.
«Отдайте все…» – начертал на листе.
И все! Кончилось время. Перо выпало из мертвых пальцев, и фиолетовые чернила пятнами смерти расползлись по белой рубахе.
28 января 1725 года в шесть часов утра Петр I скончался, так и не назначив наследника своей империи.
Меншиков перекрестился и, расправив плечи, вышел.
Бюст А.Д. Меншикова. Скульптор Б.К. Растрелли
Скорбела душа о херц каптейне, но гулко и нетерпеливо билось в груди сердце. Снова, как в прежние времена, отгоняя скорби, торопили дела, не оставляли времени для печалей. Все решали сейчас мгновения.
У дверей залы, где собрались господа сенаторы, Меншиков остановился. Судя по голосам, верх брала партия сторонников царевича Петра Алексеевича. Меншиков нахмурился и поманил пальцем генерала Бутурлина.
– Нешто конец? – подбегая, спросил тот.
– Пора начинать! – уронил Меншиков. – Государь император преставился.
И вошел в залу.
Смолкли при его появлении голоса. Уже который день ожидали этого мгновения сановники, но все равно, когда совершилось неотвратимое, известие потрясло их. Что будет теперь с каждым из сидящих здесь? Кто займет опустевший трон? Куда поведет новый государь разоренную войной и реформами державу? Как теперь жить-то оповадиться?
Сумрачными стали лица сенаторов, словно тень умершего под пытками царевича упала на лица… Опустил голову тайный советник Петр Андреевич Толстой. Это он выманил бежавшего за границу Алексея и привез на расправу отцу. Мрачен стал генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, поставивший свою подпись под приговором… Щерился неприятной усмешкой, словно пытался что-то откусить и не мог, составитель Духовного регламента псковский архиепископ Феофан Прокопович.
Феофана, в случае избрания на царство сына царевича Алексея, тоже ожидала печальная участь. В своих проповедях иезуит-архиепископ разъяснял и доказывал, что император волен был поступить с царевичем по собственному усмотрению.
На Феофане и задержался сейчас взгляд светлейшего князя.
– Что скажешь, святой отец? – спросил он. – Чего Синод мыслит?
Феофан сцепил пальцы на своем увенчанном змеиными головами посохе.
– Покойный, вечнодостойныя памяти Петр Алексеевич… – сказал он, – не оставил завещания, в котором выражена его воля. Это прискорбно. Но он ясно указал свою монаршею волю. Торжественно короновав супругу, он ясно и недвусмысленно указал, кому надлежит унаследовать трон. Он говорил об этом и мне, своему верному слуге.
Перебивая его, возмущенно зашумели сторонники юного Петра Алексеевича. Послышались голоса о первородстве одиннадцатилетнего великого князя – прямого внука императора.
Меншиков не останавливал говоривших.
Краем глаза он наблюдал, как входят в залу подвыпившие офицеры гвардии и безбоязненно рассаживаются между сенаторами.
– В проруби этого супротивника матушки-императрицы надобно утопить! – наклонившись к своему товарищу, проговорил один из офицеров.
– Нужда есть в прорубь волочить… – учтиво икнув, ответил товарищ. – Можно и на месте голову разрубить, чтобы поумнела маленько.
И хотя негромко переговаривались офицеры, но пьяный разговор слышали все. И никто не решился прикрикнуть на них.
– Добро было бы все-таки возвести на престол Петра Алексеевича… – задумчиво сказал князь Дмитрий Михайлович Голицын. – А за малолетством оного поручить правление императрице Екатерине вместе с Сенатом. Тогда бы и опасности междоусобной войны избежали…
Великим дипломатом был пятидесятидвухлетний Гедиминович – киевский губернатор Дмитрий Михайлович Голицын. Как и покойный император, смотрел он на Запад, но в реформах видел совсем другой смысл, считал, что реформы должны делаться не ради переделки державы, а во благо и для укрепления государства. Почему Петр не отрубил ему голову, не понимал и сам Дмитрий Михайлович. Но – и небываемое бывает! – роскошный, спадающий на плечи парик украшал сейчас неотрубленную голову, а на груди сияли ордена.
Великим дипломатом был князь Дмитрий Михайлович, но и граф Петр Андреевич Толстой тоже в дипломатии толк знал…
– Князь Дмитрий Михайлович, неправо ты рассудил… – возразил он. —
В империи нашей нет закона, который бы определял время совершеннолетия государей. Как только великий князь будет объявлен императором, весь подлый народ станет на его сторону, не обращая внимания на регентство. При настоящих обстоятельствах империя нуждается в государе мужественном, твердом в делах государственных, каковой умел бы поддержать значение и славу, приобретенные продолжительными трудами императора…
Толстой говорил долго, расписывая, что все необходимые государю качества счастливо соединились в императрице Екатерине… Гвардейские офицеры одобрительно кивали – не напрасно гарнизону, не получавшему жалованья шестнадцать месяцев, было обещано полное удовлетворение.
И хотел возразить князь Голицын, сказать, что Петр Андреевич не столько за империю переживает, сколько за свое собственное будущее, но поостерегся… И правильно сделал. Уже не пьяная болтовня офицеров, а рокот барабанов донесся в залу с улицы. Это выстраивались на площади оба гвардейских полка.
– Кто осмелился их привести без моего ведома?! – побагровев, закричал князь Репнин. – Разве я уже не фельдмаршал?!
– Я велел полкам прийти сюда! – безбоязненно ответил генерал Бутурлин. – Такова была воля императрицы, которой обязан повиноваться всякий подданный, не исключая и тебя, фельдмаршал.
В рокоте барабанов потонули последние разногласия.
Перебивая друг друга, сановники начали умолять Екатерину, чтобы не сотворила их сиротами, не отказывалась бы от престола, а взяла бразды самодержавного правления в свои ручки.
Екатерине недосуг было. Все эти дни разрывалась она между постелями умирающего мужа и внезапно заболевшей дочери. Лицо ее с широкими черными бровями вразлет, с большими глазами, опухло от слез.
Когда Екатерину уведомили, что императрицей будет она, ее величество только кивнула. Всего пять минут назад, задрожав в беспамятстве от злого рокота барабанов, умерла следом за отцом шестилетняя цесаревна Наталья…
Вот так, под грохот барабанов, и взошла на русский престол ливонская крестьянка, служанка мариенбургского пастора Марта Скавронская. При штурме города ее захватили солдаты, у солдат выкупил фельдмаршал Шереметев и перепродал потом Меншикову. Уже от Меншикова она попала к царю и стала его супругой. Воистину – и небываемое бывает! – теперь она сделалась императрицей, властительницей страны, солдаты которой насиловали ее в захваченном Мариенбурге.
Когда Л.Д. Троцкий и В.И. Ленин говорили, что и кухарка должна уметь управлять государством, они ничего не придумали. У нас уже была портомойка, которая оказалась на русском троне, – это Екатерина I.
Дивились преображению и «птенцы гнезда Петрова», и тайные приверженцы русской старины… Но и те и другие слишком хорошо знали, что и небываемое очень даже часто бывает в перевернутой вверх дном державе… Только удивлялись себе – как-то спокойнее стало всем, когда был совершен выбор. Словно отпугнутая рокотом барабанов, удалилась тень царевича Алексея, замученного на пытке в Трубецком раскате Петропавловской крепости шесть лет назад. Свиваясь серой поземкой, закружилась среди строительных лесов, среди груд кирпичей, злою обидой царапая лица прохожих…
Сюда, в Петропавловскую крепость, и принесли 8 марта гроб с телом императора.
– Что се есть? До чего мы дожили, о россияне?! Что видим? Что делаем? – заламывая руки, голосил Феофан Прокопович. – Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение?
Открытый гроб с телом императора стоял на том самом месте, где и надлежало ему быть опущенным в землю, но пока Петропавловский собор существовал только в чертежах архитектора, и невысокая кладка стен не укрывала даже от метели, рассыпавшей по лицу мертвого Петра снежную пыль…
Когда Феофан закончил свою речь, тело государя посыпали землей, гроб закрыли, разостлали на нем императорскую мантию и оставили на катафалке под балдахином посреди недостроенной церкви. Долгие шесть лет предстояло оставаться Петру непогребенным посреди построенной им столицы.
Книга третья Империя без Императора (перелом)
А патента на герб и дворянство не имею и не имел, понеже в Африке такого обыкновения нет.
Из прошения генерал-аншефа Абрама Петровича ГаннибалаГлава первая Магический кристалл истории
Свои несчастья всегда кажутся страшнее, чем несчастья других, свои трудности, свои проблемы – более серьезными и важными. Так уж устроен человек, такова его природа, и отчасти это свойство человека переносится и на отношения его к своей стране, своей Родине.
1
Многие страны во второй половине минувшего тысячелетия пережили череду кровопролитных войн и бурные социальные катаклизмы.
Все так…
Но все же, и понимая это, трудно отделаться от ощущения, что России выпал особенно трудный жребий!
Да… Велики были жертвы и потрясения английской и французской революций. Кромвель и Робеспьер, добиваясь своих целей, проливали потоки английской и французской крови.
Но ведь делали они это не только ради своих политических и общественных взглядов, а еще и во имя Англии и Франции, добиваясь благоденствия и величия своих стран…
Кромвель не стыдился того, что он – англичанин.
Марат и Робеспьер не забывали, что они – французы.
Совсем другое у нас… Главной отличительной чертой наших революционеров были не политические убеждения, не уровень образования, даже не национальная принадлежность, а исступленная ненависть к России.
И дело тут не только в национальности, а в том, что все эти поляки, латыши и грузины, евреи и родственники евреев, в отличие от подавляющего большинства своих соплеменников, исступленно ненавидели Россию…
И чему же удивляться, что такими потоками крови, такими немыслимыми страданиями обернулась для русских людей революция, что в результате «социалистических преобразований» была уничтожена вначале русская интеллигенция, а потом и русское крестьянство?
Кромвель, Марат и Робеспьер совершали перевороты и проливали кровь, чтобы добиться благоденствия и величия Англии и Франции…
Ленин и Троцкий проливали русскую кровь, чтобы уничтожить Россию, они и относились к русским людям как к дровам, которые надобно использовать для того, чтобы разжечь пожар мировой революции.
Сказанное справедливо не только по отношению к революции.
Если считать контрреволюцией то, что произошло в нашей стране в 1991–1993 годах, то оказывается, что у нас и спасительный откат назад, в отличие от той же Англии или Франции, делается не во имя спасения страны, а для окончательного уничтожения ее.
Сейчас модно искать разгадку особой несчастливости русской истории в происках масонов. Не вдаваясь в оценку этого фактора (а он, на наш взгляд, конечно же, весьма важен!), зададимся вопросом: почему именно в России деятельность масонов имела такие сокрушительные последствия? Почему не в Германии, не во Франции, где и зародилось масонство?
Неужели все дело, как утверждают наши исследователи из патриотического лагеря, только в особой антиправославной направленности масонства?
Хотя эта мысль и приятна для национального самолюбия, но мне кажется, что нельзя недооценивать и влияние среды, которая в России была (и остается!) благоприятной для действия темных разрушительных сил.
Да, можно проливать горькие слезы, можно выкрикивать бессильные проклятия темным силам, обрушившимся на нашу страну. Но гораздо важнее понять: а почему, в силу каких обстоятельств была ослаблена в нашей стране сопротивляемость злым силам?
Ведь без постижения этого, без восстановления иммунитета к антирусской политике бессмысленны любые разговоры о масонстве, более того – они опасны, поскольку только запугивают русских людей, не предлагая никакого пути борьбы или хотя бы противостояния темным силам.
2
Ответов на эти вопросы – увы! – не найти в бесчисленных книгах, посвященных разрушительной деятельности в России тайных (вообще-то они давно уже никакие не тайные!) сил. Но вспомним еще раз слова апостола Павла из Первого послания к коринфянам:
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и тоже духовное питие; ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос.
А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков…» Вдумываясь в эти великие слова, понимаешь, что все ответы на наши вопросы даны самой русской историей и, чтобы услышать их, достаточно лишь беспристрастно взглянуть на исторические события и персонажи, преодолевая собственную духовную лень и навязанные воспитанием и образованием стереотипы мышления…
Во второй части этой книги, рассказывая о церковной реформе, которой была подвергнута на Соборах 1656 и 1667 годов православная жизнь Руси, мы отметили, что тогда была укоренена в общественном сознании мысль, будто Русская Православная Церковь не вполне православна.
Народное православное сознание не смогло смириться с этой антирусской ложью и ответило на нее церковным расколом.
К сожалению, царь Алексей Михайлович не захотел исправить положение, а, наоборот, использовал его для продвижения на высшие посты в церковной иерархии воспитанных иезуитами выходцев из Украины, тем самым окончательно закрепив раскол и ложное представление о некоей ущербности и неполной православности прежней Русской Церкви[99].
3
Точно так же и сын Алексея Михайловича Петр I…
«Петр I… – справедливо заметил А.С. Пушкин, – доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон… Все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Всё дрожало, всё безмолвно повиновалось».
Создавая флот и замащивая русскими костями петербургские болота, проигрывая и выигрывая сражения, строя и срывая азовские города, насаждая изучение точных наук и искореняя духовное образование, основывая новые мануфактуры и разоряя прежние хозяйства, он еще и глумился над русскими обычаями, русскими привычками, русской культурой…
При Петре I появился указ, по которому в монахи могли поступать только увечные и убогие люди.
И это на Руси…
В стране, где святые всегда были солью Русской земли, лучшими людьми своего времени…
Петр I не остановился на этом…
Он превратил в невольников, обратил в рабство собственный народ…
Хотя о русском рабстве и говорится немало, но редко задумываются, когда, собственно, началось закрепощение русского человека. Отсчет начинают обыкновенно вести с 1590 года, пренебрегая той очевидностью, что хозяева поместий в конце XVI – начале XVII века владели лишь частью труда крестьян[100]. А подлинное закрепощение начинается при Романовых, и происходит оно именно тогда, когда в Европе начинается освобождение крестьянства.
«В его (Петра. – Н.К.) время в некоторых государствах западных крепостное состояние земледельцев уже не существовало – в других принимались меры для исправления этого зла, которое в России, к несчастию, ввелось с недавнего времени и было во всей силе, – писал М.А. Фонвизин. – Петр не обратил на это внимания и не только ничего не сделал для освобождения крепостных, но, поверстав их с полными кабальными холопами в первую ревизию, он усугубил еще тяготившее их рабство».
Забегая вперед, скажем, что немка Екатерина II окончательно закрепит статус России как рабовладельческой империи, где, в отличие от других стран, в рабстве оказался тот самый народ, который и создавал своим трудом и кровью эту империю, который и защищал ее на полях сражений.
4
Сопротивление, разумеется, было… Была крестьянская война Емельяна Пугачева, когда, как справедливо отметил А.С. Пушкин, «весь черный народ был за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны».
Немке Екатерине II удалось утопить в крови пугачевское восстание и, произведя некоторые реформы в административном управлении, утвердить незыблемость построенной ее предшественниками империи.
«Со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия, – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России».
Император Петр I (с гравюры Леруа). 1810-е гг.
Эти слова сказаны А.С. Пушкиным о Екатерине II, но их можно отнести ко всем Романовым до Николая I, когда, по словам того же А.С. Пушкина, «политическая наша свобода» стала «неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы».
Отметим тут и еще одну примечательную деталь, которую старательно обходят своим вниманием историки. Практически все народы Российской империи, кроме славян, при правлении Романовых сохранили свою свободу…
Случайность?
Едва ли…
Скорее это последовательная и целенаправленная политика.
5
Осуществлялась эта политика шаг за шагом, а начало было дано Петром, когда приблизилась к завершению Северная война.
10 апреля 1717 года в реестре дел, рассмотренных Петром I, записано: «О разделении войск по крестьянам сухопутных и рекрут морских, кроме гвардии и провианта».
Смысл реформы заключался в переводе армии на содержание жителей. Все местности империи были расписаны между полками.
Для определения реального числа налогоплательщиков производилась перепись. Вместо «двора» (семьи) вводилась новая налоговая единица – «душа». Душой назывался мужчина любого (новорожденные тоже) возраста.
Отметим сразу, что это не просто новая терминология, а концепция политики, ставящей своей целью не только ввергнуть в крепостное состояние максимум населения, но и закабалить саму русскую душу.
В предыдущей части книги мы подробно рассказывали о борьбе Петра I с православием, о его стремлении искоренить русские обычаи и православную веру.
Поэтому помимо решения чисто экономических задач новая податная реформа должна была решить и некие мистические задачи. Русский народ, почитающий себя рабом Божиим, поголовно записывался в рабство, и ему давался господин – дворянин с полномочиями, почти приравненными к Господним…
Не случайно, согласно Сенатскому указу, изданному в июле 1721 года, приказано было «детей протопоповских, и поповских, и диаконских и прочих церковных служителей… положить в сбор с прочими душами». Множество церковнослужителей было обращено тогда в крепостное состояние.
Не случайно так напоминала затеянная перепись завоевание страны чужеземцами.
И это не метафора, а голая правда. Кровью залита петровская перепись русского народа в рабство. Больших жестокостей наша страна не знала и во времена татарских нашествий.
Генерал Чернышев пожаловался тогда Петру I, что правило прибегать к пытке только с разрешения царя связывает инициативу ревизоров, и Петр разрешил офицерам, производящим ревизию, истязать русских людей по собственному усмотрению.
И засвистели кнуты, запахло паленым человеческим мясом! У непокорных рвали ноздри, ссылали их на галеры «в вечную работу»…
Северную войну Петр I вёл более двадцати лет. Войну с Россией он выиграл гораздо быстрее.
Поступления в казну увеличились тогда в три раза.
Важным для Петра I было и то, что размещение полков и наделение офицеров правом производить любые экзекуции над штатским населением резко сократило возможности какого-либо сопротивления[101].
Народ в буквальном смысле был обращен в невольников.
«В обязанности владельцев платить подати за крестьян и рабов заключалось, по-видимому, только перемещение ответственности с крестьян на владельцев; но за сим перемещением скрывалось страшное разобщение крестьянина с государством… – сказано в монографии И.Д. Беляева “Крестьяне на Руси”. – Между им и государством стал господин, и, таким образом, крестьянин сделался ответственным только перед господином: с него спали государственные непосредственные обязанности, а с тем вместе он утратил и все права как член государства, ибо в его положении, подготовленном прежним временем, права без обязанностей были невозможны».
Не это ли и ослабило национальный иммунитет?
Таким образом, Петру I удалось нанести сокрушительный удар по национальному самосознанию. Порабощение и унижение Русской Православной Церкви; жесточайшие расправы над всеми, кто выказывал малейшее уважение к русской старине; злобное преследование русской одежды; окончательное закрепощение русских крестьян…
А в противовес – неумеренное, незаслуженное возвышение иноплеменного сброда, хлынувшего со всех сторон в Россию, обезьянье копирование заграничных манер и обычаев… Все это привело к тому, что в общественном сознании укрепилась мысль о предпочтительности всего иностранного, о бесконечной и дремучей отсталости всего русского. Быть русским стало не только не выгодно, но как бы и не совсем культурно…
И не это ли и создало в результате благоприятную для действия темных разрушительных сил среду?
Не здесь ли и кроется источник всех бед и трагедий России, пережитых ею на склоне второго тысячелетия?..
6
Дело не в том, чтобы любить или ненавидеть Петра I и его преемников…
Просто мы должны понять, что любить Россию и любить при этом первых Романовых невозможно…
И дело тут не в наших личных вкусах и предпочтениях…
Мы должны ясно и отчетливо осознать, что невозможно сделать для русского народа ничего хорошего, если ты не любишь Россию, ее обычаи, ее характеры, ее культуру…
Мысль обыкновенная и даже банальная, если говорить о любой другой стране, но в нашей стране, особенно в либерально-демократических кругах, она вызывает яростное сопротивление… И в результате вся борьба нашей интеллигенции за свободу страны оборачивается или 1917 годом с его Лениным, Троцким и Чека, или перестройкой с ее горбачевыми, ельциными и чубайсами… Но – странно! – и в оппозиционном «демократам» лагере мысль о том, что невозможно сделать для русского народа ничего хорошего, если не любишь Россию, воспринимается только в приложении к настоящему, соотнести эту мысль с Петром I не получается и у патриотов.
Не об этом ли, говоря о восхвалении Екатерины II, и говорил А.С. Пушкин? «Современные иностранные писатели, – писал он, – осыпали Екатерину чрезмерными похвалами: очень естественно, – они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволяла путешествовать.
Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие; “Наказ” ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами; но, перечитывая сей лицемерный “Наказ”, нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне; он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна (выделено нами. – Н.К.)».
Нам тоже непонятна подлость русских писателей, утверждающих: дескать, хотя, конечно, Петр I и ненавидел русские обычаи и русскую культуру, но ведь он создал флот, он прорубил окно в Европу…
Но даже если и флот создал, и окно прорубил?
Россия, как это доказали Ленин с Троцким и Ельцин с Горбачевым, такая большая страна, что, если даже приказать, чтобы все было плохо, что-то обязательно получится в результате хорошо…
Но если в результате ослабленным, разрушенным оказался сам национальный иммунитет, то зачем нужен тогда флот, зачем нужно окно в Европу? Только для того, чтобы поскорее подцепить смертельную болезнь?
Увы…
Так и оказалось…
«По смерти Петра I… – писал А.С. Пушкин, – связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ, упорным постоянством удержав бороду и русской кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр… Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностию подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе».
7
Бояре Романовы поднялись к царскому трону вместе с сестрой Анастасией, ставшей женой Иоанна Грозного.
С той поры и до того момента, как с четырнадцатилетним, распахнувшим в морозную ночь окно императором Петром II прервалась мужская линия наследования престола в династии Романовых, миновало двенадцать правлений.
Иоанн Грозный… Царь Федор Иоаннович… Борис Годунов… самозванец Лжедмитрий I… Василий Шуйский… Михаил Романов… Алексей Михайлович… Федор Алексеевич… Царица Софья… Петр I… Екатерина I…
Это герои первых частей нашей книги…
Впереди – Петр II, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II…
За ними – император Павел и Павловичи: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II.
Завершить эту линию могло бы правление Михаила, в пользу которого отрекся от трона Николай II.
С царя Михаила начиналось правление династии Романовых, Михаилом и заканчивалось. Вместо Михаила, как мы знаем, правило Временное правительство…
В Ипатьевском монастыре совершился ритуал приглашения на царство первого Романова, в Ипатьевском доме совершено ритуальное убийство последнего царя династии…
А еще, как темный и светлый ангелы, обрамляя царствование династии, возвышаются по ее краям фигуры двух Григориев – Отрепьева и Распутина…
8
Больше всего поражает в династии Романовых выстроенность ее по законам кристаллической симметрии. Это как бы некий кристалл, в котором заключена судьба России…
Ось его проходит через правление Петра II.
И не только потому, что Петр II – последний прямой наследник русского престола по мужской линии. Позади Петра II – правления, в которых Романовы, независимо от того, прорывались они к верховной власти или осуществляли эту власть, отличались удивительной энергетикой, или, как принято говорить сейчас, пассионарностью.
Впереди – правления еще одиннадцати Романовых, не совсем Романовых и совсем не Романовых, правивших под фамилией Романовы… Жестокость и деспотизм можно обнаружить и в этих самодержцах, но присущей первым Романовым пассионарности в них уже нет.
Так и возникает кристаллическая симметрия…
Вблизи оси этого магического кристалла русской истории выделяются правления двух романовских пар.
С одной стороны – правления Петра I и Екатерины I… С другой – Петра III и Екатерины II.
Как будто для увеличения наглядности все меняется, как в зеркальном отражении. Сильный и энергичный Петр I и абсолютно безвольный Петр III. Достаточно слабая и бесцветная как правительница Екатерина I и волевая, решительная Екатерина II. Даже титул Великий, по законам зеркального отражения, переходит от Петра I к Екатерине II.
Подобные зеркальные отражения можно обнаружить и удаляясь от оси, но существенно даже не это.
Лжесвидетельства, предательства, святотатство – все эти деяния, столь характерные для первых Романовых, отражаясь в последних царствованиях, меняют свой знак, приобретают противоположные качества.
Происходит нравственное преображение Романовых.
Если свойственные первым Романовым негативные качества и проявляются, то все более и более вяло, пока не исчезают совершенно. Последним Романовым удается преодолеть все своеволия, заменив их необходимостью исполнения своего долга.
И разумеется, это не может быть случайным совпадением…
9
Такие пассионарные Романовы, как Филарет, дерзко переступали через нравственные нормы и Божии заповеди, а Петр I и вообще, сбросив с себя облачение русского царя, окончательно разорвал тот договор, что существует между царем, как помазанником Божиим, и народом…
Пять правлений Романовых, не совсем Романовых и совсем не Романовых, следующих за Петром II, при всем своем всевластии, вынуждены были сдерживаться, заискивая перед дворянством и гвардией, обеспечивающими законность их не вполне законной власти. В результате они окончательно превратили Российскую империю в рабовладельческое государство.
Эпоха эта, составленная из правлений женщин и их любовников, растянулась до конца XVIII века, пока ее не сменила династия, основанная императором Павлом, употребившая все силы, чтобы изжить рабовладение и восстановить разорванный Петром I договор между Государем и Народом…
Понимали ли сыновья и внуки императора Павла мистическую, роковую зависимость династии от преступлений, совершенных против православия Алексеем Михайловичем, Петром I и женским поколением династии?
Несомненно…
Хотя по крови новых Романовых только с очень большой натяжкой можно было назвать Романовыми, приняв с императорской короной эту фамилию, они попытались возродить ее, очистить династию от грехов прошлого, искупить совершенные Романовыми перед Богом и перед народом преступления…
Казалось, все силы зла обрушились тогда на Романовых.
Императора Павла задушили. Александра II взорвали. Николая II расстреляли вместе с сыном. Смерти трех других императоров – Александра I, Николая I, Александра III – окружены загадками…
И тем не менее это не остановило Павловичей.
Весь XIX век – это попытка их исправить совершенные отцами династии ошибки.
И вот что поразительно…
Если рассуждать формально, Александр III по составу своей крови был менее русским, нежели все остальные русские императоры. И вместе с тем едва ли мы найдем среди его предшественников более русского царя…
Александр III даже в манерах, даже в привычках своих был более русским, чем все остальные русские императоры.
Исключение составляет только его сын – император Николай II.
Но он – явление совсем уже необычное.
Его подвиг, подвиг царя-мученика, – вершина попыток исправить совершенные отцами династии ошибки и нравственное осуществление их.
Кажется, единственному из Романовых, Николаю II удалось подчинить свою личную жизнь нормам православной морали, и вот оно чудо! – единственный, восходит он в сонм благоверных князей…
Это первый и единственный русский император, ставший святым…
И он, и его семья тоже заключены в тот магический кристалл русской истории, который принято называть правлением династии Романовых…
Глава вторая Внук Петра Великого
Когда, оговоренный Ефросинией, умирал под пытками царевич Алексей, его сыну – будущему русскому императору Петру II – не исполнилось и четырех лет. Он рос под присмотром нянек, и никто не хлопотал о его развитии и воспитании.
У внука российского императора не было родителей, не было и могущественных покровителей. Проявление малейшего участия к несчастному сироте считалось опасным. Любой самый невинный шаг в этом направлении мог быть превратно истолкован подозрительным и безудержным в гневе императором.
Какая участь ожидала «ослушника», напоминали насаженные на колья головы «заговорщиков» – друзей царевича Алексея.
И страх сделал свое дело.
Малолетнего Петра избегали, сторонились, как чумы…
1
Впрочем, забот у придворных хватало и без сироты.
Шла реорганизация областного управления, и вместо одиннадцати губерний образовывалось пятьдесят провинций, учреждались новые коллегии и вводились новые регламенты; появились магистраты, велись сражения и переговоры о мире – и все время, каждый месяц издавались указы, все строже закрепощающие русский народ.
Венцом этого закрепощения стало разрешение покупать русских крестьян на свои заводы и «купецким людям» иностранного подданства…
Это и символ, и суть петровских реформ.
За все немыслимые лишения и тяготы, за потоки крови, пролитой на полях петровских викторий, Петр наградил русский народ возможностью быть купленными в рабство иностранцами, которые приезжали в Россию.
Между более важными делами – некоторые исследователи считают, что это связано с быстро прогрессирующим у Петра I сифилисом – началась борьба с проституцией. «Винных баб и девок» велено было отправлять на мануфактуры вместе с русскими крестьянами.
Между делом реформировали Церковь, сосредоточив всю церковную власть, по образцу протестантских государств, в Духовном коллегиуме, а заодно отменили и тайну исповеди, еще раньше объявив недоносительство тягчайшим, караемым смертной казнью преступлением…
О будущем императоре за этими делами как бы и позабыли…
Учителями назначались случайные и малосведущие люди. Известно, например, что в четыре года к нему определили танцмейстера Нормана, который обучал ребенка чтению и письму. Этот же Норман – он прежде служил на флоте – сообщил юному царевичу начальные сведения о морской службе, сумев выработать в ребенке стойкое отвращение к морю вообще…
И приходится только удивляться, что, несмотря на скверных учителей, будущий император все же сумел в самом раннем детстве овладеть серьезными начатками знаний.
Когда, уже после смерти Екатерины I, его возвели на трон, Остерман, взявшийся за обучение одиннадцатилетнего императора, к немалому своему удивлению, обнаружил, что мальчик свободно владеет латынью, французским и немецким языками.
Ребенок вообще подавал большие надежды.
Еще в те времена, когда похвалы ему расценивались как «тягчайшее преступление», уже говорили, что он кроткого нрава, имеет доброе сердце и обладает ангельской красотой.
Уже тогда поражало всех необыкновенно быстрое физическое развитие Петра II.
В четыре года он упражнялся в стрельбе из маленького ружьеца и вовсю палил из крохотных пушек «потешной» батареи.
Успехи юного Петра II были столь очевидны и так, казалось бы, соответствовали требованиям, которые прежде предъявлял Петр I царевичу Алексею, что воспитатели, невзирая на страх, пытались обратить внимание императора на успехи внука.
Его приглашали на экзамен, устроенный для семилетнего царевича.
Император на экзамен не пошел. Вместо этого им был издан новый закон о престолонаследии, отменивший «недобрый обычай», когда старший сын автоматически наследовал престол. Отныне государь мог назначать преемника по своему усмотрению.
Ослепленный ненавистью к русской ветви своей семьи, Петр I и теперь, когда уже не стало «шишечки», не желал признать себя побежденным в безумной схватке с Божиим Промыслом.
Можно только предполагать, как сложилась бы жизнь Петра II и всей нашей страны, как бы дальше развивалась русская история, если бы сумел Петр I перебороть неприязнь, если бы сумел увидеть, что – вот же, вот! – исполняются во внуке самые заветные мечты, если бы сумел направить развитие ребенка в нужном для наследника престола направлении. Может, и не было бы тогда засилья временщиков, череды дворцовых переворотов…
Увы… Пересилить себя Петр I не захотел.
И о ребенке снова словно бы позабыли…
2
Рассказывая о детстве Петра I, мы подробно описывали игрушки, которыми тот играл. Эти игрушки хранятся в музеях, описания их можно найти в различных документах.
От Петра II игрушек не осталось. Не так уж много было их у сына замученного в Петропавловской крепости царевича Алексея…
Некому было заботиться об игрушках для наследника престола.
Сановники с ужасом смотрели на подрастающего Петра. Этот ребенок был смертельно опасен для них. Многим, как и Меншикову, чудился при взгляде на него холодный острог в Березове.
Но ребенок – не взрослый.
Ребенка труднее заманить в ловушку, чтобы при этом самому остаться в стороне, не оказаться обвиненным в его гибели…
«Птенцы гнезда Петрова» оказались достойными учениками своего патрона. Никакие мысли о России не отягощали их совесть, когда в обход законного наследника они возвели на русский престол бывшую кухарку пастора Глюка, портомойку Шереметева, малограмотную императрицу Екатерину I.
Царствовала она два с половиной года и умерла 6 мая 1727 года от чахотки. Екатерина I была еще жива, когда вокруг престола завязалась жестокая борьба. Победу одержала партия Меншикова. Только благодаря его интригам на русский престол наконец-то взошел законный наследник, сын царевича Алексея.
Было ему одиннадцать лет…
Этим, кажется, и завершилось сражение обезумевшего Петра Великого с Божиим Промыслом.
Нет! Не группой заговорщиков, а на небесах была исправлена воля царя-деспота, гроб которого, все еще не преданный земле, стоял среди лесов строящегося Петропавловского собора…
На русском троне сел русский наследник.
3
«За малолетством императора, – говорилось в завещании Екатерины Первой, – имеют вести администрацию обе наши цесаревны, герцог и прочие члены Верховного совета».
Герцог – Александр Данилович Меншиков, герцог Ижорский. Кроме него в Совет входили Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман.
России был дан шанс избежать трагических лет засилья временщиков, бироновщины, но – увы! – всевластные «птенцы гнезда Петрова» сделали всё, чтобы страна не смогла воспользоваться этим шансом.
Как обучали юного императора, показывает распорядок, который А.И. Остерман составил для Петра на вторую половину 1727 года:
Понедельник:
от 9 до 10 часов – читать историю
от 10 до 11 – отдыхать
от 11 до 12 – история
от 12 до 2 – обед и покой
от 2 до 3 – танцы, концерт
от 3 до 4 – география
Вторник:
от 9 до 12 – с перерывом на час читать историю
от 2 до 3 – игра в волан
от 3 до 4 – математика с четырех часов – стрельба в мишень
Среда:
до полудня – заседание в Верховном совете с двух часов – игра на бильярде
от 3 до 4 – древняя история
Четверг:
до 12 часов – география
от 2 до 3 – танцы
от 3 до 4 – новая история
от 4 до 5 – концерт…
На занятия одиннадцатилетнему мальчику отводилось в день не более трех часов. Остальное время император должен был отдыхать и развлекаться.
По вечерам он играл в карты с теткой, будущей императрицей Елизаветой, днем частенько отправлялся на охоту.
Ребенка почти насильно втягивали во взрослые забавы, и это оказалось губительным и для его здоровья, и для характера.
Как пишет историк Н.И. Костомаров:
«Молодой царь, поставленный в водовороте разных партий, начал показывать в своем характере такие черты, что и иностранцы, следившие за ходом дел при дворе, находили, что в некоторых случаях Петр II напоминал своего деда Петра I именно тем, что не терпел никаких возражений и непременно требовал, чтоб все делалось вокруг него так, как ему хочется».
Еще более губительной для Петра II была опека, которую взял на себя Александр Данилович Меншиков…
Надо сказать, что Меншиков, став генералиссимусом, переменился в своих симпатиях. Между прочим, вспомнил он и о бабушке императора, томящейся в Шлиссельбургской крепости.
В народе говорили, что царица была сожжена во время пожара на Конюшенном дворе в 1721 году, но нет, 19 июля 1727 года Меншиков получил от нее письмо.
«Генералиссимус, светлейший князь А.Д., – писала старица Елена. – Ныне содержусь я в Шлютельбурге, а имею желание, чтобы мне быть в Москве в Новодевичьем монастыре; того ради прошу предложить в Верховном тайном совете, дабы меня повелено было в оной монастырь определить и определено бы было мне нескудное содержание в пище и прочем и снабдить бы меня надлежащим числом служителей, и как мне, так и определенным ко мне служителям определено бы было жалованье, и чтоб оный монастырь ради меня не заперт был… Вашей высококняжеской светлости Июля 19 дня 1727 года богомолица монахиня Елена».
На этот раз прошение бабушки императора не затерялось в канцелярии светлейшего.
«Государыня моя святая монахиня! – без промедления ответил он. – Получил я от вашея милости из Ш. письмо, по которому за болезнию своею не мог в Верховный совет придтить и для того просил господ министров, чтобы пожаловали ко мне, и потому они изволили все пожаловать ко мне (21 июля. – Н.К.), тогда предложил я им присланное ко мне от вашей милости письмо и просил всех, чтобы вашу милость по желанию вашему определить в Москве в Новодевичий монастырь, на что изволи все склониться, что отправить в Новодевичий монастырь и тамо определить вам в удовольствие денег по 4500 руб. и людей вам по желанию, как хлебников и поваров, так и прочих служительниц: для пребывания вашего кельи дать, кои вам понравятся, и приказали вас проводить до Москвы бригадиру и коменданту Буженинову; чего ради приказали ему быть сюда для приему указу в Москву к генерал-губернатору и о даче подвод и подорожных и на проезд денег 1000 руб.; о сем объявя вашу милость поздравляю, и от всего моего сердца желаю дабы вам с помощию Божию в добром здравии прибыть в Москву и там бы ваше монашество видеть и свой должный отдать вам поклон.
P.S. Жена моя и дети и обрученная государыня невеста и свояченица наша Варвара Михайловна вашей милости кланяются».
Письмо было отправлено 25 июля с ординарцем лейб-гвардии Семеновского полка бомбардиром Владимиром Грушецким, а 31 июля был дан указ из Верховного тайного совета камер-коллегии отпустить «на некую дачу» 1000 руб.
2 сентября 1727 года царица приехала в Москву.
Но произошло это уже после падения Меншикова…
Увы… Хотя забросив государственные дела, герцог Ижорский и сосредоточился на том, чтобы обезопасить себя, но успеха это ему не принесло…
4
Петра II возвели на престол в одиннадцать лет.
«После как Бог изволил меня, в малолетстве всея России Императором учинить, – говорил он на Государственном совете, – настоящее мое старание будет, чтобы исполнить должность доброго Императора, то есть, чтобы народ мой подданный, богобоязненностью и правосудием управлять, чтоб бедных защищать, убогих и неправильно отягощенных от себя не отгонять, но веселым лицом жалобы их выслушивать и, по похвальному Императора Веспасиана примеру, никого от себя печального не отпускать…»
Но, конечно же, это были только слова… Перемена в состоянии – избегаемый всеми, заброшенный ребенок превратился во властителя гигантской империи! – оказалось непосильной для юного государя.
За те два с половиной года, что, как и мачеха, провел он на престоле, Петр II ничего не успел сделать для приготовления себя к высшей власти.
Еще неопытный и незрелый, он сделался игрушкой в руках властолюбивых вельмож, и на двенадцатом году жизни насильно был обручен с Марией Александровной Меншиковой, а в четырнадцать, когда Долгоруким удалось свалить «светлейшего», – с княгиней Долгорукой.
Роковым оказалось для Петра II и сближение с соперником Меншикова молодым князем Иваном Долгоруким.
Ночи превращались в дни, царь возвращался на рассвете и ложился в семь утра. Начала проявляться семейная склонность к пьянству, что, по справедливому замечанию Н.И. Костомарова, «казалось вполне естественным и наследственным: дед его и отец были подвержены тому же пороку».
Борясь за влияние на императора, Долгорукие менее всего думали о развитии подростка, менее всего заботились об интересах державы.
Используя мальчишеское пристрастие Петра II к охоте, они всячески поощряли его в этой страсти, не останавливали ни от пьянства, ни от разврата.
Долгорукие не понимали, что, влияя на Петра II так, они сами себе готовят еще более страшную участь, чем та, что досталась Меншикову…
1728 и 1729 годы…
Неприметные, не ознаменованные никакими великими событиями годы русской истории… И вместе с тем события этих лет хотя и через многие десятилетия, но очень приметно проявятся в истории, во многом определяя ход событий.
В 1728 году, за несколько дней до коронации тринадцатилетнего Петра II в Москве, родится Карл-Петер-Ульрих, внук двух непримиримых врагов – шведского короля Карла XII по отцу и русского императора Петра I по матери. Карлу-Петеру-Ульриху суждено будет стать русским императором Петром III. А в 1729 году в Померании, в семье коменданта прусской крепости, родится и его убийца – Софья-Августа-Фредерика, будущая русская императрица Екатерина Великая.
Но об этих событиях не ведали тогда в далекой России.
И Александр Данилович Меншиков, рубивший во льду могилу для своей дочери, не догадывался даже, что не в вечную мерзлоту прорубает могилу, а границу двух эпох.
Проглянуло солнце на ненастном небе, засияли слабосильные лучи в алмазных брызгах разлетающейся ледяной крошки, заполыхали драгоценными каменьями, завалившими могильную яму. Не удержал слезу бывший герцог Ижорский, бывший светлейший Римского и Российского государств князь, бывший генералиссимус, адмирал, кавалер… Старческая, скатилась она по морщинистой щеке, вспыхнула на мгновение и упала в вороха ледяного сияния.
– Марьюшка моя дорогая… – прошептал дрожащими губами князь. – Императрица моя горемычная!
Неизвестный художник XVIII в. Портрет Петра II
Не знал, не ведал светлейший князь, рубивший в березовской мерзлоте могилу, что и самого его похоронят в этом же льду, и в черном небе засияет над их могилами северное сияние…
Сполохи его, то тускнея, то разгораясь, побегут по небу, осеняя нерукотворной короной ледяные могилы. И сожмется сердце от немыслимо холодной и тоскливой красоты этой небесной короны у другой невесты Петра II – княжны Екатерины Алексеевны Долгоруковой. Здесь, среди холодных, дующих из голой тундры ветров, как и у Марии Меншиковой, завершится ее обручение с императором…
Впрочем, это произойдет лишь в 1730 году, когда уже устремится по темным ветвям генеалогических деревьев в поисках своего монарха Российская империя.
5
А пока еще не кончилось правление последнего прямого (по мужской линии) наследника династии Романовых…
Сквозь тронутые желтизной дубравы, сквозь полыхающие рощи, сквозь буреломистые чащобы, по просторным полям и по темным оврагам неслась, заливаясь веселым лаем собак, ревя рогами доезжачих, царская осень 1729 года.
Облетали с деревьев листья, раскисали тропинки, заросшие орешником и рябиной, сеялись осенние дожди, но ничто не могло остановить охотников.
Когда начинало темнеть и сумерки гасили золотое убранство подмосковного пейзажа, а в сыроватой полутьме только нищенски чавкала грязь под копытами лошадей, тогда разводили жаркие и высокие – до неба – костры, ставили шатры, и дивно, как в сказке, преображалась сиротливая лесная опушка. Повсюду толпились люди в ярких, расшитых золотом одеждах. В дрожащем, неровном свете завороженно вспыхивали драгоценные камни… Поверх присыпанной еловыми лапами сырой земли расстилались дорогие ковры, расставлялась серебряная и золотая посуда. Длинноногий, высохший за лето тринадцатилетний император подписывал в своем шатре указы, которые подавал ему молодой князь Иван Долгоруков. На глухих лесных опушках и вершились в ту осень государственные дела. Лошадьми и псиной пахло и от императора, и от его советника, который и сам был не намного старше Петра II.
– Сие – указ, каб подушных денег в работную пору не правили… – оглашал торжественно князь Иван. – А это указ о награждении полномочного министра Вашего Императорского Величества Саввы Владиславича Рагузинского, коий с китайскими министрами выгодный для Российской империи договор заключил, каб обе империи владели тем, чем владеют, и на будущие времена…
Князь Иван вытащил платок и, учтиво высморкавшись, добавил:
– В Петербурге находят, что надобно наградить графа, пожаловать тайным советником и кавалером ордена Александра Невского… А это приговор суда, рассмотревшего дело Змаевича, адмирала, коий был отдан под суд за воровство на галерной верфи, коей заведовал… К смертной казни его и майора Пасынкова приговорили…
Петр машинально окунул в чернильницу перо, чтобы подписать легший перед ним указ, но тут же уронил его и вскрикнул от боли.
Это князь Иван, нагнувшись, укусил его за ухо.
– Ты что?! – хватаясь за ухо, закричал император.
– Простите, ваше императорское величество! – улыбаясь, сказал князь Иван. – Я хотел просто показать вам, как больно бывает человеку, когда ему голову рубят.
– Дурак! – сказал император, поднимая перо с забрызганного чернилами указа. – Я тебя так вздую, что небось еще и позавидуешь тем, которым головы отрубают. Много ль украли они?
– Суд недостачу выявил – триста рублей и тысячу бревен…
– Куды им бревен столько? – потирая ухо, спросил император и тут же добавил: – Передай, что я казнь отменяю. Пускай в чине понизят до выслуги и пошлют куда подальше… Чего еще?
– Еще от Лопухина рапорт на ваше высочайшее имя. Жалуется, что флот исчезает вследствие вашего императорского величества удаления от него…
– При мне, што ль, корабли гнить не будут?! Пускай сами за кораблями лучше смотрят. А я, когда нужда потребует употребить корабли, то и пойду в море. А как дедушка, гулять на них – не намерен. Все, что ли?
– Еще от Остермана письмо, ваше императорское величество.
Нахмурившись, император взял послание своего воспитателя и вице-канцлера. Письмо было написано по-немецки, и князь Ванька не мог разобрать его.
Писал Андрей Иванович о своем худом здоровье, горевал, что его императорское величество совсем забросили учебу и как теперь нагонять, ему, больному, неведомо… Еще писал Андрей Иванович, что пришло донесение – в Березове померла от оспы Мария Александровна Меншикова. Бывшая невеста императора.
Нахмурился Петр II, прочитав письмо. О невесте своей он совершенно позабыл за эти годы. Но сейчас припомнилось, как сидели они рядом на концерте во дворце светлейшего князя, смотрели на танцующих карликов и Машка изо всех сил пыталась сохранить серьезность, а потом все-таки не выдержала и засмеялась… И так явственно припомнилась императору смеющаяся княжна, что стало грустно. Сколько ей лет нынче? Восемнадцать?
Не очень старой и померла…
– Барон-то чего пишет, ваше императорское величество? – заметив, как помрачнел государь, спросил Долгоруков. – Опять учебой нудит?
Император не ответил. Засунул письмо Остермана в карман и вышел из шатра к жарко и высоко шумящим посреди сгустившейся тьмы кострам.
Великая охота шла…
Бывали ли такие еще на Руси – неведомо. Пять медведей закололи. Пятнадцать рысей добыли. Пятьсот лисиц затравили. Зайцев – больше четырех тысяч.
Высоко вверх улетали искры. В темноте подмерзшего неба мелко и остро сверкали звезды. Шумно было у костров. Гремела музыка. Говорили здравицы. За здоровье его императорского величества осушали кубки, за удавшуюся охоту.
Невдалеке от императора в преображенском мундире сидела княжна Екатерина Долгорукова. Синие лосины плотно облегали ее красивые ноги, темные кудри рассыпались по эполетам. Тревожно и близко блестели глаза.
В.И. Суриков. Меншиков в Березове. 1883 г.
На этом и завершилась невиданная, грандиозная охота, устроенная для юного императора в тульских лесах осенью 1729 года.
Больше месяца длилась она…
9 ноября длинный караван прибыл в Москву.
Впереди шагали озябшие верблюды… Скрипели колеса телег, заваленных убитыми зайцами… Скакали всадники на дорогих конях, окруженные сворами собак. Более шести сотен борзых и гончих участвовали в охоте…
Молодой государь был хмур и задумчив. Устроившись в Лефортовском дворце, он раздарил всех собак и приказал убрать ружья.
6
Перемены, произошедшие в императоре, бросались в глаза любому. Без всякого принуждения Петр II вернулся к занятиям, сам теперь стремился вникнуть в государственные дела. Часто по ночам проводил совещания с Остерманом и другими членами Верховного тайного совета.
Все видели, что император как-то посерьезнел вдруг, повзрослел…
И никто не знал, что жизни ему остается всего три месяца.
19 ноября торжественно было объявлено, что император вступает в брак с дочерью князя Алексея Григорьевича – семнадцатилетней Екатериной Долгоруковой, а тринадцатого числа состоялось обручение, и Екатерину Алексеевну стали называть ее императорским высочеством…
Где-то между объявлением о помолвке и обручением в далеком Березове «приливом крови» умер светлейший князь Римского и Российского государств, герцог Ижорский, генералиссимус Александр Данилович Меншиков.
Похоронив в голубом льду вечной мерзлоты свою дочь, княжну Марию Александровну, Меншиков решил начать свою жизнь заново.
Выстроил церковь и ежедневно ходил туда молиться, исполняя обязанности дьячка. Жил он последние месяцы в посте и молитвах, беседуя с березовскими стариками о тщете мира сего да о подвигах святых мучеников. Через столетие, когда будет вскрыта могила опального князя, тело его найдут нетленным, и в Березове возникнет местный культ почитания князя…
Но это случится только через столетие.
Императору Петру II так и не суждено будет узнать о смерти человека, возведшего его на престол и столь сурово наказанного им…
7
6 января 1730 года состоялось торжественное водоосвящение на Москвереке. Фельдмаршал Василий Владимирович Долгоруков выстроил в каре войска. Приехал из Лефортовского дворца император и занял полковничье место.
Было холодно. Над крестом иордани клубился морозный пар.
Сидя в седле, император внимательно разглядывал собравшихся.
Весь двор здесь, все иностранные посланники… Всеми цветами радуги пестрели на белом снегу праздничные одеяния.
Кружилась голова… С трудом разглядел император в нарядной толпе свою невесту. Чудо как хороша семнадцатилетняя Катенька Долгорукова! Глаза сияли, щечки раскраснелись от мороза.
Опустил глаза император. Провел рукою в перчатке по гриве жеребца.
Кружилась голова. Жарко было на морозном воздухе.
Когда запели: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствование Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя…» – император почувствовал, что все тело покрылось липким потом, и его начало трясти…
С трудом доехал до Лефортова дворца и здесь едва смог спуститься с седла. Его сразу же уложили в постель, и он провалился в беспамятстве.
«Потом – оспа!»– услышал он сквозь полузабытье, и снова встало перед ним лицо смеющейся Маши Меншиковой, лежащей сейчас в голубом льду на берегу студеной северной реки…
Петр вздохнул. Он вспомнил, что от оспы и умерла Меншикова, а теперь наступил его черед.
Два с половиной года правления Петра II историки оценивают весьма сурово, забывая, что это были годы правления ребенка.
Между совершением важных государственных дел – а в эти годы был заключен Буринский договор с Китаем об установлении границ, разрешено старательство в Сибири, изданы указы о прекращении кабального холопства, отменены магистраты и восстановлена власть воевод на местах, восстановлено гетманство в Малороссии – император Петр II болел детскими болезнями: корью и оспой…
Он и умер, как ребенок, когда, простудившись на водосвятии и уже начав выздоравливать, 17 января 1730 года распахнул окно в своей комнате.
И последними его словами были:
«Запрягайте сани! Хочу ехать к сестре!», словно в последнее мгновение жизни пытался вернуться юный император в так и не прожитое им детство…
8
Добрый обычай завел в своем Отечестве первый русский император – Петр Великий…
В ночь, когда помирает государь, сходятся где-нибудь рядом сановники и до хрипоты, до биения крови в голове артачатся.
Решают – кому теперь сесть на троне. За каждым сановником сила стоит.
За этим – армия, за тем – гвардейские полки, за третьим – семья, за четвертым – роды знатные…
Одни так говорят, другие – иначе, и договориться между собою не могут, потому как, если слабину покажешь и уступишь – пощады не жди. В лучшем случае с властью доведется проститься, в худшем же… В худшем случае можно и с жизнью расстаться, а не только с чинами и богатствами…
И так теперь всякий раз было.
И после смерти Петра I спорили сильно, и когда Екатерина умерла, артачились.
Нынче тоже согласия не предвиделось.
В душном покойчике, рядом со спальней умершего императора, сидели князья Долгоруковы – Алексей Григорьевич да Василий Лукич, канцлер Головкин Гаврила Иванович, князь Дмитрий Михайлович Голицын. Остермана бы еще сюда – заседание Верховного тайного совета в полном составе получится. Но Андрей Иванович в заседание не пошел. От постели умершего не отходил – боялся, каб какого подложного завещания в постель не подсунули.
– Куды мне, иностранцу, русского царя выбирать? – сказал он. – Которого господа верховники выберут, тому и буду служить.
Так ведь и не пошел, хитрец такой. Зато пришел сибирский губернатор Михаил Владимирович Долгоруков и с ним оба фельдмаршала – Михаил Михайлович Голицын и Василий Владимирович Долгоруков.
Четверо Долгоруковых напротив двоих Голицыных сидели, а председательствовал ими граф Головкин.
Государя всея Руси избирали.
Разговор серьезный шел, степенно мнениями обменивались.
– Катьку нашу надобно императрицей изделать… – говорил Алексей Григорьевич Долгоруков. – Вечно достойныя памяти государь император ей ведь престол отказал, – и, вытащив из кармана подложное завещание императора, утер рукавом заслезившиеся глаза. – Вишь, Божий Промысл-то урядил как. Ежели император – Петр, а коли императрица – Екатерина…
– Полно народ-то смешить! – сказал на это князь Дмитрий Михайлович. – Вся Москва уже знает, что Ванька ваш заместо императора подписи наловчился ставить.
Долгоруковых в заседании том было вдвое больше, чем Голицыных. Если вместе закричать, всех бы заглушили. Но поостереглись кричать. Шумно во дворце было. В такие ночи завсегда много народу к царскому дворцу жмется, но нынче, не в пример прежнему, особенно тревожно было.
На свадьбу императора и княжны Екатерины Долгоруковой со всей России генералы и губернаторы, знатные фамилии и простое шляхетство съехались.
На свадьбу ехали, а попали на похороны.
Как в русской сказке про дурака, перепутали.
И хотя сама судьба такой конфуз устроила, маленько каждый себя дураком ощущал. Шибко уж похоже на сказку получалось. А когда люди в таком настроении находятся, еще сильней их тревожить – боязно. Всякое могут учинить в отчаянности…
Потому и остереглись шуметь Долгоруковы. Только крякнул князь Василий Лукич:
Государственный канцлер Г.И. Головкин. Портрет работы И.Н. Никитина. 1720-е гг.
– Невесть что говоришь, Дмитрий Михайлович! Нешто бы мы пошли на такое?
Ему не ответили. Тихо стало в душноватом покойчике. Шурша, сыпалась пудра с париков. Из глубины дворца неясный шум доносился. То ли молились где-то, то ли бунтовать собирались. Узнать бы сходить, да нельзя. Никак нельзя до окончания выборов из покойчика отлучаться.
– Я вот чего, господа верховники, думаю, – заговорил князь Голицын. – Бог, наказуя Россию за ее безмерные грехи, наипаче же за усвоение чужеземных пороков, отнял у нее государя, на коем покоилась вся ее надежда.
Это верно князь Дмитрий Михайлович сказал. За великие грехи пресечено мужское потомство Петра Великого…
Кивали верховники.
А Голицын неспешно продолжал речь, рассуждая: дескать, дочери вечно достойныя памяти императора Петра Великого от первого брака с Екатериной и думать негоже…
Кто такая императрица Екатерина была по происхождению? Ливонская крестьянка и солдатская шлюха! Ежели б не злодей Меншиков, который сам из подлого сословия происходил, и императрицей бы ей не бывать, и супругой императора тоже!
– Верно! – сказал Василий Владимирович Долгоруков. – Коли уж не Катьку нашу, тогда Евдокию-царицу на трон сажать надо.
– Несурьезно это, фельдмаршал… – покачал головой Голицын. – Я воздаю полную дань достоинствам вдовствующей царицы, но она только вдова государя. А есть у нас и дочери царя Ивана. Мы все знаем Анну Ивановну, герцогиню Курляндскую… Говорят, у нее характер тяжелый, но в Курляндии неудовольствий на нее нет!
И столь неожиданным было предложение Голицына, что как-то растерялись все. Совсем не думано было про Анну Иоанновну…
– Дмитрий Михайлович! – пораженно проговорил фельдмаршал Василий Владимирович Долгоруков. – Твои помыслы исходят от Бога, и родились они в сердце человека, любящего свою Отчизну. Да благословит тебя Бог! Виват нашей императрице Анне Иоанновне!
Тут и Василий Лукич Долгоруков, припомнив, что в прежние времена он в добрых отношениях с Анной Иоанновной находился, спохватился и тоже «виват» закричал.
И Остерман тут как тут оказался, начал ломиться в двери.
– Кого выбрали-то? – спросил.
– Анну Иоанновну…
– Виват! – закричал Андрей Иванович.
– Виват! – крикнули уже все хором. Только князь Дмитрий Михайлович молчал.
– А ты чего? – спросил у него брат, фельдмаршал. – Сам ведь и предлагал… И тут снова Дмитрий Михайлович всех удивил.
– Воля ваша, господа верховники, кого изволите… – сказал он в наступившей тишине. – А только надобно и себя полегчить!
– Чего? – не поверив своим ушам, переспросил канцлер Гаврила Иванович Головкин. – Чего это сказал ты такое мудреное?
– Полегчить себя надо! – хладнокровно повторил Голицын. – Воли себе прибавить.
Мудр был Дмитрий Михайлович Голицын. Все книги прочитал, пока губернатором сидел в Киеве. Вот и говори, что пустое дело – книжки читать… Ишь ведь до чего додумался! Мудро, однако… А главное – так заманчиво, что и думать о таком страшно.
– Ишь ты, – покачал головой Василий Лукич. – Да хоть и прибавим воли себе, только удержим ли волю эту?
– А чего же не удержим? – задорно спросил Голицын. – Я так полагаю, что надобно нам к ее величеству пункты написать.
И, не давая опомниться ошарашенным сотоварищам, кликнул правителя дел Верховного тайного совета Василия Петровича Степанова.
– Садись там, чернильница! – сказал Голицын, кивая на маленький столик. – Пиши, что тебе говорить будем.
Тут всех сразу прорвало.
– Не надо, чтоб нам головы секли!
– И имущества пускай не лишают без суда справедливого!
– И войну заводить, чтоб с общего совета…
– Да что писать-то, ваши сиятельства?! – в отчаянии воскликнул Степанов. – Про головы али про войну сначала?
– Экий ты дурак, братец! – вздохнул Дмитрий Михайлович. – Слухай, что Василий Лукич диктовать будет, а Андрей Иванович штилем правильным обрабатывать…
– Нихт! Нихт! – закричал Остерман. – Дело это так важное, что за иноземством своим я вступать в него не смею!
– Полно тебе, Андрей Иванович! – укорил его Василий Лукич. – Вицеканцлерскую должность тебе иноземство справлять не мешает, так и штилю тоже от него порухи не будет.
Остерман поупирался еще, но деваться некуда было. Наконец заскрипело перо Степанова, записывая:
«Чрез сие наикрепчайше обещаемся, что наинаглавнейшее мое попечение и старание будет не токмо о самодержавии, но и о крайнем и всевозможном распространении православныя нашея веры греческого исповедания; тако же по принятии короны российской в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять; еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный Тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного согласия:
1. Ни с кем войны не всчинять;
2. Миру не заключать;
3. Верных наших подданных никакими податями не отягощать;
4. В знатные чины, как в стацкие, так и в военные сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, а гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного Тайного совета».
Остерман замолчал, задумавшись. Перестало скрипеть и перо Степанова. Слышны были только шаги в коридорах Лефортовского дворца.
– Каб головы-то не секли, не записали еще? – спросил князь Алексей Григорьевич Долгоруков.
– Да-да! – вспомнил Остерман. – Пиши: «У шляхтества живот, имения и чести без суда не отнимать».
– И чтоб вотчины и деревни, – добавил Василий Лукич, – не жаловать; в придворные чины как русских, так и иноземцев не производить…
Записали и это.
Подумав, запретили Анне Иоанновне и государственные доходы в расход употреблять и при этом наказали всех в «неотменной своей милости содержать».
Кажется, ничего не забыли…
Теперь подписывать письмо надобно было, решили, что подпишут его только шестеро прежних верховников. Первым перо протянули канцлеру Головкину. Зажмурил глаза князь и подписал. Остерман снова отнекиваться стал, но и его заставили подпись поставить.
«Кондиции» готовы были.
Перенося русский престол из петровской ветви семьи Романовых в ивановскую ветвь, верховники рассчитывали ограничить самодержавие монарха, и им это вполне удалось.
Везти «Кондиции» в Митаву Василий Лукич Долгоруков и Михаил Михайлович Голицын вызвались. Еще, по настоянию канцлера, припрягли к ним родственника Головкина – генерала Леонтьева. Остерман своих родственников включать в делегацию не просил, за неимением таковых в России…
Только к утру и управились с государственными делами. Потирая кулаком слипающиеся глаза, отправился князь Дмитрий Михайлович Голицын в залу, где собрались сенаторы, члены Синода и генералы.
– Надобно сегодня торжественное молебствие сотворить в честь новой матушки-императрицы! – сказал Феофан Прокопович, когда было объявлено об избрании Анны Иоанновны.
– Погодь маленько! – остудил его Голицын.
– Чего годить-то, ваше сиятельство?
– Отдохнуть надо малость, – зевая, ответил князь.
9
Так и закончилась эта ночь, 19 января 1730 года.
Историческая ночь…
В два часа, крикнув: «Запрягайте сани! Хочу ехать к сестре!» – отбыл в неведомую страну последний по мужской линии наследник династии Романовых, внук Петра Великого, император Петр II…
А к утру пало и русское самодержавие…
Казалось тогда, что пало оно навсегда!
И это не было чьим-то субъективным ощущением.
По сути, в ту ночь пресеклась династия Романовых…
Те цари, которым предстоит править в России далее – по женской линии титулы не передаются! – не совсем Романовы…
Или же совсем не Романовы…
Степень их законности определялась даже и не степенью родства с династией или наличием романовской крови, а отношением к ним гвардейских офицеров. И легитимными эти государи были ровно настолько, насколько легитимны штыки поддержавших их полков.
Первой на русский трон была приглашена дочь царя Иоанна Алексеевича, выданная в 1710 году за Фридриха-Вильгельма, герцога Курляндского…
Она «Кондиции» подписала, но уже 25 февраля получила челобитную от дворянства с просьбой «подписанные вашего величества рукою пункты уничтожить» и – вот она предтеча гвардейских переворотов! – исполнила просьбу дворян.
Попытка верховников ограничить самодержавие оказалась сорванной.
4 марта, к великой радости дворян, Верховный тайный совет был распущен, а русские верховники, составившие «Кондиции», или казнены, или сосланы в Сибирь. Вместо Верховного совета учредили кабинет, и фактическим правителем России сделался любовник императрицы – Бирон.
После смерти императора Петра II, загубленного корыстными и тщеславными «птенцами гнезда Петрова», Россия вступила в мрачную эпоху бироновщины…
Глава третья Конституционная попытка
Говорят, что творец первой русской конституции, князь Дмитрий Михайлович Голицын, скажет потом: «Пир был готов, но званые оказались недостойными его; я знаю, что паду жертвой неудачи этого дела; так и быть, пострадаю за отечество; мне уже и без того остается недолго жить; но те, кто заставляет меня плакать, будут плакать дольше моего».
Поражает в этих словах князя соединение почти пророческого предвидения с удивительной близорукостью по отношению к событиям, участником которых был сам.
Насчет горьких слез, которые предстоит пролить и тем, кто препятствовал, и тем, кто помогал Анне Иоанновне установить самодержавное правление, угадано верно.
А вот с утверждением о готовности пира можно и поспорить.
За те тридцать пять дней, что жила Российская империя без императора, никакого конституционного пира приготовить не удалось.
И продукты требовались для этого другие, и повара…
Поскольку заблуждение князя Д.М. Голицына и сейчас еще разделяют многие историки, напомним, как развивались события, когда под утро составлен был черновой вариант «Кондиций»…
В десять часов утра 19 января 1730 года в Кремлевском дворце собрался Синод, Сенат и генералитет. На этом собрании князь Дмитрий Михайлович Голицын объявил об избрании на престол Анны Иоанновны.
1
Средняя дочь царя Иоанна Алексеевича и Прасковьи Федоровны Салтыковой, будущая императрица Анна Иоанновна родилась 28 января 1693 года.
Ей было всего три года, когда умер отец, и ее с матерью и сестрами взял под покровительство дядя – Петр I.
Для житья царице с дочерями был отведен Измайловский дворец. «За царевнами, – как пишет М.И. Семевский, – ухаживало множество мамушек и нянек; они гуляли с ними в тенистых садах, посещали хозяйственные заведения, стеклянный завод, славный своими изделиями; молились по церквам, забавлялись на прудах, которых насчитывалось до двадцати. Царевны пускали туда щук и стерлядей с золотыми сережками и сзывали рыб на корм по колокольчику. Подрастая, они привыкали в теремах своих к шитью и вышиванию шелком и золотом, но рукоделье не далось им; по крайней мере, нет известий, чтоб какая-нибудь из трех сестер сделалась искусницей в этом деле».
Императрица Анна Иоанновна. Портрет работы Г. Бухгольца. Сер. XVIII в.
Эта идиллическая жизнь соседствовала с правлением Петра I, многие события которого происходили в непосредственной близости от вдовствующего семейства, и царице Прасковье Федоровне, набожной по воспитанию, пришлось теперь делить время между церковными службами и театральными зрелищами, паломничествами и петровскими мистериями.
Казни стрельцов и опала, обрушившаяся на царских сестер из милославской ветви семьи, сделали царицу Прасковью осторожною, почти боязливой. Чтобы угодить гневливому деверю, она прервала отношения с опальными родственницами. Имея возможность навещать заключенную царевну Софью, Прасковья старательно уклонялась от этих свиданий.
Необходимость прилаживаться, угождать, обманывать повлияла и на будущую императрицу Анну. Детство ее, как отмечают исследователи, прошло в условиях, при которых невозможно окрепнуть воле, нельзя выработаться характеру.
Обучалась она, кажется, только русской грамоте и немецкому языку. Учитель французского языка и танцев оказался негодным преподавателем, да к тому же и французского языка, похоже, не знал. Ничего хорошего из его уроков не вышло.
Зато немецкий язык Анне Иоанновне преподавал Иоганн-Христофор-Дитрих Остерман, старший брат будущего кабинет-министра Российской империи. Был этот Остерман, как утверждают современники, величайшим глупцом, что не мешало ему считать себя человеком с большими способностями, вследствие чего он любил говорить загадками…
Одна из загадок была предложена этим учителем самой русской истории… Это произошло, когда Иоганн-Христофор-Дитрих представил царице Прасковье своего умного младшего брата.
– Как тебя зовут? – спросила Прасковья.
– Генрих! – отвечал бойкий немец. – Сын Ивана.
– Коли так… – сказала царица, – ты и должен называться Андреем Ивановичем.
Так и был «крещен» человек, которому вскоре предстоит стать кабинет-министром.
Знакомство с Остерманами, пожалуй, самое ценное, что вынесла будущая императрица из своего обучения.
Впрочем, тогда она этого еще не знала.
2
Семнадцати лет от роду, Анна Иоанновна была выдана замуж за своего сверстника, племянника прусского короля, курляндского герцога Фридриха-Вильгельма.
Об этом браке Петр I договорился с прусским королем в Мариенвердере еще в 1709 году. 10 июня 1710 года был заключен брачный договор, а 31 октября в Петербурге сыграли свадьбу.
Обряд венчания был совершен в полотняной походной церкви, поставленной во дворце князя Меншикова. Невеста была в белой бархатной робе, с золотыми городками и длинной мантией из золотого бархата, подбитой горностаем. На голове ее красовалась королевская корона. Жених был в белом, затканном золотом кафтане.
Здесь же во дворце был устроен и обед.
Новобрачные сидели за свадебным столом под лавровыми венками… Тост сменялся тостом, и каждый сопровождался залпом пушек на плацу и на царской яхте «Лизета», стоящей на Неве под окнами дворца. Петр I был очень весел на этой свадьбе; в третьем часу пополуночи, когда прекратился бал, сам повел в спальню молодого герцога.
На другой день Петр угостил молодых громадными пирогами. Когда пироги вскрыли, изнутри выскочили две разряженные карлицы. Петр отнес их на свадебный стол, и здесь карлицы исполнили менуэт.
Снова произносились тосты, снова палили пушки, а когда стемнело, на Неве сожгли фейерверк. Огненной потехой распоряжался сам государь и – зловещее предзнаменование! – едва не поплатился за неосторожное обращение с огнем.
Несколько недель Петр I развлекал Фридриха то фейерверками, то пальбой, то катанием в обществе дам, то пьянками. Герцог тут обнаружил несомненный талант – пил до невозможности, и 10 декабря 1710 года едва не погиб – наводнение чуть было не унесло дом, где лежал в пьяном беспамятстве курляндский жених.
Надо сказать, что Курляндия была тогда театром военных действий, и приобретение ее всего за 200 тысяч рублей приданого[102] можно было считать выгодным предприятием…
Петру I редко удавались политические комбинации. Брак племянницы стал исключением из этого правила, и этим, по-видимому, и объяснялось хорошее настроение и столь необыкновенное радушие императора.
Петр не знал, что в дальнейшем России за этот брак придется доплатить еще и десятью годами бироновщины…
3
Не принес счастья этот брак и Анне Иоанновне…
Когда в январе закончились, растянувшиеся на два месяца, свадебные торжества и молодым дозволили отбыть в Митаву, они смогли проехать всего сорок верст.
9 января юный герцог умер на мызе Дудергоф в сорока верстах от Петербурга. Считается, что он не рассчитал сил в петербургских баталиях с Бахусом…
Заливаясь слезами, семнадцатилетняя вдова вернулась к матери, но Петр I потребовал, чтобы она ехала в Митаву и жила там, окружив себя немцами.
«Государыня моя тетушка и матушка, царица Екатерина Алексеевна! – писала юная вдова из Митавы. – Сего числа приехал сюда из Петербурга посланный человек, а письма ко мне от государыни моей матушки не привез никакого… Прошу, матушка моя, на меня не прогневаться, что я Ваше Величество утруждаю моими письмами. Ей, ей, матушка моя, дорогая тетушка! кроме Бога и дядюшки и тебя, свет мой, не имею на свете радости в моих печалях».
«Государыня моя тетушка и матушка, царица Екатерина Алексеевна!.. Вашего величества за милостивое писание, свет мой, государыня тетушка, всепокорно благодарствую, в котором изволили меня милостиво обнадежить. Во всем отдаю себя в милостивую вашу, государыня матушка – тетушка, волю, чтоб больше от них не была опечалена, и всепокорно прошу, матушка моя, дорогая тетушка, нас сирых содержать не в отменной вашей милостивой материнской протекции»…
«Государыня моя тетушка, матушка царица Екатерина Алексеевна!.. Пред сим просила я у вашего величества, государыня тетушка – матушка, что посол польский ищет у министров вашего величества, чтоб меня отселя отозвать и впредь сюда не ездить. Того ради паки прошу у вашего величества, государыня матушка – тетушка, показать ко мне вашего величества высокую милость и попросить милости милостиваго государя дядюшки и батюшки, чтоб до такой печали меня допустить не приказал. А я здесь больше ни от кого ничего не требовала и не требую, как питаюсь по вашей милости от данных мне деревень; и драгун больше роты я здесь не требую, которых на своем провианте держать буду. Вашему величеству, государыня тетушка-матушка, известно, какие мне там есть злодеи, которые меня до смерти сокрушить могут. Прошу, матушка моя, слезно милости до того меня бедную не допустить».
«Всемилостивейшая государыня матушка-тетушка! Вашего величества писание получила о кончине государыни матушки моей, и что я не видала ея, государыни матушки, кончины, которая печаль весьма меня болезненно опечалила, по только моего разсуждения в надежде на милость государя батюшки – дядюшки и вашего величества государыни матушки-тетушки. И всепокорно прошу вашего величества государыни матушки-тетушки не оставить меня в прежней вашего величества неотменной милости, в которой милости остаюся с надеждою до моей смерти».
«Всемилостивейший государь батюшка-дядюшка! – писала она Петру I. – Известно вашему величеству, что я в Митаву с собою ничего не привезла, а в Митаве ничего ж не получила и стояла в пустом мещанском дворе; того ради что надлежит в хоромы, до двора, поварни, кареты и лошади и прочее, все покупано и делано вновь.
А приход мой с данных мне в 1716 году деревень деньгами и припасами – всего 12 680 талеров; из того числа в расходе в год по самой крайней нужде к столу, поварне, конюшне, на жалование и на либирею (ливрею —?) служителям, и на содержание драгунской роты – всего 12 254 талера, а в остатке только 426 талеров.
И таким остатком как себя платьем, бельем, кружевами и по возможности алмазами и серебром, лошадьми, так и прочим в новом и пустом дворе, не только по моей чести, но и против прежних курляндских вдовствующих герцогинь – весьма содержать себя не могу. Также и партикулярные шляхетския жены ювели и прочие уборы имеют неубогие, из чего мне в здешних краях не безподозрительно есть.
И хотя я по милости вашего величества пожалованными мне в прошлом 1721 году деньгами и управила некоторые самые нужные домовые и на себя уборы; однако еще имею на себе долгу за крест и складень бриллиантовый, за серебро и за убор камор и за нынешнее черное платье 10 000 талеров, которых мне ни по которому образу заплатить невозможно. И впредь дня всегдашних нужных потреб принуждена в долг больше входить, а не имея чем платить, и кредиту нигде не буду иметь.
А ныне есть в Курляндии выкупныя ампты, за которыя из казны вашего величества заплачено 87 370 талеров, которыя по контрактам отданы от 1722 года июля месяца в аренду за 14 612 талеров в год и имеют окупиться в шесть лет.
Я всепокорнейше прошу Ваше Величество сотворить со мною милость: на оплату вышеписанных долгов и на исправление домовых нужд пожаловать вышеписанныя выкупныя ампты мне в диспозицию на десять лет, в которые годы я в казну вашего величества заплачу все выданныя за них деньги погодно; а мне будет на вышеписанныя мои нужды оставаться 5875 талеров на год».
Увы…
И эти письма не поясняют, зачем Петру I надобно было поселять племянницу в Митаве и окружать ее немцами. Известно, что Петр I планировал перевести в Митаву и царицу Прасковью, но зачем надо было ему размещать там семью покойного брата, не объяснил, и это до сих пор остается загадкой, как, например, и посольство к пиратам Мадагаскара, которое он приказал снарядить незадолго до своей кончины.
Хотя если вспомнить об отношении Петра I к русским обычаям, к русскому характеру, к русской культуре, хотя если вспомнить, что, не любя все русское, Петр I и на немцев, приглашенных на службу, не вполне мог положиться, то становится понятно, что ему хотелось обзавестись своими, родными немцами… Решение Петра I вырастить из молоденькой племянницы-вдовы немку вполне вписывалось в его проекты.
Логика эта была безумной, но столько сил и энергии вкладывал Петр I в свои проекты, что иногда и оживали франкенштейны его больных фантазий…
Анна Иоанновна повеление дяди исполнила, и два десятка лет прожила в Митаве, утешаясь в объятиях Михаила Бестужева-Рюмина, назначенного Петром I гофмейстером к ее двору.
Как утверждают историки, ее ум и сердце не были облагорожены воспитанием и образованием и с молодых лет не получили должного направления… Митавский разврат окончательно изуродовал характер будущей императрицы.
Слабым лучиком в этой тусклой и безрадостной жизни вспыхнули надежды на замужество с Морицем, сыном польского короля Августа II.
Граф Мориц Саксонский. Портрет работы М.К. де ла Тура. 1748 г.
Анна Иоанновна успела даже влюбилась в графа Саксонского, однако светлейшему князю Меншикову захотелось прибрать к рукам герцогство Курляндское, и он сам надумал жениться на бедной вдове. Планам этим не суждено было сбыться, но и намечавшийся брак Анны Иоанновны с графом Морицем тоже оказался расстроенным.
Анне Иоанновне шел уже тридцать четвертый год, и теперь ей оставалось искать утешение только у своего нового фаворита – Эрнста Иоанна Бирона.
Полуголая, нечесаная, она валялась целыми днями на медвежьих шкурах. Говорили, что вместо воды для умывания она смазывает себя растопленным маслом…
4
И вот теперь эта женщина по решению верховников должна была занять русский престол…
Сообщение ошарашило сановников. Во-первых, странно было для «птенцов гнезда Петрова», что русский престол переносится в старшую ветвь потомков царя Иоанна, а во-вторых, о кандидатуре Анны Иоанновны на русский престол всерьез никто не думал…
С этой новостью собрание, не заметив, проглотило бы известие и об ограничении самодержавной власти, но о «Кондициях» Дмитрий Михайлович Голицын не сказал ни слова.
И не мог сказать, потому что, вводя ограничения самодержавной власти, верховники планировали обмануть и синодалов, и сенаторов, и генералов, объявив им, что «Кондиции» дарованы самой императрицей.
Собирались они обмануть и императрицу, которой заявили, что «Кондиции» – солидарное требования всего народа России… «Сего настоящего февраля 2-го дня получили мы с нашею и всего общества неописанною радостию ваше милостивейшее к нам письмо от 28-го минувшего генваря и сочиненные в общую пользу государственные пункты, – сообщили они в депеше Анне Иоанновне, – и того же дня оные при собрании Синоду, Сенату и генералитету оригинально объявлены и прочтены и подписаны от всех».
Эти пункты уже повезли в Митаву представители верховников – Василий Лукич Долгоруков, Михаил Михайлович Голицын и генерал Леонтьев. При этом предусмотрительно были предприняты меры, чтобы никаких известий помимо тех, которые привезет из Москвы делегация верховников, не попало в Митаву – на дорогах расставили заставы.
Некоторые исследователи полагают, что верховники сомневались в способностях Сената и Синода воспринять конституционные идеи, и называют это неверие ошибкой Голицына.
Насчет способностей – вопрос непростой, но то, что Голицын никакой ошибки не совершил, очевидно.
Какая тут может быть ошибка?
Ведь если даже мы и называем «Кондиции» – конституцией, то все равно необходимо уточнить, что это тайная конституция.
Тайная не только по способу введения, но и по сути.
Все пункты «Кондиций» были известны только самим верховникам. И это не случайный просчет, а та основа, которую закладывали они в свою реформу. «Кондиции» должны были закрепить власть в стране в их руках, и никакая другая конституция, как это доказала потом борьба верховников с шляхетскими инициативами, им была не нужна…
Это подтвердилось 2 февраля, когда Василий Никитич Татищев составит предложение распустить Верховный совет, и под этим заявлением поставят свои подписи 249 офицеров.
Это была реальная сила. Большинство офицеров гвардии, не отвергая в принципе ограничения самодержавия, изначально готовы были укреплять его, пока самодержавие укрепляет в империи крепостническую власть дворянства.
Под давлением этого крыла верховникам следовало пойти на уступки, но какой компромисс возможен на основе той лжи и тайны, что и составляли существо предлагаемой ими тайной конституции?
Провозглашая ограничение самодержавия, «Кондиции» ограничивали проявления тирании только по отношению к верховникам и открывали простор для их собственной тирании, делая власть Верховного тайного совета беспредельной.
На провозглашаемый вариант могли купиться либеральные исследователи типа П.Н. Милюкова, но современники не хуже реформаторов знали, какой вариант был бы осуществлен, и понимали, что за стремлением верховников «себя полегчить» стоит лишь стремление вывести из-под контроля собственную власть, и более ничего.
Борьбу с «кондиционной» конституцией верховников защитники самодержавия повели в полном соответствии с обычаями эпохи. Немедленно были снаряжены гонцы в Митаву, чтобы раскрыть обман, а в самой Москве выходец из иезуитов, архиепископ Феофан Прокопович, который, по словам Г. Флоровского, «всегда писал точно проданным пером», развернул активную агитационную кампанию по дискредитации верховников…
Но главная опасность исходила не от них, а от «крестника» царицы Прасковьи, Андрея Ивановича Остермана.
Верховники принудили его подписаться под «Кондициями» и, сделав его своим соучастником, как бы и позабыли о старинном знакомстве Андрея Ивановича с будущей императрицей.
А это было весьма неосмотрительно. Великий австрийский патриот Андрей Иванович Остерман совершенно справедливо рассчитал, что ограничение самодержавия Романовых не послужит укреплению австрийского влияния в России, а, напротив, может обернуться его, Остермана, притеснением… Поэтому, едва ли не сразу после оглашения известия об избрании на престол Анны Иоанновны, он и возглавил оппозиционную реформаторам партию защитников «самодержавия». И именно ему в результате и оказались верховники обязаны крушением своих реформаторских планов.
В отличие от снаряженных оппозиционерами русских гонцов (полковник П.С. Сумароков), немецкие вести Остермана благополучно достигли Митавы, и хотя Анна Иоанновна уже подписала «Кондиции», она уяснила, что верховники блефуют и на самом деле она избрана на царство без каких-либо ограничений своей власти.
Это и определило дальнейший ход событий…
5
Между тем поначалу верховники торжествовали победу.
1 февраля в Москву вернулся генерал Леонтьев. Он привез из Митавы подписанные Анной Иоанновной «Кондиции» и закованного в цепи гонца оппозиционеров полковника П.С. Сумарокова, которого удалось перехватить еще до его свидания с императрицей.
Все шло по плану, и 2 февраля верховники собрали Сенат, Синод и генералитет, чтобы утвердить «Кондиции».
Тут произошел первый сбой – предложенный Верховным советом протокол так и остался неподписанным.
В этот же день, вечером, в доме сенатора Василия Яковлевича Новосильцева прошло собрание шляхетства, на котором Василий Никитич Татищев предложил проект, по которому Верховный совет должен был быть распущен, ибо он действовал, скрывая свои планы, от Синода, Сената и генералитета.
«А понеже, что они закон самовольно себе похитили… нам должно и необходимо нужно с прилежностью рассмотреть и потому представить, что к пользе государство надлежит, и оное свое право защищать по крайней возможности, не давая тому закоснеть, а паче опасаться, что они, если видя нас в оплошности, на больший беспорядок не дерзнули».
Однако этот демарш не остановил реформаторов.
Решив тайно ввести свою конституцию, они тайно решили, что конституция уже введена.
«Сего настоящего февраля 2-го дня получили мы с нашею и всего общества неописанною радостию ваше милостивейшее к нам письмо от 28-го минувшего генваря и сочиненные в общую пользу государственные пункты… – сообщили они в депеше Анне Иоанновне, – и того же дня оные при собрании Синоду, Сенату и генералитету оригинально объявлены и прочтены и подписаны от всех».
Параллельно с этим верховники провели аресты оппозиционеров, на которых показал взятый на пытку полковник П.С. Сумароков.
По справедливому замечанию В.О. Ключевского, новая императрица привезла в Россию только злой и малообразованный ум да ожесточенную жажду запоздалых удовольствий и грубых развлечений…
Она не способна была – и на этом и строился расчет князя Дмитрия Михайловича Голицына! – самостоятельно вести борьбу за власть. И для того и опекал императрицу Василий Лукич Долгорукий, чтобы не допустить к ней нежелательных советников.
Но тут верховники просчитались. Андрей Иванович Остерман переиграл своих коллег по Верховному совету и сумел установить связь с государыней по дамской линии. Направляемая этим опытным политиканом, Анна Иоанновна и совершила свои первые шаги в борьбе за власть.
Когда Преображенский полк и кавалергарды явились приветствовать новую императрицу, она объявила себя полковником преображенцев и капитаном кавалергардов. Это было нарушением прямо оговоренного в «Кондициях» пункта, по которому Анна Иоанновна не могла назначать начальствующих в войске лиц, но верховники не дерзнули принять вызов.
И вот 14 февраля 1730 года министры, сенаторы, представители генералитета и дворянства прибыли во Всесвятское, чтобы представиться новой императрице.
«Благочестивая и всемилостивейшая государыня! – обратился к Анне Иоанновне князь Дмитрий Михайлович Голицын. – Мы – всенижайшие и верные подданные Вашего Величества, члены российского Верховного совета, вместе с генералитетом и российским шляхетством, признавая Тебя источником славы и величия России, – являемся вручить Тебе Твой орден Святого Андрея, первейший и самый почетный, а также и орден Святого Александра Невского, установленный императором Петром I по случаю славного мира с могущественным государством шведским, дабы Ты своевременно носила каждый из них и жаловала бы ими тех, кого признаешь достойными»…
– Ах да, – сказала Анна Иоанновна. – Я забыла надеть их!
И непонятно было, то ли по глупости она сказала так, то ли хотела показать, насколько мало нуждается в милостях верховников.
– Мы благодарим Тебя за то, что Ты соблаговолила принять наше избрание Твоей особы Всемилостивейшей императрицей для царствования над нами… – с нажимом сказал Голицын, и в его словах зазвучали угрожающие нотки. – Благодарим Тебя за то, что Ты удостоила принять из наших рук корону и возвратиться в отечество; с не меньшей признательностью благодарим мы Тебя и за то, что Ты соизволила подписать кондиции, которые нашим именем предложили Тебе наши депутаты на славу Тебе и на благо Твоему народу.
Дмитрий Михайлович Голицын умолк, наступила тишина, все ждали ответа императрицы. Рослая и тучная, с мужеподобным лицом, стояла она посреди зала. Отвергнет она претензии Голицына или признает их? От этого теперь зависело всё…
Анна Иоанновна поступила, как присоветовал Остерман.
– Дмитрий Михайлович и вы, прочие господа из генералитета и шляхетства! – сказала она. – Да будет вам известно, что я смотрю на избрание меня вами Вашей Императрицей как на выражение преданности, которую вы имеете ко мне лично и к памяти моего покойного родителя.
Это был мастерский ход.
Напомнив, что она является дочерью старшего брата Петра I, Анна Иоанновна превращала свое избрание в единственно возможный по закону акт. Она занимала трон как представительница старшей ветви царского дома. Не бедная курляндская вдова, облагодетельствованная верховниками, стояла сейчас перед министрами, сенаторами и генералами, а государыня более законная, чем Екатерина I и даже Петр II.
– Я постараюсь поступать так, что все будут мною довольны… – продолжала свою речь императрица. – Согласно вашему желанию я подписала в Митаве кондиции, о которых упомянул ты, Дмитрий Михайлович, и вы можете быть убеждены, что я их свято буду хранить до конца моей жизни в надежде, в которой я и ныне пребываю, что и вы никогда не преступите границ вашего долга и верности в отношении меня и отечества, коего благо должно составлять единственную цель наших забот и трудов.
Этими словами императрица не только отвергала претензии верховников на ее благодарность как «бедной вдовы», но и прямо угрожала им. Впервые открыто было объявлено, что, вопреки прежним утверждениям верховников, «Кондиции», которые подписала она, подписаны согласно их требованию.
На следующий день, охраняемая кавалергардами, капитаном которых она объявила себя, Анна Иоанновна въехала в Москву.
Как утверждали современники, она и выглядела уже иначе, чем по прибытии из Митавы. Изящнее сделались руки, прелестнее глаза, величественнее фигура. Красивой Анну Иоанновну пока не решались назвать, но уже многие были очарованы ею…
6
Верховники рассчитывали ввести в России конституцию тайно. Реальная власть тоже утекла из их рук как-то непонятно и тайно для них.
18 февраля Верховный тайный совет обсудил и утвердил форму присяги новой государыне. В текст («Кондиции» еще действовали) включили формулу о верности государыне и Верховному тайному совету, но, когда в день присяги, 20 февраля, Феофан Прокопович потребовал, чтобы ему дали текст для предварительного ознакомления, оказалось, что эта формула, неведомо когда, изменилась и упоминания Совета там нет…
Любопытно, что 20 февраля гвардейские полки к присяге Анне Иоанновне приводили, окончательно подрывая свою власть, сами реформаторы, командиры этих полков, фельдмаршалы Долгоруков и Голицын…
Может быть, этого они и не стали бы делать, но положение усугублялось цейтнотом, в который попали верховники.
Ну а через пять дней наступил финал.
25 февраля 1730 года во дворце собрались представители трех партий: верховники-реформаторы; шляхетские конституционалисты, поддерживавшие ограничение самодержавия, но выступавшие против Верховного тайного совета; и самодержавники во главе с Остерманом, поддерживаемые офицерами гвардии.
Андрею Ивановичу Остерману накануне удалось провести блистательную интригу. Напугав конституционалистов-шляхтичей арестами, которые якобы собираются провести верховники, он привлек их на сторону своей партии…
Н.И. Костомаров так описывает сцену краха конституционных надежд…
Утром 25 февраля явилась во дворец толпа шляхетства. По одним известиям, число явившихся простиралось до восьмисот человек, по другим – до ста пятидесяти. На челе их был князь Алексей Михайлович Черкасский.
Он[103] подал государыне челобитную, в которой изъявлялась благодарность за высокую милость ко всему государству, выраженную в подписанных ею пунктах, а далее сообщалось, что «в некоторых обстоятельствах тех пунктов находятся сумнительства такие, что большая часть народа состоит в страхе предбудущаго беспокойства»…
Челобитчики просили, «дабы всемилостивейше, по поданным от нас и от прочих мнениям, соизволили собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два из фамилий: рассмотреть, а все обстоятельства исследовать согласным мнением по большим голосам форму правления сочинить и вашему величеству к утверждению представить».
Когда челобитная была подана, в зале произошло волнение.
– Кто позволил вам, князь, присвоить себе право законодателя? – рассерженно спросил Василий Лукич Долгоруков.
– Вы вовлекли государыню в обман! – хладнокровно парировал князь Черкасский. – Вы уверили ее величество, что кондиции, подписанные в Митаве, составлены с согласия всех чинов государства. Это неправда. Они составлены без нашего ведома и участия!
Князь Василий Лукич посоветовал Анне Иоанновне удалиться в другой покой, чтобы там, на досуге, обсудить шляхетскую челобитную. Анна Иоанновна уже согласилась было, но тут с чернильницей и пером появилась ее старшая сестра, герцогиня Мекленбург-Шверинская Екатерина Иоанновна, прозванная «дикой герцогиней»[104].
Екатерина Иоанновна всегда славилась энергичностью и особенно своим острым языком.
– Нет, государыня! – прямо сказала она сестре. – Нечего теперь рассуждать! Вот перо – извольте подписать!
Императрица начертала на челобитной: «Учинить по сему» и, возвративши бумагу князю Черкасскому, поручила немедленно обсудить предмет своего прошения и сразу сообщить ей результаты.
Всё это происходило под несмолкающие крики гвардейцев.
– Мы не дозволим, чтобы государыне предписывались законы, – вопили они. – Государыня! Мы верные рабы вашего величества. Мы служили вашим предшественникам и теперь готовы пожертвовать жизнью, служа вашему величеству. Мы не потерпим злодеев. Ты должна быть такою же самодержавною, как были твои предки! Повелите – и мы к твоим ногам сложим головы злодеев!
– Я здесь не безопасна! – оглядываясь кругом себя, произнесла Анна Иоанновна и, обратясь к капитану преображенцев, сказала: – Повинуйтесь генералу Салтыкову, ему одному только повинуйтесь!
Назначение Салтыкова было одновременно и отрешением от должности начальствовавшего над гвардией фельдмаршала Василия Владимировича Долгорукого, но все совершалось так стремительно, что обдумать это событие верховники уже не поспевали.
А императрица, чтобы предотвратить сговор конституционалистов-шляхтичей с верховниками, велела шляхтичам идти на совещание, а верховников повела с собою обедать.
Совещалось шляхетство недолго. Не о чем было совещаться. Гвардейцы продолжали шуметь, обещая выбросить за окно всех противников самодержавия.
«Слишком явно было, – замечает Н.И. Костомаров, – что собрание, которому поручили совещаться, на самом деле находится под стражею. Ситуация напоминала собою басню, в которой кот убеждает пойманного соловья показать свое искусство».
В четвертом часу пополудни шляхетство вернулось в аудиенц-зал. Туда же, окончивши обед, вошла с верховниками императрица.
Князь Никита Трубецкой подал от шляхтичей новую челобитную. Прочел ее князь Антиох Кантемир. Как и прежняя, эта челобитная начиналась благодарностью императрице за подписание «Кондиций», поданных Верховным тайным советом, но заканчивалась просьбой «присланные к вашему императорскому величеству от Верховного тайного совета пункты и подписанные вашего величества рукою уничтожить».
– Мое постоянное желание было управлять моими подданными мирно и справедливо, – произнесла в ответ императрица. – Но я подписала пункты и должна знать: согласны ли члены Верховного тайного совета, чтоб я приняла то, что теперь предлагается народом?
Члены Верховного тайного совета молча склонили головы.
«Счастье их, – замечает современник, – что они тогда не двинулись с места; если б показали хоть малейшее неодобрение приговору шляхетства, гвардейцы побросали бы их в окно».
– Стало быть, – продолжала императрица, – пункты, поднесенные мне в Митаве, были составлены не по желанию народа!
– Нет! – раздались крики.
– Стало быть, ты меня обманул, князь Василий Лукич? – сказала государыня, обратившись к князю Долгорукому.
Он молчал.
И тогда императрица, взяв подписанные в Митаве «Кондиции», изодрала их и объявила, что желает быть истинною матерью Отечества и доставить своим подданным всевозможные милости.
«Черствая по природе и еще более очерствевшая при раннем вдовстве среди дипломатических козней», Анна Иоанновна стала самодержавной государыней. В тот же день она распорядилась доставить в Россию Бирона, хотя в Митаве и давала обязательство позабыть этого человека…
7
Императрица Анна Иоанновна сполна рассчиталась с авторами «тайной конституции», которые собирались лишить ее любви Эрнеста Иоганна Бирона.
9 (20) апреля 1730 года она назначила обманувшего ее Василия Лукича сибирским губернатором, однако вслед послала офицера с указом о лишении князя чинов и ссылке его в деревню. Впрочем, и в деревне Василий Лукич не задержался, по новому указу императрицы он был заточен в Соловецкий монастырь, а в 1739 году подвергнут пытке и обезглавлен.
Не миновала кара и главного творца «тайной конституции» князя Дмитрия Михайловича Голицына.
В 1736 году он был привлечен к суду и осужден на смертную казнь, которую императрица Анна Иоанновна, вспомнив, что это всё-таки князь Дмитрий Михайлович и предложил сделать ее императрицей, заменила ему заключением в Шлиссельбургской крепости.
Конфискованы были все имения князя и в том числе самая богатая в России частная библиотека, насчитывавшая шесть тысяч томов.
Впрочем, ни к чему уже была эта библиотека князю.
14 (25) апреля 1737 года Дмитрий Михайлович Голицын умер, проведя в шлиссельбургском заточении чуть больше трех месяцев.
Так, волею императрицы Анны Иоанновны Шлиссельбург снова превратился в тюрьму.
Тридцать пять лет назад, 11 октября 1702 года, стоя под градом шведских пуль, подполковник Семёновского полка Михаил Михайлович Голицын отказался выполнить приказ Петра I и отступить.
– Скажи царю, что теперь я уже не его, а Божий, – ответил он посыльному и, приказав оттолкнуть от острова лодки, снова повел солдат на штурм крепостной стены.
538 героев, павших во время штурма, похоронили внутри взятой крепости.
Тут могла быть и могила самого Михаила Михайловича Голицына, но здесь, тридцать пять лет спустя, похоронили его старшего брата.
Ему выпала судьба стать первым узником, убитым Шлиссельбургом.
Мистический скрежет «города-ключа», смыкая несмыкаемое, заглушил тут, кажется, и сам ход русской истории в царствование Анны Иоанновны…
8
Многие исследователи отмечали, что предприятие князя Голицына имело своим примером избрание на шведский престол сестры Карла XII Ульрики Элеоноры. Шведским аристократам удалось добиться тогда ограничения самодержавной власти.
«При избрании Анны Голицын помнил и мог принимать в соображение случившееся с Ульрикой Элеонорой: удалось там – почему не удастся здесь? – спрашивал В.О. Ключевский. – Шведские события давали только одобрительный пример, шведские акты учреждения – готовые образцы и формулы»…
Это риторический вопрос…
Там – это там, а здесь – это здесь… Петру I казалось, что он строит европейское общество, а строилась восточная рабовладельческая империя.
Воспитанным Петром I верховникам чудилось, что они вводят конституцию, а что собирались ввести на самом деле, не знает никто.
Шляхтичам-конституционалистам казалось, что они борются с засильем олигархов, но итогом совместных, хотя и направленных друг против друга, действий стало призвание Бирона.
Бироновщина стала итогом первой русской конституционной попытки!
Но могли ли как-то иначе завершиться эти конституционные споры в реформированной Петром I стране?
Часто высказывается мнение, что, несмотря на свои недостатки, конституция Д.М. Голицына все равно ввела бы Россию в принципиально другую (европейскую) ситуацию.
Это сомнительно, но даже если бы и случилось так, еще неизвестно, чем бы обернулась для России подобная ситуация…
«Аристокрация, – писал А.С. Пушкин, – после его (Петра I. – Н.К.) неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастию, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных».
Весьма сходно с А.С. Пушкиным оценивал затеянную верховниками «конституцию» и современник тех событий казанский губернатор Артемий Петрович Волынский, человек неглупый, а главное, хорошо знающий русскую жизнь.
Публикация о коронации Анны Иоанновны. С гравюры О. Эллингера. 1730 г.
«Слышно здесь, что делается у вас или уже и сделано, чтоб быть у нас республике, – писал он в те дни. – Я зело в том сумнителен. Боже сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий: и так мы, шляхетство, совсем пропадаем и принуждены будем горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными как бы согласно ни было, однако ж впредь, конечно, у них без разборов не будет, и так один будет миловать, а другие, на того яряся, вредить и губить станут»…
Второе возражение Артемия Петровича Волынского против «конституции» базировалось на его скептическом отношении к воспитанному петровскими реформами дворянству, которое наполнено «трусостию и похлебством, и для того, оставя общую пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или страха ради».
Волынский не знаком был с «научно» художественной обработкой наследия Петра I, которая проводилась в рамках культа, установленного императрицей Елизаветой, и его рассуждения несколько отличаются от романтических представлений позднейших – А.С. Пушкин тут исключение, которое только подтверждает правило! – писателей и историков. Волынский излагает ощущения современника Петровской эпохи, и делает это не с позиций философа или моралиста, а как администратор-практик. И не сами петровские реформы оценивает он, а только практические последствия, к которым может привести исправление их… Хотя Петр I и декларировал, что проводит свои реформы ради величия Российской империи, но обеспечивались эти реформы отношением к титульному народу как к расходному материалу[105]. Волынский понимает это, и «трусостью и похлебством» служилых людей определяет не столько индивидуальные качества русских дворян, сколько результат воздействия на служилого человека установленной Петром I системы тотального подавление и унижения личности русского человека…
Эта «трусость и похлебство», несущая на себе родовые грехи петровских реформ, проявилась в февральские дни вполне отчетливо. Это ведь рабское нежелание заботиться о своем будущем и подтолкнуло шляхетство поставить последнюю точку в истории первой русской конституции.
9
За эту покорность и благодарила Анна Иоанновна гвардейских офицеров на званом обеде. Да и как было не благодарить, если эти преданные рабы помогли ей посадить во главе Российской империи любезного ее сердцу Бирона.
Как с верными холуями, обращался с дворянством и сам Бирон.
«С первых же минут своей власти в России, – пишет С.Ф. Платонов, – Бирон принялся за взыскание недоимок с народа путем самым безжалостным, разоряя народ, устанавливая невозможную круговую поруку в платеже между крестьянами-плательщиками, их владельцами-помещиками и местной администрацией. Все классы общества платились и благосостоянием, и личной свободой: крестьяне за недоимку лишались имущества, помещики сидели в тюрьмах за бедность их крестьян, областная администрация подвергалась позорным наказаниям за неисправное поступление податей».
В.О. Ключевский рассказывает, что однажды польский посол выразил в беседе с секретарем французского посольства озабоченность, как бы русский народ не сделал с немцами того же, что он сделал с поляками при Лжедмитрии.
– Не беспокойтесь! – успокоил его Маньян. – Тогда в России не было гвардии.
При Лжедмитрии в России не было гвардии, и это спасло Россию!
К этому суждению нельзя отнестись просто как к занимательному анекдоту. Остроумно и точно уловил секретарь французского посольства момент перехода русской гвардии в денационализированное состояние, когда она начинает жить не для страны, а сама для себя, подчиняя себе Россию.
Такой гвардии, такого дворянства, такого высшего сословия на Руси не было. Впрочем, в других странах – тоже…
И в этом, как это ни грустно, и нужно искать отгадку провала всех конституционных попыток в России, потому что, хотя и менялось все, и с середины XIX века роль гвардии дворцовых переворотов переняла интеллигенция, но денационализированность сохранялась и в ее представителях, как и стремление жить не для страны, а только для себя, подчиняя себе Россию.
Конституционная попытка 1730 года обернулась бироновщиной.
Конституционные реформы 1917 года – правлением Ленина и Троцкого.
Конституционные поиски 1990 года – ельцинщиной.
И это не случайно…
Виною и этому тоже – Петр I…
Вернее, обожествление его, то не критическое отношение к его свершениям, которое было установлено в России его преемниками.
И если мы действительно желаем для своей страны добра, то должны, отбросив привычные стеоретипы исторических симпатий и антипатий, без злобы и раздражения осознать этот простой и ясный факт.
Если бы реформы Петра I совершались на благо России, невозможно было бы само появление Анны Иоанновны.
Воцарение Анны Иоанновны – это экзамен петровских реформ.
Бироновщина – ее оценка…
Снова, как и во всех петровских реформах, сработала жестокая и неумолимая логика – невозможно сделать ничего хорошего для России, если ненавидишь ее народ и ее обычаи.
Глава четвертая Засохшая ветвь
Сделанное нами уподобление эпохи Анны Иоанновны экзамену петровских реформ, а бироновщины – оценке на этом экзамене, как любое сравнение должно содержать долю условности.
Но чем пристальнее вглядываешься в зловещую фигуру Эрнста Иоганна Бирона, тем очевиднее становится, что его появление в послепетровской России не случайность, а закономерность. И речь тут идет не только о тенденциях политики и установленной иерархии приоритетов, а о конкретном переплетении судеб…
1
Известно, что на службу к герцогине Анне Иоанновне Бирона пристроил курляндский канцлер Кейзерлинг, родственник прусского посланника барона Кейзерлинга, ставшего супругом первой любовницы Петра I Анны Монс.
Случайность?
Возможно…
Но вот еще один эпизод из биографии всесильного временщика…
За пьяную драку в Кенигсберге[106], в результате которой один человек был убит, тридцатитрехлетний Бирон попал в тюрьму и, возможно, там бы и сгинул, но его вытащили оттуда…
И кто же? Виллим Монс – любовник Екатерины I, брат любовницы Петра I Анны Монс!
Это тоже, конечно, только совпадение, но никуда не уйти от осознания неоспоримого факта, что Бирона приготовила для России распутная жизнь Петра I и Екатерины I.
Некоторые историки пытаются навести глянец и на эпоху Анны Иоанновны, но получается худо, потому что более всего характерно для этого царствования даже и не жестокость, а необыкновенное обилие уродства.
Уродливыми были тогда отношения между людьми, характеры, сам быт…
Уродливым было абсолютно полное подчинение императрицы Бирону. Как отмечают современники, он управлял Анной Иоанновной всецело и безраздельно, как собственной лошадью.
«К несчастью ея и целой империи воля монархини окована была беспредельною над сердцем ея властью необузданного честолюбца, – пишет Минихсын. – До такой степени Бирон господствовал над Анною Иоанновною, что все поступки свои располагала она по прихотям сего деспота, не могла надолго разлучиться с ним, и всегда не иначе, как в его сопутствии, выходила и выезжала… На лице ея можно было видеть, в каком расположении дум находился наперсник. Являлся ли герцог с пасмурным видом – мгновенно и чело Государыни покрывалось печалью; когда первый казался довольным, веселье блистало во взоре; неугодивший же любимцу тотчас примечал явное неудовольствие монархини».
Привязанность Анны Иоанновны к Бирону была так уродлива, что тяготила самого временщика. Он не стеснялся публично жаловаться, что не имеет от императрицы ни одного мгновения для отдыха. При этом, однако, Бирон тщательно наблюдал, чтобы никто без его ведома не допускался к императрице, и если случалось, что он должен был отлучиться, тогда при государыне неотступно находились его жена и дети. Все разговоры императрицы немедленно доводились до сведения Бирона.
Жутковатую карикатуру придворной жизни дополняли толпы уродцев и карликов…
В допросных пунктах, снятых с Бирона после ареста, сказано, что «он же, будто для забавы Ея Величества, а на самом деле по своей свирепой склонности, под образом шуток и балагурства, такие мерзкие и Богу противныя дела затеял, о которых до сего времени в свете мало слыхано: умалчивая о нечеловеческом поругании, произведенном не токмо над бедными от рождения, или каким случаем дальняго ума и разсуждения лишенными, но и над другими людьми, между которыми и честный народ находились, частых между оными заведенных до крови драках, и о других оным учиненных мучительствах и безотрадных: мужеска и женска полуобнажениях, иных скаредных между ними его вымыслом произведенных пакостях, уже и то чинить их заставливал и принуждал, что натуре противно и объявлять стыдно и непристойно».
И так везде…
Куда ни взгляни в этом царствии, все уродливо кривится, словно отраженное в кривом зеркале.
«Это царствование – одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на ней – сама императрица, – писал В.О. Ключевский. – Выбравшись случайно из бедной митавской трущобы на широкий простор безотчетной русской власти, она отдалась празднествам и увеселениям, поражавшим иноземных наблюдателей мотовской роскошью и безвкусием… Не доверяя русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезенных из Митавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Этот сбродный налет состоял из “клеотур” двух сильных патронов: “канальи курляндца”, умевшего только разыскивать породистых собак, как отзывались о Бироне, и другого канальи, лифляндца, подмастерья и даже конкурента Бирону в фаворе, графа Левенвольда, обер-шталмейстера, человека лживого, страстного игрока и взяточника. При разгульном дворе, то и дело увеселяемом блестящими празднествами, какие мастерил другой Левенвольд, обер-гофмаршал, перещеголявший злокачественностью и своего брата, вся эта стая кормилась досыта и веселилась до упаду на доимочные деньги, выколачиваемые из народа»…
2
Прискорбное зрелище являли тогда и Петербург, и вся Россия…
«Петербург расположен в 7–8 лигах вверх по Неве и построен на очень болотистой низменной местности… – писал англичанин Фрэнсис Дэшвуд. – Мне от нескольких человек достоверно известно, что при строительстве или, скорее, основании этого города и Кронштадта от голода и [скверного] воздуха, но главным образом от голода погибло 300 тысяч человек…
Теперешний обер-гофмейстер граф Бирон построил очень красивый манеж, который, я думаю, является самой прекрасной достопримечательностью Петербурга. Манеж выстроен весьма регулярным, хотя и из дерева. С внутренней стороны имеется круговая галерея, а арена для верховой езды очень большая и с точным соотношением [ширины и длины] два к трем. У графа семьдесят прекрасных лошадей, по нескольку из всех стран»…
Это описание, сделанное добросовестным человеком[107], – приговор эпохе петровских реформ. Пожертвовать тремястами тысячами жизней[108] подданных ради возведение города, где самое красивое здание – конюшня временщика?
Нет, такого не знает история деспотий!
А смерть, как и во дни основания Петербурга, продолжала оставаться полноправной хозяйкой в городе. И при Анне Иоанновне она собирала здесь необыкновенно богатый урожай.
На равнодушие простых петербуржцев к смерти обратил внимание датский священник Педер фон Хавен: «Похороны и проводы умершего простого человека тоже обычно не производят большого впечатления… Я часто наблюдал, как лишь два парня приходили с телом, неся его на плечах на доске почти совершенно нагое, примерно так же, как носят муку к пекарю… Однажды два парня в обычной рабочей одежде так притащили тело.
Но, словно путь показался им слишком долгим, положили в конце концов тело в пустынном месте на берегу реки, забросали его землей, а поскольку голова высовывалась из-под земли, они сломали шею и наконец с большим трудом зарыли ее в землю».
Отметим, что это свидетельство человека, сочувствующего осуществленным в России реформам.
Педера фон Хавена, например, чрезвычайно радует, что при Петре I было опубликовано постановление, согласно которому людям нельзя спорить о религиозных делах, под каким бы предлогом это ни делалось, стараясь внушить другим положения своей религии… Он с удовольствием отмечает, что принц Гессен-Гамбургский и граф Миних держат для себя и для немецких офицеров в армии пасторов, а кабинет-министр граф Остерман является виднейшим патроном евангелической общины.
И тем не менее и он отмечают царящую вокруг нищету и разруху. «Место, где живут ее величество и лучшая часть ее двора… именуется Адмиралтейским островом, – писал англичанин Фрэнсис Дэшвуд, побывавший в Петербурге в начале правления Анны Иоанновны. – Там построен Адмиралтейский дом, там же находятся канатный двор, пушечная литейня, верфь для строительства кораблей и камелей и т. д. Сейчас там на стапелях стоит 112-пушечный корабль, но он, пожалуй, может сгнить еще до спуска на воду».
Миних, занимавшийся укреплением Кронштадта, тоже докладывал императрице, что в Кронштадтской гавани лежат ветхие военные суда, которые давно надобно разобрать и истребить, как ни к чему не годные, но для истребления потребуется множество рабочих рук.
И как тут ни вспомнить, что ради флота Петр I и вел все свои войны.
«Скудость результатов, – отмечал либерал П.Н. Милюков, – сравнительно с грандиозностью затраченных средств тут выступает особенно ярко. Уже не говорим об игрушечной флотилии, парадировавшей при взятии Азова. Но тотчас за этим неудачным выступлением Петр спешит одним росчерком пера создать настоящий большой торговый флот: землевладельцы построят ему 98 кораблей, и сам он построит 90. Вернувшись из Голландии, он забраковывает всю работу, и начинает все сначала… Петр не тратил времени даром; каждый год ездил на свою воронежскую верфь; кроме личных усилий и забот, он положил там огромные суммы денег; сотни тысяч людей умерли от болезней и голода “у гаванского строения” (то есть у постройки новой Троицкой гавани возле Таганрога, так как по мелководному Дону спускать большие корабли оказалось невозможным).
Прутский поход сразу прикрывает все многолетнее дело: гавань срыта, суда отданы туркам или гниют на месте. Таким образом, ничего почти не приходится утилизировать для северного судостроения, куда Петр переносит теперь все свои заботы, стараясь как можно скорее нагнать упущенное время. В 1719 году у него уже 28 линейных кораблей, но сколько новых усилий для этого результата! Олонецкая верфь удовлетворяет только на первые годы после закладки Петербурга; перенесение ее в Петербург тоже оказывается недостаточным: по Неве нельзя выводить оснащенные корабли в море без углубления фарватера. Петербургскую верфь приходится дополнить Кронштадтскою гаванью. Но после ряда новых усилий, после новых огромных жертв людьми и деньгами, и Кронштадт перестает удовлетворять: от пресной воды суда гниют вдвое скорее, по условиям места из бухты можно выйти только при восточном ветре, по условиям климата гавань только полгода свободна от льда. За несколько лет до смерти Петр находит новое место: Рогервик, недалеко от Ревеля. Правда, шведы остановились перед страшными расходами и физическими препятствиями для укрепления этой бухты; но Петра такие пустяки не могут остановить. Снова люди десятками тысяч идут на новую работу; “все леса в Лифляндии и Эстляндии сведены” для деревянных ящиков, в которых погружают на морское дно камень, наломанный в соседних скалах. А неумолимые бури из году в год, при Петре и Екатерине, разносят всю людскую работу, так что наконец и этот проект, “стоивший невероятных сумм”, приходится бросить».
Теперь этот такой немыслимой ценой построенный флот догнивал…
2
Мы уподобили эпоху Анны Иоанновны экзамену петровских реформ, а бироновщину – оценке на этом экзамене, но еще справедливее сравнить царствование Анны Иоанновны с муками изнасилованной Петром I России.
Среди переполняющего дворцовое чрево уродства формировался тогда самый гадкий монстр – новая русская аристократия.
Входя во вкус «трусости и похлебства», русское дворянство превратилось в некую наднациональную прослойку, предателей своего народа, обреченных теперь всегда ощущать свою ничтожность и ущербность. Поэтому так легко подчинялись дворяне любому тиранству, творимому над ними. «Оставя общую пользу», каждый из них готов был теперь «трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или страха ради».
Этой стремительной денационализации дворянства и гвардии немало способствовала и кадровая политика Бирона. И так-то в гвардии было немало нерусских офицеров, но при Анне Иоанновне преобладание их стало очевидным.
Вдобавок к Преображенскому и Семеновскому был сформирован Измайловский полк, полковником в который назначили обер-шталмейстера Левенвольда, а офицеров набрали из лифляндцев, эстляндцев и курляндцев…
Но разве не об этом и мечтал Петр I?
Разве смутило бы его засилье немцев?
Разве рассердило бы его, что Бирон слово «русский» употреблял только как ругательное? Или жестокость, с которой Бирон уничтожал Россию, отдавая русских крестьян в полную собственность господам, зачастую плохо говорящим по-русски?!
Во внутренней политике Бирона просматривается такая явная преемственность с реформами Петра I, что становится не по себе, когда вспоминаешь о приказе Петра, отданном Анне ехать в Митаву и окружить себя там немцами.
Марина Цветаева писала про Петра I, который «остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть».
На овдовевшей племяннице Анне Иоанновне Петр I тоже остановил свой черный, светлый, веселый и страшный взгляд. И этот взгляд и был приказ Бирону быть.
Такое ощущение, словно в каком-то гениально-злобном озарении Петр I предугадал Бирона, увидел в нем продолжателя своего главного дела и сам и назначил его в правители.
На наш взгляд, было бы неверно противопоставлять Бирона Петру I только потому, что многое, построенное Петром I, при Бироне стремительно разрушалось или наполнялось содержанием, противным тому, которое хотел вложить Петр…
Все гораздо сложнее, и многое в царствовании Анны Иоанновны и Бирона при внимательном рассмотрении оказывается подчинено той логике выхода из духовного пространства Святой Руси, о которой и думал Петр I, когда «на берегу пустынных волн стоял Он, дум великих полн, и вдаль глядел»…
При Анне Иоанновне процесс этот оказался продолженным, и перерождение страны и династии начало становиться, по крайней мере, в Петербурге той реальностью, которую посторонние наблюдатели воспринимали уже как подлинное содержание всей русской истории и русской жизни.
Следом за Фридрихом Христианом Вебером, автором «Преображенной России», уже цитировавшийся нами, Педер фон Хавен искренне думал, что так же, как Петр I, и предшествовавшие ему русские цари и князья любили католиков и протестантов.
«Прежде, – писал фон Хавен, рассказывая об Александро-Невской лавре, – это был маленький монастырь, основанный русским героем по имени Александр или посвященный ему; он в XII веке защищал русскую веру и в битве одолел татар на том месте, где теперь на берегу Невы построен монастырь, почему его и назвали Невским».
Ошибка знаменательная. Простодушные протестанты не понимали, что благоверный князь Александр Невский сражался за православие не с татарами, а с предками самого фон Хавена и Фридриха Вебера.
И не потому совершалась эта ошибка, что невозможно было уточнить этот факт. Нет, постороннему наблюдателю в Петербурге и в голову не могло прийти, что Петр I поклоняется святому, всю земную деятельность которого он зачеркивает своими реформами.
Да и как могло прийти в голову путешественнику, попавшему в Петербург, мысль, что Россия когда-то боролась за свое православие, за сохранение национального порядка и обычаев, если Петр I все монастыри предлагал обратить «в рабочие дома или дома призрения для подкидышей или военных инвалидов, монахов превратить в лазаретную прислугу, а монахинь – в прядильщицы и кружевницы, выписав для того кружевниц из Брабанта»?
3
«Пожалуй, не найти другого такого города, где бы одни и те же люди говорили на столь многих языках, причем так плохо… – писал о Петербурге фон Хавен. – Но сколь много языков понимают выросшие в Петербурге люди, столь же скверно они на них говорят. Нет ничего более обычного, чем когда в одном высказывании перемешиваются слова трех-четырех языков. Вот, например: Monsiieur, Paschalusa, wil ju nicht en Schalken Vodka trinken, Isvollet, Baduska. Это должно означать: “Мой дорогой господин, не хотите ли выпить стакан водки. Пожалуйста, батюшка!”. Говорящий по-русски немец и говорящий по-немецки русский обычно совершают столь много ошибок, что строгими критиками их речь могла бы быть принята за новый иностранный язык. И юный Петербург в этом отношении можно было бы, пожалуй, сравнить с древним Вавилоном».
Сравнение Петербурга с Вавилоном отражает, как нам кажется, не только языковую ситуацию в юной столице Российской империи…
Посмотрим еще раз, что происходило в этом северном Вавилоне на русском троне…
После Петра I, который стал последним русским по крови русским императором, на трон была возведена чистокровная немка Екатерина I. Ее сменил на троне полунемец Петр II. После его смерти верховники возвели на престол русскую императрицу Анну Иоанновну. Незамужняя Анна Иоанновна в самом начале правления объявила своим наследником будущего сына единственной племянницы – дочери старшей сестры Екатерины Иоанновны и герцога Мекленбург-Шверинского – Анны Леопольдовны, хотя та еще не только не вышла замуж, но и не достигла совершеннолетия.
Тем не менее все произошло по воле императрицы, и русский престол был передан полунемке Анне Леопольдовне и ее сыну – на три четверти немцу Иоанну Антоновичу, а правителем назначен чистокровный немец Бирон.
Скоро его свергнет такой же немец Миних, а полунемку Анну Леопольдовну и на две трети немца Иоанна Антоновича свергнет полунемка Елизавета Петровна, назначившая своим наследником немца на три четверти – Петра III, которого свергнет уже чистокровная немка Екатерина II…
Что это?
Мистический ужас вызывает это перерождение династической крови.
Но оно вытекало из всего хода петровских реформ, как и совершающееся в годы царствования Анны Иоанновны разделение населения Российской империи на закрепощенных русских рабов и на трусливую, вненациональную касту господ.
Разумеется, сопротивление продолжалось, но оно жестоко подавлялось, независимо от того, где оно было обнаружено. В 1732 году беглый драгун Нарвского полка Ларион Стародубцев объявил себя сыном Петра I – Петром Петровичем. Стародубцева схватили и после пыток в Тайной канцелярии труп его сожгли…
В январе 1738 года на Десне появился человек, назвавшийся царем Алексеем Петровичем. Его поддержали солдаты. В церкви был устроен молебен, собравший толпы людей.
Но и этого самозванца схватили и вместе со священником, служившим молебен, посадили на кол.
«Высочайшие манифесты превратились в афиши непристойного самовосхваления и в травлю русской знати перед народом, – писал В.О. Ключевский. – Казнями и крепостями изводили самых видных русских вельмож – Голицыных и целое гнездо Долгоруких. Тайная розыскная канцелярия, возродившаяся из закрытого при Петре II Преображенского приказа, работала без устали, доносами и пытками поддерживая должное уважение к предержащей власти и охраняя ее безопасность; шпионство стало наиболее поощряемым государственным служением…
Ссылали массами, и ссылка получила утонченно-жестокую разработку…
Зачастую ссылали без всякой записи в надлежащем месте и с переменою имен ссыльных, не сообщая о том даже Тайной канцелярии: человек пропадал без вести»…
Впрочем, открыто тоже казнили, и хотя казнили в промежутках между маскарадами и другими потехами, но казнили со вкусом и размахом.
Вскоре после «ледяной» свадьбы, на Светлой седмице 1740 года, арестовали, например, главу кабинета министров Артемия Петровича Волынского. Не сберегла его мудрость, позволявшая ему так верно прозирать судьбу новой русской аристократии.
Предлогом для ареста кабинет-министра послужило избиение им поэта Василия Тредиаковского, но в Тайной канцелярии выяснилось, что Волынский неуважительно высказывался и об императрице. Говорил: дескать, наша государыня гневается, иногда сама не знаю за что, резолюции от нее никакой не добьешься, герцог что захочет, то и делает.
По ходатайству Бирона Волынскому отрубили вначале руку, а потом голову. Язык Артемию Петровичу вырвали еще накануне.
Вместе с ним казнили советника А.Ф. Хрущева и архитектора П.М. Еропкина. Вице-президенту Адмиралтейств-коллегии Федору Ивановичу Соймонову вырвали ноздри и отправили в каторжную работу на Охотский солеваренный завод.
«Между тем как в столицах и городах все сословия трепетали, из опасения раздражить подозрительного тирана (Бирона. – Н.К.) самым неумышленным словом, – пишет Николай Герасимович Устрялов, – в селах и деревнях народ стонал от его корыстолюбия, столь же ненасытного, сколько беспредельна была месть его. Со времени ревизии в 1719 году в подушном окладе обнаружилась значительная недоимка, которая, невзирая на строгие меры Петра, с каждым годом накапливалась. Для взыскания ее Екатерина учредила при Сенате доимочный приказ; зло, однако, не уменьшалось и еще более увеличилось при Петре II, когда вообще мало думали о порядке управления. В начале царствования Анны казна считала в недоимке более 7 миллионов рублей тогдашних. Императрица видела необходимость усилить строгость мер и восстановила доимочный приказ, остававшийся в бездействии при ее предшественнике. К несчастью, в России настал голод, продолжавшийся несколько лет; жители самых хлебородных областей впали в крайнюю бедность. Со справедливой строгостью соединяя милость, государыня неоднократно облегчала участь своих подданных, прощая им подушные оклады. Бирон внушил ей иные мысли: недоступный состраданию, чуждый милосердия, презирая все русское, употребляя самое слово “русский” единственно в смысле укоризны, он не хотел слышать о всеобщем бедствии; взял в свое ведение доимочный приказ и прежде всего обратил всю злобу на губернаторов: посланные им офицеры заключали областных начальников в кандалы за мнимое нерадение о взыскании податей; вслед за тем воинские команды отправлены были в села и деревни для правежа недоимок. Возобновилось татарское время. Исполнители Бироновой воли забирали все: хлеб, скот, одежду; дома предавали огню, а крестьян выводили в поле и там, нередко в жестокую стужу, держали на правеже, т. е. секли беспощадно; целые деревни опустели; многие были сожжены; жители сосланы в Сибирь. Но так как беспрерывное отправление отдельных команд оказалось неудобным и безуспешным, то самим полкам поручено было заботиться о своем содержании, и каждому из них назначены были деревни, где солдаты брали все, что могли.
Взысканные таким образом миллионы рублей не смешивались с общими доходами, а поступали в секретную казну; суммами ее распоряжался один Бирон безотчетно и употреблял их в свою пользу, на покупку поместьев в Польше и Германии, на конские заводы, на великолепные экипажи и прочее».
4
Дорого, очень дорого стоило России любостяжание Бирона; не дешевле обошлось и его управление внешними делами государства. По наблюдениям современников, все десять лет правления Анны Иоанновны Бирон самовластно распоряжался Российской империей.
Немалую помощь в этом оказывал ему обер-гофкомиссар, финансист Леви Липман. Бирон, как утверждается в «Еврейской энциклопедии», «передал ему почти всё управление финансами и различные торговые монополии».
Считается, что Бирон был истинным виновником безуспешного окончания войны, предпринятой при самых благоприятных обстоятельствах, ознаменованной блестящими успехами, но, как писал Н.Г. Устрялов, по прихоти Бирона кончившейся одним разорением государства.
Вместе с Леви Липманом Бирон устроил настоящую распродажу России. На аукцион выставлялись и политические интересы России, и сами ее граждане. В мае 1733 года Липман и Бирон организовали продажу Фридриху-Вильгельму высокорослых русских рекрут[109]…
Все эти деньги, как утверждал Миних, утекали из государственной казны «на покупку земель в Курляндии и на стройку там двух дворцов – не герцогских, а королевских, и на приобретение герцогу друзей-приспешников в Польше. Кроме того, потрачены были многие миллионы на драгоценности и жемчуга для семейства Бирона: ни у одной королевы в Европе не было бриллиантов в таком изобилии, как у герцогини Курляндской»…
Впрочем, велось строительство и в Санкт-Петербурге…
В последний год жизни Анны Иоановны академик Г. Крафт выстроил на Неве между Зимним дворцом и Адмиралтейством для свадьбы шутов князя Голицына и вдовы Бужениновой Ледяной дом.
«Всего удивительнее то, что фасад дома был украшен восьмью ледяными пушками на лафетах, и при стрельбе из них оне выдерживали заряд в три четверти фунта пороха», – сообщал в Париж маркиз де ла Шетарди.
Особенно восхитило свидетелей, что железное ядро, выпущенное из ледяной пушки с расстояния шестидесяти шагов, насквозь пробило доску толщиной в два дюйма.
Между прочим, в том же 1740 году у полунемки Анны Леопольдовны и чистокровного немца, принца Брауншвейг-Беверн-Люнебургского-Антона-Ульриха родился 12 августа сын – долгожданный наследник престола Иоанн Антонович…
5
Как мы уже говорили, мать Анны Леопольдовны, Екатерина Иоанновна, как и ее младшая сестра Анна Иоанновна, была взята Петром I под покровительство, которое выразилось в том, что он сделал племянниц фигурами в своей маловразумительной политической игре.
Анна Иоанновна была выдана им замуж за племянника прусского короля, курляндского герцога Фридриха-Вильгельма, который умер сразу после свадьбы, не рассчитал сил в петербургских баталиях с Бахусом. Ну а Екатерине Иоанновне венценосный дядюшка подобрал в женихи герцога Мекленбург-Шверинского Карла-Леопольда, который был уже дважды женат, а с последней супругой к тому же и не был разведен!
В 1722 году, после шестилетнего замужества, Екатерина Иоанновна вынуждена была оставить взбалмошного супруга – это от него досталось ей прозвище «дикая герцогиня»! – и вернулась с трехлетней дочерью в Россию[110].
Здесь юная принцесса росла, как и ее матушка, рядом с прудами, наполненными стерлядями, рядом с дворцовым театром, рядом с конюшнями, где совершались наказания.
Из германских земель Екатерина Иоанновна вывезла страсть к театру, и Измайлово при ней превратилось в театральную столицу Российской империи. Актрисы набирались из придворных дам и фрейлин, актеры – из крепостных, доморощенных артистов, парики брали у голштинцев, костюмы мастерили подручными средствами.
В записках Берхгольца описана одна из измайловских театральных премьер.
К сожалению, во время самого спектакля кто-то сумел вытащить у наблюдательного немца из кармана табакерку, и поэтому и сам спектакль, и вся подготовка к нему окрасились в его воспоминаниях в печально-иронический тон…
Оказывается, уже несколько дней «дикая герцогиня» проводила в беспрестанных хлопотах… Она присутствовала на репетициях, устраивала сцену, прилаживала занавес, подгоняла костюмы актрисам, распекала и наказывала актеров, набранных из челяди царицы.
Такая же великая, как и дочь, театралка, царица Прасковья из-за болезни ног в режиссуре спектакля участвовать не могла и поэтому коротала время перед спектаклем в душеспасительных беседах с архиереями, членами Святейшего Синода.
Тем не менее по принципиальным вопросам «художественного руководства» герцогиня всегда советовалась с нею.
Когда два артиста измайловской труппы, чтобы добыть денег на свою нищенствующую братию, стали разносить по городу афишки и собирать для себя милостыню, огорченная герцогиня, по совету с матушкой-царицей, велела дать каждому из них около 200 батогов. Второстепенный актер затем был изгнан из театра, а главный актер уже на следующий день вышел на сцену в роли короля; роль супруги «батогированного» короля играла дочь маршала царицы Прасковьи.
6
Возле этого театра и выросла будущая правительница Российской империи, принцесса Елизавета-Екатерина-Христина.
Неожиданное решение верховников, перенесших русский престол в милославскую ветвь Дома Романовых, переменило жизнь двенадцатилетней Елизаветы-Екатерины-Христины.
Она была взята ко двору.
Воспитательницею мекленбургской принцессы назначили вдову французского генерала госпожу Адеркас, а для наставления в истинах православной веры пригласили Феофана Прокоповича.
Императрица Анна Леопольдовна (с портрета И. Вишнякова). 1740-е гг.
12 мая 1733 года принцесса Елизавета-Екатерина-Христина приняла святое крещение и была наречена Анной, а через месяц умерла ее мать, Екатерина Иоанновна, герцогиня Мекленбургская. Всесильный Бирон попытался пристроить в мужья юной Анне Леопольдовне своего сына Петра, но принцесса была влюблена в красивого саксонского посланника Линара.
Когда Бирон выяснил, что этот роман семнадцатилетней принцессы – интрига прусского посланника барона Мардефельда, воспитательница, подкупленная им, была немедленно выслана за границу, а сам Линар по просьбе императрицы Анны Иоанновны отозван саксонским двором.
Однако замуж за Петра Бирона осиротевшая принцесса все равно не пошла, предпочла ему робкого, золотушного принца Антона-Ульриха Брауншвейг-Люнебургского.
Политические интересы, а они тогда заключались в планах А.И. Остермана упрочить с помощью этого брака союз Российской и Австрийской империй, были соблюдены, и Анне Леопольдовне никто не препятствовал.
Удовлетворена была и императрица Анна Иоанновна.
Ей нужен был наследник престола, и вот он появился…
Чувства самой семнадцатилетней принцессы, точно так же, как и чувства «батогированного» актера, изображавшего на ее четырехлетие в измайловском театре короля, никого не интересовали…
Казалось, что с рождением прямого правнука царя Ивана Алексеевича русский престол окончательно закрепляется за милославской ветвью династии Романовых. Поэтому-то и был устроен в честь рождения Иоанна Антоновича такой грандиозный фейерверк.
Огни тех салютов – увы! – самое яркое, что видел в своей жизни человек, еще в колыбели нареченный Анной Иоанновной русским императором.
Впрочем, в 1740 году ничего не предвещало печальной участи новорожденного…
Хотя ведь и тридцать лет назад торжества по случаю бракосочетания Анны Иоанновны с курляндским герцогом Фридрихом-Вильгельмом тоже не предвещали смерти опившегося водкой семнадцатилетнего жениха.
Теперь пришел черед невесты.
5 октября во время обеда Анна Иоанновна упала в обморок с сильною рвотою…
7
И неожиданная болезнь Анны Иоанновны, и кончина ее так же уродливы и мрачны, как и вся жизнь, как и императорский дворец, наполненный учеными скворцами, белыми павами, обезьянами, карликами и великанами, шутами и шутихами; как и всё ее царствование…
Бирон немедленно послал за кабинет-министром князем Черкасским, графом Бестужевым и фельдмаршалом Минихом.
– Колико я несчастен, лишаясь столь рано и нечаянно Государыни, изъявлявшей мне неизреченную милость и доверенность! – заявил им «со многими слезами и воплем» всесильный временщик. – По смерти ее я не могу себе уже и вообразить никакого благополучия в этой стране, где я, как известно, имею более неприятелей, нежели друзей! За все услуги, оказываемые мною этому государству, не ожидаю я уже никакой иной награды, кроме неблагодарности и немилости…
Однако, как явствовало из речи Бирона, не собственное его положение беспокоило его. Более всего горевал он o состоянии, в каком, по кончине императрицы, находиться будет государство, о благосостоянии коего он до того столь ревностное имел попечение.
– Наследник младенец не имеет даже восьми недель! – рассуждал Бирон вслух. – Рассуждение назначения наследства престола от императрицы еще ничего не обнародовано, и потому неизвестно еще, как принято будет в настоящих обстоятельствах таковое назначение народом, при прежде бывших малолетствах мятежничавшим… Опять же и Швеция, продолжая вооружения свои, не может желать для себя удобнейшего случая к нападению на Россию, как когда начнутся в оной внутренние беспокойствия…
Кто именно предложил Бирону стать регентом, мнения расходятся…
Сам Бирон утверждал, что регентство предложил ему Миних: «Фельдмаршал Миних сказал мне, что собралось несколько патриотов (выделено нами. – Н.К.), которые, по совести и по лучшему их знанию… не нашли никого, кто бы, человечески судя, удобнее был для государства, чем я».
Миних-сын утверждал, что это князь Черкасский первый начал говорить, будто «к отправлению означенной столь важной должности не находит никого способнее и достойнее герцога Курляндского, который во все время царствования императрицы с толикою же ревностью, как и славою управлял государственными делами, и коего личная польза, в рассуждении герцогства его, столь тесно сопряжена с благосостоянием России».
Но это не так уж и важно… Совершенно ясно, что ни фельдмаршал Миних, ни князь Черкасский, ни тайный советник Бестужев, ни фельдмаршал Левенвольд и помыслить не могли воспрепятствовать властным амбициям герцога.
Бирон, однако, согласился не сразу.
– Меня удивляет это предложение! – куражась, сказал он. – Прошу уволить меня от такого бремени, я не в состоянии взяться за такое дело…
– Ваша светлость! – напыщенно произнес Миних. – Это не человек твою светлость о том просит, но великая империя. Прими весло правительства, лучше тебе при этом весле быть.
Утром 6 октября Миних, Остерман, Бестужев, Левенвольд, Ушаков, Головин, Куракин, Трубецкой, Салтыков и Шепелев, имея уже при себе изготовленный ночью манифест об объявлении Иоанна наследником, были допущены к императрице.
– Милостивая императрица! – заявил после подписания манифеста Миних. – Мы согласились, чтоб герцогу быть нашим регентом; мы просим о назначении герцога правителем.
Анна Иоанновна ничего не ответила на это.
Как явствует из рассказа Миниха-сына, Бирону не удалось тогда добиться своего. Сам Бирон на допросе отрицал свои хлопоты. Более того, он утверждал, что императрица не подписывала бумаг по его настоянию…
«Когда главные чины государства проведали, – писал он в составленной им оправдательной записке, – что уже и несколько дней прошло без подписания, то единогласно и в таком случае условились, когда б Ея Императорское Величество не подписала и скончалась бы, не учинив распоряжения, определить меня своим правителем. Чтоб cиe утвердить, созваны были все знатные особы, о чем сведал я не прежде как 24 часа спустя, а когда сказали мне о том, дивился, как можно было к сему предприятию приступить, не сказав мне ни слова. Но они остались непоколебимы в решении своем. Не довольствуясь сим, некоторые из первых особ, без моего ведома, положили сочинить прошение на имя Ея Императорского Величества».
Прошение это подписали: Миних, Трубецкой, Остерман, Черкасский, принц Гессен-Гамбургский, Чернышев, Ушаков, Левенвольд, Головин, Головкин, Куракин, Трубецкой и Бестужев.
Впрочем, существенней не соблюдение политеса, а то, что никакого противодействия на пути к власти Бирон не встретил. И так странно и парадоксально совпадают по рисунку эти придворные интриги с теми, что предшествовали призванию на трон Анны Иоанновны. И то, что те верховники пытались предотвратить появление у руля государственной власти Бирона, а нынешние стремились закрепить эту власть за Бироном, ничего не меняет.
«Герцог Курляндский, граф Остерман и князь Алексей Михайлович Черкасский составили духовное завещание от имени Императрицы. Остерман, в течение нескольких лет не выходивший из дому, под тем предлогом, что подагра препятствует ему двигать ногами, велел принести себя в креслах во дворец к изголовью императрицы за несколько часов до ее кончины, – рассказывал фельдмаршал Миних, – и здесь, вынув из кармана бумагу, спросил Государыню, не угодно ли ей будет выслушать свое завещание?»
– Кто писал его? – спросила императрица.
– Ваш нижайший раб, – изгибаясь в кресле, сказал Остерман.
Затем он читал завещание, и когда дошел до статьи, что герцог Курляндский будет регентом в продолжение шестнадцати лет отрочества молодого императора Иоанна Антоновича, Анна Иоанновна прервала чтение.
Это она сама назначила Иоанна Антоновича еще до его рождения своим наследником.
Эрнст Иоганн Бирон. Гравюра 1750-х гг.
Но сейчас она почему-то не вспомнила о внуке.
– Надобно ли это тебе? – спросила она у Бирона.
Бирон кивнул.
Так, 16 октября, верный Яген был назначен регентом при младенце-императоре.
На следующий день, шепнув Бирону: «Не боись!» – императрица померла.
Бирон и не собирался никого бояться.
Десять лет он правил Россией из-за спины Анны Иоанновны. Теперь Бирон собирался править страной открыто. Конечно, он догадывался, что не все довольны его назначением, но он знал и то, что никто из русских аристократов, трусливую психологию которых он изучил за десять лет, не осмелится оспорить это назначение.
8
Как утверждают современники, в день кончины императрицы Бирон «стонал громко и притворился быть от грусти вне себя», но тем не менее это не мешало ему четко и хладнокровно прибирать к рукам власть.
Миних-сын вспоминает, что, приметив замешательство принца Антона-Ульриха, застывшего за стулом Анны Леопольдовны, герцог резко спросил его, не желает ли и он выслушать завещание императрицы.
Брауншвейгский принц, не сказав ни слова, покорно направился к генерал-прокурору, читавшему завещание, терпеливо выслушал, «как читан был его или, паче сказать, супруги его приговор».
Тут же герцог отдал распоряжение перенести младенца Иоанна Антоновича в помещения дворца.
Законно Бирон властвовал в России всего три недели, и немногие распоряжения его обличают в нем человека по-курляндски справедливого…
Родителям императора он, к примеру, назначил ежегодно 200 тысяч рублей содержания, принцессе Елизавете Петровне – 50 тысяч, самому себе – 500 тысяч.
Некогда в Митаве Бирон боролся с Бестужевым за обладание телом Анны Иоанновны, теперь, без всякой борьбы, они вдвоем мирно обладали всей оставшейся от Анны Иоанновны властью. Бестужев стал кабинет-министром, а Бирон – регентом.
Кабинет-министр Бестужев и следил добросовестно за всеми злоумышлениями. Между прочим, он первым доложил регенту, что арестован на Васильевском острове гвардейский капитан Бровицын, который вел с солдатами разговоры, отчего это Бирон регент, а родной отец императора без дела сидит? Бровицына доставили в Тайную канцелярию, и с дыбы он показал, что столь возмутительные речи вел с ведома принца Антона-Ульриха…
Спокойно выслушал Бирон верного кабинет-министра.
Семнадцать лет верховная власть в его, Бирона, руках по закону находиться будет. За семнадцать лет многое можно успеть.
Только надо ли ждать семнадцать лет? Задумался герцог…
Судя по всему, рано или поздно, но он все равно бы пришел к выводу, что нет нужды ждать семнадцати лет, чтобы арестовать Анну Леопольдовну с мужем. Бирон ждал лишь похорон Анны Иоанновны, чтобы не омрачить их арестом племянницы покойной.
Тем более что на саму Анну Леопольдовну у Бирона давно зуб имелся. Еще с той поры, когда отвергла она его сына Петра и предпочла принца Антона-Ульриха.
А Петр-то красавцем вырос и умом богат зело был.
Шестнадцать лет всего, а уже подполковник Конной гвардии, кавалер орденов Александра Невского и Андрея Первозванного. Если его на великой княжне Елизавете Петровне женить, тогда и младенца-императора не надобно будет. Можно тогда и его придушить ночью…
7 ноября обедал у Бирона фельдмаршал Миних с семейством. За обедом Бирон задумчив был. Рассеянно слушал Миниха, а сам думал…
– Скажите, фельдмаршал, – спросил Бирон, отложив вилку, – случалось вам во время ваших походов что-нибудь важное предпринимать ночью?
Удивлен был вопросом Миних.
– Ночью? – в чрезвычайном смущении переспросил он. – Я, ваша светлость, сразу и не припомню, но у меня такое правило: пользоваться всеми обстоятельствами, которые кажутся мне благоприятными.
И верно.
Так и поступил он, обеспокоившись неожиданным вопросом правителя. Покидая дворец, он выяснил, что нынешней ночью регента будет охранять караул преображенцев, у которых фельдмаршал был подполковником. Сию конъюнктуру нельзя было упускать…
В тот же вечер фельдмаршал Миних уговорил Анну Леопольдовну действовать. Когда принцесса согласилась, он привел к ней офицеров, чтобы те сами услышали, каким оскорблениям подвергается от регента мать малолетнего императора.
Захватив несколько гренадер и адъютанта Манштейна, фельдмаршал ночью отправился в летний дворец Бирона. Верные преображенцы без спора пропустили заговорщиков.
Когда Манштейн взломал дверь в спальню герцога, тот попытался спрятаться под кровать, но босая нога, которая высовывалась из-под кровати, выдала его.
Когда Бирон, понукаемый штыками, был извлечен из своего убежища, Манштейн первым делом заткнул ему ночным колпаком рот, а потом объявил, что его светлость арестован.
Для вразумления гренадеры побили герцога прикладами[111] и, связав ему руки, голого, потащили мимо верных присяге преображенцев к карете Миниха.
В эту же ночь был арестован брат герцога – генерал Густав Бирон. Густава охраняли измайловцы, но и они по-гвардейски мудро уклонились от исполнения присяги и защищать генерала Бирона не стали.
Переворот, как и все гвардейские перевороты, был осуществлен бескровно, и уже утром Анна Леопольдовна осматривала имущество Биронов и одаривала отважных победителей.
Фрейлине Юлиане Менгден были подарены расшитые золотом кафтаны герцога и его сына. Фрейлина велела сорвать золотые позументы и наделать из них золотой посуды…
Робкому и покорному мужу Анны Леопольдовны поручили начальство над войском, присвоив для смелости звание генералиссимуса.
Верховное управление сосредоточили в кабинете министров, который был разделен теперь на три департамента: Миних, в звании первого министра, заведовал делами военными; Остерман, пожалованный в генерал-адмиралы, – дипломатическими сношениями и флотом; канцлер князь Черкасский и вице-канцлер граф Головкин – делами внутренними.
Сама Анна Леопольдовна удовольствовалась званием регентши.
А Биронов собрали всех вместе и повезли в Шлиссельбургскую крепость. Улюлюкал народ, провожая еще вчера всесильного временщика. И это очень огорчило наблюдавшую за вывозом Биронов Анну Леопольдовну.
– Нет, не то я готовила ему… – с грустью сказала она. – Если бы Бирон сам предложил мне правление, я бы с миром отпустила его в Курляндию.
– Безумный человек… – кивал словам правительницы Андрей Иванович Остерман. – Не знал он предела в своей дерзостности…
По распоряжению Анны Леопольдовны Биронов увезли в Пелым, где велено было выстроить для них дом. План этого предназначенного для его друга дома фельдмаршал Миних начертил собственноручно.
Вот так и совершилось то, что со свойственным ему восторгом описал потом Н.Г. Устрялов в своей «Русской истории»: «Среди всеобщего оцепенения умов не робел один герой Очаковский, фельдмаршал Миних. Побуждаемый отчасти жалостью к царскому семейству, отчасти досадою на регента, не хотевшего ни с кем делить своей власти, еще более подстрекаемый надеждою самому овладеть кормилом правления, Миних открылся принцессе в намерении избавить и ее и Россию от мучителя; просил только дозволения действовать ее именем. Она согласилась с радостью. При явном озлоблении всех сословий на Бирона фельдмаршал мог бы арестовать его среди белого дня, когда он обыкновенно посещал принцессу, и заключить в крепость в полной уверенности, что никто за него не вступится. Но Миних любил каждому делу своему давать некоторый блеск и выбрал самую трудную дорогу: он решился схватить Бирона ночью, в собственном дворце его, сооруженном тремястами солдат, и благодаря расторопности адъютанта своего Манштейна совершил опасный подвиг благополучно, не пролив капли крови. Столица с величайшею радостью узнала о падении регента; радость ее откликнулась во всей России. Принцесса объявила себя правительницею и была признана беспрекословно. Бирона отвезли в Шлиссельбургскую крепость: там он впал в совершенное отчаяние и в малодушном страхе едва не лишился рассудка, когда услышал смертный приговор, произнесенный учрежденною для суда его комиссией. Правительница даровала ему жизнь, заменив казнь ссылкою в Пелым, где построили для него особенный дом по плану Миниха».
Как мы видим, все факты здесь изложены правильно, но вместе с тем повернуты так, словно речь идет о совершенно других событиях. Чего стоит тут один только Миних, который любил каждому делу своему давать некоторый блеск и выбрал самую трудную дорогу?
Такое ощущение, как будто вся эта история списана из романов Вальтера Скотта, а не на родной почве петербургских болот произросла…
Но дело, разумеется, не только в неестественности в данной ситуации верноподданнического восторга Н.Г. Устрялова. Дело в том, что скрывает за собою этот неестественно романтический восторг…
Можно восстановить все детали переворота, совершенного Минихом в ночь на 9 января 1740 года.
Труднее понять другое…
«Если б один только человек исполнил свой долг, – вспоминал в дальнейшем отважный Манштейн, – то предприятие фельдмаршала не удалось бы…» Поразительно, но во время захвата дворца и ареста Бирона действительно не прозвучало ни одного выстрела. Никто не попытался защитить его.
Оказывается, ужасая всю страну немыслимыми жестокостями, десять лет ею правил человек, который не имел никакой силы за пределами постели императрицы. И это, наверное, самое ужасное, что и было в эпохе бироновщины.
И то, что такой человек десять лет продержался во главе гигантской империи – тоже заслуга Петра I.
Так устроил он возведенную им империю…
9
Но не удалось Анне Леопольдовне пожить в свое удовольствие в отвоеванной у Бирона стране.
Ей и вообще немного оставалось жизни.
7 марта 1746 года, двадцати восьми лет от роду, Анна Леопольдовна умрет в затерявшихся посреди русских снегов Холмогорах…
Отважный Миних, освободивший Россию от Бирона, только после своего героического поступка понял, для кого он ее освободил…
«Характер принцессы раскрылся вполне после того, как она стала великой княгиней и правительницей, – писал герой Очакова в своих мемуарах. – По природе своей она была ленива и никогда не появлялась в Кабинете; когда я приходил к ней утром с бумагами, составленными в Кабинете или теми, которые требовали какой-либо резолюции, она, чувствуя свою неспособность, часто мне говорила: “Я хотела бы, чтобы мой сын был в таком возрасте, когда мог бы царствовать сам”. Я ей всегда отвечал, что, будучи величайшей государыней в Европе, ей достаточно лишь сказать мне, если она чего-либо желает, и все исполнится, не доставив ей ни малейшего беспокойства.
Она была от природы неряшлива, повязывала голову белым платком, идучи к обедне, не носила фижм и в таком виде появлялась публично за столом и после полудня за игрой в карты с избранными ею партнерами»…
Ордена, судя по мемуарам Миниха, Анна Леопольдовна раздавала в своей спальне. Именно там был награжден орденами Святого Андрея Первозванного и Святого Александра Невского посол польского короля Августа III Линар, сделавшийся теперь обер-камергером.
Отважному Миниху, спасшему ее от Бирона, Анна Леопольдовна отплатила черной неблагодарностью. Случилось это, когда осложнились отношения между Австрией и Пруссией, и раскол прошел в стане победителей Бирона.
Миних за Пруссию стоял. Говорил, что туда надобно русских солдат послать, чтобы за Пруссию они воевали. Остерман же Австрию, как всегда, поддерживал. И Линар тоже. Поэтому и Анна Леопольдовна Остермана поддержала…
Миниху пришлось в отставку подать.
Анна Леопольдовна пыталась задобрить фельдмаршала, снова и снова одаривая его бироновским имуществом. Назначила 15 тысяч рублей годового пенсиона, подарила бироновское имение Вартемберг в Силезии, однако фельдмаршал продолжал хмуриться. Редко теперь Анна Леопольдовна ложилась спать в том же покое, что и накануне.
Слишком хорошо было известно честолюбие Миниха, чтобы надеяться, будто он уедет в свой фатерланд. Хорошо помнила Анна Леопольдовна сказанные про Миниха тетушкой Анной Иоанновной слова…
Тогда, после заключения Белградского мира, Миних попросил титул князя Украинского…
– Очень скромен Миних! – сказала Анна Иоанновна. – Я всегда думала, что он будет просить у меня титул Великого князя Московского…
Целый год правила Анна Леопольдовна и целый год боялась Миниха, пока 25 ноября 1741 года не вошла посреди ночи в ее спальню цесаревна Елизавета Петровна и не разбудила ее.
– Племяшечка! – ласково сказала она проснувшейся Анне Леопольдовне. – Пора вставать!
В ту ночь Брауншвейгская фамилия была арестована…
Младенца Иоанна Антоновича Елизавета Петровна увезла в свой дворец.
Портрет императора Иоанна Антоновича ребенком с фрейлиной Юлианой фон Менгден (с картины неизвестного художника середины XVIII в.)
Никто не спал в ту ночь в Петербурге. Народ толпами бежал за санями Елизаветы Петровны и кричал «Ура!».
Проснувшийся от криков ребенок развеселился. Он подпрыгивал на коленях новой императрицы и махал ручонками.
– Бедняжка… – погладив его по головке, сказала «дщерь Петрова». – Ты не знаешь, глупенький, отчего кричит народ. Народ радуется, что ты лишился короны.
И поцеловала ребенка в лобик. Как покойника…
Глава пятая Чтобы он всегда в сохранении от зла остался
Много на свете несчастных детей. Но едва ли сыщется среди них ребенок несчастнее императора Иоанна Антоновича.
Ему было два месяца, когда умирающая Анна Иоанновна назначила его своим преемником на императорском престоле, и его младенческий профиль отчеканили на рублевых монетах.
Теперь все указы издавались от имени ребенка, который удивленно таращился из колыбельки на взрослых дядек и тётинек, осыпавших себя его повелением всевозможными наградами.
1
Не по-детски печально и задумчиво смотрел десятимесячный император и на своего произведенного в генералиссимусы отца Антона-Ульриха, когда тот изучал поступившее из Шлиссельбурга донесение. Инженер-капитан Николай Людвиг сообщал, что «…сия крепость, хотя и не при самые границы состоит, однако оная водяной путь из России и коммуникацию из Санкт-Петербурха защищает».
Изучив донесение, генералиссимус Антон-Ульрих взял перо, и заплакал крошка император, словно пахнуло в его колыбельку холодом шлиссельбургского каземата…
Чуть больше года было императору Иоанну VI, когда, провозглашенная новой императрицей, Елизавета Петровна (она тоже приходилась Иоанну Антоновичу бабкой) взяла его на руки и, поцеловав, сказала:
– Бедное дитя. Ты ни в чем не виноват, родители твои виноваты…
И сразу из колыбели отправила она нареченного русским императором ребенка в тюрьму…
Подыскивая оправдания перевороту, совершенному Елизаветой Петровной, ангажированные Романовыми историки каждый раз намекали: дескать, русская «дщерь Петрова» забрала принадлежащую ей по праву власть у «немецкого» семейства.
Насчет русских и немцев тут надо разобраться. Императрица Елизавета Петровна была такой же полунемкой, как ее племянница – правительница Анна Леопольдовна. И власть императрица Елизавета Петровна передала императору Петру III, такому же на три четверти немцу, как и его племянник, император Иоанн Антонович.
Да и насчет вины родителей Иоанна Антоновича тоже не всё ясно.
Ни правительница Анна Леопольдовна, ни супруг ее, генералиссимус Антон-Ульрих, умом не блистали, но за год своего правления особых бед не принесли, а если сравнивать их правление с эпохой Анны Иоанновны, то этот год можно даже счастливым для России назвать.
Любопытно, что, объявив в 1741 году войну России, Швеция выставила одной из причин ее необходимость добиться возвращения русского престола потомству Петра I.
И хотя надежда шведов, что «дщерь Петрова» отблагодарит их возвращением ряда утраченных по Ништадтского миру территорий, оказалась напрасной, тем не менее начавшаяся война оказала Елизавете Петровне серьезную помощь в борьбе за власть.
23 ноября 1741 года, когда гвардейским полкам был отдан приказ о выступлении из Петербурга на войну, сторонники цесаревны распустили слух, что правительница Анна Леопольдовна удаляет гвардейцев из столицы, не имея никакой военной надобности, только ради того, чтобы провозгласить себя самодержавной императрицей. Это вызвало возмущение гвардии и немало способствовало успеху затеянного Елизаветой Петровной переворота.
Между прочим, тогда же поползли слухи, будто при рождении принца Иоанна Антоновича Анна Иоанновна приказала академикам составить гороскоп новорожденного. Учёные, изучив звездное небо, выяснили, что светила предсказывают страшный жребий царственному младенцу.
Анну Леопольдовну предупреждали об опасной деятельности Елизаветы Петровны, но правительница ограничилась тем, что взяла со своей тетки слово не действовать против нее.
Слово это богобоязненная Елизавета Петровна держала ровно день, а ночью 25 ноября 1741 года произвела дворцовый переворот.
Любопытно и то, что, завершая войну со Швецией, ставшая-таки русской императрицей «дщерь Петра» не забыла о династических претензиях Швеции и настояла, чтобы на шведский престол был посажен брат ее умершего жениха – голштинский принц Адольф-Фридрих, епископ Любекский.
Ну а сразу после переворота, 2 декабря 1741 года, заливаясь слезами, Елизавета Петровна снарядила своего несчастного внука в Ригу, чтобы запереть его в замке, прежде принадлежавшем Бирону.
Елизавета Петровна приказала стереть саму память о внуке. Указы и постановления царствования Иоанна Антоновича были изъяты, а монеты с изображением малолетнего императора подлежали переплавке. Злоумышленникам, уличенным в хранении таких монет, приказано было рубить руки.
Двухлетний Иоанн VI Антонович согласно императорской воле погружался в безвестность, а навстречу славе и власти везли в Петербург четырнадцатилетнего подростка, племянника императрицы Елизаветы Петровны, внука императора Петра I – Карла-Петра-Ульриха, будущего русского императора Петра III.
2
В жалостливом уголовном романсе советской поры поется:
Кто скитался по тюрьмам советским, Трудно граждане вам рассказать, Как приходится нам, малолеткам, Со слезами свой срок отмыкать…Тюрьмы Иоанна VI Антоновича были не советскими, да и сам он был не малолетним преступником, а русским императором, но всё остальное сходится. Нельзя без слез думать о странствиях двухлетнего Иоанна VI Антоновича по елизаветинским тюрьмам.
Через год, когда открыт был заговор камер-лакея Александра Турчанинова, прапорщика Преображенского полка Петра Ивашкина и сержанта Измайловского полка Ивана Сновидова – заговорщики планировали умертвить Елизавету Петровну и вернуть на русский трон Иоанна VI Антоновича, – малолетнего узника перевезли в крепость Динамюнде.
Но и здесь ненадолго задержался он. В марте 1743 года в Петербурге был открыт новый заговор генерал-поручика Степана Лопухина, жены его Натальи, их сына Ивана, графини Анны Бестужевой и бывшей фрейлины Анны Леопольдовны Софьи Лилиенфельдт. Злодеи осмелились в своем кругу посочувствовать судьбе Иоанна VI Антоновича и его матери Анны Леопольдовны! Заговорщики, как было сказано в указе, изданном 29 августа 1743 года, хотели «привести нас в огорчение и в озлобление народу».
Статс-даме Лопухиной и графине Бестужевой обрезали – в прямом значении этого слова! – языки и, наказав кнутом, отправили в далёкую ссылку. Туда же препроводили высеченную плетьми фрейлину Софью Лилиенфельдт.
Еще более жестоко покарали младенца Иоанна VI Антоновича и его мать Анну Леопольдовну, которые действительно были виноваты тем, что вызывали сочувствие к себе.
Их приказано было заточить в Раненбурге.
В Рязанскую губернию к новому месту заточения везли императорскую семью с предельно возможной жестокостью, так что беременная Анна Леопольдовна отморозила в пути левую руку, генералиссимус Антон-Ульрих – обе ноги, а крошка император Иоанн VI Антонович всю дорогу метался в жару и бредил.
Раненбург[112] возник на месте поместья, подаренного Петром I Алексею Даниловичу Меншикову, и, как и Шлиссельбург, сразу после кончины Петра I начал овладевать тюремной специальностью. Сюда поначалу решено было сослать лишенного званий и чинов самого А.Д. Меншикова, потом здесь находился князь С.Г. Долгоруков, теперь пришла очередь Иоанна VI Антоновича и его матери Анны Леопольдовны.
В Раненбурге для семьи императора было выстроено два домика на противоположных концах городка. Построили их второпях, и ни окованные железом двери, ни толстые решетки на окнах не защищали ни от сквозняков, ни от сырости.
Анну Леопольдовну и принца Антона-Ульриха поместили в крошечной комнате, вся обстановка которой состояла из двух деревянных кроватей, стола и грубо сколоченных табуретов.
Об Иоанне VI Антоновиче, который находился на другом конце города, несчастные родители не могли добиться сведений, а стражники – им объяснили, что арестанты – существа «сущеглупые», – молчали, потому что и сами не слышали ни о каком малолетнем императоре.
Капитан-поручик Вындомский приказал солдатам, охранявшим Анну Леопольдовну и принца Антона-Ульриха, не церемониться с арестантами и, когда они начнут «заговариваться», вязать их и обливать холодной водой.
Так солдаты и поступили, когда Анне Леопольдовне вздумалось позвать начальника. Они связали беременную женщину, бросили на пол и облили ледяной водой. Принц Антон-Ульрих, которого загодя привязали к кровати, подтверждая свою «сущеглупость», рыдал и осыпал мучителей проклятиями на немецком языке, и солдатам пришлось облить ледяной водой и генералиссимуса.
А Иоанну VI Антоновичу была придумана еще более жестокая, чем родителям, пытка. С ним запрещено было говорить. Юлиана Менгден, придворная дама Анны Леопольдовны, попыталась было шепотом разговаривать с ребенком, но солдаты отогнали ее.
3
Все эти годы продолжалось начавшееся по распоряжению генералиссимуса Антона-Ульриха укрепление Шлиссельбургской крепости.
Под бастионами, которые размывало водой, сделали каменный фундамент, одели в камень – сложили из известняка наружные (эскарповые) подпорные стены – и сами бастионы. Куртины – треугольные стены – соединили бастионы в единую систему укреплений.
Шлиссельбургская крепость превратилась в результате в первоклассное фортификационное сооружение, но работы, хотя за производством их и наблюдал генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, затянулись.
Когда из Раненбурга пришло донесение о попытке освободить Иоанна VI Антоновича, императрица Елизавета Петровна долго не могла сообразить, куда теперь определить любимого внука.
27 июня 1744 года камергеру барону Н.А. Корфу предписано было везти Иоанна VI Антоновича в Соловецкий монастырь.
Брауншвейгское семейство везли к Архангельску, через Переяславль-Рязанский, Владимир, Ярославль и Вологду, не останавливаясь в этих городах. Согласно указу, данному барону Корфу, довольствовали арестантов так, «чтобы человеку можно было сыту быть, и кормить тем, что там можно сыскать без излишних прихотей».
Ещё большей суровостью отличалась инструкция относительно четырехлетнего Иоанна VI Антоновича. Его везли в Архангельск под именем Григория[113], причем приказано было везти его скрытно, никому, даже подводчикам, не показывать и держать коляску всегда закрытою.
В Архангельске «младенца» следовало ночью посадить на судно и ночью же пронести в монастырь. Там и велено было содержать его под строгим караулом, «никуда из камеры не выпускать, и быть при нём днём и ночью слуге, чтобы в двери не ушёл или в окно от резвости не выскочил».
Продолжая традиции отца, Елизавета Петровна всё предусмотрела вплоть до самых малейших деталей, но при этом упустила то обстоятельство, что осенью добраться до Соловецких островов весьма затруднительно.
Барон Корф, не желая рисковать собственной жизнью, уверил императрицу, что Соловки – ненадежное место, поскольку летом туда заходят шведские суда и трудно исключить возможность побега.
Считается, что в решении судьбы несчастных узников участвовал и М.В. Ломоносов, посоветовавший отправить Иоанна VI Антоновича в Холмогоры.
Спешным образом переделали под тюрьму пустующий в Холмогорах – архиерейская кафедра была перенесена в Архангельск! – архиерейский дом и разместили в нем несчастного младенца-императора, а отдельно от него, в келье, окна которой выходили на скотный двор, «двух сущеглупых, кои там будут иметь пребывание до кончины».
Тоскливо было узникам в Холмогорах зимой, когда ненадолго поднималось холодное солнце, еще тоскливее становилось летом, когда солнце не сходило с неба, и казалось, что не будет конца бесконечному дню заточения.
Безрадостный вид – несколько деревьев, хозяйственные постройки да за высоким забором пустынная, нескончаемая даль – открывался из забранных решетками окон, но ничего другого не суждено было более увидеть ни правительнице Анне Леопольдовне, ни ее супругу, генералиссимусу Антону-Ульриху.
Сохранилось не так уж и много документов о тюремных мытарствах ребенка-императора. Документы эти позволяют лишь предположительно говорить о развитии и образовании Иоанна VI Антоновича.
Совершенно определенно известно, что официальные инструкции не только не предусматривали какого-либо обучения мальчика, но и воспрещали разъяснять ему его положение.
Ребенок рос и развивался физически, лишенный общения со сверстниками и возможности играть, не подозревая, кто он такой и почему с ним обращаются так жестоко и бессердечно.
Страдания ребенка были так велики, что они сводили с ума даже его тюремщиков. Поэтому, когда до Петербурга дошли слухи о странных выходках майора Мюллера, чтобы подкрепить его, решили послать ему в помощь его жену сердобольную фрау Мюллер. Считается, что это она и выучила Иоанна VI Антоновича читать, писать и молиться…
Когда Иоанну Антоновичу исполнилось 15 лет, фрау Мюллер нашла возможность завязать отношения с принцем. Через нее генералиссимус узнал, что сын живет рядом, и начал переписываться с ним.
Долго так продолжаться не могло, и в 1756 году, когда допрашивали в Тайной канцелярии тобольского купца-раскольника И. Зубарева, показавшего, что прусский король Фридрих произвел его в полковники, чтобы он подготовил побег Иоанна VI Антоновича, то пятнадцатилетнего императора решено было – уже завершили ремонт крепости! – перевести в Шлиссельбург.
В начале 1756 года сержант Лейбкампании Савин получил предписание тайно вывезти Иоанна Антоновича из Холмогор и секретно доставить в Шлиссельбург, а полковнику Вындомскому, главному приставу при Брауншвейгской семье, дан был указ: «Оставшихся арестантов содержать по-прежнему, и строже и с прибавкою караула, чтобы не подать вида о вывозе арестанта; в кабинет наш и по отправлении арестанта репортовать, что он под вашим караулом находится, как и прежде репортовали».
4
В Шлиссельбурге режим секретности еще более усилился.
Кто содержится в каземате Шлиссельбургской крепости под именем «известного арестанта» и «безымянного колодника», не положено было знать даже коменданту крепости майору А.Ф. Бередникову.
С легкой руки автора романа «Мирович» Григория Петровича Данилевского, поместившего своего героя в каземат Светличной башни Шлиссельбургской крепости, который позднее использовался как карцер, эта информация кочует как по туристическим путеводителям, так и по научным статьям.
Между тем, познакомившись с «Бумагами по шлиссельбургскому бунту», приложенными ко второму тому книги В.А. Бильбасова «История Екатерины II», можно утверждать, что Иоанна Антоновича содержали совершенно в другом помещении, скорее всего в казарме, отделенной от общего крепостного двора каналом…
Инструкция, данная графом А.И. Шуваловым гвардии капитану А. Шубину, гласила:
«Бысть у онага арестанта вам самому и Ингермандландского пехотного полка прапорщику Власьеву, а когда за нужное найдете, то быть и сержанту Луке Чекину в той казарме дозволяется, а кроме же вас и прапорщика, в ту казарму никому ни для чего не входить, чтоб арестанта видеть никто не мог, також арестанта из казармы не выпускать: когда же для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтоб его видеть не могли.
Где вы обретаться будете, запрещается вам и команде вашей под жесточайшим гневом Ее Императорского Величества никому не писать…
В котором месте арестант содержится и далеко ли от Петербурга или Москвы арестанту не сказывать, чтоб он не знал.
Вам и команде вашей, кто допущен будет арестанта видеть, отнюдь никому не сказывать, каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить под смертною казнью, коли кто скажет».
В 1757 году А. Шубина заменил капитан Овцын, которому мы обязаны единственными, кажется, описаниями Иоанна VI Антоновича.
Май 1759 года. «Об арестанте доношу, что он здоров и, хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался, что его портят шептаньем, дутьем, пусканьем изо рта огня и дыма; кто в постели лежа повернется или ногу переложит, за то сердится, сказывает, шепчут и тем его портят; приходил раз, к подпоручику, чтоб его бить, и мне говорил, чтоб его унять, и ежели не уйму, то он станет бить; когда я стану разговаривать (разубеждать), то и меня таким же еретиком называет; ежели в сенях или на галереи часовой стукнет или кашлянет, за то сердится».
Июнь 1759 года. «Арестант здоров, а в поступках так же, как и прежде, не могу понять, воистину ль он в уме помешался или притворничествует. Сего месяца 10 числа осердился, что не дал ему ножниц; схватив меня за рукав, кричал, что когда он говорит о порче, чтоб смотреть на лицо его прилежно и будто я с ним говорю грубо, а подпоручику, крича, говорил: “Смеешь ли ты, свинья, со мною говорить?” Садился на окно – я опасен, чтоб, разбив стекло, не бросился вон; и когда говорю, чтоб не садился, не слушает и многие беспокойства делает. Во время обеда за столом всегда кривляет рот, головою и ложкою на меня, также и на прочих взмахивает и многие другие проказы делает. Стараюсь ему угождать, только ничем не могу, и что более угождаю, то более беспокойствует. 14 числа по обыкновению своему говорил мне о порче; я сказал ему: “Пожалуй, оставь, я этой пустоты более слушать не хочу”, потом пошел от него прочь. Он, охватя меня за рукав, с великим сердцем рванул так, что тулуп изорвал. Я, боясь, чтоб он не убил, закричал на него: “Что, ты меня бить хочешь! Поэтому я тебя уйму”, на что он кричал: “Смеешь ли ты унимать? Я сам тебя уйму”. И если б я не вышел из казармы, он бы меня убил. Опасаюсь, чтоб не согрешить, ежели не донести, что он в уме не помешался, однако ж весьма сомневаюся, потому что о прочем обо всем говорит порядочно, доказывает евангелием, апостолом, минеею, прологом, Маргаритою и прочими книгами, сказывает, в котором месте и в житии которого святого пишет; когда я говорил ему, что напрасно сердится, чем прогневляет Бога и много себе худа сделает, на что говорит, ежели б он жил с монахами в монастыре, то б и не сердился, там еретиков нет, и часто смеется, только весьма скрытно; нонешнее время перед прежним гораздо более беспокойствует».
Свидетельства чрезвычайно любопытные.
Овцын разумеется шаржирует вспыльчивость Иоанна VI Антоновича, его повышенную раздражительность, но даже если это и так, то тут надо говорить не о помешательстве девятнадцатилетнего юноши, без какой-либо на то вины проведшего всю свою жизнь в тюрьмах, а о его необыкновенном смирении и терпении.
Во-вторых, вопреки распространенному мнению о неразвитости и даже некоем скудоумии Иоанна VI Антоновича, мы видим вполне разумного и достаточно начитанного молодого человека. Об этом свидетельствуют книги, на которые ссылается он, обосновывая свои мысли: Евангелие, Апостол, жития святых, поучения Святых Отцов…
Подчеркнем, что Иоанн VI Антонович был здоровым юношей, и в питании – «Арестанту пища определена в обед по пяти и в ужин по пяти же блюд, в каждый день вина по одной, полпива по шести бутылок, квасу потребное число» – его никто не ограничивал. При этом всё жизненное пространство Иоанна VI Антоновича было стеснено каменным мешком с единственным окном… Тут, право же, задумаешься, насколько гуманным было столь обильное пищевое довольствование. Энергия и сила переполняли юношу и, не находя выхода, грозили разорвать его.
Надо подчеркнуть, что измученные скукой караульные офицеры не отказывали себе в удовольствии развлечься за счет загадочного арестанта и постоянно провоцировали в нем вспышки ярости.
«Прикажите кого прислать, истинно возможности нет; я и о них (офицерах) весьма сомневаюсь, что нарочно раздражают, – пишет Овцын в июле 1759 года. – Не знаю, что делать, всякий час боюсь, что кого убьет; пока репорт писал, несколько раз принужден был входить к нему для успокоения, и много раз старается о себе, кто он, сказывать, только я запрещаю ему, выхожу вон».
Замены, как известно, не последовало. Подобное поведение стражников если не поощрялось властями, то и не запрещалось, а порою и инспирировалось ими.
Однажды, по поручению графа А.И. Шувалова, капитан Овцын задал Иоанну VI Антоновичу вопрос: кто он? Внимательно оглянув Овцына, Иоанн VI Антонович ответил, что он человек великий, но один подлый офицер это у него отнял и имя переменил…
– Великий человек? – переспросил Овцын.
– Да! – сказал Иоанн VI Антонович. – Я – принц.
«Я ему сказал, – пишет А.И. Шувалову капитан Овцын, – чтоб он о себе той пустоты не думал и впредь того не врал, на что, весьма осердясь, на меня закричал, для чего я смею ему так говорить и запрещать такому великому человеку. Я ему повторял, чтоб он этой пустоты, конечно, не думал и не врал и ему то приказываю повелением, на что он закричал: я и повелителя не слушаю, потом еще два раза закричал, что он принц, и пошел с великим сердцем ко мне; я, боясь, чтоб он не убил, вышел за дверь и опять, помедля, к нему вошел: он, бегая по казарме в великом сердце, шептал, что – не слышно.
Видно, что ноне гораздо более прежнего помешался; дня три как в лице, кажется, несколько почернел, и, чтоб от него не робеть, в том, высокосиятельнейший граф, воздержаться не могу; один с ним остаться не могу; когда станет шалить и сделает страшную рожу, отчего я в лице изменюсь; он, то видя, более шалит».
Если читать донесения Овцына отстраненно от переживаний Иоанна VI Антоновича, картина смазывается, рисуется образ человека с разрушенной психикой, уже миновавшего черту, за которой можно и не говорить о несправедливости доставшейся ему судьбы.
Вот Овцын сообщает, что в сентябре 1759 года арестант вел себя несколько смирнее; потом опять стал браниться и драться и не было спокойного часа; а с ноября снова стал смирен и послушен… Всё буднично, все обыкновенно и всё безразлично скучно.
Но если попытаться представить, что переживал в эти бесконечные месяцы заточения сам несчастный Иоанн VI Антонович, начинаешь задыхаться от ужаса, из которого девятнадцатилетнему юноше не было выхода даже в безумие.
Тут нужно иметь в виду, что Иоанн VI Антонович знал то, что самому Овцыну было неведомо. Однажды тот повысил голос.
– Как ты смеешь на меня кричать?! – сказал в ответ Иоанн VI Антонович. – Я здешней империи принц и государь ваш.
Памятуя указание А.И. Шувалова, капитан Овцын объявил арестанту, что «если он пустоты своей врать не отстанет, также и с офицерами драться, то всё платье от него отберут и пища ему не такая будет».
– Кто так велел сказать?
– Тот, кто всем нам командир, – отвечал Овцын.
– Всё это вранье, – сказал Иоанн VI Антонович. – Я никого не слушаюсь, разве сама императрица мне прикажет.
Овцын расценил это, как очередное свидетельство слабоумия «безымянного колодника». Любопытно, что об издевательствах, чинимых над юношей-императором, он пишет в своих донесениях совершенно открыто.
В апреле 1760 года Овцын доносил, например, что «арестант здоров и временем беспокоен, а до того всегда его доводят офицеры, всегда его дразнят». В 1761 году он сообщал, что придумали средство лечить «арестанта» от беспокойства, лишая его чаю, а также не давая «чулок крепких», в результате чего арестант присмирел совершенно.
Были и более радикальные способы «лечения» арестанта.
Однажды Иоанн VI Антонович снова начал «качать права», выкрикивая, что он «здешней империи принц и государь ваш».
Капитан Овцын долго слушал его, а потом с размаху ударил императора кулаком в висок, отчего тот упал и потерял сознание.
5
Так пришло 26 декабря 1761 года, когда умерла столь жалостливая к Иоанну VI Антоновичу – «Бедное дитя. Ты ни в чем не виноват, родители твои виноваты»… – бабушка, императрица Елизавета Петровна.
Миновали два десятилетия правления этой «дщери Петровой».
Кончились с ними два десятилетия первого тюремного срока императора Иоанна VI Антоновича.
Наши историки, дабы оправдать незаконный захват трона «дщерью Петровой» и возвращение трона в петровскую (нарышкинскую) ветвь династии Романовых, объявили и самого царя Ивана V Алексеевича, и всё его потомство, вплоть до несчастного Иоанна VI Антоновича, умственно неполноценными, «сущеглупыми».
«Царь Иоанн был от природы скорбен головой, косноязычен, страдал цингой, плохо видел и уже на восемнадцатом году от рождения, расслабленный, обремененный немощью духа и тела служил предметом сожаления и даже насмешек бояр, его окружавших…
Из трех дочерей покойного каждая унаследовала многие черты слабого ума своего родителя…
Природа, в соблюдении своих законов всегда неумолимая, не сделала исключения для дочери герцогини Мекленбургской при наделе или, вернее, при обделе Анны Леопольдовны умственными способностями»…
А с каким сладострастием описывали эти историки уродство детей, рожденных Анной Леопольдовной в холмогорских снегах?
«Принцесса Екатерина (1741 г.) – сложения больного, почти чахоточного, при том несколько глуха, говорит немо и невнятно; одержима всегда болезненными припадками… страдала цингой; в 38 лет была без зубов. Нрава робкого, уклонного, стыдливого.
Принцесса Елизавета[114] (1743 г.), на 10-м году возраста упала с каменной лестницы, расшибла голову; подвержена частым головным болям и припадкам. В 1777 году страдала помешательством, но после оправилась.
Принц Петр (1745 г.) имеет спереди и сзади горб; кривобок, косолап, прост, робок, застенчив, молчалив; приемы его приличны только малым детям. Нрава слишком веселого: смеется и хохочет, когда совсем нет ничего смешного. Страдает геморроидальными припадками; до обмороку боится вида крови.
Принц Алексей (1746 г.) – совершенное подобие брата в физическом и нравственном отношении»…
Говорилось, что достаточно взглянуть на силуэты этих несчастных, чтобы по профилям, по неправильной форме их голов догадаться о врожденном слабоумии. В результате у впечатлительного читателя не оставалось сомнения, что вот эти воистину чахлые, ядовитые плоды засохшей милославской ветви…
И тут, объективности ради, сравнить бы потомков царя Ивана V Алексеевича с Петром III, являвшимся прямым внуком Петра I, но традиционная история подобных сопоставлений избегала…
И не случайно… Внук Петра I, несмотря на хлопоты наставников, так и не научился толком говорить по-русски, так и не смог уразуметь разницу в религиозных обрядах лютеранства и православия. Так на всю жизнь и остался он без Бога, без родины. В бедную голову его так и не вместилось осознание просторов России, и, став взрослым, он, предвосхищая Михаила Сергеевича Горбачева, всегда считал титул Русского Императора менее важным, нежели чин генерала прусской службы.
Как справедливо заметил психиатр П.И. Ковалевский, «в его лице маленькому человеку выпало исполнять должность великого человека»…
Этот человек и должен был определить дальнейшую судьбу «безымянного узника» Иоанна VI Антоновича.
6
Мы уже говорили, что бывший император Иоанн VI Антонович, которому исполнилось тогда всего один год, вполне мог встретиться в декабре 1741 года, по дороге в Ригу, со своим дядей, четырнадцатилетним Карлом-Петром-Ульрихом, которого везли в Россию, чтобы сделать его императором Петром III.
Но встретились они только после кончины Елизаветы Петровны, когда 18 марта 1762 года император Петр III изволил посетить Шлиссельбургскую крепость.
Встрече этой предшествовало письмо, полученное Петром III от прусского короля Фридриха II, встревожившегося, что Петр III собирается отправиться за границу для ведения войны с Данией за голштинские владения:
«Припомните, ваше императорское величество, что случилось в первое отсутствие императора Петра I, как его родная сестра составила против него заговор!
Предположите, что какой-нибудь негодяй с беспокойною головой начнет в ваше отсутствие интриговать для возведения на престол этого Ивана, составит заговор с помощью иностранных денег, чтобы вывести Ивана из темницы, подговорить войско и других негодяев, которые и присоединятся к нему: – не должны ли вы будете тогда покинуть войну против датчан, хотя бы все шло с отличным успехом, и поспешно возвратиться, чтоб тушить пожар собственного дома»…
Любопытна уже сама эта встреча двух родственников, дяди и племянника, встреча двух русских императоров, бывшего и настоящего, являющихся при этом по крови на три четверти немцами…
Но это с одной стороны, а с другой…
«Маленький человек», которому «выпало исполнять должность великого человека», и узник, без малейшей вины проведший в тюрьме два десятилетия.
Самовластный тиран и несчастный, затравленный жестокими стражниками юноша… Человек, не умеющий понять отличие православия от лютеранства, и «безымянный колодник», неведомо как и где постигший главные книги Русского православия.
Впечатления Петра III от встречи с Иоанном VI Антоновичем обличают самого Петра III сильнее, чем многочисленные воспоминания очевидцев его правления. Какая же убогость чувств и черствость души должны были быть в этом человеке, чтобы даже вопреки тому, что оба они принадлежали к числу русских императоров и оба были на три четверти немцами, не разглядеть в Иоанне VI Антоновиче личности, достойной хотя бы сочувствия.
Инструкция, данная графом А.И. Шуваловым новому главному приставу Иоанна VI Антоновича князю Чурмантееву, предписывала: «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою или плетью».
Отдавая свое жестокое распоряжение, Петр III, разумеется, не догадывался, что и ему, всесильному русскому императору, как и несчастному, жестоко избиваемому в каземате Шлиссельбургской крепости Иоанну VI Антоновичу, самому предстоит принять судьбу бесправного узника.
После переворота, произведенного Екатериной II, тридцатичетырехлетнего императора Петра III заключили в Ропше, и 6 июля 1762 года он был убит там. Из донесения, посланного Алексеем Орловым, явствовало, что Петр III за столом заспорил с одним из собеседников; Орлов и другие бросились их разнимать, но сделали это так неловко, что хилый узник оказался мертвым.
«Не успели мы разнять, а его уже и не стало… – писал пьяный Орлов в донесении, – сами не помним, что делали».
Шевалье Рюльер, в служебные обязанности которого входил сбор сведений о Екатерине II и произведенном ею перевороте, писал: «Нельзя достоверно сказать, какое участие принимала императрица в сем приключении; но известно то, что в сей самый день, когда сие случилось, государыня садилась за стол с отменною веселостью.
Вдруг является тот самый Орлов – растрепанный, в поте и пыли, в изорванном платье, с беспокойным лицом, исполненным ужаса и торопливости. Войдя в комнату, сверкающие и быстрые глаза его искали императрицу. Не говоря ни слова, она встала, пошла в кабинет, куда и он последовал; через несколько минут она позвала к себе графа Панина, который был уже наименован ее министром. Она известила его, что государь умер, и советовалась с ним, каким образом публиковать о его смерти народу. Панин советовал пропустить одну ночь и на другой утро объявить сию новость, как будто сие случилось ночью. Приняв сей совет, императрица возвратилась с тем же лицом и продолжала обедать с тою же веселостью.
Наутро, когда узнали, что Петр III умер от геморроидальной колики, она показалась, орошенная слезами, и возвестила печаль своим указом».
Только когда Петра III уже выставили перед похоронами в Александро-Невской лавре, заметили, что его лицо черно. Тогда и распространился в народе слух, будто хоронят не императора, а дворцового арапа…
7
Положение, в котором оказалась Екатерина II после переворота, было непростым. Как и Екатерина I, она не имела ни капли романовской крови, но если Екатерина I унаследовала престол после смерти мужа Петра I, то Екатерина II захватила престол, убив своего мужа.
«Мое положение таково, что я должна принимать во внимание многие обстоятельства, – писала она Станиславу Понятовскому, – последний солдат гвардии считает себя виновником моего воцарения, и при всем том заметно общее брожение… Если я уступлю, меня будут обожать; если нет, то не знаю, что случится».
Тут Екатерина нисколько не сгущала краски.
Известно, что когда Екатерина II объявила в Сенате о намерении выйти замуж за Григория Орлова, воспитатель наследника престола Н.И. Панин сказал, что императрица вольна в своих решениях, но госпожа Орлова никогда не была нашей императрицей.
Вскоре после коронации был раскрыт заговор поручика Семена Гурьева и Петра Хрущева, которые собирались возвести на престол Иоанна VI Антоновича. Главные заговорщики были приговорены к смертной казни, другие офицеры – к каторжным работам.
Очевидно, что после произведенного Екатериной II переворота судьба императора Иоанна VI Антоновича не могла оставаться прежней.
Известно, что возвращенный из ссылки А.П. Бестужев разрабатывал даже план брачного союза Екатерины II с Иоанном VI Антоновичем.
Насколько верны эти свидетельства, судить трудно, но можно не сомневаться, что, если бы только этого потребовали обстоятельства, Екатерина II вполне могла бы выйти замуж и за шлиссельбургского узника. Чтобы удержаться на русском троне, императрица готова была заплатить любую цену.
И совершенно точно известно, что императрица Екатерина II виделась с Иоанном VI Антоновичем и, как сама признала позже, нашла его в полном уме.
Повторим, что обстоятельства вполне могли повернуться в любую сторону, и не обязательно перемена в положении Иоанна VI Антоновича должна была стать несчастливой. Не обязательно…
Другое дело, что Екатерина II была сильной и самобытной личностью и в переломный в своей биографии момент она не замкнулась на дворцово-династических интригах, а решила воздействовать на общество, изменяя в нужном для себя направлении и общественные настроения, и само общественное устройство страны.
Решительно пошла она на убийство своего супруга, законного русского императора Петра III.
Теперь наступила очередь второго законного русского императора…
В инструкции, данной после встречи императрицы со шлиссельбургским узником, всё было сказано ясно и четко:
«Ежели паче чаяния случится, чтоб кто с командою или один, хотя бы то был и комендант или иной какой офицер, без именного за собственноручным Императорского Величества подписанием повеления или без письменного от меня приказа и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать то за подлог или неприятельскую руку. Буде же так оная сильна будет рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать».
Безусловно, Екатерина II обладала незаурядными актерскими и режиссерскими способностями.
Всё, что необходимо было совершить, совершалось, но совершалось это как бы без ее участия.
Вот и поразительное по жестокости убийство императора Иоанна VI Антоновича, которое должно было произойти – нельзя, нельзя было оставлять в живых человека, который имеет неизмеримо больше прав на русский престол, чем она! – произошло, но как бы без всякого участия самой императрицы.
8
Сюжет, который вошел в русскую историю под названием «попытка Мировича», предельно прост.
Стоявший в гарнизоне крепости подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович, человек «честолюбивый и на всех обиженный»[115], в ночь с 4 на 5 июля 1764 года скомандовал своим солдатам «В ружье» и двинулся к казарме, где содержался Иоанн VI Антонович.
Мирович арестовал коменданта крепости А.Ф. Бередникова и потребовал выдачи Иоанна VI Антоновича.
Тот отказался, и Мирович навел на дверь каземата пушку.
Согласно имеющейся у них инструкции, караульный офицер поручик Чекин штыком заколол императора Иоанна VI Антоновича.
Кровь безвинного страдальца обагрила древние камни Шлиссельбурга.
Когда Мирович во главе своих солдат ворвался в камеру узника, он понял, что проиграл: на полу лежал мертвый Иоанн VI Антонович.
Солдаты хотели заколоть караульных офицеров штыками, но Мирович не допустил этого.
– Теперь помощи нам нет никакой! – сказал он. – Теперь они правы, а мы виноваты.
Следствие над Мировичем было проведено быстро, и, кажется, впервые в деле, связанном с попыткой дворцового переворота, обошлись без пыток.
Никаких сообщников В.Я. Мировича следствие не установило, да и не пыталось установить.
Сам Василий Яковлевич показал, что действовал он на свой страх и риск и имел лишь одного товарища: поручика пехотного полка Аполлона Ушакова.
В середине мая 1764 года они отслужили панихиду в Казанском соборе по самим себе, и через две недели Аполлон Ушаков утонул, а Мирович решил исполнить свой замысел в одиночку и тоже готов теперь взойти на эшафот.
Все эти показания, учитывая режим секретности, которым было окружено заточение Иоанна VI Антоновича, выглядят чрезвычайно неубедительно. Кроме того, есть косвенные свидетельства, что Мирович был связан с братьями Орловыми и таким образом его «попытка» приобретает характер спланированной самой императрицей и ее ближайшим окружением провокации.
Следствие отрабатывать такую версию не стало.
Вообще весь ход его был определен заранее.
«Но не могли однако же избегнуть зла и коварства в роде человеческом чудовища, каковый ныне в Шлиссельбурге с отчаянием живота своего в ужасном своем действии явился, – говорилось в манифесте об умерщвлении принца Иоанна Антоновича, выпущенном 17 августа 1764 года. – Некто подпоручик Смоленского пехотного полку малороссиянец Василей Мирович, перьвого изменника с Мазепою Мировича внук, по крови своей, как видно Отечеству вероломный, провождая свою жизнь в мотовстве и распутстве, и тем лишась всех способов к достижению чести и счастья, напоследок отступил от Закона Божьего и присяги своей Нам принесенной, и не зная, как только по слуху единому о имени принца Иоанна, а тем меньше о душевных его качествах и телесном сложении, зделал себе предмет, через какое бы то ни было в народе кровопролитное смятение, щастие для себя возвысить».
Говорят, что Петр Иванович Панин прямо спросил у Мировича:
– Для чего ты принял такой злодейский умысел?
– Для того чтобы быть тем, чем ты стал! – ответил Мирович.
Всех подчиненных поручика забили палками, прогнав сквозь тысячный строй, а Василию Мировичу был оглашен отдельный приговор, в котором отмечалось, что злодей:
«1) хотел и старался низвести с престола императрицу, лишить прав наследника ея, возвести Иоанна, причем хотел уничтожить всех противящихся его намерениям.
2) Поводами к сему было то, что не имел свободного доступа во дворец, не получил отписных его предка имений, наконец, хотел себе составить счастье.
3) Обще с поручиком Великолуцкого пехотного полка Аполлоном Ушаковым давал в церквах разные обеты, призывая Бога и Богородицу себе на помощь.
4) Сочинил и написал от имени Императрицы указ. Своей же рукой писал и другие возмутительные сочинения, наполнив их неизречимыми непристойностями против императрицы.
5) Разными хитростями вовлек и опутал других несмысленных и простых людей в свои сети, иных лестью, других обманом, иных насильством, стращая смертию, и с сими людьми сделал нападение. Из ружей стрелял. Пушку наводил. Коменданта Бередникова, уязвя, арестовал.
6) Был причиною приневольной смерти принца Иоанна, в чем сам признался.
По сему приговариваем отсечь Мировичу голову, оставить тело на позорище народу до вечера, а потом сжечь оное купно с эшафотом».
В ночь на 15 сентября 1764 года на Обжорном (Сытном) рынке Санкт-Петербурга воздвигли эшафот, на который возвели честолюбивого поручика. Вечером этот эшафот вместе с обезглавленным телом был сожжен.
9
Мы еще будем говорить, что Алексей Орлов, убивая в Ропше императора Петра III, руководствовался только полунамеками и не догадывался даже, что убивает последнего Романова из петровской (нарышкинской) ветви династии[116].
Поручик Чекин, убивая в Шлиссельбургской крепости Иоанна VI Антоновича, руководствовался совершенно ясной и определенной инструкцией Екатерины II и старался вообще не думать, кто тот арестант, которого он убивает. Разумеется, он не осознавал, что, убивая императора Иоанна VI Антоновича, он убивает последнего Романова из иоанновской (милославской) ветви династии…
Он так и не узнал – «Не прикасайтеся помазанным Моим!» – что он совершил в русской истории.
Это знала только сама Екатерина II. Любопытно, что она сама озаботилась созданием для истории своего алиби в этом преступлении.
Среди бумаг императрицы нашлась писанная к Н.И. Панину, но почему-то неотправленная записка, «относящаяся», как пишет Александр Густавович Брикнер, «кажется к Иоанну».
«Мое мнение есть, чтоб… из рук не выпускать, дабы всегда в охранении от зла остался, только постричь ныне и переменить жилище в не весьма близкий и в не весьма отдаленный монастырь, особливо в такой, где богомолья нет, и тут содержать под таким присмотром, как и ныне; еще справиться, можно нет ли посреди муромских лесов, в Коле или в Новгородской епархии таких мест»[117].
Никакого алиби записка эта не обеспечила, но есть в ней поразительные слова: «…дабы всегда в охранении от зла остался», необыкновенно глубоко рисующие впечатление, которое произвел на Екатерину II при личной встрече Иоанн VI Антонович.
Впечатление это разительно разниться с тем, что сказано в манифесте об умерщвлении принца Иоанна Антоновича:
«…По природному Нашему человеколюбию, чтоб сему судьбою Божиею низложенному человеку сделать жребий облегченный в стесненной его от младенчества жизни. Мы тогда же положили сего принца видеть, дабы узнав его душевные свойствы и жизнь его по природным его качествам и по воспитанию, которое он до того времени имел, определить спокойную.
Но с чувствительностью Нашею увидели в нем кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества лишение разума и смысла человеческого. Все бывшие тогда с нами видели, сколько Наше сердце сострадало жалостию человечеству. Все напоследок и то увидели, что Нам не оставалося сему нещастно-рожденному, а нещастнейше еще возросшему иной учинить помощи, как оставить его в том же жилище, в котором Мы его нашли затворенного, и дать всяческое человеческое возможное удовольствие; что и делом самим немедленно учинить повелели, хотя при том чувствы его лучшего в том состоянии противу прежняго уж и не требовали, – ибо он не знал ни людей, ни розсудка не имел доброе отличить от худаго, так как и не мог при том чтением книг жизнь свою пробавлять, а за едино блаженство себе почитал довольствоватися мыслями теми, в которые лишение смысла человеческого его приводило».
Вообще-то утверждение, будто Иоанн VI Антонович «розсудка не имел доброе отличить от худаго, так как и не мог при том чтением книг жизнь свою пробавлять», прямо противоречит донесениям самих тюремщиков, но в манифесте, написанном, как считается, Н.И. Паниным, есть и другие, еще более не согласующиеся с подлинностью подробности.
Например, когда Мирович «пушку с потребным снарядом» взял с бастиона и сопротивляться стало невозможно, капитан Власьев и поручик Чекин действовали, оказывается, не по инструкции, предписывающей убийство императора, а по собственному разумению.
«Увидя перед собою совсем силу непреодоленную и неизбежно-предтекущее погубление (ежели бы сей вверенный был освобожден) многаго невинного народа от последующего через то в обществе мятежа, приняли между собою крайнейшую резолюцию, – пресечь оное пресечением жизни одного к нещастию рожденного».
Можно привести и другие нелепости, декларируемые манифестом, но, собственно говоря, избежать этих накладок и подчисток в манифесте, объявляющем во всенародное известие версию убийства в империи ее пусть и «незаконно во младенчестве определенного ко Всероссийскому Престолу» императора, было просто невозможно.
Поэтому-то и остается неопровергнутым впечатление о встрече со шлиссельбургским узником, записанное самой Екатериной II.
Ее можно упрекать и в чрезмерном властолюбии, и в развратности, и во множестве других грехов, но при этом, несомненно, она была наделена бесценным даром понимания людей, с которыми приходилось встречаться.
Вот и, увидев проведшего всю свою жизнь в заключении Иоанна VI Антоновича – он был на одиннадцать лет моложе Екатерины II, – она увидела не диковатого, нездорового вида молодого мужчину, проведшего всю свою жизнь в тюрьмах, а человека, взглянув на которого хотелось, чтобы он «всегда в охранении от зла остался».
Желание это было непонятно и самой Екатерине II, но оно появилось, оно оказалось даже закреплено на бумаге… Еще одно свидетельство, рисующее духовное состояние Иоанна VI Антоновича перед его мученической кончиной, находим мы в донесениях тюремщиков. В ответ на увещевания Власьева и Чекина, склонявших его к принятию монашества, Иоанн VI Антонович ответил: «Я в монашеский чин желаю, только страшусь Святаго Духа, притом же я безплотный».
Тюремщикам Иоанна VI Антоновича, как и историкам, слова эти показались свидетельством слабоумия «шлиссельбургского узника». Мы же, зная, что они сказаны накануне его мученической кончины, склонны считать их святым пророчеством.
А тогда в июле 1764 года, кажется, только один человек и понимал, что случилось.
Ах, как плакала, как страдала блаженная Ксения Петербургская в те дни.
– Что ты плачешь, Андрей Федорович? – жалея Ксению, спрашивали тогда прохожие. – Не обидел ли тебя кто?
– Кровь, кровь, кровь… – отвечала Ксения. – Там реки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь… И еще три недели плакала Ксения, прежде чем стало известно в Петербурге, что в Шлиссельбурге убили Иоанна VI Антоновича.
Никто не знает, где похоронили этого русского императора[118].
По приказу Екатерины II погребение было совершено в строжайшей тайне…
Одни исследователи считают, что Иоанна VI Антоновича увезли хоронить в Тихвинский Богородицкий монастырь, другие полагают, что его погребли в Шлиссельбурге и на месте могилы воздвигли собор пророка Иоанна Предтечи[119].
Последняя версия, на наш взгляд, наиболее вероятна.
Скорее всего, погребение императора находится под фундаментом Иоанновского собора. Как известно, собор этот был заложен в 1776 году, когда умер в Холмогорах принц Антон-Ульрих. После убийства Иоанна Антоновича Екатерина II разрешила ему – принц не был членом Дома Романовых и не мог стать конкурентом в борьбе за престол! – покинуть Россию, но отец Иоанна Антоновича предпочел свободе семью, остающуюся в заключении.
Документов, подтверждающих взаимосвязь смерти принца Антона-Ульриха и закладки Иоанно-Предтеченского храма, нет, но нет и никаких иных объяснений этому строительству, никакой особой надобности в строительстве еще одной церкви в крепости тогда не было. Потребности гарнизона и немногочисленных арестантов вполне удовлетворяла крепостная церковь Успения Пресвятыя Богородицы.
В 1779 году Иоанно-Предтеченский храм был достроен, и 21 июня высокопреосвященнейший Гавриил, архиепископ Новгородский и Санкт-Петербургский освятил его[120].
Заходишь под разверстые прямо в небо купола собора пророка Иоанна Предтечи, встаешь рядом с бронзовыми фигурами солдат, защищавших крепость в годы Великой Отечественной войны, и как-то легко и спокойно начинаешь думать о невероятно жестокой судьбе императора, всю свою жизнь проведшего в заточении и при этом до последних дней оставшегося таким, что даже его убийце хотелось, чтобы он «всегда в охранении от зла остался».
Его убили 4 июля 1764 года… Это по юлианскому календарю, по которому жила тогда Россия. В пересчете на григорианский календарь, который введут у нас только в 1918 году, получается 17 июля. В этот день 17 июля 1918 года убьют в Екатеринбурге всю Царскую Семью…
Глава шестая Блаженная Ксения
Можно спорить о полезности и насущности реформ, которым подвергли русскую жизнь первые Романовы, но то, что в результате этих преобразований святость оказалась оттеснена на периферию русской истории, – очевидно. После избрания на царство династии Романовых редеют ряды русских святых.
Впрочем, иначе и не могло быть – на Церковных Соборах XVII века, инициированных царем Алексеем Михайловичем, фактически объявлено было, что вся Русская Православная Церковь со всеми ее святыми – не вполне православна.
Учить Русь и исправлять русское православие Алексей Михайлович призвал выпускников иезуитских школ из Малороссии, которые настороженно относились к любой своеобычности в русских обрядах.
Ну а при Петре I гонения на Русское православие достигли апогея.
«Монахам никаких по кельям писем, как выписок из книг, так и грамоток светских, без собственного ведения настоятеля, под жестоким на теле наказанием, никому не писать и грамоток, кроме позволения настоятеля, не принимать, и по духовным и гражданским регулам чернил и бумаги не держать»…
Это не из сочинений штатного атеиста советской поры Емельяна Ярославского.
Это цитата из «Правил», приложенных к Духовному регламенту…
«18-го августа, – сказал по этому поводу А.С. Пушкин, – Петр объявил еще один из тиранских указов: под смертною казнию запрещено писать запершись. Недоносителю объявлена равная казнь». А отмена Петром I тайны исповеди, превращение им священства в официальных осведомителей Тайной канцелярии?
Еще при Петре I появился указ, по которому в монахи могли поступать только увечные и убогие люди. И это на Руси, где монастыри были главными центрами духовности и просвещения, в стране, где святые были лучшими людьми своего времени[121]…
То, что совершено было Петром I, «над самой бездной на высоте, уздой железной» поднявшим на дыбы Россию, невозможно было понять русскому человеку, ибо понимание это, как и случилось с бедным Евгением из «Медного всадника», сводило с ума.
Но Бог не бывает поругаем. И мы видим чудо…
Именно в Петербурге, в столице неведомой доселе рабовладельческой империи, где воздвигают Романовы вавилонскую башню антирусского абсолютизма, является первая после петровских реформ святая – блаженная Ксения Петербургская.
«Разум, от Бога тебе данный, ты, Ксение блаженная, в мнимом безумии скрыла еси, – говорится в Акафисте святой, – в суете града великаго аки пустынница жила еси, молитвы Богу свои вознося непрестанно».
1
Словно ангел, возникает Ксения Григорьевна в душноватой и мутной атмосфере царствия Анны Иоанновны, неведомо откуда и неведомо как…
Хотя и жила она в городе, устроенном Петром I по западному образцу со всей положенной регулярностью, хотя и принадлежала по происхождению к привилегированному обществу, но не уловилась в полицейско-бюрократическое сито ее – из молитв и чудотворений сотканная – жизнь… Не сохранилось ни точной даты рождения Ксении, ни сведений о ее родителях.
О земной жизни святой Ксении достоверно известно только то, что про нее ничего достоверно не известно.
Тем не менее исследователи полагают, что родилась блаженная Ксения примерно в 1731 году – в самом начале правления Анны Иоанновны. Это можно было бы назвать случайным совпадением, только что случайно в Божием мире? И разве можно назвать случайностью, что Господь послал русскому народу праведницу и утешительницу именно тогда, когда опустилась над нашей Родиной страшная ночь бироновщины.
Тот 1731 год памятен многими событиями…
В январе с рыбным обозом из Холмогор пришел в Москву девятнадцатилетний помор Михайло Ломоносов, «гоняющийся за видом учения везде, где казалось быть его хранилище». Его приняли в Славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре.
Открыли Ладожский обводный канал. Все таможенные и кабацкие сборы на этом канале были отданы «в диспозицию» директору строительства Бурхарду-Христофу Миниху.
Учредили кабинет министров. В него вошли граф Андрей Иванович Остерман, князь А.М. Черкасский, граф Г.И. Головкин. Сенат был лишен верховной власти, а поскольку Синод подчинялся Сенату, то в результате все православные архиереи попали в зависимость от лютеранина Остермана.
Восстановили Канцелярию тайных разыскных дел.
Еще в этом году сделано было очередное ограничение прав русских крестьян. Им запретили брать подряды, торговать в портах и заводить фабрики.
И еще…
В начале 1731 года полковник Федор Степанович Вишневецкий, возвращаясь из Венгрии, куда ездил за вином для Анны Иоанновны, увидел у дьячка в селе Чемер воспитанника Алексея Розума и привез его в Петербург. Обер-гофмаршал граф Рейнгольд Левенвольде поместил мальчика в хор при Большом дворце. Здесь черноглазого казачка увидела цесаревна Елизавета и уговорила Левенвольде уступить юного хориста. Через несколько лет, когда камер-пажа цесаревны, сержанта Алексея Никифоровича Шубина сослали на Камчатку, Алексей Розум занял его место в постели цесаревны.
Он стал к тому времени высоким, чрезвычайно красивым брюнетом.
Какая-то зловещая логика присутствует в этом совпадении даты начала правления Бирона с датой появления в Петербурге Алексея Григорьевича Разумовского.
Бурхард-Кристоф Миних. Гравюра 1764 г.
Обыкновенно историки не сопоставляют фигуры этих фаворитов – настолько разнится угрюмо-воинственная курляндская ментальность с открытым, распевно-малороссийским характером… Однако, если приглядеться внимательнее, обнаруживается, что сходство в фаворитах двух императриц все же имеется, причем настолько разительное, что порою оно заслоняет собою все различия.
И Бирон, и Разумовский получили практически неограниченную власть в России, будучи абсолютно неподготовленными к ней, как, впрочем, и их коронованные благодетельницы.
Одинаково стремительным было их возвышение.
Эрнста Иоганна Бирона сразу после уничтожения «Кондиций» Анна Иоанновна возвела в обер-камергеры и даровала ему графский титул. Вскоре он стал графом Римской империи и был возведен на курляндский престол.
Сразу после переворота, 30 ноября 1741 года, Алексей Разумовский был пожалован в камергеры и поручики Лейб-кампании с чином генерал-поручика, а при коронации 25 апреля 1742 года – в обер-егермейстеры и награжден орденом апостола Андрея Первозванного.
Разумовский был простодушным человеком, любившим выпивку, Малороссию и свою украинскую родню. Бирон любил лошадей, Курляндию и свою немецкую семью.
Густав, младший брат Бирона, к тридцати двум годам стал генерал-майором, а к тридцати восьми – генерал-аншефом. Кирилла, младшего брата Разумовского, в восемнадцать лет назначили президентом Императорской академии наук, а в двадцать два года – гетманом Украины. И Бироны, и Разумовские за годы постельной службы при сестрах-императрицах приобрели гигантские состояния.
При Бироне – знатоке и любителе лошадей – наступило засилье немцев. Особенно ярко это проявилось в конной гвардии. При Разумовском, любителе и знатоке церковного пения, немцев потеснили малороссияне[122].
Мало чем отличались при ближайшем рассмотрении и их благодетельницы – сестры-императрицы.
Даже внешне императрицы, хотя и по-разному – Анна была рябоватой, а Елизавета имела толстый, приплюснутый нос, – обе были некрасивы.
Правда, некрасивость их, если верить заискивающе-льстивым заверениям современников, с успехом компенсировали прелестные глаза и величественная фигура у Анны и великолепные глаза, красивые ноги и ослепительный от природы цвет лица у Елизаветы…
Разумеется, сохранившимся портретам тоже трудно верить, как и воспоминаниям современников, поскольку доподлинно известно, что Елизавета Петровна, к примеру, сама их редактировала и нигде не допускала правдивого изображения своего носа и вообще никогда не позволяла изображать себя в профиль.
Хотя, конечно, зная, как изменяют женщину косметика и одежда, удивляться преображению сестер-императриц в красавиц удивляться не приходится. Ведь их украшала еще и Российская империя, безраздельными повелительницами которой они были.
Анне Иоанновне было тридцать семь лет, когда она стала русской императрицей. Елизавете Петровне – тридцать два года.
Пользуясь выражением В.О. Ключевского, отметим, что молодость обеих сестер прошла «не назидательно». Ни Анну Иоанновну, ни Елизавету Петровну не готовили к тем многотрудным обязанностям, которые им предстояло исполнять. Они оказались на вершине власти, не зная, что делать с этой властью.
В результате Анна Иоанновна и, принимая доклады министров, думала, как бы поскорее улизнуть в конюшню к любимому герцогу, а Елизавета Петровна и в тронном зале вела себя как в девичьей, из-за пустяков выходила из себя и публично бранилась с послами и царедворцами «самыми неудачными словами».
Как остроумно заметила Екатерина II, при Елизавете Петровне «не следовало совсем говорить ни о Прусском короле, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науках; все эти разговоры ей не нравились»…
Схожим у сестер была и несчастливая семейная судьба.
Анне было всего три года, когда умер отец и ее с матерью и сестрами взял под покровительство дядя – Петр I. Царице Прасковье Федоровне, набожной по воспитанию, пришлось тогда делить время между церковными службами и театральными зрелищами, паломничествами и ассамблеями.
Необходимость прилаживаться, угождать, обманывать влияла и на будущую императрицу. Детство ее, как мы уже говорили, прошло в условиях, при которых невозможно окрепнуть воле, нельзя выработаться характеру.
Детство Елизаветы подпортила другая червоточина…
Хотя и вынашивали ее под победный грохот Лесной и Полтавы[123], хотя и родилась она 18 декабря 1709 года, именно в тот день, на который был назначен торжественный въезд ее отца в Москву, но произошло это, когда Петр I еще не обвенчался с ее матерью Мартой Скавронской, и Елизавета Петровна оказалась незаконнорожденной.
Разумеется, после того, как Петр I узаконил свои отношения с Екатериной I[124], узаконенной оказалась и Елизавета, превратившаяся тогда во всеобщую любимицу.
Она так свыклась с бытом военно-полевой семьи, что и слова выучивала в такой же последовательности: мама, тятя, сольдат, каша, водка…
Подростком, одетая по походной моде в бархатный лиф, красную коротенькую юбку, а особенно в мужском костюме, обрисовывавшем все ее формы и потому особенно любимом ею, Елизавета была неотразима. Она возбуждала мужчин, очаровывая их своей молодостью и веселостью.
Всегда легкая на подъем, юная принцесса носила иногда на ассамблеях, по обычаю барышень из Немецкой слободы, ангельские крылья. В январе 1722 года, объявляя ее совершеннолетней в присутствии многолюдного собрания, Петр, согласно обычаю все той же Немецкой слободы, ножницами эти крылья ей обрезал.
Ангел превратился в невесту.
Но тут и пришлось ей вспомнить о печати незаконнорожденности. И Людовик XV, и герцог Орлеанский отклонили честь предложенного им Петром I брачного союза. Неудачной оказалась и попытка Екатерины I выдать дочь уже после кончины отца-императора за побочного сына Августа II, графа Морица. Следующим претендентом на руку Елизаветы Петровны стал епископ Любский, Карл-Август Голштинский, младший брат правящего герцога Голштинского Карла-Фридриха. У Елизаветы Петровны появилась возможность еще раз породниться со своей родной сестрой Анной Петровной.
Но и этому – увы! – сбыться не довелось…
Любский епископ Карл-Август Голштинский помер почти одновременно со своей несостоявшейся тещей Екатериной I.
Елизавета, одновременно осиротевшая и овдовевшая, вознамерилась выйти замуж за своего племянника, императора Петра II, и даже сумела разорвать его отношения с Марией Александровной Меншиковой, но далее ее опередила гораздо более привлекательная и молоденькая Катенька Долгорукая. Вернее, опередили Елизавету Петровну Катенькины родственники, но для самой «дщери Петровой» это ничего не меняло – опять она осталась без законного супруга.
Как и двоюродная сестра, искавшая утешения вначале в объятиях Бестужева, а потом Бирона, искала Елизавета утешения в объятиях сержанта Алексея Никифоровича Шубина, а потом и Алексея Григорьевича Разумовского…
Одинаково случайным было и восшествие на русский престол Анны и Елизаветы.
Ничем другим, кроме смутного желания верховников «себя полегчить», не объяснить избрания императрицей Анны Иоанновны.
Ничем, кроме поразительной настойчивости иностранцев: маркиза Шетарди и доктора Лестока, устраивавших переворот с целью изменения внешней политики России, не объяснить превращения в императрицу ленивой и нерешительной Елизаветы Петровны.
2
Конечно, немалый вклад в успех переворота, устроенного «дщерью Петровой», внесла детская беспечность ее племянницы – правительницы Анны Леопольдовны. Ее предупреждали об интригах сестры, но правительницу гораздо более занимали ленточки и бантики, пришитые к одежде сына-императора, а не происки глупой, как она считала, сестрицы.
Почти все историки говорят, что переворот, осуществленный Елизаветой, имел поддержку в народе и армии и был обусловлен реакцией на немецкое засилье.
В принципе, это верно, с той только оговоркой, что поддержка армии и ликование народа проявились уже после переворота, а сам переворот осуществлялся столь же тихо и бескровно, как и свержение фельдмаршалом Минихом регента Бирона.
Существует версия, что Анна Леопольдовна получила письмо, предупреждающее ее о заговоре, который пытаются устроить Шетарди и Лесток в пользу цесаревны Елизаветы.
Анна Леопольдовна прямо спросила тогда об этом Елизавету, та пала на колени и стала умолять правительницу, чтобы та арестовала Лестока и запретила ездить к ней Шетарди, но ее, сироту, простила бы.
Анна Леопольдовна тоже заплакала и отпустила сестру с миром. Неизвестно, собиралась ли она карать Лестока, но именно Лесток и сыграл роль пускача в механизме переворота.
Тюремный опыт уже имелся у него. Он успел посидеть в Бастилии, когда обучался хирургии в Париже. В России он тоже сперва оказался в Сибири и только по возвращении сделался хирургом великой княгини…
Теперь, узнав, что заговор раскрыт и Елизавета Петровна уже вымолила у правительницы Анны Леопольдовны прощение себе, он не стал терять время. Понимая, что его никто прощать не будет, Лесток примчался к цесаревне и, будучи недурным художником, вдохновенно запечатлел страхи за свою судьбу на аллегорическом полотне.
В одной половине картины он изобразил Елизавету Петровну, сидящею в короне на троне. В другой – ее же, но в монашеском одеянии, окруженною орудиями пыток. Надпись под картиной гласила: «Выбирайте!»[125]
Аллегория огорчила Елизавету, но окончательно решилась она приступить к делу, когда Лесток в присутствии сержанта Грюнштейна начал рассказывать о своих нехороших предчувствиях.
– Мучат меня опасения, – покаялся он. – Боюсь, что под кнутом я расскажу обо всех участниках заговора. Алексея Григорьевича жалко… Такой голос у человека!
Только тогда и решилась Елизавета Петровна…
Посовещавшись, надумали, что неплохо бы раздать в казармах денег.
Мысль была неплохая, но где взять деньги?
Елизавета сказала, что у нее всего триста рублей и драгоценности. Послали попросить денег у маркиза Шетарди. Маркиз пообещал дать на заговор две тысячи рублей, но… потом, когда партнер по картам вернет ему долг[126]…
Елизавета заложила свои драгоценности, и на эти деньги Лестоку удалось подкупить тринадцать гренадер.
К ночи у Елизаветы собрались все ее приближенные.
Алексей Григорьевич Разумовский… Три брата – Александр Иванович, Иван Иванович, Петр Иванович Шуваловы… Михаил Воронцов… Принц Гессен-Гамбургский…
Пришли и родственники: Скавронские, Ефимовские, Гендриковы, Салтыковы…
На Елизавету надели орден Святой Екатерины, вложили в руки крест и посадили в сани. На запятки вскочили братья Шуваловы.
В другие сани уселись Разумовский, Салтыков, Грюнштейн…
Когда поезд заговорщиков прибыл к казармам, там был только один офицер, остальные разошлись отдыхать по своим квартирам. Караульный солдат ударил тревогу, но Лесток порвал кулаком барабан и прекратил опасный шум. Тринадцать гренадер тем временем разбежались по казармам.
Когда начали собираться солдаты, Елизавета вышла из саней.
– Знаете ли вы, чья я дочь? – спросила она.
– Знаем! – отвечали солдаты.
– Меня хотят заточить в монастырь!
Готовы ли защитить меня!
– Готовы, готовы, матушка! – закричали солдаты. – Веди нас! Всех перебьем!
По разным подсчетам, в перевороте принимало участие от ста до трехсот солдат. Часть из них отправилась арестовывать Миниха, Левенвольда, Остермана и Головкина, а отряд, возглавляемый цесаревной, – к Зимнему дворцу.
Зная пароль, заговорщики вплотную подошли к окоченевшим у главного входа часовым и разоружили их. В кордегардии заговорщиков попытался задержать офицер, но был повален на пол и связан.
Теперь оставалось только найти спальню Анны Леопольдовны.
– Сестрица, – разбудила ее Елизавета, – пора вставать!
Брауншвейгская фамилия была арестована, а младенец Иван VI Антонович увезен во дворец Елизаветы.
О результате правления Анны Иоанновны мы уже говорили.
О правлении Елизаветы Петровны – «Сей эпок заслуживает особливое примечание: в нем все было жертвовано настоящему времени, хотениям припадочных людей и всяким посторонним малым приключениям в делах», – довольно точно сказал Н.И. Панин.
Считается, что при Анне Иоанновне направление политики определял Бирон. Считается, что Разумовский при Елизавете Петровне в политику не лез…
Это тоже не совсем так.
Не столь явным было вмешательство в политику Бирона, и не столь очевидна отстраненность от нее А.Г. Разумовского. Известно, например, что под горячую руку граф-певун бивал батогом и всесильного конференц-министра Петра Ивановича Шувалова, того самого, который, как выразился историк С.Ф. Платонов, был «человек без принципов, без морали и представлял собой темное лицо царствования Елизаветы»…
Почему-то считается, что правление полунемки Елизаветы Петровны освободило Россию от засилья немцев, возникшего при русской Анне Иоанновне.
«С воцарением Елизаветы, – восторженно пишет Н.Г. Устрялов, – исчезло мнение, что только иноземцы могут поддерживать творение Петра Великого. Престол ее окружили одни русские вельможи; все отрасли государственного управления вверены были русским. Господство иноземцев кончилось: устрашенные падением Бирона, Миниха, Остермана, друзья и помощники их спешили удалиться».
Суждение это не вполне согласуется со свидетельствами современников и другими фактами.
Немка Екатерина II, например, никакого утеснения иностранцев при дворе Елизаветы Петровны не заметила. Напротив, она писала, что русский двор был разделен тогда на две больших партии…
«Во главе первой, начинавшей подниматься после своего упадка, был вице-канцлер, граф Бестужев-Рюмин; его несравненно больше страшились, чем любили; это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный. Он стоял во главе Коллегии иностранных дел; в борьбе с приближенными императрицы он, перед поездкой в Москву, потерпел урон, но начинал оправляться; он держался Венского двора, Саксонского и Англии…
Враждебная Бестужеву партия держалась Франции, Швеции, пользовавшейся покровительством ее, и короля Прусского; маркиз де-ла-Шетарди был ее душою, а двор, прибывший из Голштинии, – матадорами; они привлекли графа Лестока, одного из главных деятелей переворота, который возвел покойную императрицу Елизавету на русский престол.
Этот последний пользовался большим ее доверием; он был ее хирургом с кончины Екатерины I, при которой находился, и оказывал матери и дочери существенные услуги, у него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве, но он был зол и сердцем черен и гадок (выделено мной. – Н.К.).
Все эти иностранцы поддерживали друг друга и выдвигали вперед Михаила Воронцова, который тоже принимал участие в перевороте и сопровождал Елизавету в ту ночь, когда она вступила на престол. Она заставила его жениться на племяннице императрицы Екатерины I, графине Анне Карловне Скавронской, которая была воспитана с императрицей Елизаветой и была к ней очень привязана.
К этой партии примкнул еще граф Александр Румянцев, отец фельдмаршала, подписавшего в Або мир со шведами, о котором не очень-то совещались с Бестужевым. Они рассчитывали еще на генерал-прокурора князя Трубецкого, на всю семью Трубецких и, следовательно, на принца Гессен-Гомбургского, женатого на принцессе этого дома. Этот принц Гессен-Гомбургский, пользовавшийся тогда большим уважением, сам по себе был ничто и значение его зависело от многочисленной родни его жены, коей отец и мать были еще живы; эта последняя имела очень большой вес».
Это свидетельство Екатерины II опровергает мнение о некоей кадровой революции, произошедшей при дворе после воцарения Елизаветы Петровны. Как мы видим, иностранцы сохраняли свое влияние при дворе, что же касается русских царедворцев, и Бестужева, и князя Черкасского[127], то они благополучно правили и при Анне Иоанновне.
Впрочем, нелепо было и ждать перемен.
И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна были двоюродными сестрами, и та удивительная легкость, с которой восходят они к самодержавной власти, не случайна, а закономерна. В каком-то смысле она была предопределена самим характером петровских реформ, логикой строительства того государства, которое он задумал.
Раньше Россия была ориентирована на защиту своих национальных интересов, теперь, когда наши цари стали чистокровными немцами, России приходилось влезать во все трения европейских государств между собою и, не жалея сил, без всякой пользы для себя, улаживать их.
Русское дворянство из сословия служилого превратилось при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне в сословие рабовладельцев, и привилегия эта была дарована им, по сути дела, за поддержку онемечивания правящей династии.
Онемеченная русская Анна Иоанновна назначила своим наследником Иоанна Антоновича, обладателя – он был сыном полунемки и чистокровного немца – четвертинки русской крови. Полунемка Елизавета Петровна назначила наследником такого же, как Иоанн Антонович, «четвертничка» – ПетраКарла-Ульриха.
В заключение подчеркнем, что обе сестры-императрицы умерли – Анне Иоанновне было сорок семь лет, а Елизавете Петровне – пятьдесят два года – совсем не старыми.
И обе они умерли от пресыщения своих страстей…
Справедливости ради отметим, что были у сестер и различия.
Анна Иоанновна если и ощущала себя православной, то только во времена жизни у матушки в Измайлове, а в дальнейшем она явно склонялась к протестантизму. Ну а Елизавета Петровна и, превратившись в протестантку, искренне продолжала считать себя православной. Она старательно соблюдала посты, правда при этом не пропускала ни одного спектакля. От вечерни она шла на бал, а прямо с бала, затянувшегося до утра, ехала в церковь и молилась там часами с графом Разумовским. Иногда императрица так долго оставалась в церкви, что придворные начинали опасаться, не померла ли она…
Очень любила Елизавета Петровна и богомолья.
«Императрица поехала на богомолье в Троицкий монастырь, – пишет в своих “Записках” Екатерина II. – Ея Императорское Величество хотела пройти эти пятьдесят верст пешком и для этого отправилась в свой дом, в Покровское; нам тоже велели направить путь к Троице, и мы поселились на этом пути, в одиннадцати верстах от Москвы, на очень маленькой даче, принадлежавшей Чоглоковой и называвшейся Раево… Императрица делала пешком три-четыре версты, потом отдыхала несколько дней. Это путешествие продолжалось почти все лето».
Почти после каждого перехода императрица садилась в карету и ехала на бал, чтобы через несколько дней возобновить свое паломничество.
3
Вот в эти правления, которые могут быть названы правлениями дочерей романовского разврата, и возрастала блаженная Ксения Петербургская.
Считается, что в 1755 году ее выдали замуж за Андрея Петрова, который пел в придворном хоре императрицы и носил чин полковника.
И наверное, любовь царила в маленьком доме на Петербургской стороне, куда из-за грязи ни весной, ни осенью не нанять было извозчика и где, казалось, ничто не могло помешать семейному счастью четы Петровых.
Как это сказано у современного поэта?
Святая блаженная Ксения Петербургская
В высшем из хоров, Что пеньем памятен до ныне, Служил певец Андрей Петров, В полковничьем, военном чине. С красивой, ласковой женой Они друг друга так любили, Что звезды раннею весной Над Петербургской стороной, Чтоб видеть счастье их, всходили[128].Насчет звезд, которые всходили, чтобы видеть счастье четы Петровых, сказано сильно.
Но с другой стороны, что еще скажешь, если более ничего не известно.
Между тем если мы обратимся к достоверно известным фактам, то обнаружим, что начало замужества Ксении пришлось на неурожайные, голодные годы, в которые и началось в Петербурге грандиозное – по проекту архитектора В.В. Растрелли – строительство Зимнего дворца.
Крестьяне умирали от голода, но именно в эти годы, чтобы оградить дворян от произвола ростовщиков, учредили Государственный дворянский банк. Капитал его был образован из денег, получаемых от продажи вина.
И еще два события произошли накануне вступления Ксении в самостоятельную жизнь…
20 сентября 1754 года у великой княгини Екатерины Алексеевны родился сын, нареченный Павлом, – будущий российский император. Считалось, что с рождением ребенка – наследника престола завершается миссия Екатерины II в России. Ребенка сразу отняли у матери, и теперь она «могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать о его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно».
А 10 декабря 1754 года скончался святитель Иоасаф Белгородский, про которого говорили: «Умер он, умерла с ним и молитва».
Родился император Павел, с которого, по сути, начнется новая династия Романовых-Павловичей… Скончался святитель, с которым умерла молитва…
Кажется, события эти никоим образом не связаны со вступлением в самостоятельную жизнь Ксении, и тем не менее связь существует.
Как мы знаем из нашей истории, Павел мог и не стать русским императором. Слишком могущественные силы не желали этого. На пути к престолу стояла сама его мать – императрица Екатерина II.
Как предвестие этого беззакония, как свидетельство того, что любое беззаконие возможно в мире, где «умерла молитва», в 1756 году по приказу Елизаветы заключили в Шлиссельбургскую крепость несчастного императора Иоанна VI Антоновича.
Произошло это как раз накануне завершения короткой семейной жизни будущей святой.
Предание утверждает, что муж Ксении полковник Андрей Федорович (Григорьевич) скоропостижно скончался. Произошло это столь внезапно, что он не успел исповедаться и причаститься.
Анализируя это событие, некоторые исследователи идентифицируют его с известной по житию преподобного Феодора Санаксарского[129] офицерской пирушкой 1739 года[130], когда «паде внезапну из товарищей един на землю и быв мертв». После этой пирушки и ушел преображенский сержант Иван Ушаков в пустынь спасаться.
Говорить о корректности уподобления внезапной смерти молодого военного из жития Феодора Санаксарского и смерти без покаяния полковника Андрея Григорьевича (Федоровича) Петрова, на наш взгляд, не представляется возможным, поскольку никаких конкретных сведений об этих персонажах нет.
Впрочем, как, где и отчего произошла смерть Андрея Григорьевича (Федоровича) Петрова, для понимания смысла жития самой блаженной Ксении не так уж и существенно.
Гораздо важнее другое.
Смерть без покаяния и церковного напутствия любимого мужа потрясла двадцатишестилетнюю вдову, словно бы помутила ее рассудок.
Как сказано в стихотворении Дмитрия Бобышева?
Ну, что с того, что пил?.. Зато как пел «Блаженства»! Из плоти искресах конечны совершенства и кроткия жены изрядно поучах… Что стало из того, что сей Никто исчах? А то и вышло, что из Ада мрачной сени восхитила его любы блаженной Ксеньи. Коль с мужем плоть одна у вдовыя жены, чем плохи мужнины кафтанец и штаны? – Ах, светелко супруг, я – ты, я – ты, я телом — лампадка масляна; тебя во мне затеплим. – Ты это я, ты – я (и крестится скорей), мой милый баринок, я нарекусь: Андрей.– Я отмолю тебя! – сказала над гробом мужа молодая вдова. – Когда нас обвенчали, мы стали одной плотью. Ты – это я, я – это ты. И отныне раб Божий Андрей будет жить так, что все его грехи простит Господь и даст ему вечную жизнь в своем царстве.
По преданию, Ксения заявила тогда близким, что «Андрей Григорьевич вовсе не умер. Ксеньюшка моя скончалась, аз же грешный весь тут».
На похороны она пришла в мундире мужа, шла за его гробом, а хоронила саму себя.
– Умерла моя Ксеньюшка, – сокрушалась она. – Один я остался.
С этого времени, решившись продолжить жизнь души любимого человека здесь, на земле, ради ее спасения на небе, уже не откликалась блаженная Ксения на свое имя. Только, называя Андреем Григорьевичем, и можно было дозваться ее.
В декабре 1847 года петербуржец, обозначивший себя подписью Ив. Б-р-л-ъевъ, подробно описал в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» эту сторону юродства блаженной Ксении…
«В то время, как Андрей Григорьевич жила на Петербургской стороне, один из моих дедов служил начальником над пороховыми заводами, находившимися в той же части города в Зеленой улице, другой дед был еще мальчиком и ходил в школу. Обоим им была известна Андрей Григорьевич. Одним словом, все мои дедушки и бабушки жили тогда в одном околотке с Ксениею, часто ее видели и знали, как нельзя лучше. От них дошло до меня много подробностей, обрисовывающих эту несчастную.
Андрей Григорьевич (будем называть ее этим именем) очень сердилась, когда называли ее Ксенией, и часто говорила “Да не троньте покойницу: что она вам сделала, прости Господи!”.
Может быть, в самом деле, несчастная была убеждена в том, что совершенно справедливо носит имя своего покойного мужа. С 26 лет начались ее страдания и известность, первоначально приобретенная тем, что Андрей Григорьевич тотчас после смерти своего мужа надела белье, камзол, кафтан и все платье покойника и бросивши дом, плакала и расхаживала по грязным улицам тогда совершенно убогой Петербургской стороны, уверяя всех и каждого, что она Андрей Григорьевич, придворный певчий, ее муж. Долго она носила это платье, до тех пор, пока истлело и развалилось оно на ее теле. Будучи известна всему околотку, как юродивая, но честная женщина, она вначале возбудила к себе жалость, а потом особое уважение».
Созданный Ив. Б-р-л-ъевымъ портрет Ксении, повторен сейчас, правда, без ссылок на первоисточник, практически всеми современными брошюрами о петербургской святой, но нам показалось важным привести его в первоначальной редакции, потому что содержится в этом тексте ощущение непосредственной причастности к странствию святой.
Считается, что юродивые принимают на себя свой подвиг, чтобы достичь свободы от соблазнов мира. Святитель Димитpий Ростовский пояснял, что юpодство «является извне» и им «мyдpе покpывается добpодетель своя пpед человеки».
Но аскетическое самоyничижение, мнимое безумие, как отмечают исследователи, – это только одна сторона юродства, оскорбляя и умерщвляя свою плоть, юродство принимает на себя обязанность еще и «pyгаться миру», обличать пороки, грехи и всяческую неправду, не обращая внимания ни на высокое положение объекта обличения, ни на общественные приличия. Презрение к нормам общественного поведения, как считается, тоже составляет нечто вроде привилегии и непременного условия юродства.
Расцвет юродства в нашей стране пришелся на XV, XVI и на первую половину XVII веков. Жития Авpаамия Смоленского, Пpокопия Устюжского, Василия Блаженного Московского, Hиколы Псковского Салоса, Михаила Клопского показывают, как устремленность к высшей правде, тоска о правде и любви превращают юродство в явление русской национальной жизни.
Житие Ксении Петербургской, святой, на целое столетие отставшей от своих великих предшественников, замечательно еще и тем, что в нем явлено нам, как восстанавливается прерванная расколом Русской Православной Церкви и реформами Петра I духовная традиция. Овдовевшая Ксения Григорьевна менее всего думает достичь свободы от соблазнов мира или о том, как она будет «pyгаться миру», обличая пороки, грехи и всяческую неправду.
Ее задача сугубо частная, почти практическая. Ей нужно спасти для жизни вечной душу своего бесконечно любимого супруга.
Но в православной аскетике всеобщие задачи всегда имеют индивидуальное, личное основание, а сугубо частные проблемы не могут быть разрешены в стороне от общих для всего православия догматов.
Спасая от погибели душу супруга, святая Ксения не просто облачилась в мужской костюм, а еще и отрешилась от собственного имени, от собственного пола, от собственной индивидуальности, от самой себя.
– Бедный Андрей Григорьевич осиротел… – говорила она, начиная исполнение своего подвига юродства. – Один остался на свете…
– Как же ты жить теперь будешь, матушка? – соболезновали ей.
– Похоронил свою Ксеньюшку, теперь Андрею Григорьевичу ничего не нужно, – отвечала Ксения. – Дом я подарю тебе, Прасковья[131], только ты бедных даром пускай жить. Вещи сегодня же раздам, а деньги в церковь снесу, пусть молятся об упокоении рабы Божией Ксении…
Многие тогда думали, что молодая вдова лишилась рассудка.
«“Кто не принадлежит миру, тот принадлежит Богу”, – говорили ее современники и кормили и одевали свою бедную… – свидетельствовал в 1847 году Ив. Б-р-л-ъевъ. – Она не брала теплой одежды и прикрывала грудь остатками камзола своего мужа, носила только самое необходимое женское платье. Зимою, в жестокие морозы, она расхаживала по улицам и Рыночной площади в каком-то оборванном балахоне и изношенных башмаках, надетых на босые ноги, распухшие и покрасневшие от мороза».
4
И вот тут нам снова надобно вернуться к вопросу о певчем полковнике Андрее Григорьевиче (Федоровиче) Петрове.
Говоря о муже Ксении Петербургской, имя которого приняла блаженная, мы и входим в область совершенно загадочных и необъяснимых фактов…
Казалось бы, все просто. Мужем Ксении был Андрей Григорьевич (Федорович) Петров. Он пел в придворном хоре императрицы и носил чин полковника.
Подробности эти были впервые изложены в очерке «Андрей Григорьевич», помещенном в № 264 «Ведомостей Санкт-Петербургской полиции» 2 декабря 1847 года.
«Лет сорок или, может быть, несколько более назад скончалась здесь в П-ге вдова придворного певчего, Андрея Григорьева, Ксения Григорьева, известная в свое время под наименованием “Андрей Григорьевич”…»
Так начинался этот очерк, в котором слухи, легенды и народные предания впервые облачались в печатные литеры, а завершался он обращением к читателям:
«Такие люди, как она (Ксения Петербургская. – Н.К.) заслуживают воспоминания. В век скептицизма, в век отрицания, мы скорее готовы безусловно отвергнуть всякое необыкновенное явление в человечестве, выходящее из общих законов нашей общей жизни – нежели исследовать его, и сказать заслуживает ли оно исследования или выходит из предметов исследования.
Прокаженная Ксения, как ее называет народ, в продолжение сорока пяти лет странствования своего на земле, молилась Богу и следовательно жила духовною жизнью – а это одно уже дает ей право на уважение. Она как женщина не могла принести миру мужских добродетелей и, может быть, не несправедливо думала, что смерть мужа ея расторгла уже ее связи с миром. Детей она, кажется, не имела.
Есть еще в Петербурге много живых стариков, которые живо помнят Андрея Григорьевича, а по их преданиям может быть составлен мартиролог ея.
Мы полагаем, что кто-нибудь из людей ближе нас исследовавший предания об этой странствовавшей женщине, не откажется сообщить их свету в полнейшем виде, нежели составленный нами поверхностный очерк. Когда не представляется средств к составлению полного жизнеописания какого-нибудь замечательного лица, тогда и самые отрывочные свидетельства его современников имеют цену, потому что все-таки пополняют количество собранных о нем сведений: лучше хоть мало, хоть то, что есть, нежели ничего».
Для нас, твердо знающих о святости нашей небесной заступницы, несколько диковато слышать призывы к уважению странствовавшей сорок пять лет подвижницы, нас коробит употребляемое по отношению к ней слово «прокаженная», хотя оно и употребляется тут в значении «одержимая», «чудачествующая»…
Но ведь не к нам и обращен этот призыв, а к петербуржцам 1847 года, уже впитавшим и усвоившим ту западную культуру, которая усиленно внедрялась в петровские и послепетровские десятилетия не столько ради самой западной культуры, сколько для попрания и забвения культуры русской, национальной…
Позволим тут себе небольшое отступление…
В очерке к столетию со дня кончины преподобного Серафима Саровского Борис Зайцев вспоминал, что в юности ему пришлось жить всего в четырех верстах от Сарова…
«Мы жили рядом, можно сказать под боком с Саровом, и что знали о нем! – писал он. – Ездили в музей или на пикник… Самый монастырь – при слиянии речки Саровки с Сатисом. Саровки не помню, но Сатис – река красивая, многоводная, вьется средь лесов и лугов. В воспоминании вижу легкий туман над гладью ее, рыбу плещущую, осоку, чудные луга…
А в монастыре: белые соборы, колокольни, корпуса для монахов на крутом берегу реки, колокольный звон, золотые купола. В двух верстах (туда тоже ездили) – источник Святого: очень холодная вода, в ней иногда купают больных. Помню еще крохотную избушку Преподобного: действительно, повернуться негде. Сохранились священные его реликвии: лапти, порты – все такое простое, крестьянское, что видели мы ежедневно в быту. Все-таки пустынька и черты аскетического обихода вызывали некоторое удивление, сочувствие, быть может, тайное почтение. Но явно это не выражалось. Явное наше тогдашнее, интеллигентское мирочувствие можно бы так определить: это все для полуграмотных, полных суеверия, воспитанных на лубочных картинках. Не для нас.
А около той самой пустыньки святой тысячу дней и ночей стоял на камне, молился! Все добивался – подвигом и упорством, взойти на еще высшую ступень, стяжать дар Духа Святого – Любовь: и стяжал! Шли мимо – и не видели. Ехали на рессорных линейках своих – и ничего не слышали»…
«Не для нас»…
«Шли мимо и не видели»…
«Ехали и ничего не слышали»…
Это очень горькие признания. Ведь не только о себе, а обо всей интеллигенции, воспитанной на дворянской культуре, говорит тут писатель…
«Серафим жил почти на наших глазах… Сколь не помню я степенных наших кухарок… скромный, сутулый Серафим с палочкой… всюду за нами следовал. Только “мы”-то его не видели… Нами владели Бёклины, Боттичелли… Но кухарки наши правильнее чувствовали. В некоем отношении были много нас выше»…
Эти же слова, только адресованные к своей святой Ксении Петербургской, могли бы повторить в середине XIX века многие образованные петербуржцы.
И конечно же, автору очерка, «почтенному литератору», как назван он в примечании редактора «Ведомостей Санкт-Петербургской полиции», дерзновенно пытающемуся перебросить мостик через пропасть национальной глухоты, овладевшей образованным обществом, трудно было различить, что и в том материале, который он приводит в своем очерке, содержатся сведения, нуждающиеся не столько в дополнении, сколько в осмыслении их.
И прежде всего это касается звания и должности мужа Ксении.
Придворный певчий в ранге полковника – это чрезвычайно загадочное соединение, хотя бы уже потому, что звание полковника считалось весьма высоким и принадлежало по Табели о рангах к VI классу, соответствуя статскому званию коллежского советника или придворному (до 1737 года) – камергера.
В принципе, придворных певчих тогда награждали, и награждали очень неплохо, но при этом придворный певчий Яков Шубский получил в награду за пение лишь потомственное дворянство[132], а певчий Алексей Разум хотя и стал графом Разумовским, но награды свои получил не только за пение.
Минуя постель императрицы, до чина полковника из хористов дослужился, кажется, один только Марк Полторацкий, но он был регентом.
Кем же был в дворцовой капелле Андрей Григорьевич Петров, если он имел чин VI класса?
И главное, почему об этом не сохранилось никаких сведений?
Понятно, что на пирушке, с которой в ужасе бежал будущий преподобный Феодор Санаксарский, а тогда преображенский сержант Иван Игнатьевич Ушаков, полковнику Петрову и по возрасту, и по чину нечего было делать.
Но оказывается, что нет никакого полковника Петрова и в дворцовом ведомстве.
А это уже просто невероятно…
Ведь какие-то следы о полковнике Андрее Григорьевиче (Федоровиче) Петрове должны были бы остаться в документах, ведь и чины ему присваивались, и какими-то наградами, хотя бы за выслугу лет, наверняка он отмечался!
Но нет, нет никаких следов…
Только в надписи на могильной плите святой блаженной Ксении и сохранилось имя Андрея Григорьевича (Федоровича), в надписи, сделанной, как надо понимать, со слов самой святой Ксении Петербургской.
И вот задумываясь над этим обстоятельством, а заодно припоминая – Федорович, Григорьевич, Петрович – имена, которые перебирает народная молва, рассказывая о муже блаженной Ксении, резонно задаться вопросом: а был ли вообще в реальной жизни полковник Андрей Петров, певчий дворцовой капеллы? Ведь известно о нем только из рассказов самой блаженной Ксении, вернее из преданий о ее жизни…
Так почему же не допустить, что и имя супруга, и звание Андрея Григорьевича (Федоровича) Петрова – лишь тот язык святого юродства, на котором выражала блаженная Ксения мысль, которую необходимо было постигнуть русским людям, жившим тогда?
Ту мысль, которую боимся постигнуть мы и два с половиной столетия спустя…
В самом сочетании имен, должности и звания Андрея Григорьевича (Федоровича) Петрова, певчего полковника, чудится нам некое искривленное отражение реальных событий и персонажей русской истории.
Такое ощущение, что соединились в этом клубке и имя несчастного императора Иоанна Антоновича, и ненамного более счастливого императора Петра Федоровича, и «крестника» матери-императрицы Анны Иоанновны Андрея Ивановича Остермана, и всесильного фаворита Елизаветы Петровны – певчего графа Алексея Григорьевича Разумовского.
Разумеется, перевести в правильные, логически завершенные формы этот язык святого юродства невозможно.
И не нужно.
Ведь для того и принимала блаженная Ксения Григорьевна подвиг юродства, чтобы износить на плечах своей святой молитвы этот страшный петровский мундир, в который пытались застегнуть Русь…
5
Попытаемся представить себе день, когда вышла Ксения Григорьевна на улицу в таком нелепом на ее плечах – это ведь только женщинам, подобным полунемке императрице Елизавете Петровне, нравятся обрисовывающие все их формы военные одеяния – полковничьем мундире.
За спиною осталась счастливая, беззаботная жизнь, теплый дом, впереди были холод, сырость, нищета.
Вспомним Евангельскую историю… К Спасителю пришел юноша и спросил:
– Учитель благий? Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?
– Что ты называешь Меня благим? – сказал Иисус. – Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
– Какие? – спросил юноша.
– Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего своего, как самого себя…
– Все это я сохранил от юности своей! – сказал юноша. – Чего еще не достает мне?
– Если хочешь быть совершенным, – сказал Иисус, – пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за Мною.
И тогда опечалился юноша – большое имение имел он, и жалко стало ему потерять его.
И сказал Иисус ученикам Своим:
– Истинно говорю вам – трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
Блаженная Ксения совершила то, что не смог сделать приходивший к Спасителю юноша. Она избавилась от своего имения и пошла за Иисусом Христом.
Вглядимся еще раз в ее фигурку, вставшую на сыром петербургском ветру в таком нелепом на женских плечах полковничьем мундире.
Разрывая слезами глаза, шла Ксения Григорьевна по улочкам Петроградской стороны, но разве безумие или горе, помрачившее сознание, руководило ею?
Нет, это Господь вел ее по пути Спасения…
Вспомните, что, услышав слова Иисуса о верблюде, ученики Его, как сказано в Евангелии, изумились.
– Кто же может спастись? – спросили они.
– Человекам это невозможно, – ответил Спаситель. – Богу же все возможно. Отметим тут, что блаженная Ксения приняла на себя подвиг святого юродства, когда Петербургская сторона, отрезанная от центра города рекой, лежащая на севере к бесплодным финским горам и болотам, уже начала, по словам автора «Петербургской стороны» Евгения Гребенки, «упадать и сделалась убежищем бедности. Какой-нибудь бедняк-чиновник, откладывая по нескольку рублей от своего жалованья, собирает небольшой капитал, покупает почти за бесценок кусок болота на Петербургской стороне, мало-помалу выстраивает на нем из дешевого материала деревянный домик и, дослужив до пенсиона и седых волос, переезжает в свой дом доживать веку – почти так выстроилась большая часть теперешней Петербургской стороны».
Целыми днями бродила блаженная Ксения среди этих домишек, кутаясь в мужнин мундир.
Беспризорные мальчишки, завидев нищенку, бросали в нее грязь и камни.
Одни петербуржцы считали тогда Ксению сумасшедшей, другие – прокаженной, третьи – предсказательницей.
Сейчас нам легко со снисхождением думать об этих людях, но, привыкшие к иконописным изображениям блаженной Ксении, мы и сами, возможно, не узнали бы святую в ее реальной земной жизни.
Если и стала святая Ксения Петербургская в земной жизни похожей на свои иконы, то не сразу. Это потом неземная чистота и кротость разлилась по ее лицу, а поначалу, переодевшись в мундир своего мужа, Ксения многое потеряла в своей внешности.
«Она одевалась бедно и была очень дурна собою, – свидетельствует автор очерка “Андрей Григорьевич”. – Хороший рост ее, рябое лицо, большие, всегда гневные глаза и мужественная походка представляли в ней что-то не женское, соответственное тому прозванию, которое приняла она: покойница называла себя Андрей Григорьевич – по имени мужа своего, смерть которого, как говорили, повергла ее в жестокую печаль и помутила ее умственные способности. Дети, увидя ее, с ужасом говорили всегда: “Андрей Григорьевич идет!” и прятались».
Но ведь иначе и не могло быть. Велика была сила молитвы блаженной Ксении, но чтобы подняться к этой молитве, надобно было преодолеть все свои боли и немощи.
И надо заметить тут, что святая Ксения совершала свой молитвенный подвиг не на Святой Руси времен Иоанна Васильевича Грозного, где юродивых почитали все, включая и самого царя, а в столице Российской империи, в 1757 году, когда был издан указ, запрещавший нищим и увечным бродить по петербургским улицам.
Нищих ловили. Молодых и здоровых сдавали в солдаты и матросы, а негодных отсылали на каторжные работы…
В принципе, Ксения Григорьевна подпадала под Указ от 29 января 1757 года, и, как негодную к службе солдатом или матросом, ее должны были отправить на каторжные работы. Хорошо хоть, что милостивым указом Елизаветы отныне запрещено было рвать ноздри женщинам.
«Имея многих знакомых большей частию из купеческого сословия она часто приходила к ним в домы за милостынью, и ничего более не брала, как “царя на коне”: так называла она старинныя копейки, на которых, как известно, было изображение всадника на лошади. “Дайте мне царя на коне”, – говорила она всегда умилостивительным голосом, брала копейку и уходила».
Ночевала Ксения иногда на паперти церкви Святого апостола Матфея[133], а иногда – уходила за городскую окраину[134] и всю ночь молилась там посреди покрытых ночною тьмою полей, где, по ее словам, присутствие Божие было «более явственно».
И наверное, еще сильнее, чем петербургская пронизывающая сырость и холод мучила Ксению недобрая настороженность петербуржцев…
«Ночные отсутствия ея, – сообщает автор очерка “Андрей Григорьевич”, – сначала возбуждали сомнения в недоверчивых людях, и даже полиция, следуя народной молве, стала подозревать, не принадлежит ли пророчица к тому числу тех женщин, которых так живо изобразил Иван Иванович Дмитриев в прекрасной сказке своей[135]:
Она держала пристань Недобрым молодцам: Один из них поиман И на нее донес. Тотчас ее схватили И в город увезли; Что с нею учинили, Узнать мы не могли.За нею стали присматривать и удостоверились, что она точно ходила в поле молиться Богу».
Заподозрить в святой Ксении наводчицу разбойников…
Можно было бы, подобно составителям современных жизнеописаний Ксении Петербургской, опустить эту страшную подробность, но это ведь тоже часть земного подвига святой Ксении, это то, через что она прошла…
Повторим, что одни петербуржцы считали тогда Ксению сумасшедшей, другие – прокаженной, третьи – предсказательницей.
И все они ошибались. Ксения была святой…
Живя в миру, она всегда душою своей пребывала в Боге.
6
А события шли своим чередом. Основали Российскую академию художеств в Петербурге. Завели публичный театр в Москве. Разрешили продажу уральских заводов частным лицам.
А в мае 1757 года, после того как Англия заключила союзный договор с Пруссией, в Версале был заключен оборонительный договор между Россией, Францией и Австрией, и началась кровопролитная и редкая по бессмысленности (для России) Семилетняя война.
24 июня русские войска заняли Мемель – крепость Восточной Пруссии на Куршском заливе, а 19 августа одержали победу над прусской армией Левальда при Гросс-Егернсдорфе.
Но уже 7 сентября С.Ф. Апраксин приказал отойти от занятых русскими войсками прусских крепостей. Предательство было столь очевидным, что Апраксина предали суду. Он умер под следствием осенью 1758 года от апоплексического удара…
Оборванная, озябшая, сопровождаемая насмешками и презрительным сочувствием шла блаженная Ксения по Петербургской стороне, и такая великая молитва жила в ее измученном сердце, что сумела она переплавить личное горе в молитвенное заступничество за других.
Вначале открылся в Ксении дар пророчества.
Однажды она пришла в дом купца Разживина и, подойдя к зеркалу, сказала:
– Вот зеркало-то хорошо, а поглядеться не во что…
И только что проговорила это, как зеркало упало со стены и разбилось вдребезги.
«Предсказания ея не всегда заключали в себе какой-нибудь апокрифический, сокровенный смысл – иногда они служили как бы только удостоверением в том, что эта странная женщина точно наделена даром предсказания, – сообщали “Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции”. – Так, например, приходя куда-нибудь, она вдруг требовала, чтоб ей дали пирога с рыбой, а когда ей нарочно отвечали, что такого пирога в этот день не пекли, то она с уверенностью говорила: “Нет, пекли, а не хотите мне дать”. Тогда подавали ей такой пирог, потому что он точно был испечен[136].
А иногда она предсказывала что-нибудь дурное, но не прямо, а косвенно, выражаясь в подобных случаях языком каббалистическим, не точным, как бы не желая возмутить того, с кем говорила. Так, например, посетя один раз дом купчихи Крапивиной и выходя из него, она взглянула на окна дома и сказала: «Зелена Крапива, а скоро завянет». Крапивина вскоре после того умерла…»
Но еще многие должны были пройти годы, прежде чем поняли петербуржцы, что послана Ксения в утешение православному люду в этом городе, построенном на замощенных русскими костями чухонских болотах…
«Она не имела своего угла и, будучи доброю, кроткою и чрезвычайно набожною, в тех домах, где ее знали, всегда находила себе приют и кусок хлеба; – ее принимали ласково и даже с глубоким уважением бедные жители крошечных домиков, какими в то время была усеяна Петербургская сторона, – сообщал в 1847 году Ив. Б-р-л-ъевъ. – Матери семейств радовались, если Андрей Григорьевич покачает в люльке или поцелует их детей, в том убеждении, что поцелуй несчастной принесет им счастье. Когда Андрей Григорьевич являлась на площади, все торгаши пряниками мгновенно открывали свои лотки и корзинки, умоляя Андрея Григорьевича взять у них что-нибудь без денег, хоть один пирожок, хоть отломить кусочек медового пряника. И счастливец, у которого полакомится Андрей Григорьевич, не успевал прикоснуться к товару. Народ стремился к его лотку и с восторгом, с бешенством поедал пироги, обратившие на себя внимание “добровольного страдалица”; как называли ее мои бабушки».
Только с годами стали замечать – если побывает Ксения в чьей-то семье, там надолго водворяется мир и счастье…
Теперь, где бы ни появлялась эта женщина, кутающаяся в изношенные лохмотья мундира, обутая в рваные башмаки, тотчас ее окружали люди.
Торговцы упрашивали заглянуть в их лавки и взять хоть что-нибудь.
Пока блаженная Ксения шла по улице, рядом следовали экипажи. Извозчики умоляли блаженную проехать в коляске хоть несколько шагов.
А жизнь в империи шла своей бессмысленной чередой, где увеселения знати сменялись преступлениями, а преступления новыми увеселениями…
Твердо и последовательно велись лишь две линии – дальнейшее онемечивание правящей династии (для этого привезли из Голштинии Карла-Петра-Ульриха) и строительство в России рабовладельческой империи…
В 1758 году Сенат постановил, что личные дворяне, приобретшие дворянство служебной выслугой, не имеют права, в отличие от потомственных дворян, покупать людей и земли.
Это же было подтверждено указом 1760 года. «Не дворяне, произведенные по статской службе в обер-офицеры, не могут считаться в дворянстве и не могут иметь за собой деревень».
Ликвидировался досадный промах петровского законодательства. Дворянство все более утрачивало черты служивого класса, все более превращалось в класс рабовладельцев[137].
Характерно, что уже при вступлении Елизаветы на престол правительство отстранило от присяги русских крестьян, взглянув на них как на людей, лишенных гражданской личности, как на рабов. Крестьяне лишались права входить в денежные обязательства без позволения своих владельцев… Правительство передало помещикам судейские и полицейские функции.
Сама императрица Елизавета Петровна, разорявшая казну империи строительством дворцов и приобретением нарядов, искренне верила, что легче всего погубить душу, войдя в долги.
– Если оставишь долги после себя и никто их не заплатит, – поучала она будущую императрицу Екатерину II (тогда еще только великую княгиню), – душа твоя пойдет в ад!
При этом собственные мотовство и распутство, столь разорительные для казны, смертным грехом Елизавета Петровна не считала.
Похоже, что «дщерь Петрова» считала самодержавную монархию для того и существующею, чтобы удовлетворять любые свои желания и похоти.
К наиболее омерзительным с нравственной точки зрения романам императрицы принадлежит ее связь с юным кадетом Сухопутного корпуса Никитой Афанасьевичем Бекетовым.
В драматическом кружке, устроенном начальником Сухопутного корпуса князем Юсуповым, Бекетов играл женские и мужские роли. Он был не только чрезвычайно красив, но и одарен актерскими способностями. Имеется отзыв о нем Федора Волкова, который говорил трагику Н.А. Дмитриевскому, что, увидев Бекетова в роли Синава, он пришел в такое восхищение, что не знал, где был – на земле или на небесах.
Императрица Елизавета Петровна тоже очень заинтересовалась кадетской труппой, состоявшей из юных мужчин. Увидев семнадцатилетнего Бекетова на сцене, она тотчас по окончании спектакля пожаловала его сержантом. Спустя две недели он был сделан подпоручиком.
Елизавете Петровне особенно полюбилось собственноручно одевать юного кадета перед спектаклями, где он должен был исполнять женские роли. Из училища Бекетов был выпущен премьер-майором с назначением генерал-адъютантом к графу Разумовскому. Елизавета осыпает его дорогими подарками и поместьями. Неизвестно, до каких чинов дослужился бы юный Бекетов, но встревожились другие претенденты на милости императрицы. Бекетову подсунули (предание говорит, что это были Мавра Шепелева и ее супруг Петр Иванович Шувалов) притирание для кожи, от которого на лице явились угри и сыпь. Тотчас Мавра Егоровна уведомила императрицу о «дурной болезни» Бекетова. Он был удален от двора, заболел от отчаяния нервной горячкой и по выздоровлении принужден был удалиться от двора навсегда[138].
Императрица Елизавета Петровна. Портрет работы К.Г. Преннера. 1754 г.
О связи императрицы с кадетом Бекетовым знал весь Петербург, но это нисколько не заботило Елизавету Петровну. Она вообще не считала нужным скрывать свои отношения с любовниками, и никто не удивлялся им…
Однажды другой любитель театра, великий князь Петр Федорович, избранный Елизаветой Петровной наследником престола, тоже устроил в своей комнате представление марионеток.
«В комнате, где находился театр, – пишет в своих воспоминаниях Екатерина II, – одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было поднимать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приготовлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате и, так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел все, что там происходило, а именно, как обедала императрица, как обедал с нею оберегермейстер Разумовский в парчовом шлафроке, – он в этот день принимал лекарство, – и еще человек двенадцать из наиболее доверенных императрицы. Его Императорское Высочество, не довольствуясь тем, что сам наслаждается своим плодом искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, которые он так искусно проделал. Он сделал больше: когда он сам и все те, которые были возле него, насытили глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, чего мы никогда не видели. Он не сказал нам, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и других моих женщин; я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек, для удобства зрителей, как он говорил…»
По-немецки благоразумная Екатерина наблюдать за этим театром не стала.
«Меня испугала и возмутила его дерзость, и я сказала ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большие неприятности, если его тетка узнает, и что трудно, чтобы она этого не узнала, потому что он посвятил по крайней мере двадцать человек в свой секрет; все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты; великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольного театра, а я пошла к себе».
Тем не менее эпизод этот остался в памяти, и, будучи императрицей, Екатерина посылала канцлера М.И. Воронцова к А.Г. Разумовскому, чтобы изъять секретные документы, касающиеся его брака с Елизаветой Петровной.
М.И. Воронцов объявил Алексею Григорьевичу, что документы эти необходимы для составления указа о даровании ему, как человеку, венчанному с государыней, титула Императорского Высочества.
Однако Разумовский, хотя и не блистал великим образованиям, имел достаточно осторожности и благоразумия, чтобы не поверить женщине, только что свергнувшей с престола своего супруга. Когда канцлер сообщил ему высочайшее повеление, он пробежал проект указа глазами, а потом подошел к комоду, на котором стоял ларец черного дерева, окованный серебром и выложенный перламутром.
Из потаенного ящика граф вынул атласный сверток. Развернув атлас, он внимательно просмотрел все бумаги, с благоговением поцеловал их, потом перекрестился на образа и бросил весь сверток в огонь камина.
– Я не был ничем более, как верным рабом Ее Величества, покойной Императрицы Елизаветы Петровны, осыпавшей меня благодеяниями превыше заслуг моих, – сказал он, опускаясь в кресло и утирая вставшие в глазах слезы. – Никогда не забывал я, Михаил Илларионович, из какой доли и на какую степень возведен я ее десницею… Стократ смиряюсь, вспоминая прошедшее, живу в будущем, его же не прейдем, в молитвах к Вседержителю… Если бы было некогда то, о чем вы говорите со мною, то поверьте, граф, что я не имел бы суетности признать случай, помрачающий незабвенную память моей благодетельницы. Теперь вы видите, у меня нет никаких документов. Доложите обо всем этом всемилостивейшей Государыни: да продлит она милости свои на меня, старца, не желающего никаких земных почестей.
Когда Воронцов доложил Екатерина II о разговоре, она сказала:
– Мы друг друга понимаем. Тайного брака не существовало, хотя бы и для усыпления боязливой совести. Шепот об этом всегда был для меня противен… Почтенный старец предупредил меня, но я ожидала этого от свойственного малороссиянину самоотвержения.
Екатерина II, как и Елизавета Петровна, верила, что если оставить долги после себя и никто их не заплатит, то тогда душа пойдет в ад. Она не стала рисковать душой и отблагодарила Разумовского. Когда в 1769 году граф просил взаймы из банка 80 тысяч рублей, она собственноручно надписала на прошении: «Без процентов» и дала о том указ…
Деньги немалые, но «самоотвержение» Алексея Григорьевича того стоило…
7
Но долги платить всё равно пришлось…
Хотя и не самой Елизавете Петровне, хотя и не самому Алексею Григорьевичу. Предание полагает, что от их тайного брака родилось двое детей. Об участи сына известно только, что он жил до начала XIX века в одном из монастырей Переславля-Залесского.
Дочь же стала известна под именем княжны Таракановой.
Следы нескольких княжон Таракановых обнаруживаются в различных женских монастырях, и по этому поводу остроумно было замечено, что в России нет женского монастыря, который не имел бы предания о какой-либо таинственной затворнице.
Тем не менее одна из предполагаемых княжон Таракановых, инокиня Московского Ивановского монастыря Досифея, абсолютно реальная историческая фигура, более того, имя ее фигурирует среди подвижников благочестия.
«Жизнь инокини Досифеи, – пишет Е. Поселянин, – представляет собою пример великого бедствия, ничем не заслуженного несчастия. Царской крови, родившись, казалось, для радостной жизни, для широкого пользования благами мира, она была в рассвете лет и сил заживо погребена, но вынесла безропотно тяжкую долю и просияла подвигами благочестия».
Считается, что инокиня Досифея, будучи еще княжной Августой Таракановой, была направлена за границу, и там воспитывалась и жила, пока не явилась некая самозванка, вошедшая в историю под именем принцессы Володомирской, которая объявила себя дочерью Елизаветы Петровны. Несчастная самозванка была заманена графом Орловым на корабль, привезена в Россию и посажена в Петропавловскую крепость, где и скончалась в 1775 году.
Эта интрига имела печальные последствия для настоящей княжны Таракановой – Августы. Встревоженная восстанием Пугачева, объявившего себя, как известно, Петром III, императрица распорядилась доставить в Россию и настоящую дочь Елизаветы Петровны.
В Петербурге императрица Екатерина II сама беседовала с княжной.
Она долго рассказывала о смутах, обрушившихся на Российскую империю, и в заключение объявила, что, дабы не вызвать нечаянно государственного потрясения, княжне следует отказаться от мира и провести остаток дней в монастыре.
Противиться государственному благу Тараканова не имела возможности и предпочла смириться со своей участью. Местом заточения княжны Екатерина II избрала Московский Ивановский монастырь, который покойная Елизавета Петровна устраивала как монастырь для вдов и сирот знатных лиц.
Здесь и заточили ее дочь, ставшую инокиней Досифеей.
Келью Досифеи составляли две низкие, сводчатые комнаты с окнами во двор. Кроме игуменьи, духовника и келейницы, никто не входил сюда. Окна были постоянно задернуты занавесками. Досифею не пускали ни в общую церковь, ни в трапезу. Иногда для нее совершалось особое богослужение в надвратной Казанской церкви, и тогда туда, кроме священника, причетника, игуменьи и келейницы, никого не пускали. Двери Казанской церкви, пока там находилась Досифея, наглухо запирались.
«Понятны, – пишет Е. Поселянин, – те глубокие внутренние муки, которые переживала она в своем невольном затворе. Конечно, она сравнивала его со своим прошлым: величием своих родителей, своей прежней вольною и роскошною жизнью, и какая тоска в эти минуты должна была грызть ее душу!..
И вот тут, среди страданий, вера во Христа была ей облегчением. Воспитанная в православии и кроткая от природы, она дошла до великого духовного дела: она смирилась.
Смирившись, перенеся все свои надежды в тот мир, где нет ни гонимых, ни лишних людей, где часто слава и почет сменяются невыразимою горестью: всю себя Досифея посвятила подвигам. Ее время наполнено было молитвою, рукоделием и чтением духовных книг. Деньги, которые она выручала за рукоделье свое, продаваемое чрез келейницу, она чрез ту же келейницу раздавала бедным».
С кончиною императрицы Екатерины II затвор стал менее строг. Досифею по-прежнему не выпускали из монастыря, но теперь она получила разрешение принимать у себя посетителей, которых становилось все больше по мере распространения слухов о благочестивой старице.
«Жившая в Ивановском монастыре духовномудрая старица блаженныя памяти Досифея послужила мне указанием на избрание пути жизни монашеской», – вспоминал потом преподобный Моисей Оптинский.
Последние годы жизни Досифея старалась жить в полном уединении…
Ее хоронили торжественно.
На похороны явилась вся московская знать, и во главе всех главнокомандующий Москвы граф Гудович, женатый на графине Прасковье Кирилловне Разумовской.
Тело затворницы положили у восточной ограды Новоспасского монастыря (здесь размещалась усыпальница рода Романовых), на левой стороне от колокольни. Могилу покрыли диким камнем, с надписью: «Под сим камнем положено тело усопшей о Господе монахини Досифеи обители Ивановского монастыря, подвизавшейся о Христе Иисусе в монашестве 25 лет и скончавшейся февр. 4 д. 1810 года».
А в настоятельских кельях, как свидетельствовал Е. Поселянин, хранился портрет усопшей, напоминающий собою черты лица ее царственной матери. На обороте портрета была надпись:
«Принцесса Августина Тараканова, в иноцех Досифея, постриженная в Московском Ивановском монастыре, где по многих летах праведной жизни своей и скончалась, погребена в Новоспасском монастыре».
По другой версии, дочерью Елизаветы была таинственная старица, жившая отшельницею в Московском Никитском монастыре…
Записывали в дочери Елизаветы Петровны и инокиню Аркадию, жившую под именем Варвары Мироновой Назаровой в Костромской губернии, а также княжну Баратову, жившую в Казани.
Отметим здесь, что многие историки вообще отрицают существование детей у Елизаветы Петровны и Алексея Григорьевича Разумовского.
«Если бы таковые были, то они воспитывались бы во дворце и со временем получили богатство, чины, положение, а не томились бы по разным монастырям, – рассуждает А.А. Васильчиков, автор исследования “Семейство Разумовских”. – Нельзя допустить, чтобы такой редкий семьянин, такой любящий брат, попечительный дядя, как граф Алексей Григорьевич Разумовский, оставил без всяких призрения и присмотра детей своих, никогда не занимался бы ими при жизни и ничего не отказал им по своей смерти».
При всей логичности этих рассуждений есть в них и некая червоточина.
Во-первых, ни о какой передаче власти своей дочери в обход ею же объявленного наследником Петра III Елизавета Петровна не могла вести речи, точно так же, как ее мать Екатерина I не могла передать власть ей, Елизавете, в обход Петра II.
Ну а граф Алексей Григорьевич, в отличие от прежних временщиков, обладал более флегматичным характером и на роль организатора заговора явно не годился. Но это не значит, что вопрос о будущем дочери, если она была, не обсуждался…
Как известно, вечером 24 декабря 1761 года Елизавета Петровна призвала к себе великого князя Петра и его супругу Екатерину и потребовала, чтобы в последние минуты ее жизни Петр поклялся не обижать ее приближенных, в особенности графа А.Г. Разумовского и камергера И.И. Шувалова. Будущий император торжественно поклялся исполнить ее волю.
Этим императрица, по сути, обеспечила бескровный переход власти к тридцатитрехлетнему Петр III, «маленькому человеку, которому довелось исполнять должность великого человека».
Тогда, очевидно, и была увезена за границу княжна Тараканова. Как мы узнаем из жизнеописания старицы Досифеи, никаких материальных затруднений за границей она не испытывала, и поэтому сомнение Васильчикова, как мог «такой редкий семьянин, такой любящий брат, попечительный дядя, как граф Алексей Григорьевич Разумовский, оставить без всяких призрения и присмотра детей своих», не имеет основания.
Княжне Августе Таракановой, если, конечно, она действительно была его дочерью, он обеспечил вполне достойную ее положения жизнь. И возможно, что как раз заботы о дочери и обусловили поведение Разумовского в дальнейших событиях. Как известно, он никак не противодействовал воцарению Петра III.
Не принимал он участия и в подготовке переворота Екатерины II, хотя именно граф Разумовский и давал 27 июня 1763 года праздник в Гостилицах, на котором Петр III и Екатерина II виделись последний раз. Но в ночь на 28 июня Петр III, узнав, что в Петербурге восстание, поплыл со свитою в Ораниенбаум, а оттуда послал в Гостилицы за графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. Тот приехал и оставался при свергнутом императоре до его кончины.
Однако на положении его при дворе это никак не отразилось. Во время коронации Екатерины II в Москве Разумовский нес корону, а после бросал в народ жетоны.
И мы уже рассказывали, как отреагировал Алексей Григорьевич на провокацию с проектом указа, объявлявшим его Императорским Высочеством.
Разумовскому дозволено было тихо жить в обширных дворцах, окруженному малороссийской прислугой. Чуждый гордости и коварства, одаренный от природы умом, он был ласков, снисходителен и пользовался общею любовью. 6 июля 1771 года, когда после продолжительной болезни Разумовский скончался в Аничковом доме, имея от роду 62 года, княжне Августе Таракановой было всего двадцать пять лет, и очевидно, что именно болезнь и помешала отцу выдать ее замуж.
Но насчет того, что он «ничего не отказал детям по своей смерти», тоже не совсем верно. Хотя все состояние умершего графа и перешло к его родному брату, гетману Кириллу Григорьевичу Разумовскому, но в состоянии этом были обнаружены, как явствует из исследования того же А.А. Васильчикова, такие прорехи, в которых могло уместиться любое наследство.
Можно только подивиться, как чудовищно несправедливо устраиваются судьбы в Доме Романовых…
Родная дочь императрицы Елизаветы Петровны становится монахиней-затворницей, а чужеземка Екатерина II – императрицей.
Но могло ли быть иначе, если преемники Петра I и заняты были чудовищно несправедливым делом. Из Святой Руси строили они рабовладельческую империю, где рабами становились сами русские.
Безошибочным было подлое классовое чутье стремительно формирующегося класса дворян-рабовладельцев. Они согласны были принять любого государя, лишь бы этот император был как можно более чужим по крови порабощенному ими народу.
И вот когда думаешь об этом, снова встает вопрос: а не для того ли, чтобы постигли мы эту страшную правду истории послепетровской России, и изнашивала полковничий мундир мужа блаженная Ксения?..
Мы уже говорили, что ее супруг, возникающий из предания, из легенд, из слухов, как-то странно распадается на куски, которые могут быть соотнесены с различными историческими персонажами (тем же А.Г. Разумовским), вернее, какими-то реалиями этих персонажей, но никак не с реальным живым человеком. Даже в имени Андрей Григорьевич (Федорович) Петров, кажется, собираются имена, вокруг которых совершался тогда ток русской истории…
Мы уже говорили, что «дщерь Петрова», взойдя на престол, начала свое правление с установления культа Петра Великого. Именно с ее правления имя Петра I начало обрастать мифами, перекочевавшими в XIX веке в академические и университетские труды историков как бесспорные исторические факты.
Руководствовалась Елизавета Петровна при этом сугубо практическими мотивами – необходимо было обосновать свое воцарение, закрепить в общественном мнении право на русский престол за петровской линией семьи, но, как и во всем при Елизавете Петровне, практическая необходимость совместилась тут с логикой дальнейшего онемечивания династии Романовых.
Вообще правление Елизаветы Петровны, умевшей, как свидетельствуют очевидцы, лучше всех в стране исполнять и русские пляски, и французский менуэт, представляется достаточно успешной попыткой русификации антирусских петровских реформ, «уроднения» их.
Пожалуй, только во времена правления Елизаветы Петровны начинает ощущаться мощь новой рабовладельческой империи. Никогда раньше так легко и блистательно не воевала русская армия. Была наконец-то окончательно сокрушена Швеция; русские войска вступили в войну с Пруссией и легко победили одну из самых сильных в Европе армий – короля Фридриха.
Пал Берлин, во взятом Кенигсберге, еще не забывшем бестолкового студента Эрнста Иоганна Бирона, вместе с другими жителями принес присягу русской императрице философ Эммануил Кант. Эта присяга Канта – в каком-то смысле символ царствования Елизаветы Петровны.
Другой символ этой эпохи – наш великий Михаил Васильевич Ломоносов, который и университет организовал, и сам был, как известно, первым нашим университетом.
Охваченный пафосом строительства невиданной империи, соединяющей навсегда Россию с немецкой династией, он писал:
… может собственных Ньютонов И быстрых разумом Нефтонов Земля Российская рождать.Но деятельность Ломоносова на благо империи этим не ограничилась.
Великий знаток русского языка В.И. Даль, печалясь, что мы перестали понимать смысл народных пословиц, потому что сильные и краткие обороты речи оказались вытесненными из письменного языка, чтобы сблизить его, для большей сподручности переводов, с языками западными, сказал: «Со времен Ломоносова, с первой растяжки и натяжки языка нашего по римской и германской колодке, продолжают труд этот с насилием и все более удаляются от истинного духа языка».
Мысль В.И. Даля, что русский язык стараниями классиков оказался более приспособленным для переводов с западных языков, чем для выражения собственных национальных мыслей, была актуальна и в XIX, и в XX веках, актуальной она остается и в наши дни, когда объем невыраженных национальных мыслей достиг той критической массы, которая, разрушая последние нравственные ориентиры, глухим, безъязыким отчаянием задавливает всю страну, грозя похоронить под собою саму русскую нацию!
Поразительно, однако, другое… Трагедию растяжки русского языка по римско-германской колодке сам Михаил Васильевич Ломоносов и сформулировал в своей разошедшейся по историческим анекдотам просьбе императрице пожаловать его в немцы.
Ну а замечательный знаток русского языка, подлинный русский патриот Владимир Иванович Даль, упрекавший М.В. Ломоносова за произведенную им растяжку и натяжку русского языка по римской и германской колодке, сам происходил из немецкой семьи.
Вот такие парадоксы.
Русский Михаил Васильевич Ломоносов насчет назначения его немцем, конечно, шутил, но, что уж греха таить, природное православие свое он сумел подчинить идеологии протестантизма. А природный протестант Владимир Иванович Даль печалился о невыраженных русских национальных мыслях…
Хотя почему же невыраженных?
Блаженная Ксения как раз и была той национальной мыслью, тоской по которой мучилась послепетровская Россия…
8
Так получилось, что, забыв себя, ушла Ксения спасать душу своего бесконечно любимого мужа, а спасала теперь всех православных петербуржцев, попавших в беду.
Улицы города стали кельей, где вершилась молитва святой.
Однажды Ксения зашла к знакомой вдовице, жившей с семнадцатилетней красавицей дочкой. Та как раз накрывала на стол.
– Ты чего?! – напустилась на нее Ксения. – Кофий будешь пить, когда твой муж на Охте жену хоронит?!
– Какой муж, матушка? – смутилась девушка. – У меня и жениха нет!
Однако ее мать, знавшая, что блаженная никогда и ничего не говорит без причины, велела дочери одеваться. Когда они приехали на Охтинское кладбище, там действительно шли похороны. Хоронили скончавшуюся родами жену доктора.
Мать с дочерью дождались конца похорон.
Когда кладбище уже опустело, они увидели бегущего к могиле молодого человека.
Это и был вдовец. При виде холмика земли на могиле скончавшейся супруги, он лишился чувств и упал на землю. Кругом никого не было, и женщинам с трудом удалось привести молодого доктора в сознание. Так они и познакомились.
Через год доктор женился на девушке… А другой благочестивой женщине блаженная Ксения подала на улице медную монетку с изображением всадника с копьем.
– Иди домой! – сказала она. – Тут царь на коне. Он потушит.
Недоумевая, что бы могли значить слова блаженной, женщина немедленно отправилась домой и еще издалека увидела, что дом ее объят пламенем. Женщина побежала скорее, сжимая в руке подаренную Ксенией монетку, и, когда добралась до ворот, пламя потухло…
Кротость, смирение, доброта постоянно сияли теперь на изможденном лице Ксении, и оно казалось прекрасным людям с чистым сердцем.
«Я сказал, что Ксения была кротка и ласкова, – писал в 1847 году Ив. Б-р-л-ъевъ, – и только однажды в 45 лет своего “странствия” жители Петербургской стороны увидели ее в полном разгаре гнева: с палкою в руке, с развевающимися седыми волосами, с восклицаниями “Окаянные! Жиденяты!”, быстрее вихря неслась она по улице, вслед за толпою раздразнивших ее мальчишек…
Вся Петербургская сторона содрогнулась от такого преступления ребят своих!.. Начались розыски, дюжина преступников, обвиненных в преследовании Андрея Григорьевича словом и грязью, подверглась пред лицем ея очистительным розгам».
Составители современных жизнеописаний Ксении Петербургской, приводя этот эпизод, редактируют его в духе присущей нам толерантности и совершенно выхолащивают смысл.
И презрительные взгляды, и оскорбительные слова и побои – все это наверняка было в сорокапятилетней эпопее странствий Андрея Григорьевича, и никогда святая Ксения не теряла кротости и смирения… Многочисленные жизнеописания утверждают, что блаженная оставалась совершенно покойной в то время, когда злые люди глумились над нею.
Что же случилось теперь? И почему «вся Петербургская сторона содрогнулась от такого преступления ребят своих»?!
Вероятно, ответ надо искать в словах самой Ксении: «Окаянные! Жиденяты!» Не просто комок грязи был брошен юными хулиганами, а нанесено оскорбление христианской вере, которая в святой Ксении, наверное, и не верою была, а воплощенным знанием, верою, при которой все возможно…
И этого оскорбления и не смогла простить блаженная.
Говорят, что своей дерзновенной молитвой к Богу Ксения могла теперь даже воскрешать умерших. Так случилось, когда однажды, выйдя к Неве, она увидела рыдающую над бездыханным сыном мать…
И будущее так ясно было открыто пребывающей в непрестанной молитве блаженной Ксении, что она ясно прозревала и судьбы отдельных людей, и всей страны.
В 1761 году, перед Рождеством Христовым, она всполошила всю Петербургскую сторону. Весь день, в Рождественский сочельник, 24 декабря, она суетливо бегала из дома в дом с криками:
– Пеките блины! Скоро вся Россия будет печь блины!
Никто не понимал, что значат эти слова…
Недоумения рассеялись только на следующий день, когда в своем дворце на Мойке скончалась императрица Елизавета Петровна. Оказалось, что это о поминальных блинах говорила Ксения. Их действительно пекла в те дни вся Россия…
Закончилось правление «дщери Петровой»…
Говорят, что до самой смерти она не смела ложиться до рассвета, ибо заговор возвел ее самую на престол во время ночи.
Елизавета Петровна так боялась ночного нападения, что, по уверениям секретаря французского посольства шевалье Рюльера, отыскала человека, который, имея тончайший сон, проводил в комнате императрицы всё время, пока она спала.
И это не слух…
К.-К. Рюльер имеет в виду Василия Ивановича Чулкова, который из истопников был произведен императрицей в метр-дегардеробы и обязан был спать на тюфячке в ее спальной комнате, когда Елизавета Петровна ночевала одна. Когда же «дщерь Петрова» принимала гостей, он должен был сидеть в кресле возле дверей спальни…
Так, лежа на тюфячке в спальне императрицы, Василий Иванович дослужился до звания генерал-аншефа. Кроме того, он был пожалован орденами Святой Анны и Святого Александра Невского…
9
Блаженная Ксения не могла не прозревать будущее, потому что, в отличие от обычных людей, жила не столько на земле, сколько на небе, постоянно пребывала в молитвенном обращении к Богу.
А у Бога нет ни прошлого, ни будущего времени, и, оглядываясь из незыблемой вечности на грешных людей, и бормотала Ксения свои маловразумительные слова, которые по прошествии времени непременно оборачивались точным предсказанием будущего.
Как плакала святая Ксения, когда убивали в Шлиссельбургской крепости несчастного русского императора Иоанна VI Антоновича, всю свою жизнь с младенчества безвинно просидевшего в тюрьме.
– Что ты плачешь, Андрей Григорьевич? – жалея Ксению, спрашивали тогда прохожие. – Не обидел ли тебя кто?
– Кровь, кровь, кровь… – отвечала Ксения. – Там реки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь! И еще три недели плакала Ксения, прежде чем стало известно в Петербурге, что в Шлиссельбурге, при попытке Мировича освободить его, убили несчастного императора Иоанна VI Антоновича.
Только тогда и начали догадываться, какая причина вызвала горючие слезы святой.
И только сейчас, два с половиной столетия спустя, понимаем мы, что, быть может, святая Ксения не только Иоанна VI Антоновича оплакивала тогда, но прозирала сам страшный рок царских династий на Руси…
В самом деле…
Мученической кончиной святого царевича Дмитрия в Угличе завершилась династия Рюриков…
Мученической смертью святого царевича Алексия завершится в 1918 году династия новых Романовых-Павловичей…
А посредине между ними мученическая кончина невинного страдальца, императора Иоанна VI Антоновича, завершившего череду первых Романовых на русском престоле.
И кровь, кровь, кровь…
Воистину реки, налитые кровью, каналы кровавые, кровь, кровь!
Поразительно, но спящею Ксению Григорьевну никто не видел…
И так сорок пять лет…
Одно время Ксения ходила по ночам к строящейся церкви на Смоленском кладбище. Таскала вверх, на леса, тяжелые кирпичи. Рабочие, которые приходили утром на стройку, не могли понять, как кирпичи сами поднимаются наверх… И так велико было «бесстрастие к тленному миру» блаженной Ксении, что так и не узнали петербуржцы, откуда явилась она к ним, так и не заметили, как слилась с небесной земная жизнь их помощницы и заступницы.
Впрочем, юродивые Христа ради всегда умирают так – неведомо где и когда. Либо замерзают в стужу, как святой Прокопий Устюжский, либо просто скрываются с глаз людских.
Даже и приблизительно неизвестно время кончины блаженной Ксении…
Не сохранилось решительно никаких известий, как скончалась она, где и кто ее отпевал, кто совершал погребение…
И виною этому не равнодушие петербуржцев.
Кончина блаженной Ксении ничего не изменила в отношении к ней народа. Как прежде на улице окружали ее толпы людей, прося о помощи; так и теперь струился к могилке блаженной на Смоленском кладбище нескончаемый поток скорбящих, немощных, печальных, нищих, болящих. И все получали на могилке святой утешение, защиту, исцеление… Много раз заново насыпали бугорок на могиле блаженной…
Снова и снова, как великую святыню, разносили эту землю страждущие.
Нет, никуда не ушла святая Ксения Петербургская из столицы новой России и после кончины своей, как и в земной жизни своей продолжает она являться людям, нуждающимся в ее помощи.
Более того, после кончины невероятным образом возрастает ее сила, и блаженная Ксения совершает то, что, казалось, никто не может совершить.
Разумеется, невозможно было противостоять притворяющемуся православием протестантизму онемечившихся Романовых.
Но что невозможно у людей, возможно у Бога.
Известно об исцелении по молитвам к блаженной Ксении цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра III, и предсказание о рождении у него дочки Ксении.
Датская принцесса Дагмара, в крещении Мария Федоровна, жена цесаревича Александра, выросла в протестантской среде. Став невестой, а затем женой цесаревича, она обязана была принять православную веру.
Марии Федоровне давали специальные уроки по истории православия, она стала соблюдать православные обряды и постепенно привязалась к своему новому Отечеству и полюбила Православную Церковь…
Через восемь лет жизни в России Мария Федоровна узнала и о блаженной Ксении. Ее муж, цесаревич Александр Александрович, заболел тогда так сильно, что жизнь его была в серьезной опасности. Дни и ночи при больном находились врачи. Во дворце чувствовалось ожидание беды. Все помнили, что так же неожиданно умер и старший брат Александра Александровича, Николай.
В эти страшные дни к Марии Федоровне обратился истопник. Он рассказал цесаревне, что, когда сам сильно заболел, ему принесли песок с могилки рабы Божией Ксении и по молитвам блаженной наступило исцеление. Тут же истопник передал мешочек с песком, прося положить его под подушку цесаревича и молиться блаженной Ксении.
Цесаревна Мария Федоровна исполнила просьбу истопника.
Ночью, сидя у постели больного мужа, она задремала и вдруг увидела перед собою пожилую женщину в красной кофте и зеленой юбке.
– Твой муж выздоровеет, – сказала женщина. – Тот ребенок, которого ты теперь носишь в себе, будет девочка. Назовите ее в мое имя Ксенией. И она будет хранить вашу семью от всяких бед.
Когда Мария Федоровна пришла в себя, женщины уже не было.
И это пророчество исполнилось с точностью. Цесаревич Александр Александрович действительно выздоровел, а Мария Федоровна 25 марта 1875 года, в Благовещение, родила дочь, которую назвали Ксенией.
С этого времени благочестивая Мария Федоровна стала особенно почитать блаженную. Ежегодно она приезжала на ее могилу и совершала по ней панихиду…
Три столетия отделяют нас от того дня, когда «на берегу пустынных волн» встал Петр I, обдумывая, как «на зло надменному соседу» воздвигнуть город. Каторжным трудом всей России город был воздвигнут. Воздвигнут «на зло соседу», на зло всей истории православной Руси…
И прошли столетия.
Ясно видим мы, как трудами бесчисленных мастеровых, гением Пушкина и Достоевского, Блока и Ахматовой, молитвами просиявших здесь святых мучительно-трудно и вместе с тем ликующе-победно срасталась новая послепетровская история с прежней русской историей.
И первая в сонме святых, просиявших в Санкт-Петербурге, – блаженная Ксения.
Великие чудеса творились на могиле блаженной Ксении, по молитвам к ней исцелялись безнадежно больные, отыскивались пропавшие, отводились смертельные опасности.
Как посрамление недобрых мечтаний грозного царя возникла Ксения, кажется, прямо из сырого воздуха построенного Петром I города.
Когда полковничий мундир износился и превратился в жалкие лохмотья, Ксения Григорьевна стала ходить в красной кофточке и зеленой юбке или зеленой кофточке и красной юбке…
Такой и запомнили петербуржцы блаженную Ксению в дни земной жизни, такой видели ее столетия спустя, такой смотрит она с икон и на нас…
Глава седьмая Брак мертвецов
1728 и 1729 годы…
Неприметные, не ознаменованные никакими великими событиями годы русской истории… И так же неприметно и ушли бы они, если бы не своеволие «дщери Петровой», вызвавшей из исторического небытия то, чего могло не быть, но что в результате перевернуло ход истории.
В 1728 году в Киле родился Кар-Петер-Ульрих, которому суждено было стать русским императором Петром III.
А в 1729 году в Померании, в семье коменданта прусской крепости, родилась и его убийца – София-Августа-Фредерика, будущая русская императрица Екатерина II.
1
Будущий император Петр III – Карл-Петер-Ульрих – родился в семье любимой дочери Петра I, цесаревны Анны Петровны, и герцога Гольштейн-Готторпского Карла-Фридриха, племянника шведского короля Карла XII.
Весть о рождении принца, соединившего в себе кровь непримиримых врагов, достигла Москвы, когда там шумно праздновалась коронация Петра II.
По случаю рождения Карла-Петера-Ульриха в Первопрестольной были устроены празднества и дан бал, который, по свидетельству современников, прошел весьма весело, хотя никто и не подозревал, что дается он в честь рождения будущего русского императора.
Император на Руси уже был. И был этот император красив, разумен, здоров и молод… О каком же еще царе надобно было думать? Но попраздновать можно и по поводу рождения двоюродного брата императора… Отчего же не попраздновать? Это с удовольствием…
И кажется, только архиепископ Феофан Прокопович своим угодливым сердцем сумел разглядеть нечто судьбоносное для России в этом рождении…
«Присланный вами вестник, принесший сюда уведомление о рождении у вас сына пресветлейшего Князя Петра, исполнил меня такою радостью, что я не нахожу слов для ее выражения. Чтобы я ни сказал, все будет слабее моих чувств… – писал он герцогине Гольштейн-Готторпской Анне Петровне. – Впрочем, скажу, что могу, если не в состоянии выразить, что хотелось бы. Родился Петру Первому внук, Второму брат; августейшим и державнейшим сродникам и ближним краса и приращение; российской державе опора, и, как заставляет ожидать его кровное происхождение – великих дел величайшая поддержка. А, смотря на вас, счастливейшие родители, я плачу от радости, как невольно плакал от печали, видя вас пренебрегаемых, оскорбляемых, отверженных, уничиженных и почти уничтоженных нечестивейшим тираном (архиепископ Феофан имеет в виду светлейшего князя Меншикова, уже свергнутого к тому времени. – Н.К.). Теперь для меня очевидно, что вы у всеблагого и великого Бога находитесь в числе возлюбленнейших чад, ибо Он посещает вас наказаниями, а после печалей возвеселяет, как и всегда делает с людьми благочестивыми…»
К счастью, Бог не судил Феофану дожить до тех пор, когда «российской державе опора» и «великих дел величайшая поддержка» взойдет на российский трон, а то еще неизвестно, чтобы осталось бы от России от их совместных «великих дел»…
Впрочем, как мы и говорили, никакие размышления о будущем не омрачили московского веселья в те месяцы.
Не омрачило веселья и известие о смерти Анны Петровны. Она умерла от чахотки, когда сыну было всего два месяца, умерла, как сообщает в своих записках Екатерина II, с горя, что ей пришлось жить в ничтожном городке Киле, в Голштинии, да еще в таком неудачном замужестве.
Увы… Раннее сиротство – этот горький удел первых русских императоров – не миновало и Карла-Петра-Ульриха.
До семи лет (в России взошедшая на престол Анна Иоанновна успела за это время и «Кондиции» уничтожить, и с верховниками расправиться, и новые льготы дворянству, поддержавшему ее, предоставить, и за польское наследство повоевать, а главное, всемерно усилить Бирона) Карл-Петр-Ульрих находился в руках женщин, которые только и научили его болтать по-французски.
На восьмом году воспитанием сына занялся отец.
Все свое время герцог Голштинский проводил в казарме и сына тоже, кажется, принимал за маленького солдатика.
На девятом году Карла-Петра-Ульриха произвели из унтер-офицеров в секундант-лейтенанты.
Вот как это было…
Праздновался день рождения герцога-отца, и во дворце давался парадный обед. Девятилетний Карл-Петр-Ульрих в мундире стоял на часах рядом с взрослым сержантом у входа в зал, где давался обед.
Ребенок был голоден, а герцог-отец, показывая гостям на сына, весело посмеивался над ним. Истязание прекратилось, когда велели подавать второе блюдо.
Герцог приказал сменить маленького часового и, когда тот подошел к столу, поздравил его лейтенантом. Только после этого Карлу-Петру-Ульриху было позволено занять место за столом, согласно новому званию.
Эпизод этот дает представление об особенностях «голштинской педагогии», которая в том и заключалась, что ребенок как бы сразу становился взрослым и вместо игр оказывался включенным во взрослую жизнь.
Ничего исключительного в таком обучении Карла-Петра-Ульриха не было, так муштровали тогда всех детей в Германии, и это не мешало им вырастать в полезных для общества людей. Карл-Петр-Ульрих тоже не воспринимал это как насилие над собой. Годы, проведенные в казарме отца, вспоминались им как самые светлые и радостные!
Но это потом, в воспоминаниях, а как было в самом детстве – неизвестно.
Как неизвестно и то, было ли вообще детство у Карла-Петра-Ульриха. Во всяком случае, о его голштинских игрушках не сообщается ничего, словно маленький принц и не играл вообще. А отсутствие детских игр сказалось, конечно, на характере подросшего принца. Профессор П.И. Ковалевский утверждал, что Петр «природы не любил, к животным был безжалостен».
Однако самые тяжелые испытания ждали Карла-Петра-Ульриха впереди.
Император Петр III (с гравюры неизвестного художника XVIII в.)
После смерти отца к нему приставили воспитателя – кавалерийского офицера Брюммера.
Придворные злословили, что он воспитывает принца точно так же, как лошадей на конюшне. На это Брюммер резонно отвечал, что за те ничтожные деньги, которые он получает, принц и не заслуживает лучшего воспитания.
Система воспитания, по Брюммеру, была жестокой, почти садистской.
Учеба давалась Карлу-Петру-Ульриху нелегко, и Брюммер, вместо того чтобы подбодрить воспитанника, изощрялся в изобретении все новых и новых наказаний.
То и дело ребенка оставляли без обеда, а чтобы усилить воздействие наказания, рисовали на его шее осла и, голодного, ставили в дверях столовой, чтобы он мог видеть, как весело обедают его воспитатели.
Карла-Петра-Ульриха заставляли стоять голыми коленями на горохе, колени распухали и сильно болели.
Иногда мальчика привязывали к столу и секли хлыстом…
Удивительно, что эти бессмысленные жестокости совершались над будущим монархом – кроме голштинской короны, одиннадцатилетний мальчик был наследником корон России и Швеции.
Даже когда Карла-Петра-Ульриха официально объявили наследником шведского престола, обращение с ним не переменилось. Правда, теперь хлыстом вколачивали в него уроки шведского языка, но хлыст от этого не делался мягче.
Распорядок дня был еще более ужесточен.
С утра до шести вечера принц должен был сидеть на уроках, с шести до восьми – заниматься танцами, «играть в кадриль» с дочерью госпожи Брокфорд, сумевшей подчинить своему влиянию наставника Брюммера.
Для игр и прогулок в расписании времени не оставалось.
– Зачем вы хотите сделать из меня профессора кадрили? – укладываясь спать, спрашивал Карл-Петр-Ульрих у своего наставника. – Разве императору обязательно танцевать кадриль?
– Как бы я был рад, если б вы поскорее издохли! – чистосердечно отвечал на это Брюммер.
С этим приятным напутствием и засыпал ребенок.
«Система» Брюммера сделала свое дело.
И так-то не очень крепкий от рождения, подрастая, Карл-Петр-Ульрих превращался в маленького уродца.
Портился и характер.
Сестра одиннадцатилетнего герцога – принцесса София-Августа-Фредерика, будущая русская императрица Екатерина II, впервые встретившаяся тогда с Петром, оставила достаточно яркий его портрет.
«Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было одиннадцать лет, в Эйтине у его опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла-Фридриха, его отца, принц-епископ[139] собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца.
Моя бабушка, мать принца-епископа и моя мать приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда десять лет. Тут были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Голштинии.
Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих и особенно Брюммера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения.
Действительно, цвет лица у него был бледен, и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером».
Портрет весьма выразительный, хотя, вглядываясь в него, возникает ощущение, что уже тогда принцесса София-Августа-Фредерика разглядывала в своем одиннадцатилетнем брате будущего супруга, которого предстоит ей свергнуть с престола и убить…
2
После того как «дщерь Петрова» произвела дворцовый переворот, она разгромила шведов[140] и приказала перевезти в Россию своего четырнадцатилетнего племянника Карла-Петра-Ульриха.
Заботилась императрица прежде всего о себе. Удержаться на русском престоле было более сложным делом, нежели захватить его. А закрепляя престол за петровской ветвью семьи, Елизавета Петровна снимала с себя все обвинения в узурпации власти. Император Иоанн Антонович был правнуком царя Ивана, а Карл-Петр-Ульрих – внуком царя Петра I. Получалось, что прав у него на наследование русского престола больше…
Поэтому, как пишет биограф Елизаветы Петровны, «императрица приняла сына любимой сестры и внука своего великого отца, как родная мать: поместила его в своем дворце, приставила к нему своих лучших учителей, заботилась о нем и ухаживала во время частых болезней. Вскоре Петр был присоединен к православию и объявлен великим князем Петром Федоровичем»…
В России подростку, не блещущему ни умом, ни развитием, практически всему предстояло учиться заново. Надобно было учиться языку матери и деда, которых он не знал. Вместо лютеранского катехизиса предстояло восприять догматы православия. Резок был и переход из «системы Брюмера» к положению великого князя.
Освоиться с подобной переменой затюканному «голштинской педагогией» Петру Федоровичу удалось не сразу.
Для уроков русского языка к Петру Федоровичу приставили Исаака Веселовского, а в православной догматике его наставлял вернувшийся из-за границы знаток древних языков, иеромонах Симон Теодорский…
Нужно сказать, что лютеранином Карл-Петр-Ульрих был неважным и в Киле он терпеть не мог ходить в церковь.
Увы… Ничего не предвещало, что, сделавшись Петром Федоровичем, он проявит большее усердие в православии. Уроки Симона Теодорского превращались в бесконечные споры по поводу каждого пункта православного катехизиса.
Как не преминула отметить Екатерина II, «часто призывались приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили; наконец, с большой горечью он покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать, по предубеждению ли, по привычке ли или из духа противоречия, что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России».
Но опасность заключалась не только в гигантском объеме новых знаний, которые нужно было усвоить будущему императору.
Все развитие Петра Федоровича пошло сейчас как бы наоборот…
В детстве из Карла-Петра-Ульриха пытались сделать взрослого человека, зато теперь, став великим князем Петром Федоровичем, с каждым днем он все более превращался в ребенка. Импульс к этому «возвратному» развитию дали уроки профессора Якоба Штелина, который должен был обучать его математике и истории, а в сущности, играл с ним.
Профессор Штелин был слишком образованным и осторожным человеком, чтобы, подобно Брюммеру, пользоваться хлыстом. Отчаявшись добиться должного прилежания от своего ученика, Штелин решил научить великого князя хоть чему-нибудь… При этом, как справедливо заметила Екатерина II, он превратился в своеобразного шута наследника престола.
Действительно…
Древнюю историю Штелин излагал, показывая старинные монеты.
По медалям Петра I читал курс новейшей истории.
Штелин приносил из Кунсткамеры забавные диковинки, чтобы сообщить великому князю хоть какие-то сведения из географии и механики.
Фортификация изучалась по картинкам в книге «Сила империи», где были изображены все русские укрепления от Риги до китайских границ.
В результате незаметно для самого учителя уроки начали превращаться в игру. Подводя итоги трехлетнего курса обучения, Штелин докладывал, что он старался «извлечь пользу из каждого случая. На охоте просматривали книги об охоте с картинками, при кукольных машинах (тогда начали входить в моду механические игрушки. – Н.К.) объяснен механизм и все уловки фокусников; при пожаре показаны все орудия и их композиция; на прогулках по городу показано устройство полиции…»
Подобные «уроки» хороши были бы для малыша пяти-шести лет, но великому князю тогда исполнилось уже шестнадцать.
Увы…
Будущий русский император, несмотря на хлопоты наставников, так и не научился толком говорить по-русски, так и не смог уразуметь разницу в догматах лютеранства и православия.
На всю жизнь суждено было оставаться ему без Бога, без Родины…
Мы помянули о «кукольных машинах», при которых профессор Штелин объяснял наследнику механизм и уловки фокусников.
Среди заводных игрушек появились тогда в России настоящие «механические картины». В музее игрушки в Сергиевом Посаде хранятся их образцы.
Одна из «картин» называется «Праздник в швейцарской деревне»… Когда заводишь этот «праздник», начинает звучать музыка; на террасу хорошенького домика выходят гости и начинают танцевать; распахиваются окошки в соседних домах, из них выглядывают люди. С ветки на ветку перелетают птицы.
Точно неизвестно, какие именно «механические картины» были у Петра Федоровича, но, разглядывая «Праздник в швейцарской деревне», так легко представить, с каким болезненным восторгом вглядывался он в механически размеренную жизнь, совершавшуюся под стеклянным колпаком…
Не эти ли игрушечно-выверенные перемещения, которые казались ему идеалом, и пытался он воссоздать в пространстве реальной жизни?
Если сравнить игры молодого Петра I с играми его внука, то обнаруживается, что развитие их шло как бы во встречных направлениях. Игры Петра I врастали в реальную жизнь, подчиняя ее себе, а у Петра III в игру превращалась реальная жизнь.
«В своих внутренних покоях, – пишет Екатерина II, – великий князь в ту пору только и занимался тем, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг; он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество; вообще он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло шестнадцать лет».
Не к этим ли механически-выверенным перемещениям и пытался он в дальнейшем привести неупорядоченную жизнь свалившейся на него империи?
3
И все-таки это стремительное бегство в детство наследника русского престола одними только уроками Штелина не объяснить. Не объяснить это и своенравием характера великого князя. Ведь когда было нужно, он умел подчиняться.
И вместе с тем совершенно очевидно, что с будущим императором что-то происходило. С каждым месяцем Петр Федорович все более становился ребенком. Забывая о своем возрасте, о своем положении в государственной иерархии, вскоре после свадьбы с Екатериной он вдруг увлекся игрой в куклы, которых выписывали для него из Европы, Китая и Индии.
Целые представления устраивал он с этими куклами…
Шестнадцатилетняя Екатерина, став супругой великого князя, с ужасом поняла, что она не способна отвлечь его от игрушек, кукол и других детских забав. О самых пикантных подробностях своего медового месяца она подробно рассказала в «Собственноручных записках»…
«Великий князь ложился первый после ужина, и как только мы были в постели, Крузе запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи; волей-неволей я должна была принимать участие в этом прекрасном развлечении, так же, как и Крузе. Часто я над этим смеялась, но еще чаще это меня изводило и беспокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми.
Не знаю, проведала ли Чоглокова[141] об этих ночных забавах, но однажды, около полуночи, она постучалась к нам в дверь спальной; ей не сразу открыли, потому что великий князь, Крузе и я спешили спрятать и снять с постели игрушки, чему помогло одеяло, под которое мы игрушки сунули.
Когда это было сделано, открыли дверь, но Чоглокова стала нам ужасно выговаривать за то, что мы заставили ее ждать, и сказала нам, что императрица очень рассердится, когда узнает, что мы еще не спим в такой час, и ушла ворча, но не сделав другого открытия.
Когда она ушла, великий князь продолжал свое, пока не захотел спать».
Судя по подробностям, которыми изобилуют «Собственноручные записки», у нас нет никаких оснований для обвинения Екатерины II в откровенной лжи.
И вместе с тем совершенно ясно, что принять навязываемое в «Записках» объяснение этой «детскости» поведения в супружеской спальне отклонениями в психике великого князя, задержкой в его развитии тоже невозможно.
Невозможно хотя бы уже потому, что по отношению к остальным женщинам Петр Федорович вел себя вполне адекватно. Скорее уж можно было говорить тут не о холодности, а о чрезмерной пылкости в этом вопросе…
Чтобы понять, что же тогда на самом деле происходило, вспомним, кто такая была сама Екатерина II.
4
Принцесса Ангальт-Цербстская София-Фредерика-Августа родилась 21 апреля 1729 года.
Ее отец, принц Христиан Август, был комендантом Штетина[142].
Мать, принцесса Иоганна-Елизавета, происходила из Голштинского дома. София-Фредерика-Августа находилась, таким образом, в родстве со своим будущим супругом.
О детстве Екатерины II известно из ее писем барону Гримму, решившему посетить в 1776 году Штетин.
«Зачем вам Штетин? Вы никого там не застанете в живых, одного разве Лорана, дряхлого старика, который в молодости был ничтожеством; но если вы не можете освободиться от этой охоты, так знайте, что я родилась в доме Грейфенгейма, в Мариинском приходе, что я жила и воспитывалась в угловой части замка, и занимала наверху три комнаты со сводами, возле церкви, что в углу. Колокольня была возле моей спальни. Там учила меня мамзель Кардель и делал мне испытания г. Вагнер. Через весь этот флигель, по два или по три раза в день, я ходила, подпрыгивая, к матушке, жившей на другом конце. Впрочем, не вижу в том ничего занимательного; разве, может быть, вы полагаете, что местность что-нибудь значит и имеет влияние на произведение сносных императриц».
Хотя, шутя, Екатерина и советовала барону Гримму предложить прусскому королю, чтобы он завел в Штетине школу принцесс и тогда на их ловлю там будут собираться посланники, «как за Шпицбергеном китоловы», но саму ее воспитывали без затей.
Софию-Фредерику-Августу это не особенно-то огорчало, она и не «воображала», по словам баронессы фон Принцен, «сделаться впоследствии государыней великой державы», поскольку обладала умом «серьезным и холодным, столь же далеким от всего выдающегося, яркого, как и от всего, что считается заблуждением, причудливостью или легкомыслием».
Однако, сделавшись великой княжной Екатериной, штетинская принцесса начала припоминать, что более прозорливые, нежели баронесса Принцен, люди уже тогда видели в ней нечто большее… Например, граф Гилленброк, который, приехав в Гамбург, обратил на нее внимание и сказал, что у нее «философское расположение ума».
Тем не менее судьба Софии-Фредерики-Августы решалась без всякого учета ее «философского расположения ума». И если чей-то ум и играл тут какую-то роль, то нужно говорить об уме императрицы Елизаветы Петровны. Тем самым умом, который, по остроумному замечанию де Аллион, хотя и был женским, но зато его у императрицы было много.
Этот женский ум, которого было много, и употребила Елизавета Петровна на поиски невесты своему племяннику.
На рынке невест наблюдалось тогда явное перепроизводство.
Английский посланник говорил Елизавете Петровне о дочерях английского короля, французский – об одной из французских принцесс, Фридрих II откровенно предлагал в невесты великому князю свою сестру Ульрику, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин – саксонскую принцессу Марианну…
Великая княгиня Елизавета Алексеевна (с портрета неизвестного художника середины XVIII в.)
Однако все это были только разговоры.
Елизавета Петровна больше всего любила заниматься организацией свадеб своих камеристок и служанок, и естественно, что выбор невесты для племянника она тоже оставляла за собою. Считается, что о переговорах с княгиней Ангальт-Цербстскою первым заговорил граф Лесток…
Велика, велика роль доктора Лестока в послепетровской истории России!
Во многом благодаря ему взошла на трон Елизавета Петровна, отчасти благодаря его идее появилась у нас и императрица Екатерина II.
Однако главную роль в выборе Софии-Фредерики-Августы в невесты великого князя сыграли не хлопоты Лестока, а, как нам кажется, то обстоятельство, что штетинская принцесса приходилась племянницей епископу Любекскому Карлу, сватавшемуся в свое время к самой Елизавете Петровне.
Свадьба эта из-за смерти жениха не состоялась, но предсвадебные мечтания не умерли, продолжали жить в разметавшейся в жарких пуховиках «дщери Петровой»…
Елизавета Петровна вспоминала себя невестой, готовящейся войти в семью своего жениха, воспоминания путались в голове, и как-то неожиданно для себя и приняла императрица Елизавета Петровна решение вместо своей свадьбы с Карлом сыграть свадьбу… его племянницы со своим племянником.
То, что молодожены находятся в родственных отношениях[143], никакой роли для «глубоко-религиозной» Елизаветы Петровны не играло.
«Чтобы устранить эту помеху, не щадили денег: этим способом во всех странах опровергаются возражения», – писал в своих записках Фридрих II.
Добавим, что речь тут шла о русских деньгах.
Деньги действительно ушли не малые, но какое значение имели расходы, если таким чудным образом «дщери Петровой» как бы удалось завершить свою свадьбу со своим помершим женихом.
Разумеется, это только предположение.
Никаких свидетельств, что Елизавета Петровна думала так, а тем более говорила кому-то об этом, нет.
Но это с одной стороны.
А с другой стороны, кроме этого предположения нет никакого иного объяснения тому, что среди великого множества принцесс в невесты великому князю Елизаветой Петровной была выбрана именно его сестра…
5
Родившийся в жарких пуховиках Елизаветы Петровны сюжет свадьбы с мертвецом женихом будет развит в истории Российской империи.
Внук Елизаветы Петровны, император Павел, вечером 6 ноября узнавший о кончине матери, уже 8 ноября даст князю Юсупову, обер-церемониймейстеру Валуеву и действительному статскому советнику Карадыкину указ:
«По случаю кончины нашей государыни императрицы Екатерины Алексеевны, для пронесения из Свято-Троицкаго Александро-Невскаго монастыря в соборную Петропавловскую церковь тела любезнейшаго родителя нашего, блаженный памяти государя императора Петра Федоровича, для погребения тела ея императорскаго величества в той же соборной церкви и для наложения единовременнаго траура, учредили мы печальную комиссию, в которую, назначив вас к присутствию, все вышеписанное распорядить с подобающим уважением к особам государским и, составя образцы, тому сообразные, нам представить».
В указе было разъяснено также, «каким порядком по их императорским величествам блаженной и вечной славы достойной памяти великом государе императоре Петре Федоровиче и великой государыне императрице Елисавете Алексеевне траур во весь год на четыре квартала быть имеет, начиная от 25-го ноября».
Но важен, разумеется, был не порядок траурных мероприятий, а соединение на один и тот же день кончин Петра III и Екатерины II. Царствование Павла становилось как бы прямым продолжением правления Петра III.
Николай Карлович Шильдер называл дальнейшие мероприятия загробным апофеозом Петра III.
«1796 года ноября 19-го числа, повелением благочестивейшаго самодержавнейшаго, великаго государя нашего императора Павла Петровича, – повествует летопись Александро-Невской лавры, – вынуто тело в Невском монастыре погребеннаго, покойнаго благочестивейшаго государя императора Петра Федоровича, и в новый сделанный великолепный гроб, обитый золотым глазетом, с гербами императорскими, в приличных местах с гасами серебряными, с старым гробом, тело его положено. В тот день, в семь часов пополудни, изволили прибыть в Невский монастырь его императорское величество, ея величество и их высочества, в нижнюю Благовещенскую церковь, где стояло тело, и, по прибытии их, открыт был гроб; к телу покойнаго государя изволили прикладываться его императорское величество, ея величество и их высочества, и потом закрыто было».
25 ноября, в десять часов утра, император Павел совершил коронацию праха Петра III. Он вошел в Царские врата, взял с престола корону и возложил на себя, а потом, подойдя к останкам родителя своего, при возглашении вечной памяти положил ее на гроб императора. В тот же самый день, во втором часу пополудни, императрица Мария Федоровна возложила корону на главу покойной государыни, тело которой было перенесено в тронную комнату на парадную кровать, а в седьмом часу тело императрицы Екатерины положили в гроб.
1 декабря герольды возвестили всенародно о предстоявшем на другой день перенесении тела императора Петра III из Невского монастыря в Зимний дворец.
В морозный день 2 декабря все полки гвардии и бывшие в столице армейские полки выстроились от Зимнего дворца до Александро-Невской лавры, откуда в одиннадцать часов утра и двинулась печальная процессия с останками Петра III. За гробом шествовали пешком в глубоком трауре их величества и их высочества. В шествии участвовал также и убийца Петра III, граф А.Г. Орлов-Чесменский, которому доверено было нести императорскую корону.
По прибытии процессии к Зимнему дворцу гроб Петра III был внесен в зал и поставлен на катафалк рядом с гробом императрицы Екатерины II.
5 декабря оба гроба одновременно перевезены были в Петропавловский собор. В процессии колесница с гробом императрицы следовала впереди, а за нею двигалась колесница с гробом императора, за которым шествовали их величества и их высочества.
На лице у императора заметно было больше гнева, нежели печали; он на всех глядел свысока. Императрица Мария Федоровна плакала.
До 18 декабря народ всякого звания был допускаем в крепость беспрепятственно.
«Два гроба и сердца, судьбою разлучены, Соединяет сын, примерный из царей! Пад к императорским стопам его священным, Россия чтит пример любви сыновней сей; И зря в чувствительном порфирородном сыне Чувствительна царя, отечества отца, Чего лишилася в Петре, Екатерине, То в Павле возвратя, благодарит Творца», —писали об этом «загробном апофеозе» 9 декабря 1796 года «Санкт-Петербургские ведомости».
Тогда же появился ряд аллегорических картин…
Одна из них называлась: «Эксгумация Петра III 8 ноября 1796 в присутствии Его Величества Павла I, императора всея России».
В храме, на возвышении, стоит гроб…
Поднятую гробовую крышку поддерживает с одной стороны монах, с другой – женщина в царском венце, олицетворяющая Россию. В правой руке у нее скипетр, а в левой светильник, освещающий поднимающегося из гроба Петра III.
Он протягивает руку императору Павлу…
Подле монаха стоит женщина, изображающая правосудие, и держит в одной руке весы, склоняющиеся к Петру III, а в другой – корону над его головой.
Павел Петрович, сжимая своей правой рукой руку отца, оборотился и другою рукою указывает на Петра вельможам, которые выражают радость и одобрение, и только граф А.Г. Орлов-Чесменский, позади этой группы царедворцев, в ужасе отстраняется от видения.
От гроба сползают змеи…
На другой гравюре на левой стороне изображен ад, там в пещере, за которой клубится пламя, сидят обнявшиеся Плутон и Прозерпина; внизу парки, цербер на цепи и три гиены. Харон отчаливает, чтобы ехать назад через Стикс. На берегу ада он оставил трех человек, в которых нетрудно узнать графа А. Орлова, князя Барятинского и Пассека. Один лежит распростертым, другой пал на колени, как бы умоляя о продлении жизни, а третий ломает себе руки. Фурии секут их пуками змей.
Правая сторона картины представляет за рекою Елисейские поля; там Павел ведет за руку Петра III, который в короне, порфире и со скипетром; позади них женщина в саване: это должна быть Екатерина II, а близ них – богиня правосудия с весами в одной руке и с опущенным мечом в другой; по правой стороне зрители этой сцены: императрица Мария Федоровна, ведущая за руку ребенка, великие князья Александр и Константин и великие княжны…
18 декабря останки Петра III и Екатерины II были преданы земле, после панихиды, в присутствии их величеств и всей императорской фамилии.
Такое развитие в русской истории получит «загробный апофеоз», зародившийся в жарких пуховиках «дщери Петровой», но произойдет это в конце 1792 года, а за пятьдесят пять лет до этого, в последние дни 1743 года, когда Фридрих II приказал княгине Ангальт-Цербстской везти Софию-Фредерику-Августу в Россию, ликованию и восторгам в семье штетинского коменданта не было границ.
За полгода до этого Елизавета Петровна сделала щедрый подарок брату своего покойного жениха голштинскому принцу Адольфу-Фридриху. Тогда 7 августа 1743 года, при заключении Абского мира, по настоянию императрицы Елизаветы Петровны он был посажен на шведский престол.
И вот второй, не менее щедрый подарок…
Уже 12 января 1744 года счастливая мать с невестой-дочерью выехала из Цербста в Берлин, оттуда в Кенигсберг, а затем в Ригу…
Срочно, как бы расчищая путь будущей императрице, перевезли из крепости Дюнамюнде в Раненбург (под Рязанью) семейство Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха…
3 февраля 1744 года София-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, прибыла в Россию…
6
Считается, что Екатерина писала «Собственноручные записки», чтобы объяснить или, вернее, обосновать, почему она не могла не свергнуть с престола своего мужа.
И это отчасти верно, но Екатерина обладала очевидным литературным талантом, и в ее «Записках» много живых сцен и реальных переживаний маленькой немецкой принцессы, заброшенной по странной прихоти императрицы Елизаветы Петровны в чужую, непонятную страну, которые работают не столько на главную идею книги, сколько против нее…
«Мне шел пятнадцатый год; в течение первых десяти дней он (великий князь. – Н.К.) был очень занят мною… – пишет Екатерина. – Я молчала и слушала, чем снискала его доверие, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра (выделено мной. – Н.К.) и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора, ввиду несчастья ее матери, некоей Лопухиной, сосланной в Сибирь; что ему хотелось бы на ней жениться, но он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает.
Я слушала, краснея, эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах»…
Прервем тут возмущенное повествование Екатерины II о «неразумии и недостатке суждения о многих вещах», проявляемых в отношении ее великим князем…
Браки между родственниками потому и запрещаются, что они противоестественны и в этих браках зачастую возникают проблемы с непосредственным продолжением рода.
Великий князь Петр Федорович не отличался большим умом, но относиться к Екатерине иначе, чем к сестре, он не хотел и, возможно, не мог. Осуждать его за это – все равно что осуждать здорового человека за то, что он не занимается половыми извращениями и не склонен к пороку.
Можно сказать, что великий князь был недостаточно умен, чтобы понимать тайные, во многом определяемые неудовлетворенностью в семейной жизни расчеты тетки, императрицы Елизаветы Петровны…
Можно говорить, что он был недостаточно тонок, чтобы понять, что его невестой движет не развращенность, а лишь стремление во что бы то ни стало, невзирая ни на какие условности, не упустить своего шанса!
Но можно говорить и иначе.
Можно говорить, что великий князь был слишком здоров, чтобы поддаться на эти женские уловки, пытающиеся склонить его к противоестественному соитию. И в принципе, Екатерине II тут не на что было жаловаться. Своего отношения к ней великий князь не скрывал.
«В мае месяце императрица с великим князем переехала на жительство в Летний дворец…
Тут кончились частые посещения великого князя. Он велел одному из слуг прямо сказать мне, что живет слишком далеко от меня, чтобы часто приходить ко мне; я отлично почувствовала, как мало он занят мною и как мало я любима (выделено мной. – Н.К.); мое самолюбие и тщеславие страдали от этого втайне, но я была слишком горда, чтобы жаловаться; я считала себя униженной, если бы мне выразили участие, которое я могла бы принять за жалость. Однако, когда я была одна, я заливалась слезами, отирала их потихоньку и шла потом резвиться с моими женщинами.
Мать тоже обращалась со мной очень холодно и церемонно; но я не упускала случая ходить к ней несколько раз в день…»
Насчет холодности жениха мы все выяснили.
Великий князь испытывал омерзение от одной только мысли, что его заставят лечь в брачную постель с сестрой.
Но чем объяснить холодность матери? Почему вместо того, чтобы поддержать дочь, она отворачивается от нее в ту минуту, когда ее поддержка особенна нужна?
Объяснение тут, наверное, только в той неприличной торопливости, с которой Екатерина II перенимала русские обычаи и веру, при каждом удобном и не очень удобном случае стараясь продемонстрировать свою любовь к русскому языку, русским обычаям и православной вере.
Историки романовской школы с умилением рассказывают, как в марте 1744 года, когда София-Августа-Фредерика простудилась и схватила плеврит, мать ее захотела, чтобы к дочери пригласили лютеранского священника. Однако София-Августа-Фредерика, которая лежала без чувств, тут же немедленно открыла глаза и сказала: «Зачем же? Пошлите лучше за Симоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Возможно, княгиню Ангальт-Цербстскую возмутило столь явное притворство дочери. А может быть, она вспомнила вдруг, как успешно училась ее дочь вначале у католического пастора Перара, убежденного паписта, потом у кальвиниста Лорана, ненавидевшего папу, затем – у лютеранского священника Вагнера, ненавидящего и католиков, и кальвинистов…
Мы не знаем, что именно возмутило княгиню Ангальт-Цербстскую, однако можно с уверенностью утверждать, что, в отличие от романовских апологетов, она не поверила дочери, будто уроки архимандрита Симона Теодоровского, пытавшегося внушить отвращение и к протестантизму, и к католицизму, сделали ее столь ревностной православной.
Не верим в это и мы. Симон Теодоровский, на наш взгляд, не столько воцерковлял свою воспитанницу, сколько превращал ее в законченную вольтерьянку. И это столь театрально-циничное отношение к вере вообще, которое так ярко проявилось в Софии-Августе-Фредерике, и ужаснуло ее по-немецки простодушную мать…
28 июля 1744 года состоялась церемония принятия Екатериной православия. По словам Мардефельда, «она держала себя как настоящая героиня»…
Слова эти, в свете всего вышесказанного, должны бы восприниматься как некая риторическая фигура, но нам они кажутся наполненными, как и слова о внезапно возникшей холодности матери, вполне конкретным содержанием.
Чтобы столь решительно стремиться к противоестественному браку с собственным братом, который испытывает ужас и отвращение от одной только мысли о нем, действительно требуется необыкновенная решимость и сила воли. Та решимость, которая не могла не изумить княгиню Ангальт-Цербстскую, то неистовое желание сделаться из дочери прусского коменданта русскою императрицей, которое действительно можно было принять за героизм.
Нельзя сказать, чтобы самой Екатерине это давалось легко…
«В душе я очень тосковала, но остерегалась говорить об этом, – пишет она. – Однако Жукова заметила как-то мои слезы и сказала мне об этом; я привела наилучшие основания, не высказывая ей истинных. Я, больше, чем когда-либо, старалась приобрести привязанность всех вообще, от мала до велика; я никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны, и поступать сообразно с этим, чтобы снискать себе всеобщее благорасположение, в чем и успела».
Как отмечает А.Г. Брикнер, «и впоследствии Екатерина своим внешним благочестием производила обыкновенно глубокое впечатление на публику, представляя совершенную противоположность Петру III, относившемуся совершенно небрежно к религиозным обязанностям».
Признание, что Екатерина «никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны, и поступать сообразно с этим», дорого стоит.
«По мере того как этот день (бракосочетания. – Н.К.) приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной Русской императрицей».
Современники вспоминают, что «приятный и благородный стан, гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, повелительный взгляд» – все возвещало в Екатерине великий характер.
«Возвышенная шея, особенно со стороны, образует отличительную красоту, которую она движением головы тщательно обнаруживала. Большое открытое чело и римский нос, розовые губы, прелестный ряд зубов… Волосы каштанового цвета отличной красоты, черные брови и… прелестные глаза, в коих отражение света производило голубые оттенки, и кожа ослепительной белизны». Гордость, по наблюдению современников, составляла отличительную черту характера Екатерины. Точно так же, как и лицемерие…
«Замечательные в ней приятность и доброта для проницательных глаз суть не иное что, как действие особенного желания нравиться, и очаровательная речь ее ясно открывает опасные ее намерения, – пишет французский атташе шевалье Клод-Карломан Рюльер. – Живописец, желая изобразить сей характер, аллегорически представил ее в образе прелестной нимфы, представляющей одной рукою цветочные цепи, а в другой скрывающей позади себя зажженный факел».
7
Свадьба Екатерины и Петра Федоровича была отпразднована 25 августа 1745 года с большой пышностью и великолепием. Образцами послужили свадьба французского дофина в Версале и бракосочетание сына короля Августа III в Дрездене. Празднества продолжались десять дней.
Теперь присматривать за великой княгиней назначили камер-фрау Крузе – сестру старшей камер-фрау императрицы. Первым делом Крузе запретила другим служанкам говорить вполголоса, дабы они не смогли сказать чего-то втайне от нее.
Екатерину лишили возможности даже посплетничать со своими служанками. Это было тем более досадно, что «милый супруг вовсе не занимался мною, но постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей комнате ученья и меняя по двадцати раз на дню свой мундир».
«Я очень хорошо видела, – признается Екатерина, – что великий князь вовсе не любит меня; через две недели после свадьбы он опять признался мне в своей страсти к девице Карр, фрейлине императрицы. Графу Девиеру он сказал, что между этою девушкой и мною не может быть никакого сравнения. Девиер был противного мнения; он на него рассердился за это.
Сцена эта происходила почти в моем присутствии.
В самом деле, – рассуждала я сама с собою, – не истребляя в себе нежных чувств к этому человеку, который так дурно платит за них, я непременно буду несчастлива и измучаюсь ревностью без всякого толку. Вследствие этого я старалась восторжествовать над моим самолюбием и изгнать из сердца ревность относительно человека, который не любит меня; но для того, чтобы не ревновать, было одно средство – не любить его. Если бы он желал быть любимым, то относительно меня это вовсе было нетрудно; я от природы была наклонна и привычна к исполнению моих обязанностей, но для этого мне был нужен муж с здравым смыслом, а мой его не имел».
Тут, как нам кажется, Екатерина заговаривается…
Понятно, что ей хотелось бы иметь мужа со здравым смыслом… Но что она называет здравым смыслом? Готовность лечь в постель со своей сестрой ради того, чтобы угодить императрице Елизавете Петровне? Готовность изображать семейную гармонию, хотя и намека на нее нет?
Но так легко регулировать свои чувства можно, когда речь идет об изображении любви, а не о самой любви, когда все чувства отсутствуют…
Впрочем, тут Екатерина всегда путалась и в дальнейшем.
Изображение чувства веры, любви, преданности она всегда путала с самой верой, любовью, преданностью!
Такой уж характер был у Екатерины, которую назовут Великой, которая в жертву карьере принесла всё.
«В конце мая императрица приставила ко мне главной надзирательницей Чоглокову, одну из своих статс-дам и свою родственницу; это меня как громом поразило, эта дама была совершенно предана графу Бестужеву, очень грубая, злая, капризная и очень корыстная. Ее муж, камергер императрицы, уехал тогда, не знаю с каким-то поручением, в Вену; я много плакала, видя, как она переезжает, и также во весь остальной день; на следующий день мне должны были пустить кровь.
Утром, до кровопускания, императрица вошла в мою комнату, и, видя, что у меня красные глаза, она мне сказала, что молодые жены, которые не любят своих мужей, всегда плачут, что моя мать, однако, уверяла ее, что мне не был противен брак с великим князем, что, впрочем, она меня к тому бы не принуждала, а раз я замужем, то не надо больше плакать.
Я вспомнила наставление Крузе и сказала: «Виновата, матушка», и она успокоилась».
Возможно, Екатерина понимала, что великий князь не обязан ради ее карьеры идти на противоестественное сожительство с нею, но ведь поскольку всеми изображалось, что ничего противоестественного в этом придуманном Елизаветой Петровной браке нет, то так считала теперь и Екатерина, и тем сильнее возмущал ее супруг, который не желал принимать изображаемое за действительное.
По воспоминаниям Екатерины видно, что ее совершенно искренне теперь раздражало в муже все. Невыносимой казалась его игра на скрипке, с раздражением слушала она его рассказы об увеселительном доме, на манер капуцинского монастыря, который он вознамерился выстроить близ Ораниенбаума.
Но особенно раздражали Екатерину ухищрения, к которым прибегал он по ночам, чтобы охладить ее любовный пыл. Однажды Петр пригласил супругу полакомиться посреди ночи присланными устрицами. В другой раз заставил играть в карты.
И тут – это очень характерно для Екатерины! – непонятно было, что ее раздражало больше, то ли принуждение к картежной игре, то ли то, что за неимением денег великий князь поставил в заклад свой ночной колпак, который представлял собою, по его словам, сумму в 10 тысяч рублей.
«При всей моей решимости угождать ему и быть с ним терпеливою, очень часто – признаюсь откровенно – его посещения, прогулки и разговоры надоедали мне до чрезвычайности… – пишет Екатерина. – Когда он уходил, самая скучная книга казалась мне приятным развлечением».
Раздражаться и вооружаться этим раздражением против супруга Екатерине было тем легче, что, как мы и говорили, сам он предоставлял для этого множество поводов.
«Утром, днем и очень поздно ночью великий князь с редкой настойчивостью дрессировал свору собак, которую сильными ударами бича и криком, как кричат охотники, заставлял гоняться из одного конца своих двух комнат (потому что у него больше не было) в другой; тех же собак, которые уставали или отставали, очень строго наказывал, это заставляло их визжать еще больше; когда наконец он уставал от этого упражнения, несносного для ушей и покоя соседей, он брал скрипку и пилил на ней очень скверно и с чрезвычайной силой, гуляя по своим комнатам, после чего снова принимался за воспитание своей своры и за наказывание собак, что мне поистине казалось жестоким.
Слыша раз, как страшно и очень долго визжала какая-то несчастная собака, я открыла дверь спальни, в которой сидела и которая была смежной с той комнатой, где происходила эта сцена, и увидела, что великий князь держит в воздухе за ошейник одну из своих собак, а бывший у него мальчишка, родом калмык, держит ту же собаку, приподняв за хвост.
Это был бедный маленький Шарло английской породы, и великий князь бил эту несчастную собачонку толстой ручкой своего кнута; я вступилась за бедное животное, но это только удвоило удары; не будучи в состоянии выносить это зрелище, которое показалось мне жестоким, я удалилась со слезами на глазах к себе в комнату».
Узнав о забавах своего наследника, императрица Елизавета Петровна категорически запретила ему держать собак во дворце, но наследник престола не послушался. Свору он поселил в чулане возле спальни жены.
«Сквозь дощатую перегородку алькова, – вспоминала потом Екатерина II, – несло псиной, и мы оба спали в этой вони».
Когда же Екатерина II попросила убрать собак, супруг ответил, что нет возможности иначе устроить, потому как, если узнает тетенька, она будет очень сердиться. Более того, он потребовал, чтобы жена хранила его секрет…
Однажды Екатерина увидела в комнате мужа болтающуюся в петле крысу.
– Что это значит, Ваше Высочество? – спросила она.
Великий князь без тени улыбки объяснил, что крыса совершила уголовное преступление, наказуемое по законам военного времени (Россия и Пруссия вели тогда войну) жесточайшей казнью. Преступница проникла ночью в картонную крепость, перелезла через стену и сгрызла двоих слепленных из крахмала часовых, что несли вахту на бастионе. К счастью, верная собака поймала ее. Военно-полевой суд приговорил преступницу к повешению, и теперь три дня она будет висеть «на глазах публики для внушения примера».
Было тогда Петру Федоровичу уже двадцать пять лет…
Иногда целыми днями будущий император расставлял на столах солдатиков.
Вдоль столов были прибиты медные решеточки с трещотками. Стоило дернуть за шнурок – и раздавался звук, похожий на беглый ружейный огонь.
Часами мог забавляться великий князь стрельбою игрушечных солдат…
И каждый вечер производил «развод патрулей», являясь к столам с игрушками в генеральском мундире, в ботфортах со шпорами. В мундирах должны были присутствовать на разводе патрулей и лакеи.
Екатерина описывает его забавы с плохо скрываемым раздражением, и это понятно. Великий князь мог забавляться солдатиками в ожидании, когда освободится трон.
Что произойдет тогда, Екатерина знала слишком твердо.
Ей предстояло тогда возвращение к матери или кое-что похуже этого…
Впрочем, об этом можно было пока не думать. Беда могла произойти намного раньше…
8
Страницы, посвященные событиям 1750 года, едва ли не самые драматичные в «Собственноручных записях» Екатерины II.
Год этот начинался новым развлечением великого князя – его романом с дочерью герцога Эрнста Иоганна Бирона. Он был особенно мучителен для Екатерины, поскольку совершался на ее глазах, и особенно унизителен, потому что новая возлюбленная Петра Федоровича была горбуньей!
«Чоглоков вздумал в это время доставить нам развлечение, или, вернее, не зная, что делать самому и жене от скуки, он приглашал нас с великим князем ежедневно после обеда играть у него в покоях, которые он занимал при дворе и которые состояли из четырех-пяти довольно маленьких комнат. Он звал туда дежурных кавалеров и дам и принцессу Курляндскую, дочь герцога Эрнста Иоганна Бирона, прежнего фаворита императрицы Анны.
Императрица Елизавета вернула этого герцога из Сибири, куда во время регентства принцессы Анны он был сослан; местом жительства ему назначили Ярославль, на Волге; там он и жил, с женой, двумя сыновьями и дочерью.
Эта дочь не была ни красива, ни мила, ни стройна, ибо она была горбата и мала ростом, но у нее были красивые глаза, ум и необычайная способность к интриге; ее отец и мать не очень ее любили; она уверяла, что они постоянно дурно с ней обращались.
В один прекрасный день она бежала из родительского дома и укрылась у жены ярославского воеводы, Пушкиной. Эта женщина в восторге, что может придать себе значение при дворе, привезла ее в Москву, обратилась к Шуваловой и бегство принцессы Курляндской из родительского дома объяснила, как следствие преследований, которые она терпела от родителей за то, что выразила желание перейти в православие. В самом деле, первое, что она сделала при дворе, было действительно ее исповедание веры; императрица была ее крестной матерью, после чего ей отвели помещение среди фрейлин.
Чоглоков особенно старался выказывать ей внимание, потому что старший брат принцессы положил основание его благополучию, взяв его из Кадетского корпуса, где он воспитывался, в кавалергарды, и держал его при себе для посылок.
Принцесса Курляндская, втершаяся таким образом к нам и игравшая каждый день в триссет в течение нескольких часов с великим князем, с Чоглоковым и со мной, вела себя вначале с большой сдержанностью: она была вкрадчива, и ум ее заставлял забывать, что у нее было неприятного в наружности, особенно когда она сидела; она каждому говорила то, что могло ему нравиться.
Екатерина Великая (с гравюры Чемесова). 1762 г.
Все смотрели на нее, как на интересную сироту, к ней относились как к особе почти без всякого значения.
Она имела в глазах великого князя другое достоинство, которое было немаловажным: это была своего рода иностранная принцесса и тем более немка, следовательно, они говорили вместе только по-немецки.
Это придавало ей прелести в его глазах; он начал оказывать ей столько внимания, сколько был способен; когда она обедала у себя, он посылал ей вина и некоторые любимые блюда со своего стола, и когда ему попадалась новая какая-нибудь гренадерская шапка или перевязь, он их посылал к ней, чтобы она посмотрела».
Еще более раздражало Екатерину, что на этот унизительный для нее роман великого князя тратилось последнее время, отпущенное ей для упрочения ее положения в Российской империи.
Уже четыре с половиной года длился ее брак с Петром Федоровичем, и императрица Елизавета Петровна изволили гневаться. Тогда и была назначена проверка. Как она должна была протекать, точно неизвестно, но из «Собственноручных записей» видно, что проверять бездетных супругов собирались всерьез.
9
«К концу масленой императрица вернулась в город… На первой неделе поста мы начали говеть.
В среду вечером я должна была пойти в баню, в доме Чоглоковой, но накануне вечером Чоглокова вошла в мою комнату, где [находился] и великий князь, и передала ему от императрицы приказание тоже идти в баню.
А баня и все русские обычаи и местные привычки не только не были по сердцу великому князю, но он даже смертельно их ненавидел. Он наотрез сказал, что не сделает ничего подобного; Чоглокова, тоже очень упрямая и не знавшая в своем разговоре никакой осторожности, сказала ему, что это значит не повиноваться Ее Императорскому Величеству. Он стал утверждать, что не надо приказывать того, что противно его натуре, что он знает, что баня, где он никогда не был, ему вредна, что он не хочет умереть, что жизнь ему дороже всего и что императрица никогда его к такой вещи не принудит.
Чоглокова возразила, что императрица сумеет наказать его за сопротивление.
Тут он рассердился и сказал ей вспыльчиво: “Увидим, что она мне сделает, я не ребенок”.
Тогда Чоглокова стала ему угрожать, что императрица посадит его в крепость. Ввиду этого он принялся горько плакать, и они наговорили друг другу всего, что бешенство могло им внушить самого оскорбительного, и у обоих буквально не было здравого смысла.
В конце концов она ушла и сказала, что передаст слово в слово этот разговор императрице.
Не знаю, что она сделала, но она вернулась, и разговор принял другой оборот, ибо она сказала, что императрица говорила и очень рассердилась, что у нас еще нет детей, и что она хотела знать, кто из нас двоих в том виноват, что она пришлет мне акушерку, а ему доктора; она прибавила ко всему этому много других обидных и бессмысленных вещей и кончила словами, что императрица освобождает нас от говения на этой неделе, потому что великий князь говорит, что баня повредит его здоровью».
Тут мы сталкиваемся с настолько своеобразным отношением императрицы Елизаветы к говению (на первой седмице!), что, право же, даже и не решаемся предположить, что она вкладывала в это слово.
«Надо знать, – говорит Екатерина, – что во время этих разговоров я не открывала рта, во-первых, потому, что оба говорили с такой запальчивостью, что я не находила, куда бы вставить слово; во-вторых, потому, что я видела, что с той и другой стороны говорят безрассудные вещи. Я не знаю, как судила об этом императрица, но, как бы то ни было, больше не поднимался вопрос ни о том, ни о другом предмете после того, что только что я рассказала».
Вторую половину Великого поста императрица провела в Гостилицах у графа Разумовского, празднуя его именины, а молодой двор – в Царском Селе, где великий князь стал выказывать решительное пристрастие к принцессе Курляндской, особенно выпивши вечером за ужином, что случалось с ним теперь каждый день…
«Он не отходил от нее больше ни на шаг, – вспоминала Екатерина II, – говорил только с ней, одним словом, дело это быстро шло вперед в моем присутствии и на глазах у всех, что оскорбляло мое тщеславие и самолюбие; мне обидно было, что этого маленького урода предпочитают мне.
Однажды вечером, когда я вставала из-за стола, Владиславова сказала мне, что все возмущены тем, что эту горбунью предпочитают мне; я ей ответила: “Что делать!”, у меня навернулись слезы, и я пошла спать.
Только что я улеглась, как великий князь пришел спать.
Так как он был пьян и не знал, что делает, то стал мне говорить о высоких качествах своей возлюбленной; я сделала вид, что крепко сплю, чтобы заставить его поскорее замолчать, он стал говорить еще громче, чтобы меня разбудить, и видя, что я не подаю признаков жизни, довольно сильно толкнул меня раза два-три кулаком в бок, ворча на мой крепкий сон, повернулся и заснул.
Я очень плакала в эту ночь и из-за всей этой истории, и из-за ударов, которые он мне нанес, и из-за своего положения, столь же неприятного во всех отношениях, сколь и скучного. На следующий день ему было стыдно за то, что он сделал; он мне об этом не говорил, я сделала вид, что не почувствовала»…
Безусловно, Екатерина II и вообще не лишена была писательского таланта, но «Собственноручные записки» занимают в ее литературном наследии совершенно особое место.
Они содержат такое обилие бытовых подробностей, так тонко и с такой потрясающей глубиной откровенности описаны в записках нюансы отношений между обитателями царского дворца, что проза эта сделала бы честь и самому маститому писателю. Однако это совсем не проза, не художественная проза, во всяком случае, потому, что служит она не столько созданию художественных образов и единой художественной картины жизни, сколько маскировке того, что необходимо было сказать и что невозможно было сказать.
Безусловно, в современной Екатерине II французской литературе[144] можно было найти и более пикантные сюжеты, нежели сюжет о дочери команданта прусской крепости, от которой ждут появления наследника и которая, проведя столько лет в замужестве, все еще остается девственницей. Но что с того? В реальной жизни рамки этого сюжета были существенно ограничены интересами династии и самой страны… Не поэтому ли в своих мемуарах[145] Екатерина так напоминает «женщину в саване», что бредет следом за императорами к богине правосудия на картине «Эксгумация Петра III»?
Глава восьмая Выбор наследника престола
«Став супругою великого князя на 16-м году возраста, – пишет французский атташе в Петербурге Клод-Карломан Рюльер, – она (Екатерина. – Н.К.) уже чувствовала, что будет управлять владениями своего мужа. Поверхность, которую она без труда приобрела над ним, служила к тому простым средством, как действие ее прелестей, и честолюбие ее долго сим ограничивалось. Ночи, которые проводили они всегда вместе, казалось, не удовлетворяли ее чувствам; всякий день скрывались они от глаз по нескольку часов, и империя ожидала рождения второго наследника, не воображая в себе, что между молодыми супругами сие время было употребляемо единственно на прусскую экзерцицию или стоя на часах с ружьем на плече.
Долго спустя великая княгиня, рассказывая сии подробности брачной жизни, прибавляла: “Мне казалось, что я годилась для чего-нибудь другого”. Но сохраняя в тайне странные удовольствия своего мужа и тем ему угождая, она им управляла, во всяком случае, она тщательно скрывала сии нелепости и, надеясь царствовать посредством его, боялась, чтобы его не признали недостойным престола.
Подобные забавы не обещали империи наследной линии, а императрица Елизавета непременно хотела ее иметь для собственной своей безопасности… Сего-то и недоставало; уже прошло восемь лет, и хотя природа не лишила великого князя всей чувствительности, но опытные люди неоспоримо доказывали, что нельзя было надеяться от него сей наследственной линии. Придворный молодой человек, граф Салтыков, прекрасной наружности и недальнего ума, избран был в любовники великой княгини» …
1
Разумеется, можно относиться к этому рассказу французского атташе как к досужей сплетне, ведь и помещен он в сочинении, красноречиво озаглавленном: «Истории и анекдоты революции в России в 1762 году».
Но смущает, что «анекдоты» Клод-Карломана Рюльера как-то удивительно точно соотносятся с другими свидетельствами, достоверность которых не вызывает никакого сомнения. А пикантная история о замене великого князя в постели Екатерины II любовником, как ни странно, находит недвусмысленные подтверждения в воспоминаниях самой Екатерины II:
«Чоглокова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала: “Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьезно”.
Я, понятно, вся обратилась в слух; она с обычной своей манерой начала длинным разглагольствованием о привязанности своей к мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения и отягощения уз супруга или супруги, и затем свернула на заявление, что бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила.
Я дала ей высказать все, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумленная, и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно. Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала:
“Вы увидите, как я люблю свое отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения: предоставляю вам выбрать между С[ергеем] С[алтыковым] и Л[ьвом] Н[арышкиным]. Если не ошибаюсь, то [избранник ваш] последний”.
На это я воскликнула: “Нет, нет, отнюдь нет”.
Тогда она мне сказала: “Ну, если это не он, так другой наверно”.
На это я не возразила ни слова, и она продолжала: “Вы увидите, что помехой вам буду не я”.
Я притворилась наивной настолько, что она меня много раз бранила за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Пасхи»…
Не верить этому сообщению Екатерины II – нет оснований.
Во-первых, зачем бы ей наговаривать на себя такое, а во-вторых, в этом эпизоде очень точно очерчена фигура Марии Симоновны Чоглоковой. Говорят, что Мария Симоновна была такой патриоткой, что, когда со своим мужем камергером Николаем Наумовичем Чоглоковым поселилась в царском дворце, детей их пеленали андреевскими лентами с плеча государыни.
Красивая, молодая (она была на пять лет моложе Екатерины II) Мария Симоновна, когда ее назначили обер-гофмейстериной при великой княгине, получила специальные инструкции у императрицы…
Далее в «Собственноручных записках» идет описание празднования в Москве годовщины коронации Елизаветы Петровны, описание дуэли Захара Чернышева и полковника Николая Леонтьева, и тут же Екатерина сообщает, что в течение мая у нее появились признаки беременности.
«К Петрову дню мы вернулись в Москву, и на меня напал такой сон, что я спала по целым дням до двенадцати часов и с трудом меня будили к обеду. Петров день был отпразднован, как всегда; я оделась, была у обедни, на обеде, на балу и за ужином.
На следующий день я почувствовала боль в пояснице. Чоглокова призвала акушерку, и та предсказала выкидыш, который у меня и был в следующую ночь.
Я была беременна, вероятно, месяца два-три; в течение тринадцати дней я находилась в большой опасности, потому что предполагали, что часть “места” осталась; от меня скрыли это обстоятельство; наконец на тринадцатый день место вышло само без боли и усилий; меня продержали по этому случаю шесть недель в комнате, при невыносимой жаре».
Тем не менее теперь Екатерина знала, чего от нее хотят, и была преисполнена решимости дать это империи и императрице Елизавете, неторопливо ожидавшей, когда наконец будет восстановлена вся династическая линия.
2
Разумеется, в «Собственноручных записях» Екатерина II не могла записать, что ее сын, наследник русского престола, будущий русский император Павел, является не сыном Петра III, а некоего другого избранника, но в тексте фразе о беременности Екатерины Павлом предшествует довольно путаная история о романе Чоглоковой с князем Петром Репниным, в которой как-то не к месту появляется Сергей Салтыков.
Мысль Екатерины выстраивается так: некто открылся Сергею Салтыкову, «который постарался – мы уже вошли в цитату! – его успокоить; я отнюдь не говорила Сергею Салтыкову того, что об этом знала, боясь невольной иногда нескромности. Под конец и муж стал мне делать кое-какие намеки; я разыграла из себя дурочку и удивленную и промолчала»…
И вот сразу после этого, не отделенные даже абзацем, идут слова: «В феврале месяце у меня появились признаки беременности»…
Некое иносказание содержится и в подробном рассказе об исповеди Чоглокова, которой тот удостоил беременную Екатерину, о скандале между Чоглоковыми, свидетельницей которого стала она, о неожиданном визите императрицы.
Повсюду в этом рассказе к месту и не к месту появляется Сергей Салтыков, который, по словам Екатерины, «был прекрасен, как день»…
Любопытно, что порою Екатерина II упоминает о нем чаще, чем о муже.
Если же сопоставить частоту упоминания их, то рассказ распадается на три примерно равные части. В первой части мы видим совершенно явный паритет Сергея Салтыкова и великого князя. На одно упоминание одного приходится ровно одно упоминание другого…
Великий князь Павел Петрович в младенчестве (с портрета неизвестного художника середины XVIII в.)
«В самую Пасху во время службы Чоглоков захворал сухой коликой; ему давали сильных лекарств, но болезнь его только усиливалась.
На Святой неделе великий князь поехал кататься с кавалерами нашего двора верхом. Сергей Салтыков был в том числе; я оставалась дома, потому что меня боялись выпускать ввиду моего положения и ввиду того, что у меня было уже два выкидыша; я была одна в своей комнате, когда Чоглоков прислал просить меня пойти к нему; я пошла туда и застала его в постели; он стал сильно жаловаться мне на свою жену, сказал, что у нее свидания с князем Репниным, что он ходит к ней пешком, что на Масленой, в один из дней придворного бала, он пришел к ней одетый арлекином, что Камынин его выследил; словом, Бог знает, каких подробностей он мне не рассказал.
В минуту наибольшего возбуждения его пришла его жена; тогда он стал в моем присутствии осыпать ее упреками, говоря, что она покидает его больного.
И он, и она были люди очень подозрительные и ограниченные; я смертельно боялась, чтобы жена не подумала, что это я выдала ее во множестве подробностей, которые он привел ей относительно ее свиданий.
Жена, в свою очередь, сказала ему, что не было бы странным, если бы она наказала его за его поведение по отношению к ней; что ни он и никто другой не может по крайней мере упрекнуть ее в том, что она пренебрегла им до сих пор в чем бы то ни было; и свою речь она закончила словами, что ему не пристало жаловаться; и тот и другой обращались все время ко мне и брали меня судьей и посредником в том, что говорили. Я молчала, боясь оскорбить того или другого, или обоих вместе, или же выдать себя.
У меня горело лицо от страха; я была одна с ними.
В самый разгар пререканий Владиславова пришла сказать мне, что императрица пожаловала в мои покои; я тотчас же туда побежала. Чоглокова вышла со мной, но вместо того, чтобы следовать за мной, она остановилась в одном коридоре, где была лестница, выходившая в сад; она там и уселась, как мне потом сказали.
Что касается меня, то я вошла в мою комнату вся запыхавшаяся и действительно застала там императрицу.
Видя меня впопыхах и немного красной, она меня спросила, где я была.
Я ей сказала, что пришла от Чоглокова, который болен, и что я побежала, чтобы вернуться возможно скорее, когда узнала, что она изволила ко мне пожаловать. Она не обратилась ко мне с другими вопросами, но мне показалось, что она задумалась над тем, что я сказала, и что это ей казалось странным; однако она продолжала разговаривать со мной; она не спросила, где великий князь, потому что ей было известно, что он выехал.
Ни он, ни я во все царствование императрицы не смели выезжать в город, ни выходить из дому, не послав испросить у нее на это позволения.
Владиславова была в моей комнате; императрица несколько раз обращалась к ней, а потом ко мне, говорила о безразличных вещах и затем, пробыв без малого полчаса, ушла, объявив мне, что по случаю моей беременности она позволяет мне не являться 21 и 25 апреля…
Как только великий князь вернулся, я рассказала Сергею Салтыкову о том, что со мной случилось во время их прогулки, как Чоглоков меня позвал, что было сказано между мужем и женою, о моей боязни и визите, который императрица мне сделала.
Тогда он мне сказал: “Если это так, то я думаю, что императрица приходила посмотреть, что вы делаете в отсутствие вашего мужа, и, чтобы видели, что вы были совершенно одни и у себя и у Чоглокова, я пойду и захвачу всех моих товарищей так, как есть, с ног до головы в грязи, к Ивану Шувалову”.
Действительно, когда великий князь удалился, он ушел со всеми теми, кто ездил верхом с великим князем, к Ивану Шувалову, который имел помещение при дворе. Когда они туда пришли, то последний стал расспрашивать их подробно о прогулке, и Сергей Салтыков сказал мне потом, что, по его вопросам, ему показалось, что он не ошибся.
С этого дня болезнь Чоглокова стала все ухудшаться; 21 апреля, в день моего рождения, доктора нашли, что нет надежды на выздоровление. Об этом сообщили императрице, которая приказала, по своему обыкновению, перевезти больного в его собственный дом, чтоб он не умер при дворе, потому что она боялась покойников.
Я была очень огорчена, как только узнала о состоянии, в котором Чоглоков находился. Он умирал как раз в то время, когда после многих лет усилий и труда удалось сделать его не только менее злым и зловредным, но когда он стал сговорчивым и с ним даже можно было справляться, изучив его характер.
Что касается жены, то она искренно меня любила в то время и из черствого и недоброжелательного Аргуса стала другом надежным и преданным. Чоглоков прожил в своем доме еще до 25 апреля, до дня коронации императрицы, в который он и скончался после полудня. Меня тотчас об этом уведомили, я посылала туда почти каждый час. Я была поистине огорчена и очень плакала. Его жена тоже лежала в постели в последние дни болезни мужа; он был в одной стороне своего дома, она – в другой.
Сергей Салтыков и Лев Нарышкин находились в комнате жены в минуту смерти ее мужа; окна комнаты были открыты, птица влетела в нее и села на карниз потолка, против постели Чоглоковой; тогда она, видя это, сказала: “Я убеждена, что мой муж только что отдал Богу душу; пошлите узнать, так ли это”[146].
Пришли сказать, что он действительно умер.
Она говорила, что эта птица была душа ее мужа; ей хотели доказать, что эта птица была обыкновенная птица, но не могли ее отыскать. Ей сказали, что она улетела, но так как никто ее не видел, она осталась убеждена, что это была душа ее мужа, которая прилетела повидаться с ней.
Как только похороны Чоглокова были кончены, Чоглокова хотела побывать у меня; императрица, видя, что она переправляется через длинный Яузский мост, послала ей навстречу сказать, что она увольняет ее от ее должности при мне и чтобы она возвращалась домой. Ее Императорское Величество нашла неприличным, что, как вдова, она выехала так рано. В тот же день она назначила Александра Ивановича Шувалова исполнять при великом князе должность покойного Чоглокова. А этот Александр Шувалов, не сам по себе, а по должности, которую он занимал, был грозой всего двора, города и всей империи: он был начальником государственного инквизиционного суда, который звали тогда Тайной канцелярией. Его занятия, как говорили, вызвали у него род судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица, от глаза до подбородка, каждый раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью. Удивительно, как выбрали этого человека со столь отвратительной гримасой, чтобы держать его постоянно лицом к лицу с молодой беременной женщиной; если бы у меня родился ребенок с таким несчастным тиком, я думаю, что императрица была бы этим очень разгневана; между тем это могло бы случиться, так как я видела его постоянно, всегда неохотно и большей частью с чувством невольного отвращения, причиняемого его личными свойствами, его родными и его должностью, которая, понятно, не могла увеличить удовольствия от его общества. Но это было только слабым началом того блаженства, которое готовили нам и, главным образом, мне.
На следующий день пришли мне сказать, что императрица снова назначит ко мне графиню Румянцеву. Я знала, что это был заклятый враг Сергея Салтыкова, что она недолюбливала также княжну Гагарину и что она очень повредила моей матери в глазах императрицы.
На сей раз, узнав это, я потеряла всякое терпение; я принялась горько плакать»…
В этой части рассказа, как мы видим, Екатерина пять раз упоминает великого князя и пять раз Сергея Салтыкова. Паритет этот нарушается только тем, что законный муж фигурирует в воспоминаниях Екатерины практически безлично, в качестве обстоятельства времени и действия: «…исполнять при великом князе должность покойного Чоглокова».
Порою Екатерина нарочито сводит в одной фразе мужа и любовника, и всегда муж исполняет в этой фразе роль, обстоятельство времени и места действия, а само действие отдается Сергею Салтыкову: «Как только великий князь вернулся, я рассказала Сергею Салтыкову о том, что со мной случилось» или:
«Когда великий князь удалился… к Ивану Шувалову… Сергей Салтыков сказал мне потом…»
Но вот приближается время родов… Как известно, женщины, готовясь стать матерью, испытывают беспокойство, тревогу, становятся капризными и далеко не всегда контролируют свои мысли и свои поступки.
Екатерина не исключение. В рассказе, посвященном последнему периоду своей беременности, она вспоминает мужа всего два раза, а Сергея Салтыкова четыре…
«В самом деле, я не слышала больше разговоров об этом, и все занялись только отъездом в Петербург.
Было установлено, что мы проведем 29 дней в дороге, то есть что мы будем проезжать ежедневно только по одной почтовой станции. Я умирала от страху, как бы Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина не оставили в Москве; но не знаю, как это случилось, что соблаговолили записать их в нашу свиту.
Наконец мы отправились десятого или одиннадцатого мая из Московского дворца.
Я была в карете с женой графа Александра Шувалова, с самой скучной кривлякой, какую только можно себе представить, с Владиславовой и с акушеркой, без которой, как полагали, невозможно было обойтись, потому что я была беременна; мне было до тошноты скучно в карете, и я то и дело плакала.
Наконец княжна Гагарина, которая лично не любила графиню Шувалову из-за того, что ее дочь, бывшая замужем за Головкиным, двоюродным братом княжны, была довольно необходительна с родителями своего мужа, выбрала минуту, когда она могла подойти ко мне, чтобы сказать мне, что она старается расположить в мою пользу Владиславову, потому что и она сама, и все боятся, чтобы ипохондрия, бывшая у меня в моем положении, не повредила и мне, и ребенку, которого я носила.
Что касается Сергея Салтыкова, то он не смел подойти ко мне ни близко, ни даже издали, из-за стеснения и постоянного присутствия Шуваловых, мужа и жены. Действительно, ей удалось уговорить Владиславову, которая согласилась по крайней мере на некоторое снисхождение, чтобы облегчить состояние вечного стеснения и принужденности, которое само и порождало эту ипохондрию, с какой я уже не в силах была справляться.
Дело шло ведь о таких пустяках, всего о нескольких минутах разговора; наконец это удалось.
После двадцати девяти дней столь скучной езды мы приехали в Петербург, в Летний дворец. Великий князь возобновил там прежде всего свои концерты. Это несколько облегчало мне возможность разговаривать, но ипохондрия моя стала такова, что каждую минуту и по всякому поводу у меня постоянно навертывались слезы на глаза и тысячу опасений приходили мне в голову; одним словом, я не могла избавиться от мысли, что все клонится к удалению Сергея Салтыкова.
Мы поехали в Петергоф; я много там ходила, но, несмотря на это, мои огорчения меня там преследовали. В августе мы вернулись в город и снова заняли Летний дворец.
Для меня было почти смертельным ударом, когда я узнала, что к моим родам готовили покои, примыкавшие к апартаментам императрицы и составлявшие часть этих последних.
Александр Шувалов повел меня смотреть их; я увидела две комнаты такие же, как и все в Летнем дворце, скучные, с единственным выходом, плохо отделанные малиновой камкой, почти без мебели и без всяких удобств.
Я увидела, что буду здесь в уединении, без какого бы то ни было общества, и глубоко несчастна. Я сказала об этом Сергею Салтыкову и княжне Гагариной, которые хоть и не любили друг друга, но сходились в своей дружбе ко мне. Они видели то же, что и я, но помочь этому было невозможно.
Я должна была в среду перейти в эти покои, очень отдаленные от покоев великого князя.
Во вторник вечером я легла и проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, которая послала за акушеркой, утверждавшей, что я скоро разрешусь».
И только когда наступают роды, только когда Екатерина благополучно разрешается будущим наследником престола, упоминания мужа решительно вытеснят упоминания Сергея Салтыкова. Салтыкова Екатерина вспоминает один раз, а законного супруга – шесть:
«Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, и графа Александра Шувалова. Этот послал к императрице, не замедлившей прийти около двух часов ночи.
Я очень страдала, наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном.
Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павла, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней…
Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шуваловы, муж и жена, и я никого не видела ровно до трех часов.
Я много потела; я просила Владиславову сменить мне белье, уложить меня в кровать; она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила; я просила пить, но получила тот же ответ…
Обо мне и не думали.
Это забвение или пренебрежение по меньшей мере не были лестны для меня; я в это время умирала от усталости и жажды; наконец меня положили в мою постель, и я ни души больше не видала во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне.
Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком. В городе и в империи радость по случаю этого события была велика…
Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания; я никого не видела, и никто не справлялся о моем здоровье; великий князь, однако, зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться.
Я то и дело плакала и стонала в своей постели, одна Владиславова была в моей комнате; в сущности, она меня жалела, но не могла этому помочь…
Наконец великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате.
Тогда он ухаживал как раз за самой некрасивой: это была графиня Елизавета Воронцова; на шестой день были крестины моего сына; он уже чуть не умер от молочницы.
Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно.
Она и без того взяла его в свою комнату, и, как только он кричал, она сама к нему подбегала, и заботами его буквально душили. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель и уложив в колыбель, обитую мехом черно-бурой лисицы; его покрывали стеганным на вате атласным одеялом и сверх этого клали еще другое, бархатное, розового цвета, подбитое мехом черно-бурой лисицы.
Я сама много раз после этого видела его уложенного таким образом, пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшего ветерка, который его касался, он простужался и хворал. Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы.
В самый день крестин императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему Кабинету выдать мне сто тысяч рублей; к этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла.
Эти деньги пришлись мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша и я была вся в долгу; ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления: там было очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камер-фрау.
Во всем этом ларчике не было ни одного камня, который стоил бы сто рублей; ни работой, ни вкусом эти вещи тоже не блистали.
Я промолчала и велела убрать императорский ларчик; вероятно, чувствовали явную ничтожность этого подарка, потому что граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что ему приказано узнать от меня, как мне понравился ларчик; я ему ответила, что все, что я получала из рук Ее Императорского Величества, я привыкла считать бесценным для себя.
Он ушел с этим комплиментом очень веселый.
Он впоследствии снова к этому вернулся, видя, что я никогда не надеваю это прекрасное ожерелье и особенно – жалкие серьги, и сказал, чтобы я их надевала; я ему ответила, что на празднества императрицы я привыкла надевать, что у меня есть лучшего, а это ожерелье и серьги не такого сорта.
Четыре или пять дней спустя после того, как мне принесли деньги, которые императрица мне пожаловала, барон Черкасов, ее кабинет-секретарь, велел попросить меня, чтобы я Бога ради одолжила эти деньги Кабинету императрицы, потому что она требовала денег, а их не было ни гроша.
Я отослала ему его деньги, и он возвратил мне их в январе месяце. Великий князь, узнав о подарке, сделанном мне императрицей, пришел в страшную ярость оттого, что она ему ничего не дала. Он с запальчивостью сказал об этом графу Александру Шувалову.
Этот последний пошел доложить об этом императрице, которая тотчас же послала великому князю такую же сумму, какую дала и мне; для этого и взяли у меня в долг мои деньги.
Надо правду сказать, Шуваловы были вообще люди крайне трусливые, и этим-то путем можно было ими управлять; но эти прекрасные качества тогда были еще не совсем открыты».
Итак…
Счет между великим князем и Сергеем Салтыковым, по таймам этой игры, распределяется так…
Пять-пять, два-четыре, шесть-один… Тут и Фрейд, тут и династические интересы, тут и большая политика.
И неконтролируемое подсознание тут, и вполне контролируемое честолюбие…
Но если столь красноречивое колебание числа упоминаний еще можно объяснить фактором случайности, то характер упоминаний никакой случайностью не объяснить.
Любопытно сравнить и чувства, которые испытывает Екатерина к Сергею Салтыкову, с чувствами, которые она испытывает к мужу, когда после рождения сына вынуждена постоянно думать о нем…
Посмотрите…
«Я умирала от страху, как бы Сергея Салтыкова… не оставили в Москве»…
«Что касается Сергея Салтыкова, то он не смел подойти ко мне ни близко»…
«Я не могла избавиться от мысли, что все клонится к удалению Сергея Салтыкова»…
«Я сказала об этом Сергею Салтыкову и княжне Гагариной, которые… сходились в своей дружбе ко мне»…
Но о муже всегда иначе:
«Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил»…
«Великий князь, однако, зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться».
«Великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате».
«Великий князь, узнав о подарке, сделанном мне императрицей, пришел в страшную ярость оттого, что она ему ничего не дала».
В принципе, другого и быть не могло. Великий князь Петр Федорович был отвратителен честолюбивой, отчаянно борющейся за свое право стать русской императрицей дочери коменданта прусской крепости еще и тем, что нисколько не сочувствовал ее устремлениям.
Он не собирался признавать ее своей супругой и демонстративно раскладывал на супружеском ложе кукол, заставляя свою сестру играть с ним, отвлекая ее от того, чем бы ей хотелось заняться, невзирая на то что Петр был ее братом…
И не помогали ни женские ухищрения Екатерины, ни строгая охрана, не выпускавшая великого князя из спальни супруги.
Отчаяние Екатерины не знало предела, ведь она прекрасно понимала, что, как только после смерти Елизаветы Петровны супруг взойдет на престол, она немедленно будет заключена в монастырь или тюрьму, а супруг женится на другой женщине…
И тут прямые и недвусмысленные предложения Чоглоковой, которые та – это совершенно очевидно! – делала по указанию или, по крайней мере, с соизволения императрицы Елизаветы Петровны.
И тут «прекрасный, как день» Салтыков, который, по словам самой Екатерины, «обладал тою прелестью обращения, теми мягкими манерами, какие приобретаются жизнью в большом свете, особенно при дворе… И по рождению, и по многим другим качествам, это была выдающаяся личность».
Как же было Екатерине не полюбить прекрасного Сергея Васильевича?
Чувство это возникло давно, но тогда, в 1752 году, Елизавета Петровна еще надеялась, что появится наследник у племянника покойной ее сестры и племянницы покойного ее жениха, и Сергей Салтыков был тогда удален от двора.
Он уехал в Москву, с горя женился на фрейлине императрицы Матрене Павловне Балк, и через год был возвращен ко двору. Возможно, Елизавета Петровна вспомнила, что мать Сергея Салтыкова, урожденная княжна Мария Алексеевна Голицына, оказала ей немалые услуги во время восшествия на престол, и поэтому сочла, что ее сын имеет возможность принять участие в осуществлении мистического союза ее с умершим женихом.
С февраля 1753 года Сергей Васильевич Салтыков снова при дворе и не разлучается с великой княгиней до 7 октября 1754, когда отправляется в Швецию с известием о рождении Павла Петровича.
И вот в «Собственноручных записках» как результат дуэли между чувствами, которые испытывает Екатерина к Сергею Салтыкову, и ненавистью, которую она испытывает к супругу, последний выстрел…
«Выбрали семнадцатый день после моих родов, чтобы объявить мне сразу две очень неприятные новости.
Первая, что Сергей Салтыков был назначен отвезти известие о рождении моего сына в Швецию. Вторая, что свадьба княжны Гагариной назначена на следующей неделе; это значило, попросту сказать, что я буду немедленно разлучена с двумя лицами, которых я любила больше всех из тех, кто меня окружал. Я зарылась больше, чем когда-либо, в свою постель, где я только и делала, что горевала; чтобы не вставать с постели, я отговорилась усилением боли в ноге, мешавшей мне вставать; но на самом деле я не могла и не хотела никого видеть, потому что была в горе».
3
Происхождение великого князя Павла Петровича не от Петра III, а от Сергея Васильевича Салтыкова объясняет многие загадочные события дальнейшей истории.
Например, намерение Петра III, которое он ни от кого не скрывал, обвинить Екатерину II в прелюбодеянии, а сына Павла объявить незаконнорожденным…
Или уже описанное нами «сокоронование» императором Павлом 25 ноября 1796 года праха Петра III с телом Екатерины II…
Некоторые исследователи полагают, что стремлением Елизаветы Петровны пресечь контакты наследника престола с матерью, дабы она не рассказала ему, кто его отец, и было вызвано столь стремительное изъятие младенца Павла от Екатерины II.
Нам, однако, это рассуждение представляется наивным.
Во-первых, не в интересах Екатерины II было убеждать своего сына в незаконности его рождения, а во-вторых, объяснить этот факт грудному младенцу весьма не просто, даже если и хочешь сделать это. На наш взгляд, забирая Павла к себе, Елизавета завершала сюжет мистического союза со своим умершим женихом, и к прелюбодеянию, совершенному Екатериной, это не имело никакого отношения.
Елизавета Петровна ощущала Павла своим сыном…
Екатерина увидела Павла только на сороковой день после родов: «Сына моего принесли в мою комнату: это было в первый раз, что я его увидела после его рождения. Я нашла его очень красивым, и его вид развеселил меня немного; но в ту самую минуту, как молитвы были кончены, императрица велела его унести и ушла».
Тем не менее положение Екатерины упрочилось, и она не преминула этим воспользоваться. Когда переехали в Зимний дворец, она демонстративно отдалилась от мужа.
«Что касается моей спальной, то я почти вовсе туда не входила, потому что она была очень холодная от окон, выходивших с двух сторон на Неву, на восток и на север; вторая причина, прогонявшая меня оттуда, была близость покоев великого князя, где днем и отчасти ночью был всегда шум приблизительно такой же, как в кордегардии; кроме того, так как он и все его окружающие много курили, то неприятные испарения и запах табаку давал себя здесь знать».
Так начался 1755 год.
С Рождества Христова до поста были только празднества при дворе и в городе: это было все еще по случаю рождения Павла, но Екатерина под предлогом болезни отказывалась от присутствия на пиршествах, балах и маскарадах.
Граф С.В. Салтыков (с портрета XVIII в.)
Наконец, уже в конце Масленицы вернулся из Швеции Сергей Салтыков.
«Во время его отсутствия великий канцлер граф Бестужев все известия, какие он получал от него, и депеши графа Панина, в то время русского посланника в Швеции, посылал мне через Владиславову, которой передавал их ее зять, старший чиновник при великом канцлере, а я их отсылала тем же путем.
Таким же образом я узнала еще, что как только Сергей Салтыков вернется, решено послать его жить в Гамбург в качестве русского посланника на место князя Александра Голицына, которого назначали в армию. Это новое распоряжение не уменьшило моего горя».
Хотя и разделена разлука Екатерины и Сергея Салтыкова с его возвращением почти пятью месяцами и многими страницами «Собственноручных записок», но почти точно повторяют испытанное Екатериной состояние, когда она «не могла и не хотела никого видеть, потому что была в горе».
Пренебрегая условностями и этикетом, пытается Екатерина организовать свидание с Сергеем Васильевичем:
«Я поговорила об этом с Владиславовой, которая согласилась на это свидание. Он должен был пройти к ней, а оттуда ко мне; я ждала его до трех часов утра, но он совсем не пришел; я смертельно волновалась по поводу того, что могло помешать ему прийти. Я узнала на следующий день, что его увлек граф Роман Воронцов в ложу франкмасонов. Он уверял, что не мог выбраться оттуда, не возбудив подозрений»…
Ситуация, когда любовник прячется от влюбленной в него венценосной женщины в заседании франкмасонской ложи, чрезвычайно пикантна. Кажется, до такого не додумались и сочинители французских романов.
Не за это ли и не любила масонов Екатерина? Чего их любить, если они так прячутся от любви…
Но, видимо, Сергей Васильевич поступил так не по своей воле, видимо, ему очень доходчиво объяснили, что дальнейшая нежная дружба с Екатериной может иметь весьма неприятные для него последствия.
Тем не менее повидаться с Екатериной Салтыкову пришлось. И непонятно, то ли по указанию франкмасонов он действовал, то ли отвертеться от претензий великой княгини оказалось совсем не так просто, как он думал.
«Правду сказать, я этим была очень оскорблена… – пишет Екатерина II в “Собственноручных записках”, – я написала ему письмо, в котором горько жаловалась на его поступок. Он мне ответил и пришел ко мне; ему нетрудно было меня успокоить, потому что я была к тому очень расположена. Он меня убедил показаться в обществе. Я последовала его совету»…
Когда Сергею Васильевичу столь блистательно удалось исполнить поручение, ни у кого уже не осталось сомнения, что ему суждена большая дипломатическая карьера.
Сразу после исцеления великой княгини Сергея Салтыкова направляют в Гамбург, теперь уже в качестве посланника. По дороге туда Сергей Васильевич с необыкновенной любезностью был принят в Цербсте. После Гамбурга Сергея Васильевича послали полномочным министром в Париж.
Этой блистательной карьере Сергей Васильевич, конечно же, во многом обязан добровольным самоудалением от великой княгини. Впрочем, этой же осторожности обязан он и прекращением своей карьеры…
Еще во времена пребывания Сергея Васильевича в Гамбурге Екатерина II узнала, что «поведение Сергея Салтыкова было очень нескромно и в Швеции, и в Дрездене; и в той, и в другой стране он, кроме того, ухаживал за всеми женщинами, которых встречал. Сначала я не хотела ничему верить, но под конец я слышала, как об этом со всех сторон говорили, так что даже друзьям его не удалось его оправдать».
Эту измену Екатерина II своему любовнику не простила.
Когда уже в ее царствование он наделал в Париже долгов, его перевели в Регенсбург. И напрасно теперь хлопотали за него влиятельные родственники. Екатерина II была непреклонна. Когда Панин предложил перевести Салтыкова посланником в Дрезден, она собственноручно начертала на прошении: «Разве он еще недовольно шалости наделал?»
Это последнее известное историкам упоминание о Сергее Васильевиче Салтыкове.
И не очень-то понятно, о каких шалостях, провожая его с арены истории, говорила императрица Екатерина II. То ли парижские долги Салтыкова имела она в виду, то ли попытку его укрыться от нее в ложе франкмасонов, то ли романы Салтыкова в Швеции, когда сама Екатерина жила лишь любовью к нему.
Или, может быть, она называла шалостью участие Салтыкова в произведении Павла Петровича?
Если это так, то шалость действительно получилась отменная.
Ведь тогда Сергея Васильевича Салтыкова надобно считать основателем новой, сменившей Романовых, династии русских императоров…
Заметим напоследок, что едва только воспитатель Павла Никита Иванович Панин начинает хлопотать за Салтыкова, так сразу и исчезает Салтыков.
Остается дом Сергея Васильевича Салтыкова в Москве на углу Большой Дмитровки и переулка, называемого Салтыковским, остается жена его, Матрена Павловна (внучатая племянница Анны Монс), которая делает богатые вклады в Успенский собор, только самого хозяина дома, супруга, нет нигде.
То ли не успел он на этот раз спрятаться у франкмасонов, то ли наоборот – так спрятался, что и никаких концов не осталось…
4
Силы воли Екатерине было не занимать.
Как только удается разобраться со своими чувствами к Сергею Васильевичу Салтыкову, Салтыков перестает существовать для нее.
10 февраля 1755 года, в день рождения великого князя, она решила показаться свету: «Я заказала себе для этого дня великолепное платье из голубого бархата, вышитое золотом. Так как в своем одиночестве я много и много размышляла, то я решила дать почувствовать тем, которые мне причинили столько различных огорчений, что от меня зависело, чтобы меня не оскорбляли безнаказанно, и что дурными поступками не приобретешь ни моей привязанности, ни моего одобрения».
Смущает тут и промедление с появлением на людях, и тщательная подготовка к нему, и необычная для счастливой матери готовность к военным действиям. Чтобы объяснить подобное поведение Екатерины, мы опять должны вернуться к проблеме Сергея Салтыкова.
Даже если и не он был отцом Павла, это ничего не меняло. Слухи о ее романе, как это подтверждают «Анекдоты» шевалье Рюльера, в Петербурге были распространены необыкновенно широко. И Екатерине, учитывая отношение к ней великого князя и самой императрицы, в любом случае предстояло играть роль анекдотического персонажа. В обычных условиях роль эта просто унизительная, но при дворе, в делах династических, она к тому же еще и смертельно опасна. Так что подумать Екатерине действительно было над чем.
Тут-то она и находит решение, свидетельствующее о необыкновенном уме и отваге. Она появляется в обществе как основательница новой династии.
Разумеется, эта мысль не озвучивалась и не могла быть озвучена. Она осуществлялась той уверенностью и величественностью, которая превращала усмешку, возникающую в предвкушении анекдота, в почтительный трепет перед мистикой совершившегося события истории.
Разумеется, осознать эту мысль были способны далеко не все, а те, кто мог, осознали ее не сразу.
Сразу пришло другое понимание… Екатериной можно было восхищаться, можно было ее ненавидеть, но нельзя было смеяться над нею…
И эту победу свою и зафиксировала Екатерина в «Собственноручных записках», начертав: «Вследствие этого я не пренебрегала никаким случаем, когда могла бы выразить Шуваловым, насколько они расположили меня в свою пользу; я выказывала им глубокое презрение, я заставляла других замечать их злость, глупости, я высмеивала их всюду, где могла, всегда имела для них наготове какую-нибудь язвительную насмешку, которая затем облетала город и тешила злобу на их счет; словом, я им мстила всякими способами, какие могла придумать; в их присутствии я не упускала случая отличать тех, кого они не любили.
Так как было немало людей, которые их ненавидели, то у меня не было недостатка в поддержке. Графов Разумовских, которых я всегда любила, я больше, чем когда-либо, ласкала. Я удвоила внимательность и вежливость по отношению ко всем, исключая Шуваловых.
Одним словом, я держалась очень прямо, высоко несла голову, скорее как глава очень большой партии, нежели как человек униженный и угнетенный». Самое важное тут, что Екатерина если и не почувствовала себя главой очень большой партии, то сделала вид и сумела внушить другим, что она именно такой главой и является…
Чем-то положение Екатерины напоминало теперь положение канатоходца, ступившего на натянутый канат. Одно неверное движение, потеряешь равновесие и разобьешься. Ну а самое главное, что ни назад, ни в бок – пути уже нет. Только – вперед.
О том, как приходилось балансировать в сложной постоянно меняющейся дворцовой обстановке, дает представление такой эпизод.
Однажды после обеда великий князь пришел в комнату Екатерины и сказал, что она начинает становиться невыносимо горда и что он сумеет ее образумить.
– В чем состоит эта гордость? – спросила Екатерина.
– Вы держитесь очень прямо.
– Разве для того, чтобы понравиться вам, Ваше Императорское Высочество, нужно гнуть спину, как рабы турецкого султана?
– Напрасно вы смеетесь! Я все равно сумею вас образумить.
– Каким же образом?
Теряя терпение, великий князь прислонился спиной к стене и вытащил наполовину свою шпагу.
– Что это значит, Ваше Императорское Высочество? – насмешливо спросила Екатерина. – Не рассчитываете ли вы драться со мной? Но тогда и мне нужна шпага.
С трудом Петр Федорович овладел собою и вложил свою наполовину вынутую шпагу в ножны.
– Вы стали ужасно злы!
– В чем? – невинно осведомилась Екатерина.
– Да хотя бы по отношению к Шуваловым… – пробормотал великий князь.
– Вы хорошо сделаете, если не станете говорить о том, чего не знаете и в чем ничего не смыслите! – не выдержала Екатерины.
– Вот что значит не доверяться своим истинным друзьям, и выходит плохо! – торжествующе проговорил Петр Федорович. – Если бы вы мне доверялись, то это пошло бы вам на пользу.
– Да в чем доверяться?
«Тогда, – вспоминая этот эпизод, записывала Екатерина в “Собственноручных записках”, – он стал говорить мне такие несуразные вещи, столь лишенные самого обыкновенного здравого смысла, что я, видя, что он просто-напросто заврался, дала ему говорить, не возражая ему, и воспользовалась перерывом, удобным, как мне показалось, чтобы посоветовать ему идти спать, ибо я видела ясно, что вино помутило ему разум и лишило его всякого признака здравого смысла. Он последовал моему совету и пошел спать.
От него уже тогда начало почти постоянно нести вином вместе с запахом курительного табаку, так что это бывало буквально невыносимо для тех, кто к нему приближался.
В тот же вечер, когда я играла в карты, граф Александр Шувалов пришел мне объявить от имени императрицы, будто она запретила дамам употреблять в их наряде многие материи, которые были перечислены в объявлении.
Чтобы показать ему, как Его Императорское Высочество меня усмирил, я засмеялась ему в лицо…»
Точно так же Екатерина поступала теперь и с мужем. Пользуясь его откровенностью и простодушием, она то и дело ставила его в такие положения, что он выглядел совсем глупым, смешным и нелепым.
В «Собственноручных записках» Екатерина рассказывает, что великий князь, чтобы придать себе цены в глазах молоденьких женщин или девиц, начинал иногда рассказывать им, будто бы, когда он еще находился у своего отца в Голштинии, его отец поставил его во главе небольшого отряда своей стражи и послал взять шайку цыган, бродившую в окрестностях Киля и совершавшую страшные разбои.
«Об этих последних он рассказывал в подробностях так же, как и о хитростях, которые он употребил, чтобы их преследовать, чтобы их окружить, чтобы дать им одно или несколько сражений, в которых, по его уверению, он проявил чудеса ловкости и мужества, после чего он их взял и привел в Киль. Вначале он имел осторожность рассказывать все это лишь людям, которые ничего о нем не знали; мало-помалу он набрался смелости воспроизводить свою выдумку перед теми, на скромность которых он достаточно рассчитывал, чтобы не быть изобличенным ими во лжи, но когда он вздумал приводить свой рассказ при мне, я у него спросила, за сколько лет до смерти его отца это происходило».
– Года за три или четыре… – не подозревая подвоха, сказал Петр.
– Удивительно, – сказала Екатерина. – Вы очень молодым начали совершать подвиги…
– Почему?
– Потому что за три или за четыре года до смерти герцога, отца вашего, вам было всего 6 или 7 лет, так как вы остались после него одиннадцати лет под опекой моего дяди… – сказала Екатерина. – Но меня все равно удивляет, как это ваш отец, имея только вас единственным сыном и при вашем постоянно слабом здоровье, какое, говорят, было у вас в детстве, послал вас сражаться с разбойниками, да еще в шести-семилетнем возрасте.
Великий князь ужасно рассердился на меня за то, что я ему только что сказала, и стал говорить, что я хочу заставить его прослыть лгуном перед всеми и что я подрываю к нему доверие.
Я возразила ему, что это не я, а календарь подрывает доверие к тому, что он рассказывает»…
Это и была игра Екатерины.
Очевидно, что Петр хотя он и любил играть, но играть на уровне Екатерины был не в состоянии. Он был обречен на проигрыш. Может быть, порою Екатерине и хотелось снова превратиться в благоразумную немочку, старающуюся приобретать друзей, но дороги назад уже не было.
Любопытно, что в 1755–1756 годах, когда Екатерина стремится приобрести себе политических друзей и образовать свою партию, происходят события, которые, будучи никак не связанными с Екатериной, очень связаны с той династической политикой, которую предстоит ей проводить, будучи императрицей. Это – рождение принцессы Гессен-Дармштадтской Вильгельмины-Луизы, будущей великой княгини Натальи Алексеевны, первой жены великого князя Павла I Петровича (Сергеевича), и заключение в Шлиссельбургскую крепость Иоанна VI Антоновича.
И принцессу Гессен-Дармштадтскую Вильгельмину-Луизу, и императора Иоанна VI Антоновича Екатерине II предстоит убить…
5
«Собственноручные записки императрицы Екатерины II» начинаются весьма характерным для литературного наследия императрицы пассажем, в котором желания выглядеть умной гораздо более, чем самого ума…
«Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм:
Качества и характер будут большей посылкой;
Поведение – меньшей;
Счастье или несчастье – заключением.
Вот два разительных примера:
Екатерина II,
Петр III».
Исследованию всех приемов и ухищрений, которые употреблялись Екатериной II в борьбе за будущую власть и сегодняшнее выживание, можно посвятить отдельный труд…
Вчитываясь в «Собственноручные записки», постепенно начинаешь понимать, как удается Екатерине II совместить подкупающую искренность повествования с созданием довольно тенденциозного портрета Петра III.
Секрет прост.
Жестокость отношения мужа к себе Екатерина распространяет на его отношения к другим. Нелепость положения, в которое он ее поставил, – на положение всех окружающих Петра Федоровича людей.
Она, чтобы как-то облегчить давящую ее тяжесть, сама того не осознавая, очень зорко подмечает все нелепые и жестокие поступки великого князя по отношению к другим.
Отсюда и обилие компромата на императора Петра III, и полнейшая искренность Екатерины II, и как бы даже и беспристрастность ее.
Но для нас интереснее другое.
В истории, предшествующей правлению Екатерины II, есть два сюжета, которые представляются весьма загадочными, хотя и трактуются историками романовской традиции, как правило, однозначно.
Первый – это вопрос самого захвата власти Екатериной II. Второй – роль ее в антирусском заговоре во время Семилетней войны между Россией и Пруссией.
Считается, что дворцовый переворот произошел спонтанно и подготовка к нему если и была, то лишь как реакция на откровенно антирусскую политику Петра III.
Это не совсем так.
Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что подготовку к захвату верховной власти Екатерина II начала задолго до того, как Петр III стал императором.
Мы уже говорили о попытках Екатерины создать свою партию, на которую она могла бы опереться в борьбе за власть. Эти попытки активизировались в связи с болезнью Елизаветы Петровны, когда можно стало ожидать скорой перемены на престоле.
Все понимали, что Петр III, как только он взойдет на престол, немедленно разведется с Екатериной и ей, чтобы не сгинуть в безвестности, надо бороться.
«Екатерина независимее держится, явно не в ладах со своим мужем, навлекает на себя недовольство Елизаветы, – пишет С.Ф. Платонов. – Но самые видные “припадочные” люди Елизаветы, Бестужев, Шувалов, Разумовский, теперь не обходят великой княгини вниманием, а стараются, напротив, установить с нею добрые, но осторожные отношения».
Сама Екатерина входит в сношения с дипломатами и русскими государственными людьми, следит за ходом дел и даже пытается на них влиять. Окруженная подозрительностью и враждой и побуждаемая честолюбием, Екатерина понимала опасность своего положения и возможность громадного политического успеха». То, что это не преувеличение, подтверждается «Собственноручными записками». И честолюбия, и осознания опасности своего положения, и предчувствия громадного политического успеха там хватает.
И вот тут-то и начинает раскручиваться второй загадочный сюжет, о котором мы говорили и который оказывается непосредственно связанным с образованием партии для захвата власти.
Касается этот сюжет антирусского заговора, составленного в ходе Семилетней войны генерал-фельдмаршалом Степаном Федоровичем Апраксиным, командовавшим нашими войсками в Пруссии, и канцлером Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюминым.
В заговоре оказалась замешанной и сама Екатерина, и это едва не привела ее к гибели…
6
Перескажем вкратце этот сюжет, который мог изменить весь ход русской истории…
1 сентября 1756 года, после вторжения Пруссии в Силезию, Россия объявила войну Пруссии.
Началась Семилетняя война.
Напомним еще раз, что императрица Елизавета Петровна была полунемкой.
Великий князь, будущий император Петр III, – на три четверти немцем.
Великая княгиня, будущая императрица Екатерина II, – чистокровной немкой.
Прусский король Фридрих, возглавлявший армию противной стороны, был родственником всем троим.
Это, так сказать, вводные…
А вот как развивались основные события на театре боевых действий.
16 июня 1757 года армия генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина выступила из Ковно к прусской границе. Армии была поставлена задача взять Кенигсберг.
25 июня взяли Мемель – крепость Восточной Пруссии на Куршском заливе.
14 июля – Вержболово. 31 июля – Инстербург.
19 августа состоялось сражение при Гросс-Егерсдорфе. Хотя потери русской армии оказались значительней прусских, но прусские войска вынуждены были отойти, открывая дорогу на Кенигсберг для русской армии.
И вот после этого, протоптавшись несколько недель на месте, 7 сентября С.Ф. Апраксин, по указанию, как считают некоторые исследователи, канцлера А.П. Бестужева, приказал отойти от занятых русскими войсками прусских крепостей.
Бессмысленными оказались все потери русской армии.
Елизавете Петровне и солдатиков русских было жалко, и двум миллионам рублей, которые были затрачены на эту абсолютно бессмысленную прогулку генерал-фельдмаршала, императрица могла бы найти лучшее применение.
Забегая вперед, скажем, что Апраксин умер под следствием осенью следующего года от апоплексического удара, и вопрос о том, кто из Петербурга присоветовал ему совершить измену, остается открытым.
«Обыкновенно то обстоятельство, что Апраксин, после битвы при Гросс-Егерсдорфе (в августе 1757 года), отступил вместо того, чтобы воспользоваться результатами своей победы, объяснялось полученным им известием об опасной болезни Елизаветы и неминуемо предстоящей перемене на престоле. На этот счет ходили разные слухи. Рассказывали, будто Шуваловы, нуждавшиеся в Апраксине для осуществления своих честолюбивых планов, были виновниками отступления Апраксина. По другим известиям, Бестужев и Екатерина должны считаться руководителями действий фельдмаршала…» – пишет А.Г. Брикнер в «Истории Екатерины Второй».
А.Г. Брикнер не договаривает, что слухи о виновности Шуваловых в отступлении Апраксина распускала сама Екатерина. Во всяком случае, именно так трактовала она загадочное отступление генерал-фельдмаршала в «Собственноручных записках»: «Спустя некоторое время мы узнали, что фельдмаршал Апраксин вместо того, чтобы воспользоваться своими успехами после взятия Мемеля и выигранного под Гросс-Егерсдорфом сражения и идти вперед, отступал с такой поспешностью, что это отступление походило на бегство, потому что он бросал и сжигал свой экипаж и заклепывал пушки.
Никто ничего не понимал в этих действиях; даже его друзья не знали, как его оправдывать, и через это самое стали искать скрытых намерений. Хотя я и сама точно не знаю, чему приписать поспешное и непонятное отступление фельдмаршала, так как никогда больше его не видела, однако я думаю, что причина этого могла быть в том, что он получал от своей дочери, княгини Куракиной, все еще находившейся, из политики, а не по склонности, в связи с Петром Шуваловым, от своего зятя, князя Куракина, от своих друзей и родственников довольно точные известия о здоровье императрицы, которое становилось все хуже и хуже; тогда почти у всех начало появляться убеждение, что у нее бывают очень сильные конвульсии, регулярно каждый месяц, что эти конвульсии заметно ослабляют ее организм, что после каждой конвульсии она находится в течение двух, трех и четырех дней в состоянии такой слабости и такого истощения всех способностей, какие походят на летаргию, что в это время нельзя ни говорить с ней, ни о чем бы то ни было беседовать.
Фельдмаршал Апраксин, считая, может быть, опасность более крайней, нежели она была на самом деле, находил несвоевременным углубляться дальше в пределы Пруссии, но счел долгом отступить, чтобы приблизиться к границам России, под предлогом недостатка съестных припасов, предвидя, что в случае, если последует кончина императрицы, эта война сейчас же окончится.
Трудно было оправдать поступок фельдмаршала Апраксина, но таковы могли быть его виды, тем более что он считал себя нужным в России, как я это говорила, упоминая об его отъезде…»
И сама Екатерина II, и следом за нею и большинство историков причастность ее к измене Апраксина отрицают, хотя никуда не уйти от того факта, что при обыске у Апраксина были изъяты письма Екатерины.
Скажем сразу, мы тоже не верим, что Екатерина II из каких-то там немецко-патриотических соображений побуждала С.Ф. Апраксина к предательству. Нет, Екатерина была слишком большой эгоисткой, чтобы быть еще и немецкой патриоткой.
В пропрусскую коалицию ее загнала нужда. Это подтверждают документы, изъятые у арестованного канцлера А.П. Бестужева, герольдмейстера В.Е. Ададурова и адъютанта А.Г. Разумовского И.П. Елагина.
Документы эти, среди которых также были найдены письма Екатерины, свидетельствовали, что заговорщики активно занимались подготовкой государственного переворота и разработкой планов государственного устройства после смерти императрицы Елизаветы…
Это и была та партия, которую создавала Екатерина.
Эта партия и затянула ее в дело об измене С.Ф. Апраксина.
Тем не менее, судя даже по «Собственноручным запискам», влияние Екатерины на заговорщиков, и в том числе и на генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина, было чрезвычайно велико.
«Граф Бестужев, – писала Екатерина, – прислал сказать мне через Штамбке, какой оборот принимает поведение фельдмаршала Апраксина, на которое императорский и французский послы громко жаловались; он просил меня написать фельдмаршалу по дружбе и присоединить к его убеждениям свои, дабы заставить его повернуть с дороги и положить конец бегству, которому враги его придавали оборот гнусный и пагубный.
Действительно, я написала фельдмаршалу Апраксину письмо, в котором предупреждала о дурных слухах в Петербурге и о том, что его друзья находятся в большом затруднении, как оправдать поспешность его отступления, прося его повернуть с дороги и исполнить приказания, которые он имел от правительства».
Вдумаемся в смысл этого признания… Если Екатерина считала возможным для себя просить командующего русской армией изменить решение об отступлении, поскольку враги придают этому оборот гнусный и пагубный и в результате этого друзья попали в большое затруднение, не зная, как оправдать поспешность отступления, значит, и само отступление, хотя бы отчасти, производилось с ее ведома, а может быть, и по ее указанию.
Только тогда письмо ее приобретает смысл – Екатерина отменяет свое распоряжение…
Иначе получается бессмысленность…
Зачем, спрашивается, Бестужев именно Екатерину просил написать Апраксину? Просто предупредить фельдмаршала о неблагоприятных слухах? Но он мог бы для этого воспользоваться другими, более надежными каналами…
7
Зима 1757–1758 годов – самое страшное время для Екатерины.
Удары сыплются один за другим. Вскоре после ареста Апраксина посадили под домашний арест и самого канцлера Бестужева…
О его аресте Екатерина узнала из записки саксонского посла Станислава Понятовского[147]…
«Эти строки ошеломили меня… – пишет она. – Перечитавши их, я сообразила, что мне нет никакой возможности не быть замешанной в это дело… Тысячи ощущений, одно другого неприятнее, наполнили мне душу. Словно с кинжалом в сердце я оделась и пошла к обедне».
Словно с кинжалом в сердце и жила Екатерина в ту зиму.
Она не знала, успел ли Бестужев сжечь ее письма…
Голштинский чиновник Штамбке уверял ее, что бояться нечего. Бестужев перед арестом жег бумаги… И словно бы начали вытягивать кинжал из сердца великой княгини. Но проходит день, и Штамбке сообщает, что хотя Бестужев и жег бумаги, но не все…
И снова кинжал вонзается в сердце…
Но не до конца… Еще есть надежда… Надо только узнать поскорее, если Бестужев не успел сжечь бумаги, то какие именно он не успел сжечь?
Новости Штамбке получал из дома опального канцлера от его трубач-егеря…
Екатерина знала, что «они условились на будущее время сноситься между собою, кладя записки в назначенное место между кирпичами, недалеко от дома Бестужева». Чтобы сделать конспирацию еще строже, Екатерина получала сообщения от Штамбке не напрямую, а через Станислава Понятовского.
И вот новый удар…
Переписка Штамбке и Понятовского с Бестужевым была открыта.
Снова погрузилась Екатерина в мрак неизвестности. Это было особенно тягостно для ее деятельной натуры. Она не знала, что известно императрице, и поэтому не знала, как ей следует вести себя. Надо раскаяться? Или же надо просто сохранять вид, что ничего не было и эти расследования совершенно не касаются ее?
Положение усугублялось тем, что Екатерина не могла ничего выведать ни у императрицы, которая прекратила все контакты с нею, ни у мужа.
«Что касается до великого князя, то я видела, что его запугали и натолковали ему, будто Штамбке с моего ведома переписывался с государственным преступником. Я замечала, что его и. высочество почти не смел говорить со мною и избегал случая приходить ко мне в комнату, где я оставалась в то время одна-одинешенька, не видя души человеческой. Я сама нарочно никого не приглашала к себе, боясь подвергнуть посетителей какой-нибудь неприятности или несчастию. То же самое при дворе, чтобы от меня не отворачивались, я нарочно не подходила к тем, на кого могло пасть подозрение».
И тут только восхититься можно Екатериной…
Когда, казалось, все было против нее, когда приближенный к Петру III голштинец Брокдорф[148] открыто говорил о Екатерине, что пришла пора «раздавить змею», она не дрогнула и не растерялась.
В этих ужасных обстоятельствах Екатерина проявила великое мужество и великую стойкость…
Проанализировав и трезво оценив сложившуюся ситуацию, она пришла к выводу, что хотя о ее переписке с заговорщиками-изменниками и известно следствию, но, видимо, главные письма участники заговора успели уничтожить.
Действительно…
Если бы в руки следствия попали письма, в которых Екатерины убеждала Апраксина отказаться от марша на Кенигсберг, чтобы поспеть вернуться в Россию к кончине государыни, или письма, где она обсуждала с Бестужевым свои права и обязанности правительницы после смерти Елизаветы Петровны, реакция императрицы была бы более жесткой и стремительной. Наверняка судьба Екатерины была бы решена тогда в самый короткий срок и весьма неблагоприятно для великой княгини.
Но таких писем не отыскалось.
И Апраксин, и Бестужев уничтожили главные улики…
И следствие, располагая твердыми доказательствами причастности Екатерины к заговору, вместе с тем роль ее в этом заговоре определить не могло. Надо было искать дополнительные улики. Следствие затягивалось.
Воистину велик был ум Екатерины II, а главное – умение так точно примениться к ситуации, что обстоятельства, которые должны были работать против нее, начинали работать в ее пользу!
Она решила перейти в наступлении. Как и после рождения Павла, когда она сумела повести себя так, что ее вынуждены были признать родоначальницей новой династии, так и теперь она решила оскорбиться и потребовать, раз ее не любят и не верят ей здесь, отпустить ее в Германию.
«Я села писать письмо к императрице и написала его по-русски, в самых трогательных выражениях, как умела. Я начала с того, что благодарила ее за все ея милости и благодеяния, оказанные мне с приезда моего в Россию. По несчастию, – продолжала я в этом письме, – оказалось, что я не заслуживала этих милостей, потому что навлекла на себя ненависть великого князя и явное неблаго расположение ея и[мператорского] величества; видя мое несчастие и оставаясь одна в комнате, где мне не дозволяют самых невинных развлечений, я настоятельно прошу положить конец моим несчастиям и отослать меня к моим родственникам, каким найдут приличнее способом… У моих родственников я проведу остаток моих дней, моля Бога за ея величество, великого князя, детей моих и вообще всех тех, которые оказывали мне добро или даже зло. Горе до такой степени растревожило мое здоровье, что я должна, наконец, позаботится о нем и, по крайней мере, спасти жизнь свою»…
Высылки в Германию Екатерина опасалась более всего, но она правильно рассчитала, что если она сама попросит отпустить ее к родственникам, где она проведет остаток своих дней, моля Бога за ея величество, великого князя, детей своих и вообще всех тех, которые оказывали ей добро или даже зло, то Елизавета, которая «обладала хотя и женским умом, но его было много», поступит как раз наоборот.
Однако решиться наступать и разработать план наступления – это только полдела. Надо было – императрица никак не отреагировала на послание великой княгиней – получить возможность осуществить его.
И тут Екатерина нашла воистину великий ход, который можно было бы назвать гениальным, если ли бы он не был столь циничным…
Она притворилась, что умирает… Посреди ночи она объявила, что чувствует себя чрезвычайно дурно и поэтому хочется исповедаться. Александр Шувалов хотел послать за докторами, но Екатерина остановила его.
– Мне уже не нужно ничего… – сказала она, с трудом выговаривая слова. – Мне надо теперь только духовника.
Духовник Ф.Я. Дубянский пришел спустя полтора часа…
Был отец Федор духовником императрицы. Родом из Малороссии, он отличался, как утверждают его биографы, редкой ученостью. Впрочем, ученость его никаких следов в истории не оставила, а вот деятельность в качестве стукача некоторое влияние на ход событий несомненно оказала. Императрица Елизавета Петровна частенько посылала его исповедовать своих приближенных. И надо сказать, что Елизавета Петровна ценила своего ловкого духовника. Отец Федор, кажется, был самым богатым попом в Российской империи. В собственности у него находилось 8000 душ крепостных крестьян. Помимо стукаческой работы, отец Федор уделял большое внимание еще и воспитанию своих детей. Его сын, Яков Федорович, дослужился аж до звания великого мастера масонской ложи «Астерия»!
Вот этот духовник и исповедовал «умирающую» великую княгиню.
Плача от горя, открылась она отцу Федору, что совершила великое прегрешение перед императрицей Елизаветой Петровной.
Хотя ей и запрещено было вмешиваться в политические дела, но она писала Апраксину, не в силах сдержать своего огорчения, когда он начал отступать после победы, одержанной при Гросс-Егерсдорфе! Она – грешна, грешна, отец Федор! – побуждала фельдмаршала наступать на Кенигсберг, чтобы этот символ германского могущества оказался под властью матушки Елизаветы Петровны…
– Грешна, святой отец! – каялась «умирающая» Екатерина. – Муж поручил мне заниматься управлением голштинскими делами, и я входила в переписку с голштинским чиновником Штамбке, и не знаю, простит ли мне это Бог, но я советовалась с канцлером Бестужевым, как правильнее поступить в том или другом случае! Нет мне прощения, святой отец, что я тем самым дерзко нарушила повеление моей благодетельницы императрицы Елизаветы Петровны, самонадеянно дерзнула переступить ее установления!
Каялась Екатерина и в том, что дерзала противоречить мужу, когда его слова казались ей неразумными… А что ж из того, что его распоряжения были нелепы? Как учит Господь, она, Екатерина, должна была терпеливо сносить все эти безумства и самоуправства, а она противоречила мужу…
Исповедовав «умирающую» великую княгиню, Ф.Я. Дубянский, как ему и было приказано, отправился к императрице доложить о сведениях, полученных в ходе исповеди…
17 мая 1722 года Петр I издал указ об отмене тайны исповеди.
Петра наша история назвала Великим.
Екатерина II у нас – тоже Великая.
И не с того ли и начало прибывать ее величие, что великое зло, которое совершил Петр I, Екатерина II обратила на великую пользу себе.
Императрица Елизавета Петровна, хотя и сводила все смертные грехи к проблеме своевременного возврата долгов, пусть и по-протестантски, но вполне искренне верила в Бога. И она и предположить не могла, что исповедь перед священником, а значит, и перед Богом, можно использовать для лжи, даже если этот священник и стукач.
Усомниться в искренности исповеди Екатерины «дщери Петровой» мешала и вера в непревзойденную мудрость отца. Коли Петр I придумал превратить исповедь в инструмент политического сыска, то, значит, этот инструмент обязан был работать, к кому бы ни применять его.
Елизавета поверила в искренность исповеди невестки.
13 апреля 1758 года состоялось свидание императрицы с великой княгиней. Проходило оно в присутствии прячущихся за ширмами великого князя и Шуваловых.
Тучи императорского неудовольствия над головой Екатерины не разошлись до конца, но молнии поразили других.
«Дело Бестужева и Апраксина (1757–1758 гг.) показало Елизавете, как велико было при дворе значение великой княгини Екатерины, – пишет С.Ф. Платонов. – Бестужева обвиняли в излишнем почтении перед Екатериной. Апраксин был постоянно под влиянием ее писем. Падение Бестужева было обусловлено его близостью к Екатерине, и самое Екатерину постигла в ту минуту опала императрицы. Она боялась, что ее вышлют из России, и с замечательной ловкостью достигла примирения с Елизаветой. Она стала просить у Елизаветы аудиенции, чтобы выяснить ей дело. И Екатерине была дана эта аудиенция ночью. Во время беседы Екатерины с Елизаветой за ширмами в той же комнате тайно были муж Екатерины Петр и Иван Ив. Шувалов, и Екатерина догадалась об этом. Беседа имела для нее решающее значение. При Елизавете Екатерина стала утверждать, что она ни в чем не виновата, и, чтобы доказать, что ничего не хочет, просила императрицу, чтобы ее отпустили в Германию. Она просила об этом, будучи уверена, что поступят как раз наоборот. Результатом аудиенции было то, что Екатерина осталась в России, хотя была окружена надзором. Теперь ей приходилось вести игру уже без союзников и помощников, но она продолжала ее вести еще с большей энергией».
Завершая сюжет об антирусском заговоре и участии в нем Екатерины, скажем, что Екатерина II, став императрицей, косвенно сама признала участие в заговоре. Она вызвала из ссылки Бестужева и обнародовала манифест о возвращении ему всех прежних достоинств и «непорицании его за состояние под судом и наказанием». Бестужеву была назначена в награду за то, что он не выдал на следствии Екатерину, ежегодная пенсия в 20 тысяч рублей[149].
Вдове Апраксина тоже было назначено значительное денежное содержание.
И.П. Елагина Екатерина назначила кабинет-секретарем…
В.Е. Адодурова – председателем Мануфактур-коллегии и куратором университета…
Впрочем, это случится потом, когда Екатерина II станет императрицей…
8
Шаг за шагом происходило отступление Романовых от православия…
Можно спорить, мог ли принять инок Филарет митрополичий сан из рук Лжедмитрия, зная, что этот царь – его бывший холоп Григорий Отрепьев. Можно спорить, имел ли право Филарет называть себя патриархом, когда его возвел в этот сан Тушинский вор – еврей Богданко…
Как бы то ни было, но совершенно ясно, что, если бы Филарет проявил большую осторожность, его внук, царь Алексей Михайлович, не посмел бы позволить объявить обряды Русской Православной Церкви не вполне православными.
И опять-таки можно спорить о размерах национальной катастрофы, которую вызвал церковный раскол, но очевидно, что, если бы его не было, Петр I не посмел бы в ответ на просьбу о восстановлении патриаршества выхватить кортик перед собранием иерархов и крикнуть:
«Вот вам булатный патриарх!», не посмел бы обязать священников под угрозой истязаний доносить на своих духовных детей…
Можно согласиться, что далеко не все священники Русской Православной Церкви, подобно Федору Яковлевичу Дубянскому, превратились тогда в стукачей, но совершенно очевидно, что нелепое положение, в которое были поставлена указом Петра I Русская Церковь, и определило презрение Екатерины II ко всем ее таинствам.
Мы видели, чтобы выпутаться из неприятной истории, Екатерина использовала наложенные на священников Петром I обязательства. И стоит ли удивляться, что она сама же и презирала их за это?
Забегая вперед, скажем, что Екатерина II сохранила свое презрение к обрядам Русской Православной Церкви и в дальнейшем и это презрение и позволило ей провести секуляризацию церковных земель, которую начинали и которую так и не могли решиться довести до конца предшествовавшие ей императоры.
Вспомните, что после смерти Петра I Екатерина I поручила наблюдать за употреблением собираемых с церковных земель доходов Коллегии экономии.
Анна Иоанновна изъяла их из духовного ведомства и превратила Коллегию экономии в прежний Монастырский приказ.
Анна Леопольдовна вернула все доходы назад, в распоряжение Церкви.
Елизавета Петровна уничтожила поначалу и саму Коллегию экономии, но потом приказала назначить для управления монастырскими землями военных офицеров.
Петр III включил эти земли в состав государственных имуществ и восстановил Коллегию экономии на правах Монастырского приказа, чем вызвал сильное недовольство духовенства.
Совершив дворцовый переворот, Екатерина II, чтобы заручиться поддержкой духовенства, эти указы Петра III отменила, но едва только укрепилась на престоле, как со свойственным ей презрением к Русской Православной Церкви приказала посадить монастыри на жалованье, а все церковные земли отобрать в казну.
Результатом введения штатов в России стало резкое сокращение монастырей. Вместо 954 монастырей осталось ровно 200 обителей: 161 мужской монастырь и 39 – женских.
Казна получила чистого дохода три миллиона рублей ежегодно…
«Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени, – писал А.С. Пушкин. – Но, лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии (которые зависели от монастырей, а ныне от епископов) пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностию. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии, ибо напрасно почитают русских суеверными: может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек насчет всего церковного. Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.
В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей историею, следственно и просвещением. Екатерина знала всё это и имела свои виды (выделено мной. – Н.К.)».
9
Тут очень важно понять, какие же свои виды имела Екатерина II, решившись на то, на что не решались прежние цари, которые тоже давно уже зарились на монастырскую собственность?
Либеральные историки как царской, так и советской школы с одинаковым упоением повествуют о немыслимой роскоши, в которой утопали монахи некоторых монастырей, эксплуатируя труд крестьян.
Спору нет…
Можно найти и примеры монастырского роскошества, но это были все-таки исключения, а не общее правило, и искоренять злоупотребления следовало в каждом отдельном случае. И разумеется, проведенное Екатериной изъятие церковных земель никакого отношения к этому исправлению не имело.
Приводятся и другие аргументы в пользу секуляризации церковных земель…
Но, воспринимая или отвергая все эти доводы, мы должны отметить, что поставленный нами вопрос, почему Екатерина II сделала то, на что не могли решиться прежние цари, все эти аргументы старательно обходят.
Между тем вопрос этот вызывает затруднение только в атеистическом контексте прочтения истории. Стоит только вспомнить, что имения монастырей составлялись по духовным завещаниям и монастырь, в который жертвовались земли, должен был вечно молиться о спасении душ жертвователей, сразу становится понятно, чего опасались прежние цари…
Обкрадывая монастыри, Екатерина обокрала не только живых, но и мертвых. А обокрасть мертвого считается особенно страшным преступлением в любом обществе, в любой вере, будь она православной, католической или протестантской…
Да, многие Романовы зарились на собственность Русской Православной Церкви. И грабили, конечно, грабили обители. Но сделать последний шаг и обокрасть не только Церковь, но и мертвецов, не решился даже Петр Великий.
Для этого необходима была Екатерина II, не верившая ни по-католически, ни по-протестантски, ни по-православному… Подобно своему духовному наставнику Вольтеру, она считала, что если и нужна религия, то только в качестве узды, с помощью которой можно сдерживать недовольство народа.
И она сделала это…
Она обокрала мертвецов…
Как мы уже рассказывали, император Павел поставит ее гроб рядом с прахом вырытого из земли убитого ею мужа и произведет сокоронование мертвецов…
Но это будет еще не скоро.
Это произойдет тогда, когда Екатерина растратит на своих ненасытных любовников все, что было украдено ею у мертвецов.
Сыну, внуку, правнукам и праправнукам дорого придется заплатить, искупая распутство своей матери, бабушки и прабабушки.
Смерть, словно бы насылаемая обокраденными Екатериной мертвецами, будет преследовать их…
Но и тут мы забегаем вперед…
Впереди еще и правление Петра III, и убийство его, впереди и само правление Екатерины II, которую еще только назовут Великой…
Глава девятая Петр и Екатерина (вторая редакция)
После смерти императора Петра II, загубленного корыстными и тщеславными «птенцами гнезда Петрова», Россия вступила в эпоху бироновщины…
Рассчитывая ограничить установленное Петром I самодержавие, верховники перенесли тогда русский престол из нарышкинской (петровской) ветви семьи Романовых в милославскую (ивановскую) ветвь…
Жестка и неумолима логика истории…
Петр I, уничтоживший своего русского сына Алексея только для того, чтобы он не отнял престол у полунемца-«шишечки» (царевич Петр Петрович был сыном Петра I и Екатерины), руками своих сподвижников сумел-таки уничтожить и внука, и в результате – только через двенадцать лет дворцовый переворот 1741 года, устроенный его дочерью Елизаветой Петровной, вернул власть в руки потомков Петра I.
И кажется, в 1761 году, когда на престол взошел второй внук Петра I – Петр III, и должны были исполниться мечтания великого преобразователя России, ведь этот его родной внук имел всего четверть русской крови. О таком наследнике и мечтал Петр I, такому наследнику и готов был передать после себя трон!
Но нет…
Правление Петра III оказалось злой насмешкой над замыслами первого русского императора.
1
Мы уже говорили, что Екатерина II, создавая нужный ей образ Петра III, не стесняет себя на страницах «Собственноручных записок» ни благородством, ни стыдливостью.
И это странно…
Ведь Екатерине не нужно было преувеличивать неразвитость супруга – он действительно был образован явно недостаточно для наследника русского престола. И умом не блистал внук Петра I…
И все это Екатерина II не обходит своим вниманием.
Мелочно подмечает она все промахи супруга, не пропускает ни одного случая, чтобы подчеркнуть свое превосходство над ним.
Но этого мало ей.
Она еще пытается доказать, что у Петра III имелись серьезные отклонения в психике. «Записки» Екатерины II изобилуют сценами, рисующими детское хвастовство великого князя, его игру в куклы в супружеской постели, его переходящую в садизм жестокость…
Однако Екатерина II слишком умна и талантлива, чтобы превратить «Собственноручные записки» в сплошную ложь. Порою сквозь гротеск и карикатуру в них проступает подлинное лицо Петра III, пусть и небольшого и по уму, и по дарованиям, но тем не менее очень цельного и по-своему порядочного человека.
«Я воспользовалась однажды удобным случаем, – пишет Екатерина II, – чтобы сказать великому князю, что так как он находит ведение дел Голштинии таким скучным и считает это для себя бременем, а между тем должен был бы смотреть на это как на образец того, что ему придется со временем делать, когда Российская империя достанется ему в удел, я думаю, что он должен смотреть на этот момент как на тяжесть еще более ужасную; на это он мне снова повторил то, что говорил много раз, а именно, что он чувствует, что не рожден для России; что ни он не подходит вовсе для русских, ни русские для него и что он убежден, что погибнет в России».
Хотя это признание и работает на создаваемый Екатериной II образ императора, которого надо свергнуть, чтобы спасти Отечество, но за ним стоит не придурь самодержца, а живая человеческая трагедия, и едва ли Екатерина могла придумать такое.
Человек болезненный, совсем не подготовленный для царского служения, Петр III никогда не скрывал, что мундир прусского генерала для него более ценен, нежели звание русского монарха.
Подобные заявления для русского уха звучат диковато, патриотическое сознание не вмещает в себя эту мысль, и поэтому наши историки, не желая упрекать «дщерь Петрову» за женский ум, которого у нее было много и которой недосуг оказалось уделить необходимое внимание подготовке наследника престола, объясняют столь вызывающий антипатриотизм Петра III отклонениями в его психическом развитии. И следуют они тут в русле рассуждений Екатерины II, считавшей, что коли ее муж не хочет исполнять с нею супружеские обязанности, то делает это не потому, что ему отвратительна сама мысль о сексуальной близости со своей сестрою, а потому, что недоразвит и отмечен отклонениями в психике.
Стоит только заговорить о ненависти Петра I к русским обычаям, русской культуре, русскому характеру, так сразу явится множество защитников великого реформатора. Когда же речь заходит о его внуке, не сыскать и простого понимания.
А ведь понять Петра III очень легко. Он вырос в Киле, и какими бы тяжелыми ни были для него годы детства, он сохранил любовь и верность своей маленькой Голштинии.
Власть в Российской империи он не захватывал.
Власть ему навязала тетенька, и какая же любовь к России могла возникнуть в Петре III, если здесь тетенька вместе с этой властью из-за своих некрофильско-сентиментальных фантазий навязала ему в жены его собственную сестру…
Петра III порицают за то, что он не почитал Русскую Церковь.
Но откуда было взяться уважению, если Петр III знал Русскую Церковь только по малороссу Федору Яковлевичу Дубянскому, столь успешно (и не безвозмездно) совмещавшему должность царского духовника с обязанностями секретного осведомителя? Если его наставник – выпускник Киевской коллегии, проведший десять лет за границей, Симон Теодоровский хотя и изучил еврейский, халдейский, сирийский, арабский, греческий, латинский и немецкий языки, но при этом всю свою ученость употребил на составление поучения о пользе брака между братом и сестрой…
Если стукача-крепостника отца Федора Дубянского и иеромонаха Симона Теодоровского, готового в угоду императрице оправдать кровосмешение, предъявляли Петру III как лучших представителей Русской Церкви, то странно было бы, если бы он не попытался реформировать такую Церковь.
Хотелось бы сразу оговориться… Бессмысленно оправдывать императора Петра III и еще более бессмысленно русскому человеку защищать его государственные свершения…
И мы и не оправдываем, и не защищаем.
Мы говорим только о том, что Петр III был негодным императором не из-за психических отклонений. Скорее уж наоборот. Именно потому и оказался Петр III столь ненавистным многим правителем, что не смог он преодолеть своей психической нормальности.
Не захотел стать мужем своей сестры…
Не захотел верить в возможность совмещения священнического и стукаческого служения…
И может быть, та неестественная детскость, о которой мы рассказывали в предыдущей главе, – реакция здорового, нормального человека на процветающую вокруг ложь и разврат. В детских играх, в похожих на игру маневрах голштинских солдат Петр III пытался укрыться от окружающей грязи.
Ничего не переменилось в его характере и в 1761 году, когда умерла Елизавета Петровна и он взошел на русский престол.
И вот что поразительно.
В любом распоряжении Петра III, даже таком нелепом, как Указ от 25 июня об уравнении религий, необязательности постов и неосуждении греха прелюбодейства, «ибо и Христос не осуждал», прослеживается некая логика.
Вся жизнь, которую он знал в России, заключалась в наполненном развратом дворце его тетки. Не желая мириться с развратом и лживостью, установленными «дщерью Петровой», и не умея исправить положение, по простоте душевной Петр III, сделавшись императором, попытался хотя бы уйти от лицемерия и узаконил этот разврат.
Глупо? Безусловно, глупо! Но намного ли умнее показное благочестие Елизаветы Петровны, лицемерно уживающееся с ее развратом?
Это еще надо подумать…
И таковы многие поступки Петра III. Если приглядеться к ним внимательнее, то можно если и не оправдать, то, по крайней мере, обнаружить некую логику в них.
Вот, к примеру, возмутившая тогда весь великосветский Петербург история наказания Петром взяточника Льва Нарышкина, ставшего в дальнейшем, при Екатерине II, членом так называемого «малого Эрмитажа».
Некто Хорват, еще в правление Елизаветы Петровны, сумел втереться в доверие, высшим должностным лицам и присвоил себе деньги, выделенные на переселение сербов на юг России. Когда несколько тысяч сербов переселились на земли, получившие название «Новой Сербии», то не только не получили обещанной переселенцам помощи, но были обращены Хорватом практически в крепостное состояние.
Сербы довели свои жалобы до Сената, но Хорват тоже не терял времени.
Он явился в Петербург и подарил по две тысячи дукатов Льву Александровичу Нарышкину, генералу Алексею Петровичу Мельгунову и генерал-прокурору Александру Ивановичу Глебову.
Мельгунов и Глебов сообщили о взятке Петру III.
Тот похвалил их, что они не скрыли полученного подарка, потребовал себе половину и на следующий день сам отправился в Сенат и разрешил дело в пользу Хорвата.
Нарышкин же промолчал о деньгах от Хорвата, и Петр III отнял их у него все и несколько дней подряд издевался над ним, спрашивая его, куда он дел полученные деньги…
Возмущение петербургских вельмож по поводу несчастных переселенцев, нечаянно попавших в рабство, в устах рабовладельцев, какими были эти вельможи, выглядело бы несколько странно, и поэтому надо полагать, что причина возмущения – в жестоком обращении с Львом Нарышкиным.
Разумеется, шутовство не украшает императора, но, с другой стороны, ведь таких взяточников, как Нарышкин, не Петр III взрастил. Они достались ему в наследство. И Петр III попытался исправить их. Другое дело, что вел он себя при этом как ребенок…
Но он, как мы говорили, и был ребенком.
Не умея исправить положения дел, он продолжал укрываться в своем ребячестве от той лжи и подлости, что обрушилась на него…
Смерть тетки Петр III тоже воспринимал как новую игру, и, как к игрушкам, относился он к русской армии, которую немедленно приказал переодеть и перемуштровать, и к Русской Церкви, из которой приказал вынести все иконы святых мучеников, и к самой Российской империи…
Всего полгода длилось правление Петра III, но за эти месяцы он сумел сделаться ненавистным всем, за исключением разве только продажного дворянства, которому Петр III даровал вольность, то есть освободил дворян от обязательной государственной службы…
«Памятниками неудачного борения аристократии с деспотизмом остались только два указа Петра III о вольности дворян, – писал А.С. Пушкин, – указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться».
Родная сестра возлюбленной императора Елизаветы Романовны Воронцовой, Екатерина Романовна Дашкова, принимавшая самое активное участие в организации переворота, дала довольно точную характеристику Петру.
«Он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и естественные наклонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя великой империи».
И еще…
«Поутру быть первым капралом на вахтпараде, затем плотно пообедать, выпить хорошего бургундского вина, провести вечер со своими шутами и несколькими женщинами и исполнять приказания прусского короля – вот что составляло счастье Петра III, и все его семимесячное царствование представляло из себя подобное бессодержательное существование изо дня в день, которое не могло внушать уважения. Его разбирало нетерпение отвоевать у датского короля клочок земли, на который он заявлял свои права, и он не захотел даже дождаться коронации, чтобы начать войну».
Тут Екатерина Романовна Дашкова, разумеется, права.
Именно подготовка к войне и переломила окончательно настроение гвардии, толкнула ее на сторону заговорщиков.
2
Сохранилась переписка Петра III с прусским королем Фридрихом II.
Мы уже рассказывали, что Фридрих, узнав о намерении Петра III отправиться за границу для ведения войны с Данией за голштинские владения, не на шутку встревожился. Пытаясь удержать своего поклонника от опрометчивого шага или хотя бы обезопасить себя при этом, он писал:
«Признаюсь, мне бы очень хотелось, чтоб Ваше Величество уже короновались, потому что эта церемония произведет сильное впечатление на народ, привыкший видеть коронование своих государей.
Я вам скажу откровенно, что не доверяю русским.
Всякий другой народ благословлял бы небо, имея государя с такими выдающимися и удивительными качествами, какие у вашего величества, но эти русские, – чувствуют ли они свое счастье (здесь и далее выделено мной. – Н.К.), и проклятая продажность какого-нибудь одного ничтожного человека разве не может побудить его к составлению заговора или к поднятию восстания в пользу этих принцев брауншвейгских?
Припомните, ваше императорское величество, что случилось в первое отсутствие императора Петра I, как его родная сестра составила против него заговор!
Предположите, что какой-нибудь негодяй с беспокойною головой начнет в ваше отсутствие интриговать для возведения на престол этого Ивана, составит заговор с помощью иностранных денег, чтобы вывести Ивана из темницы, подговорить войско и других негодяев, которые и присоединятся к нему: – не должны ли вы будете тогда покинуть войну против датчан, хотя бы все шло с отличным успехом, и поспешно возвратиться, чтоб тушить пожар собственного дома.
Эта мысль привела меня в трепет, когда пришла мне в голову, и совесть мучила бы меня всю жизнь, если б я не сообщил эту мысль вашему императорскому величеству; я здесь в глубине Германии; я вовсе не знаю вашего двора: ни тех, к которым Ваше Величество может иметь полное доверие, ни тех, кого можете подозревать, поэтому вашему высокому разуму принадлежит различить, кто предан и кто нет; я думаю одно, что если вашему величеству угодно принять начальство над армиею, то безопасность требует, чтобы вы прежде короновались и потом, чтоб вы вывезли в своей свите за границу всех подозрительных людей. Таким образом, вы будете обеспечены»…
Именно тогда и состоялось знаменитое свидание Петра III с шлиссельбургским узником.
«Что касается Ивана, – писал он, успокаивая Фридриха II, – то я держу его под крепкою стражею, и если б русские хотели сделать зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не принимаю никаких предосторожностей. Могу вас уверить, что когда умеешь обходиться с ними, то можно быть покойным на их счет…»
Любопытны тут и опасения Фридриха II насчет Иоанна Антоновича, и уверения Петра III, что если б русские хотели сделать зло, то могли бы уже давно его сделать…
Если Петр III действительно был по-детски наивным, то опытного политика Фридриха II в наивности не упрекнешь. Однако, как мы видим, и он совершил серьезную ошибку – указав Петру III вместо подлинной опасности (Екатерина II) на мнимую…
Любопытен и другой совет Фридриха II – забрать с собою в поход всех опасных придворных, которые в отсутствие императора могли бы составить заговор.
Совет этот, по сути дела, послужил катализатором переворота.
Фридриху хорошо было известно, что его «друг» умеет хранить свои тайны, по меткому замечанию Екатерины II, как пушка выстрел.
И точно…
Прочтя письмо Фридриха, он рассказал о совете прусского короля одному из заговорщиков, более того, приказал ему готовиться следовать за ним в армию в качестве волонтера. Какую реакцию вызвал этот совет и у будущего волонтера, и у других кандидатов в волонтеры, гадать не надо. Если и были у этих придворных сомнения в необходимости государственного переворота, то теперь таких сомнений не осталось.
И вот тут и задаешься вопросом: действительно ли Фридрих II так плохо ориентировался в реальном раскладе сил при русском дворе?
Поверить в такое трудно… Недостатка в прусских шпионах и соглядатаях при русском дворе никогда не было…
Но тогда получается, что Фридрих II действовал так, точно зная, какой будет реакция Петра III и какими будут последствия…
Само это предположение на первый взгляд кажется совершенно бессмысленным. Ведь еще 26 декабря 1761 года, когда, вступив на престол, Петр III немедленно разорвал союз с Австрией и заключил мир с Пруссией, Фридрих II писал ему: «Я никогда не в состоянии заплатить за все, чем вам обязан. Я отчаялся бы в своем положении, но в величайшем из государей Европы нахожу еще верного друга: расчетам политики он предпочел чувство чести».
Фридрих II Великий. Гравюра середины XVIII в.
Зачем же, спрашивается, нужно было Фридриху подталкивать верного друга к гибели?
Да затем, что Фридрих II хорошо знал, кто унаследует русский престол…
Знал он и то, что дочка бывшего коменданта его крепости, участница организованного Фридрихом заговора Апраксина и Бестужева, будет проводить ту политику, какая нужна Пруссии, и никакое чувство чести не превозможет у нее расчетов политики, с нею не нужно будет опасаться верного друга, который расчетам политики может предпочесть чувство чести.
И тут было бы нелепо упрекать Фридриха…
Исход Семилетней войны решили, как мы знаем, не сражения армий, а борьба династической крови…
Вспомним, что Елизавета Петровна, вступившая в войну с Пруссией, была немка только наполовину.
Петр III – немец уже на три четверти.
Но Екатерина – чистокровная немка. Конечно, после первого кровопускания, сделанного во время болезни, ей выпустили, как она изволила шутить, последнюю немецкую кровь, остававшуюся в ее жилах, но протестантство и политический прусский патриотизм, которые Фридрих положил в основание своей политической системы, выпустить вместе с кровью было невозможно…
И если у Фридриха появилась возможность иметь на русском престоле одноплеменницу, целиком обязанную ему (вспомним, что это Фридрих, который считался главой протестантской Германии, в 1743 году рекомендовал Ангальт-Цербстскую принцессу Елизавете Петровне) своим счастьем, то зачем тогда нужен друг с четвертинкой русской крови.
Кто знает, куда его заведет эта четвертинка, усугубляемая неприлично для политика развитым чувством чести?
А Екатерина II, сделавшись самодержавной государыней, не обманула ожидания своего покровителя, она заключила союз с Пруссией и все свое царствование проводила выгодную Пруссии политику. Именно с помощью Екатерины и смог Фридрих II разрешить все наиболее насущные для Пруссии задачи, а в 1772 году округлил свои владения после первого раздела Польши…
Более того… Екатерина помогла Фридриху решить и проблему укрепления Пруссии на будущее.
Неразборчивому в средствах королю-философу Россия всегда представлялась грубой, стихийной силой, которой он должен пользоваться для выгод Пруссии. Ради этого Фридрих не скупился на подкупы, запугивая ложными страхами, предавал на погибель собственных родственников.
Как остроумно заметил историк Евгений Севастьянович Шумигорский, не переносившего цепей «медведя», Фридрих задумал «перевязать» розовыми лентами и действительно добился того, что в течение всей своей жизни он был как бы постоянным сватом русского двора…
А Петра III Фридриху, наверное, было жаль.
Но что же делать? Человек, который расчетам политики может предпочесть чувство чести, не подходил для престола не только в России, которую он не знал и не любил, но и у себя в Голштинии…
Окончив так удачно для Пруссии Семилетнюю войну, Петр III затевал войну с Данией, а движение всех сил Русской империи на маленькую Данию для возвращения отнятого у Голштинии Шлезвига не очень-то и устраивало Фридриха. Таким образом, как только Петр III объявил о подготовке похода на Данию, он был обречен. Человеку с таким чувством чести нечего было делать в дружной семье германско-русских венценосцев…
3
В последних числах июля император уехал в Ораниенбаум, а императрице приказал поселиться в Петергофе. При Екатерине II было всего шесть камер-фрейлин да два камер-юнкера; император же взял с собою своих фаворитов и самых красивых придворных дам…
25 июня 1762 года был опубликован печально знаменитый указ об уравнении религий и неосуждении грехов против седьмой заповеди.
Сам Петр III нарушать седьмую заповедь не собирался. По свидетельствам современников, он планировал еще до выступления в поход развестись с Екатериной и жениться на графине Елизавете Романовне Воронцовой. В тот день, когда был выпущен указ, на возлюбленную императора возложили Екатерининскую ленту.
Как утверждала сама императрица, в тот же день был отдан приказ об ее аресте, но тогда за нее заступился дядя Петра III – принц Георгий Голштинский.
Ювелир Позье оставил воспоминания о домашнем спектакле, который на следующий день, как раз накануне переворота, вздумалось устроить Петру III.
– Я хочу, чтобы вы посмотрели мою комедию, – сказал ювелиру император. – Вот вам билет. Я все билеты раздаю сам.
Позье присутствовал перед обедом при маневрах голштинских войск и сражении двух маленьких галер на большом пруду. И маневры, и сражение галер показались ему более похожими на представление марионеток, нежели на военные учения, но видно было, что самому императору учения доставляют наслаждение.
За обедом Позье сидел за столом рядом с женою великого канцлера Воронцова, племянница которого должна была превратиться в императрицу.
– Что вы об этом думаете? – тихо сказал по-французски Позье. – Я очень боюсь, как бы не случилось чего-нибудь ужасного… Должен вам признаться, что, видя все, я не совсем спокоен.
– Вы правы, – отвечала жена канцлера, – я имею повод быть еще менее спокойна, чем вы.
И она заплакала…
Позье вспоминает, что вечером на спектакле императрица прислала к нему своего пажа сказать, чтобы он по выходе из театра зашел в ее покои, так как она хочет кое-что заказать.
Оказалось, что она сломала свой Екатерининский орден и попросила поправить.
Это был тот самый день, в который графиня Елизавета Воронцова должна была явиться с орденом, врученным ей императором, и Позье сказал императрице, чтобы она подумала, не обидится ли император за то, что она в пику нарочно является к столу без ордена.
Екатерина II уже не первый раз оказывалась на краю пропасти, и только звериное чувство опасности, умение мгновенно обнаружить противника и определить слабые его места спасало ее от гибели.
– Хорошо, – сказала императрица, – приезжайте за орденом завтра в Петергоф.
Чтобы не нарушать приличий, Петр III решил отложить арест супруги и 27 июня отправился вместе с нею в Гостилицы, где граф Алексей Разумовский дал в их честь грандиозный праздник. Здесь венценосные супруги встретились в последний раз. С праздника Петр III вернулся в Ораниенбаум, а Екатерина II – в Петергоф.
Предоставим слово непосредственному участнику переворота, княгине Екатерине Романовне Дашковой…
Ее родная сестра графиня Елизавета Романовна Воронцова была фавориткой императора, и император собирался жениться на ней. Восемнадцатилетняя Екатерина Романовна не могла допустить, чтобы ее родная сестра вышла замуж за ее крестного, и, устроив так, чтобы мужа отправили послом в Константинополь, на досуге занялась устройством переворота.
В своих воспоминаниях Дашкова рассказывает, что в Петербурге все ждали переворота и считали часы в ожидании взрыва. Сразу после отъезда двора в Ораниенбаум гвардию охватила тревога за свое будущее. Все опасались, что будут внезапно отправлены в Данию и тем самым лишены возможности защитить себя. Почувствовавшие свою беззащитность гвардейцы толпами ходили по улицам столицы и ругали государя.
26 июня к Дашковой пришли двадцатишестилетний капитан Петр Богданович Пассек и капитан-поручик Сергей Александрович Бредихин.
– Может быть, стоило бы повести их в Ораниенбаум и разбить голштинцев, чтобы обеспечить успех переворота? – предложил Пассек. – Слухи об опасностях, которым подвергается императрица, волнуют солдат до такой степени, что скоро их невозможно будет сдержать, и это брожение среди них может разоблачить наш план и подвергнет нас страшной опасности.
«Я поняла, – пишет Дашкова, – что эти господа слегка трусят, и желая доказать, что не боюсь разделить с ними опасность, попросила их передать солдатам от моего имени, что я только что получила известие от императрицы, которая спокойно живет себе в Петергофе, и что советую и им держать себя смирно, так как минута действовать не будет упущена».
Разумеется, Екатерина II не посвящала восемнадцатилетнюю сестру своей соперницы во все детали заговора. И тем не менее именно подтрунивание Екатерины Романовны над поручиком Пассеком послужило запалом революционного взрыва…
Дело произошло так…
Когда поручик вернулся в полк, преображенский капрал встревоженно сообщил ему, что императрица погибла. Пассек успокоил его, уверив, что императрица все еще свободна, живет в Петергофе и спешить с восстанием нет нужды, надо ждать сигнала.
Капрал на радостях рассказал о новости другому офицеру. Но офицер этот не принадлежал к заговору и донес о разговоре начальству. Майор Преображенского полка Воейков приказал арестовать Пассека.
Арест поднял на ноги всех заговорщиков.
«Когда я вернулась домой взволнованная и тревожная, мне было не до сна, – вспоминает Е.Р. Дашкова. – Моя горничная объявила мне, что портной не принес еще мужского костюма, что меня очень раздосадовало…
Не прошло и часу времени, как я услышала стук в ворота.
Я соскочила с постели и, выйдя в другую комнату, приказала впустить посетителя. То был какой-то незнакомый мне видный молодой человек, оказавшийся четвертым братом Орловым.
Он пришел меня спросить, не слишком ли рано вызывать в Петербург императрицу, не испугаем ли мы ее понапрасну. Я была вне себя от гнева и тревоги, услышав эти слова, и выразилась очень резко насчет дерзости его братьев, медливших с исполнением моего приказания, данного Алексею Орлову.
– Теперь не время думать об испуге императрицы, – воскликнула я, – лучше, чтобы ее привезли сюда в обмороке и без чувств, чем, оставив ее в Петергофе, подвергать ее риску быть несчастной всю жизнь или взойти вместе с нами на эшафот. Скажите же вашему брату, чтобы он карьером скакал в Петергоф и немедленно привез императрицу, пока Петр III не прислал ее сюда, последовав разумным советам, или сам не приехал в Петербург и не разрушил навсегда того, что, кажется, само провидение устроило для спасения России и императрицы».
4
Алексей Орлов послушался совета восемнадцатилетней заговорщицы. Рано утром 28 июня он ворвался в спальню Екатерины II и, растолкав ее, объявил, что Пассек арестован.
Кое-как одевшись, императрица села со своей фрейлиной в карету, а Орлов, примостившись на козлах, погнал лошадей прямо в Измайловский полк.
Ударили в барабан. Солдаты выбежали на площадь и бросились целовать руки, ноги и платье матушки-императрицы.
Явился и главный заговорщик – сам полковник, граф Кирилл Разумовский. Полк был торжественно приведен к присяге[150].
Затем, возглавляемые священником, шагавшим с крестом в руке, все двинулись в Семеновский полк. Семеновцы тоже не хотели идти воевать за воссоединение Голштинии и присягнули матушке-императрице.
Многие гвардейцы тут же сбрасывали новые мундиры и облачались в старые, сберегаемые, видимо, как раз на тот случай, когда они совершат ставшую уже привычной для русской гвардии измену присяге.
Во главе обоих полков, сопровождаемая толпой народа, Екатерина II явилась в Казанский собор. Здесь, на молебне, ее провозгласили самодержавной императрицей. Отсюда она отправилась в Зимний дворец и застала там Сенат и Синод в сборе. Сенаторы и архиереи беспрекословно присягнули ей.
Тем временем присягнули конногвардейцы и преображенцы…
Свыше 14 тысяч солдат окружили дворец, восторженно приветствуя обходившую полки Екатерину.
«В полдень первое российское духовенство, старцы почтенного вида (известно, сколь маловажные вещи, действуя на воображение, делаются в сии решительные минуты существенной важностью), украшенные сединами, с длинными белыми бородами, в приличном одеянии, приняв царские регалии, короны и скипетр и державу со священными книгами, покойным и величественным шествием проходили через всю армию, которая с благоговением хранила тогда молчание… – пишет шевалье К.-К. Рюльер. – Они вошли во дворец, чтобы помазать на царство императрицу, и сей обряд производил в сердцах, не знаю, какое-то впечатление, которое, казалось, давало законный вид насилию и хищению».
Неясно, что тут описывает шевалье… Коронация императрицы Екатерины II состоялась три месяца спустя в Москве. Современники, более знакомые с обрядами Русской Церкви, этот эпизод опускают, но похоже что шевалье все-таки не ошибается и впечатление, которое, казалось, давало законный вид насилию и хищению, действительно производилось тогда иерархами нашей Церкви. В благодарность за эту поддержку 12 августа Екатерины II издала Указ о возвращении монастырям отобранных у них Петром III земель. Впрочем, это была не благодарность, а скорее взятка. Ведь официальной коронации Екатерины еще только предстояло состояться 22 сентября…
Но не так уж и важно, благодарностью или взяткою была отмена указа… Недолго пользовалась Русская Церковь милостями матушки Екатерины.
Уже 29 ноября, через два месяца после своей коронации, Екатерина учредила Особую комиссии по церковным имуществам. Комиссия разослала по всем монастырским вотчинам и архиерейским домам приходно-расходные книги для записи денежного и хлебного сбора. Контролировать записи должны были разосланные комиссией обер-офицеры.
В результате в 1763–1764 годах владения Церкви и миллион населяющих эти земли крестьян из ведения Синода перешли в управление Коллегии экономии. Многие древние обители, служившие центрами просвещения и благотворительности, оказались упраздненными…
Ну а пожертвованные прежними владельцами на помин своих душ имения Екатерина II раздала вместе с крестьянами, превращенными отныне в крепостных рабов, поддержавшим государственный переворот дворянам.
Считается, что именно бесконтрольная раздача этих имений и стимулировала расцвет безумной роскоши, в которой утопали екатерининские вельможи…
Но это произойдет потом, а пока Синод, узаконив захват женою власти живого императора, положил еще одно трудносмываемое пятно на репутацию Русской Православной Церкви.
«Перо мое бессильно описать, как я до нее (Екатерины. – Н.К.) добралась, – пишет в своих записках Е.Р. Дашкова, – все войска, находившиеся в Петербурге, присоединившись к гвардии, окружали дворец, запрудив площадь и все прилегающие улицы. Я вышла из кареты и хотела пешком пройти через площадь; но я была узнана несколькими солдатами и офицерами, и народ меня понес через площадь высоко над головами. Меня называли самыми лестными именами, обращались ко мне с умиленными, трогательными словами и провожали меня благословениями и пожеланиями счастья вплоть до приемной императрицы, где и оставили меня, comme une manchette perdue[151]. Платье мое было помято, прическа растрепалась… я предстала в таком виде перед императрицей.
Мы бросились друг другу в объятия. “Слава богу! Слава богу!” – могли мы только проговорить. Затем императрица рассказала мне, как произошло ее бегство из Петергофа, а я в свою очередь сообщила ей все, что знала, и сказала, что, несмотря на свое сильное желание, я не могла выехать ей навстречу, так как мой мужской костюм не был еще готов.
Вскоре я заметила, что на ней была лента ордена Св. Екатерины и что она еще не надела голубой андреевской ленты. Подбежав к графу Панину, я попросила его снять свою ленту и одела ее на плечо императрицы.
Мы должны были, наскоро пообедав, отправиться в Петергоф во главе войск. Императрица должна была одеть мундир одного из гвардейских полков; я сделала то же самое; ее величество взяла мундир у капитана Талызина, а я у поручика Пушкина, так как они были приблизительно одного с нами роста».
Вечером 28 июня Екатерина во главе нескольких полков, верхом, в гвардейском мундире и в шляпе, украшенной зеленой дубовой веткой, с распущенными длинными волосами, рядом с княгиней Дашковой, которая в гвардейском мундире была похожа на пятнадцатилетнего мальчика, двинулась в Петергоф.
Дело было сделано, и постепенно все предприятие превращалось в увеселительную прогулку.
В десяти верстах от города, в Красном Кабаке, был сделан привал.
«Я почти не спала последние две недели, и хотя не могла заснуть и в данную минуту, – пишет Е.Р. Дашкова, – но для меня было величайшим наслаждением просто протянуться на постели.
В этом скверном домике, представлявшем из себя плохонький кабак, была только одна широкая кровать. Ее величество решила, что мы отдохнем на ней вдвоем, не раздеваясь. Постель не отличалась чистотой, так что, взяв большой плащ у капитана Карра, мы разостлали его на кровати и легли…
Ее величество начала читать мне целый ряд манифестов, которые подлежали опубликованию по нашем возвращении в город; мы сообщали друг другу и наши опасения, которые, однако, отныне уступили нашим надеждам»…
5
В.О. Ключевский назвал дворцовый переворот, произведенный Екатериной II, дамской революцией.
Но потому и удалась эта самая веселая и деликатная революция, что заговорщикам противостоял человек, который действительно расчетам политики мог предпочесть чувство чести.
Пожалуй, никогда еще так ярко не проявлялась в Петре III готовность предпочесть чувство чести расчетам политики, как в эти роковые для него дни.
И вот что парадоксально…
Чем порядочнее вел себя император, тем уродливее казалось окружающим его поведение.
Погрязшие в распутстве и казнокрадстве придворные оказались неспособными даже воспринять поведение, выстраиваемое по законам чести.
Петру III казалась, что он ловко придумал, противопоставляя откровенному распутству жены, менявшей постельных партнеров, вполне благопристойную связь с женщиной, на которой он собирался жениться. Но нет! Все сочувствовали Екатерине II и за глаза упрекали в разврате именно Петра III.
Петр III отложил арест жены, чтобы не нарушать приличий, а когда наутро приехал в Петергоф, то узнал, что императрица рано утром сбежала в Петербург.
Посланы были вслед трое сановников, в том числе канцлер Воронцов, чтобы усовестить императрицу, но разведчики, приехав в Петербург, присягнули императрице и не воротились[152].
А Петр III вернулся в Ораниенбаум и отправился было в Кронштадт, но там уже принял командование посланный императрицей адмирал Талызин. Он не позволил Петру III высадиться на острове.
Возвращению в Ораниенбаум предшествовало совещание императора с фельдмаршалом Минихом.
– Фельдмаршал! – обращаясь к очаковскому герою, сказал Петр III. – Мне надлежало раньше последовать вашим советам! Но вы видели много опасностей, укажите, что мне делать теперь?
Старый заговорщик Миних хладнокровно отвечал, что дело еще не проиграно: надлежит, не медля ни одной минуты, направить путь к Ревелю, взять там военный корабль, пуститься в Пруссию, где стоит восьмидесятитысячная русская армия, и во главе этой армии возвратиться в свою империю.
– Уверяю Ваше Величество, – сказал победитель крымских татар и Бирона, – что менее чем за полтора месяца вы приведете государство в прежнее повиновение.
Однако тут, как утверждает шевалье К.-К. Рюльер, запротестовали молодые дамы, которые вошли вместе с Минихом в каюту, чтобы принять участие в государственном совещании, посвященном судьбе империи.
Дамы заявили, что выехали на загородные гулянья и наряды их не предназначены для походной, армейской жизни.
– А кроме того, Ваше Величество, вы же понимаете, что путь до Ревеля далек и у гребцов недостанет сил, чтобы везти нас в Ревель.
– Так что же! – возразил Миних. – Мы все будем им помогать.
Весь двор, как говорит шевалье Рюльер, содрогнулся от сего предложения очаковского героя.
«И потому ли, что лесть не оставляла сего несчастного государя, или потому, что он был окружен изменниками (ибо чему приписать такое несогласие их мнений?), ему представили, что он не в такой еще крайности; неприлично столь мощному государю выходить из своих владений на одном судне; невозможно верить, чтобы нация против него взбунтовалась, и, верно, целью сего возмущения имеют, чтобы примирить его с женою».
Петр III поддался, когда Елизавета Романовна Воронцова начала уговаривать его высадиться в Ораниенбауме и даровать прощение супруге.
Роль Елизаветы Романовны в производстве этой дамской революции тоже не прояснена. Неясно, глупость или что-то другое двигало ею. Когда стало ясно, что окруженная гвардейскими полками Екатерина не очень-то и нуждается в прощении супруга, все та же Елизавета Романовна начала уговаривать Петра послать к императрице просить ее, чтобы она позволила им ехать вместе в герцогство Голштинское.
По словам Воронцовой, это значило исполнить все желания императрицы и заслужить ее прощение.
– Батюшка наш! – начали кричать тогда слуги. – Супруга твоя прикажет умертвить тебя!
– Для чего пугаете вы своего государя?! – спросила Елизавета Романовна. – Ваше Величество, я уверена, что Ее Величеству ничто так не нужно, как примирение, столь благоприятное ее честолюбию…
Отъезд Екатерины II из Петергофа в день вошествия на престол. Гравюра XVIII в.
«Это было последнее решение, – пишет шевалье Рюльер. – И тотчас после единогласного совета, в котором положено, что единственное средство избежать первого ожесточения солдат было то, чтобы не делать им никакого сопротивления, он отдал приказ разрушить все, что могло служить к малейшей обороне, свезти пушки, распустить солдат и положить оружие».
– Ужели вы не умеете умереть как император, перед своим войском? – раздраженно сказал тогда Миних. – Если вы боитесь сабельного удара, то возьмите в руки распятие – они не осмелятся вам вредить, а я буду командовать в сражении!
Но советы опытного и сурового фельдмаршала явно не вписывались в шелково-альковную пастораль дамской революции.
Император держался своего решения и написал своей супруге, что он оставляет ей Российское государство и просит только позволения удалиться в свое герцогство Голштинское с фрейлиною Воронцовой и адъютантом Гудовичем.
Петр III послал к Екатерине II генерал-майора Михаила Измайлова для переговоров, но Измайлов тут же перешел на сторону Екатерины и вернулся к Петру III уже как ее посланец.
Екатерина II просила Петра III подписать отречение, чтобы предупредить неисчислимые бедствия, которые в противном случае нельзя будет предотвратить, поскольку вся гвардия уже присягнула ей.
Измайлов передал текст отречения, которое Петр III должен был подписать:
«Во время кратковременного и самовластного моего царствования в Российской Империи я узнал на опыте, что не имею достаточных сил для такого бремени, и управление таковым государством не только самовластное, но какою бы не было формою превышает мои понятия, и потому и приметил я колебание, за которым могло бы последовать и совершенное оного разрушение к вечному моему бесславию. Итак, сообразив благовременно все сие, я добровольно и торжественно объявляю всей России и целому свету, что на всю жизнь свою отрекаюсь oт правления помянутым государством, не желая так царствовать ни самовластно, ни же под другою какою-либо формою правления, даже не домогаться того никогда пocpeдством какой-либо посторонней помощи. В удостоверение сего клянусь перед Богом и всею вселенною, написав и подписав сие отречение собственною своею рукою».
Приласканный Елизаветой Романовной Воронцовой, Петр III отречение подписал. Скоро началось разоружение голштинских солдат, их заперли в амбары, а Петру приказали сесть в карету и повезли в Петергоф.
Увы… Петр III слишком мало дорожил властью в России, чтобы устраивать войну из-за здешней короны, и напрасно его упрекали потом, что у него не хватало духа последовать воинственным советам фельдмаршала Миниха…
Чтобы добраться до Петергофского дворца, надо было проехать сквозь гвардейские полки, приведенные сюда Екатериной.
Пьяные гвардейцы, завидев карету императора, принялись кричать «Да здравствует Екатерина!» – и так неистово повторяли свои восклицания, что с Петром III сделался обморок.
Это тоже было истолковано как проявление трусости, хотя Петра III, как он говорил сам, просто потрясло открытие, что гвардейские полки в России изменяют своей присяге с такой же легкостью, как распутные жены своим мужьям.
Екатерина II через Измайлова передавала Петру III, что обязуется устроить ему «приятную жизнь в каком-нибудь выбранном им самим дворце, в отдалении от Петербурга, и исполнять по мере возможности все его желания». Однако едва Петр III вышел из кареты, с него сорвали орденскую ленту, шпагу и платье. Несколько минут бывший император сидел на крыльце среди солдат босиком, в одной рубашке.
Н.И. Панин с удовольствием рассказывал потом, что, когда он вышел, чтобы увести бывшего императора во дворец, Петр III бросился к нему, ловил его руки, прося его ходатайства, чтобы ему было позволено хотя бы удержать при себе четыре особенно дорогие ему вещи: скрипку, любимую собаку, арапа и Елизавету Воронцову.
Ему позволили удержать три первые вещи, а Воронцову отослали в Москву, где она была благополучно – вполне в духе этой дамской революции! – выдана замуж…
Ну а бывшего императора увезли в Ропшу.
Его сопровождали Алексей Орлов, Пассек, ставший за эти дни из поручика капитаном, князь Федор Барятинский и поручик Преображенского полка Баскаков…
Победительница же, дав убийцам необходимые инструкции, вернулась в Петербург.
6
«Въезд наш в Петербург невозможно описать, – пишет Е.Р. Дашкова. – Улицы были запружены ликующим народом, благословлявшим нас; кто не мог выйти – смотрел из окон. Звон колоколов, священники в облачении на паперти каждой церкви, полковая музыка производили неописуемое впечатление. Я была счастлива, что революция завершилась без пролития и капли крови».
Во время дамской революции крови действительно так и не было пролито.
Зато много было выпито вина…
30 июня, в день въезда Екатерины в столицу, войскам открыли все питейные заведения.
«День был самый красный, жаркий, – писал, вспоминая этот день, Гаврила Державин. – Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки, в неистовом восторге и радости, носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина, и лили все вместе, без всякого разбору, в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь в другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступив к дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова; ибо солдаты говорили, что дошел до них слух, что она увезена хитростями прусским королем, которого имя всему российскому народу было ненавистно. Их уверяли дежурные придворные, Ив. Ив. Шувалов и подполковник их, граф Разумовский, также и господа Орловы, что государыня почивает и, слава Богу, в вожделенном здравии; но они не верили и непременно желали, чтоб она им показалась. Государыня принуждена была встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до полка».
Эта пьянка была устроена, конечно, не случайно.
С одной стороны, и победу отпраздновать не мешало, а с другой стороны, в пьяном угаре никто не задумывался над манифестами Екатерины, никто не выяснял, насколько законно то, что она делает.
Так что решение Екатерины напоить армию было вполне разумным, хотя и не дешево обошлось казне. И три года спустя в Сенате все еще производилось дело петербургских виноторговцев о вознаграждении их «за растащенные при благополучном ее величества на императорский престол восшествии виноградные напитки солдатством и другими людьми».
6 июля был обнародован второй, «обстоятельный» манифест, в котором говорилось, что, видя Отечество гибнущее и вняв «присланным от народа избранным верноподданным» (это Алексея Орлова в ее спальню народ посылал?), императрица отдала себя или на жертву за любезное Отечество, или на избавление его от угрожавших опасностей.
«Самовластие, – гласил манифест, – не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно бывает причиною».
В этот же день в Ропше был убит император Петр III.
И еще раз подтвердилась необыкновенная мудрость Екатерины. Совсем не напрасно напоила она армию. Ведь вслед за торжественным манифестом от 6 июля по церквам читали другой, от 7 июля, печальный, извещавший о смерти впавшего в прежестокую колику бывшего императора и приглашавший молиться «без злопамятствия» о спасении…
Из донесения, посланного из Ропши Алексеем Орловым, явствовало, что Петр за столом заспорил с одним из собеседников; Орлов и другие бросились их разнимать, но сделали это так неловко, что хилый узник оказался мертвым.
«Не успели мы разнять, а его уже и не стало… – писал пьяный Орлов в донесении, – сами не помним, что делали».
Шевалье Рюльер, в служебные обязанности которого как раз и входил сбор сведений о Екатерине и произведенном перевороте, нарисовал более обстоятельную картину преступления.
«Один из графов Орловых (ибо с первого дня им дано было сие достоинство), тот самый солдат, известный по находящемуся на лице знаку, который утаил билет княгини Дашковой, и некто по имени Теплов, достигший из нижних чинов по особенному дару губить своих соперников, пришли вместе к несчастному государю и объявили при входе, что они намерены с ним обедать. По обыкновению русскому, перед обедом подали рюмки с водкою, и представленная императору была с ядом. Потому ли, что и спешили доставить свою новость, или ужас злодеяния понуждал их торопиться, через минуту они налили ему другую. Уже пламя распространялось по его жилам, злодейство, изображенное на их лицах, возбудило в нем подозрение – он отказался от другой; они употребили насилие, а он против них оборону. В сей ужасной борьбе, чтобы заглушить его крики, которые начинали раздаваться далеко, они бросились на него, схватили его за горло и повергли на землю; но как он защищался всеми силами, какие придает последнее отчаяние, а они избегали всячески, чтобы не нанести ему раны, опасаясь за сие наказания, то и призвали к себе на помощь двух офицеров, которым поручено было его караулить и которые в сие время стояли у дверей вне тюрьмы. Это был младший князь Барятинский и некто Потемкин, 17-ти лет от роду. Они показали такое рвение в заговоре, что, несмотря на их первую молодость, им вверили сию стражу. Они прибежали, и трое из сих убийц, обвязав и стянувши салфеткою шею сего несчастного императора (между тем как Орлов обеими коленями давил ему грудь и запер дыхание), таким образом его задушили, и он испустил дух в руках их.
Нельзя достоверно сказать, какое участие принимала императрица в сем приключении; но известно то, что в сей самый день, когда сие случилось, государыня садилась за стол с отменною веселостью.
Вдруг является тот самый Орлов – растрепанный, в поте и пыли, в изорванном платье, с беспокойным лицом, исполненным ужаса и торопливости. Войдя в комнату, сверкающие и быстрые глаза его искали императрицу. Не говоря ни слова, она встала, пошла в кабинет, куда и он последовал; через несколько минут она позвала к себе графа Панина, который был уже наименован ее министром. Она известила его, что государь умер, и советовалась с ним, каким образом публиковать о его смерти народу. Панин советовал пропустить одну ночь и на другой утро объявить сию новость, как будто сие случилось ночью. Приняв сей совет, императрица возвратилась с тем же лицом и продолжала обедать с тою же веселостью.
Е.Р. Дашкова. Портрет работы Д.Г. Левицкого. 1780-е гг.
Наутро, когда узнали, что Петр III умер от геморроидальной колики, она показалась, орошенная слезами, и возвестила печаль своим указом.
Тело покойного было привезено в Петербург и выставлено напоказ. Лицо черное, и шея уязвленная. Несмотря на сии ужасные знаки, чтобы усмирить возмущения, которые начинали обнаруживаться, и предупредить, чтобы самозванцы под его именем не потрясли бы некогда империю, его показывали три дня народу в простом наряде голштинского офицера.
Его солдаты, получив свободу, но без оружия, мешались в толпе народа и, смотря на своего государя, обнаруживали на лицах своих жалость, презрение, некоторый род стыда и позднего раскаяния.
Скоро их посадили на суда и отправили в свое отечество; но по роковому действию на них жестокой их судьбы буря потопила почти всех сих несчастных…»
Екатерина Романовна Дашкова, получив известие об убийстве Орловым ее крестного, была в таком огорчении и негодовании, что только на следующий день превозмогла себя и поехала во дворец.
Екатерину II она нашла грустной и растерянной…
– Как меня взволновала, даже ошеломила эта смерть! – сказала императрица.
– Она случилась слишком рано для вашей славы и для моей, – ответила ей восемнадцатилетняя Дашкова.
«Вечером в апартаментах императрицы, – делает примечание Дашкова, – я имела неосторожность выразить надежду, что Алексей Орлов более, чем когда-либо, почувствует, что мы с ним не можем иметь ничего общего, и отныне не посмеет никогда мне даже кланяться. Все братья Орловы стали с тех пор моими непримиримыми врагами, но Алексей по возвращении из Ропши, несмотря на свое нахальство, в продолжение двадцати лет ни разу не осмелился со мной заговорить».
И только когда скончавшегося якобы от геморроидального припадка и прежестокой боли в кишках Петра III хоронили в Александро-Невской лавре, заметили, что его лицо черно…
Тогда и распространился слух, будто хоронят не императора, а дворцового арапа. Но Екатерине II это уже не могло повредить. Мало ли чего могло показаться народу с похмелья.
7
Мы уже говорили о зеркальном отражении правления Петра I и Екатерины I в царствованиях Петра III и Екатерины II.
Петр – Великий и Екатерина – Великая.
В Романовых, выходцах из Пруссии, тяготение к Европе, к Балтике было всегда, как всегда повернута к Северному полюсу стрелка компаса.
При Петре Великом династия Романовых начинает практическую реализацию мечты Романовых о Европе, а Екатерина Великая, в этом смысле, сама и есть реальное осуществление этой мечты. Она вся, на сто процентов, пруссачка, и она взошла на русский престол под торжествующий грохот барабанов русской гвардии.
При общем одобрении знати, гвардии и духовенства Россия вступала в блистательную и такую трагичную Екатерининскую эпоху…
Гонения на православие, организованные первыми Романовыми, дали результат, вызвав в XVIII веке необыкновенное падение нравственности. Символично, что этот процесс совпал с окончательным закабалением Екатериной II русского народа…
Еще в 1762 году был издан указ, обязывающий крестьян предъявлять увольнительное разрешение от помещиков при записи в купцы, а через пять лет, 22 августа 1767 года, Екатерина издает указ, окончательно отделяющий русское крестьянство от государства, которое называется Российской империей.
Согласно этому указу русские крестьяне, осмеливающиеся подавать жалобы на своих владельцев, подлежали вечной ссылке на каторжные работы в Нерчинск.
Русский народ ответил на эти немыслимые притеснения крестьянской войной, и разве могли какие-то жестокости Пугачева сравниться с преступлением, совершенным по отношению к нему немкой Екатериной.
Точно так же и в семнадцатом году… Никакая жестокость по отношению к дворянству и царскому дому не могла быть слишком большой, чтобы перекрыть подлую и бессмысленную жестокость екатерининского Указа от 22 августа 1767 года.
Беззаконно возведенная на престол гвардейскими полками, Екатерина II на дворянство и опиралась и, даруя ему все новые привилегии, только еще сильнее увеличивала разрыв между высшими слоями общества и народными массами. Тогда окончательно сформировались понятия – «высший слой» и «подлый народ»… Отличались эти слои не культурой, даже не языком, а нравственностью.
И совсем не случайно, что именно Екатерина II и провела секуляризацию церковных земель, что именно при ее правлении сословие священников оказалось оттеснено на самое социальное дно и обремененный семьей, полуголодный сельский батюшка стал такой же типичной и характерной деталью русской жизни, как и утопающий в роскоши екатерининский вельможа…
В Екатерининскую эпоху разрыв между порабощенным русским народом и денационализированной аристократией вышел за границы материальных отношений и захватил и духовную сферу.
Православие оставалось с народом, а аристократия увлеклась масонством.
Екатерининская эпоха – это эпоха сознательного, поначалу поощряемого Екатериной насаждения масонства в России.
«В то время, как рационалисты Екатерининского времени, – пишет Виктор Острецов в своей книге “Масонство, культура и русская история”, – вместе с самой императрицей, под предлогом борьбы с суевериями, накладывают запрет на литературную деятельность православных людей, масонская литературная деятельность, начав свой забег со времен Елизаветинских, в последующие десятилетия процветает»…
Разврат Екатерины Великой и ее окружения нашел адекватное выражение в тогдашней (Иван Барков) поэзии, но он же и вызвал кризис русской литературы того времени. Никогда раньше наша литература не служила для развлечения, она должна была выражать и формировать национальную мысль, а теперь ей была вменена в обязанность развлекательность…
И русская литература начала развлекаться так, как развлекались вельможи Екатерининской эпохи, словно бы выполняя тяжелую и неподъемную работу.
В этом смысле кризис русской литературы с ее восхитительным косноязычием и завораживающей неуклюжестью лишь отразил духовный кризис послепетровской эпохи[153]…
Именно в правление Екатерины разрыв народа с сохраненным им православием и высшего общества, ориентированного на масонские ценности, приобрел очертания пропасти, преодолеть которую в дальнейшем не смогли никакие реформы.
Крестьянская война Пугачева – первое следствие этого разрыва.
Правление Петра I зеркально отразилось в правлении Екатерины II.
Эта зеркальность отражения усиливается и соответствием (с зеркальной поправкой наоборот) длительности правлений Петра I и Екатерины I и Петра III и Екатерины II.
Если правление Петра III, как и правление Екатерины I, самое короткое в истории династии Романовых, то правление Екатерины Великой, которая, кажется, менее всех других правителей и правительниц имела права на русский престол, одно из самых долгих.
И это при том, что, пожалуй, никто из наших монархов не сталкивался со столь многочисленными попытками законных наследников и самозванцев оспорить ее право на царство!
Это парадокс, но в нем и скрыты все сильные и слабые стороны екатерининского правления. Вынужденная зорко присматривать за своими возможными конкурентами, Екатерина II вела очень гибкую и осмотрительную, но всегда последовательную и твердую политику, никогда не позволяя личным симпатиям восторжествовать над интересами собственной безопасности и упрочения собственной власти.
Без видимого сожаления расставалась она с дорогими сердцу людьми и идеями, как только они входили в противоречие с ее самодержавным мировоззрением.
8
Правление Екатерины II завершает в русской истории эпоху, которую можно было бы назвать эпохой царствования детей и развратных женщин…
К концу жизни Екатерина II совсем растолстела и превратилась – она была невысокого роста! – в кругленькую немецкую старушку.
Она всех перехитрила и всех одолела. Перехитрила не любившую ее свекровь, императрицу Елизавету Петровну, когда та заподозрила ее в государственной измене…
Перехитрила своего брата императора Петра III, который хотя и был обвенчан с нею, но не желал исполнять супружеские обязанности. Любовник Екатерины Алексей Орлов убил этого незадачливого отказчика.
Правда, мертвый муж явился снова, и, приняв обличье Емельяна Пугачева, потряс всю империю невиданной крестьянской войной, но Екатерина II победила мужа и в этом, пугачевском обличье.
Восстание было утоплено в крови…
«Иных растыкали по кольям, других повесили ребром за крюки, некоторых четвертовали. Остальных… (пишет П.И. Рычков) простили, отрезав им носы и уши».
Самого же Пугачева судили отдельно.
«Пугачева, – пишет А.С. Пушкин, – привезли прямо на двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом. – Кто ты таков? – спросил он у самозванца. – Емельян Иванов, Пугачев, – отвечал тот. – Как же смел ты, вор, назваться государем? – продолжал Панин. – Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), я воренок, а ворон-то еще летает…»
Когда Пугачев сидел на Меновом дворе, пишет А.С. Пушкин, симбирский дворянин, бежавший от него, приехал на него посмотреть и, видя его крепко привинченного на цепи, стал осыпать его укоризнами. Дворянин был очень дурен лицом, к тому же и без носу. Пугачев, на него посмотрев, сказал: «Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал»…
Екатерина II приказала четвертовать «маркиза» Пугачева…
Екатерина II не уступила престол и Павлу, который давно подрос и считал себя сыном убитого Екатериной императора Петра III.
Любопытно, что в 1773 году почти совпали два события, странная близость которых насторожила императрицу Екатерину II.
Тогда, 17 сентября, был обнародован первый манифест Емельяна Пугачева под именем «императора Петра III», а через двенадцать дней, 29 сентября, состоялось бракосочетание великого князя Павла и девятнадцатилетней принцессы Вильгельмины (в крещении Натальи Алексеевны).
И наверняка, обнаружив, что невестка настраивает Павла вступить в борьбу за власть, Екатерина вспомнила слова «маркиза Пугачева» о вороне, который еще летает…
Когда 10 апреля 1776 года великая княгиня Наталья Алексеевна почувствовала приближение родов, императрица села у ее постели и не отходила, пока роженица и ее новорожденная дочь не отдали Богу душу.
«Великий князь, – писала Екатерина московскому главнокомандующему, князю М.Н. Волконскому, – в Фоминое воскресенье по утру, в четвертом часу, пришел ко мне и объявил мне, что великая княгиня мучится с полуночи; но как муки были не сильныя, то мешкали меня будить. Я встала и пошла к ней и нашла ее в порядочном состоянии и пробыла у ней до десяти часов утра, и, видя, что она еще имеет не прямыя муки, пошла одеваться и паки к ней возвратилась в 12 часов… Я и великий князь все пятеры сутки и день и ночь безвыходно у нея были. По кончине, при открытии тела, оказалось, что великая княгиня с детства была повреждена, что спинная кость не токмо была такова S, но часть та, коя должна быть выгнута, была вогнута и лежала дитяте на затылке, что кости имели четыре дюйма в окружности и не могли раздвинуться, а дитя в плечах имел до девяти дюймов. К сему еще соединялись другие обстоятельствы, коих, чаю, примера нету. Одним словом, стечение таковое не позволяло ни матери, ни дитяте оставаться в живых. Скорбь моя была велика, но, предавшись в волю Божию, теперь надо помышлять о награде потери».
Вот эти-то подробности тазобедренного и позвоночного устройства великой княгини Наталии Алексеевны, которые зачем-то – зачем? – сообщает Екатерина московскому главнокомандующему, и наводят нас, помимо прямой заинтересованности императрицы в устранении невестки, на мысль, что императрица чем-то помогла Наталье Алексеевне умереть.
«Вы не можете себе представить, что она должна была выстрадать и мы с нею, – писала императрица Гримму. – Душа моя растерзана; я не имела ни минуты покоя во все эти пять дней и ни днем, ни ночью не покидала принцессу, пока она не закрыла глаз. Она говорила мне: “Какая вы прекрасная сиделка!”. Представьте себе мое положение: утешать одного, укреплять другую и, изнемогая телом и душою, быть вынужденною ободрять, решать и соображать все, что не должно быть забыто. Признаюсь вам, в жизнь мою я не была в положении более трудном, более ужасном, более тягостном: я забывала пить, есть, спать: силы мои поддерживались сама не знаю как. Я начинаю думать, что если после этого события моя нервная система не разстроится, то она несокрушима… Мы едва живы. Были мгновения, когда мне казалось, что внутренности мои раздираются при виде стольких страданий и что при каждом крике я сама чувствую боли. В пятницу я точно окаменела и даже до сих пор еще не сознаю себя. Часы слабости сменяются у меня часами силы: это происходит от перемежающейся лихорадки, которая, однако, более в духовном настроении, чем в физическом. Кто сам не испытал и не видал этого, не может составить себе понятия об этом. Вообразите, что я, будучи плаксива от природы, была свидетельницею кончины, не проронив ни слезинки. Я говорила себе: если ты заплачешь, другие будут рыдать, если ты разрыдаешься, другие дойдут до обморока, и все потеряют голову и разсудок, и все это будет непростительно».
«Два года тому назад покойная разсказывала нам, что, будучи ребенком, она подвергалась опасности сделаться кривою (ayant de la disposition devenir contrefaite), – пишет Екатерина госпоже Бьельке, – поэтому ландграфиня призвала какого-то шарлатана, который выпрямлял ее при помощи кулаков и колен. (La landgrave avait fait venir un charlatan, qui l'avait redressee a coups de poing et de genoux.) Этим-то и объясняется, что спинной хребет ея оказался изогнутым в виде буквы S, а нижняя часть позвоночника, которая должна быть выгнутою, у нея была вогнутою. Вот еще доказательство тому, что не из гордости, но вследствие невозможности она не могла нагибаться вперед»…
Урок, преподанный Екатериной, оказался усвоенным следующей ее невесткой. Вторая жена Павла Мария Федоровна интригами не занималась, и Екатерина не нашла в ней никаких недостатков, препятствующих рождению детей…
Мария Федоровна родила императрице прекрасных внуков.
Александра…
Константина…
А 25 июня 1796 года и Николая…
«Сегодня в три часа утра, – писала Екатерина Гримму о своей новой семейной радости, – мамаша родила громаднаго мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно; длиною он аршин без двух вершков, а руки немного поменьше моих. В жизнь свою в первый раз вижу такого рыцаря… Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом».
Особенно радовало Екатерину, что всего через две недели после рождения внук начал есть кашу.
«Рыцарь Николай уже три дня кушает кашку, потому что безпрестанно просит есть. Я полагаю, что никогда еще осьмидневный ребенок не пользовался таким угощением; это неслыханное дело. У нянек просто руки опускаются от удивления; если так будет продолжаться, придется по прошествии шести недель отнять его от груди. Он смотрит на всех во все глаза (il toise tout Ie monde), голову держит прямо и поворачивает не хуже моего».
Внук-рыцарь сильно обрадовал старушку Екатерину…
Дождавшись, когда великий князь после крещения сына уехал в Павловск, императрица передала великой княгине бумагу, в которой предлагала потребовать от мужа отречения от своих прав на престол.
Императрица велела Марии Федоровне скрепить своею подписью эту бумагу как удостоверение согласия с ее стороны на ожидаемый акт отречения в пользу великого князя Александра Павловича.
Однако, к огорчению императрицы, великая княгиня нисколько не обрадовалась этому предложению и отказалась подписать требуемую бумагу.
Разгневавшись на непокорную невестку, императрица решила возвести на престол внука Александра, не спрашивая более ничьего согласия.
Этими заботами да еще любовником Платоном Александровичем Зубовым и развлекалась ожиревшая немецкая старушка в свое последнее лето и последнюю осень…
9
5 ноября 1796 года, вечером, был так называемый «Малый Эрмитаж». Императрица весело забавлялась шутками Льва Нарышкина, явившегося в костюме уличного торгаша и продававшего присутствовавшим разные безделушки. На другое утро, встав по своему обыкновению рано, Екатерина оделась, попила кофе, поговорила с Платоном Зубовым, а затем пошла, как деликатно пишет А.Г. Брикнер, «в гардероб, где обыкновенно никогда не оставалась более десяти минут».
Но на этот раз все было иначе. Поскольку прошло уже более получаса, а императрица не выходила, камердинер обеспокоился и решился войти.
Отворив дверь, он увидел упавшую с горшка императрицу.
Ее разбил паралич.
В бессознательном состоянии императрица лежала на полу.
Она так и не успела подписать подготовленный указ о лишении Павла престола.
«36-ти часов, без всякой перемены, имея от рождения 67 лет 6 месяцев и 15 дней, наконец, 6-го (17-го) ноября в четверток, пополудни, в три четверти десятого часа, к сетованию всея России, в сей временной жизни скончалась».
Современники считали, что Павла как раз и спасло то обстоятельство, что императрица так и не пришла в сознание…
Какая злая ирония истории…
Во времена царствования Елизаветы была придумана легенда о Петре Великом, который, спасая на судне тонущих во время наводнения матросов, простудился и помер…
Во времена Елизаветы привезена в Россию дочь мелкого Ангальт-Цербстского невладетельного князя, которой предстоит стать Екатериной Великой и которая – тут уже нет никакой легенды! – тоже уходит из жизни, сидя на судне.
Правда, ночном…
В шутку Екатерина сочинила для себя надгробную надпись…
«Здесь лежит Екатерина II, родившаяся в Штетине 21 апреля (2 мая) 1729 года. Она прибыла в Россию в 1744 г., чтобы выдти замуж за Петра III. Четырнадцати лет от роду, она возъимела тройное намерение – понравиться своему мужу, Елизавете и народу. Она ничего не забывала, чтобы успеть в этом. В течение 18 лет скуки и уединения она поневоле прочла много книг. Вступив на Российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастие, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы веселонравная, с душею республиканскою и с добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей легко давалась, она любила искусства и быть на людях». Нам представляется более точной и справедливой эпитафия Екатерине, которую составил А.С. Пушкин…
«Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России, – писал он. – Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве… Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностию пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения вовсе не известных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста всё крало и всё было продажно. Таким образом развратная государыня развратила и свое государство».
Эти слова о развратной государыне, развратившей и свое государство, и есть, наверное, самая точная оценка противоречивой эпохи Екатерины II.
Книга четвертая Павловичи (служение)
Признаюсь, я нахожу весьма приятным, что мироздание имеет некоторую прочность, некоторую устойчивость, что если люди имеют возможность делать глупости в настоящем, могут в своих мечтах и планах вертеть по-своему будущим, то они, по крайней мере, не могут изменить прошедшего. Среди тревог настоящего, среди опасений за будущее, что было бы с нами, если бы и наше прошедшее было делом сомнительным и ненадежным?
Н.Н. СтраховГлава первая Пророчества
В конце XVIII – начале XIX века в высшем свете необычайное распространение приобрело верчение столов и вызывание духов. Многим русским аристократам хотелось тогда заглянуть через эту замочную скважину в будущее… Но зачем ходить на спиритические сеансы, если будущее было распахнуто молитвенному сознанию…
1
«Буди ты новый Адам и древний отец Дадамей, и напиши яже видел еси; и скажи яже слышал еси. Но не всем скажи и не всем напиши, а токмо избранным моим и токмо святым моим; тем напиши, которые могут вместить наши словеса и наша наказания. Тем и скажи и напиши. И прочая таковая многая к нему глаголаша»…
Такие голоса услышал 1 ноября 1787 года тридцатилетний тульский крестьянин Василий Васильев, и продолжалось это видение более тридцати часов…
До этого жизнь Василия Васильева была достаточно обыкновенна. Хотя, как утверждает автор его биографии, «больше у него было внимания о Божестве и о Божественной судьбе», но родители, крестьяне деревни Окулово Алексенского уезда Тульской губернии, недолго думая, быстро отыскали сыну лекарство от «задумчивости».
В семнадцать лет они женили его, и очень скоро Василий сам стал отцом троих сыновей. Теперь в своем Окулове Василий жил мало, освоив плотницкое ремесло, «шатался по разным городам»…
Неведомо когда Василий принял монашеский постриг и превратился в инока Авеля.
Амвросий, митрополит Петербургский, уведомил 19 марта 1800 года генерал-прокурора Обольянинова о крестьянине Васильеве, постриженном в декабре 1796 года в Александро-Невской лавре с наречением ему имени Авеля и сосланном в 1798 году в Валаамский монастырь, где он засел за сочинение прорицательных тетрадей.
Из этого послания следует, что пострижение Авеля состоялось много лет спустя после того, как он стал называть себя Авелем.
Кроме того, существует предание, что еще осенью 1785 года Василий Васильев появился в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре и попросил настоятеля дозволить ему пожить здесь.
2
Игумен Назарий принял двадцативосьмилетнего странника, однако через год Авель отпросился у игумена в «пустынь», в «место уединенное», поселился отшельником неподалеку, в скиту, чтобы принять «попустительство искусов великих и превеликих».
Но и в этой версии не все сходится… Едва ли пострижение в монахи в Валаамском монастыре могло произойти так быстро, а главное, игумен Назарий был чрезвычайно опытным старцем, чтобы отпускать новоначального брата на пустынное жительство.
Хотя, может быть, потому и отпустил Назарий Авеля в пустынь, что был прозорлив и духовными очами прозирал, что назначено совершить Авелю.
Как бы то ни было, но после тридцатичасового видения Авеля, 1 ноября 1787 года, велено ему было выйти из пустыни в монастырь.
«И пришел он в монастырь того же года, месяца февраля в первое число и вшел в церковь Успения Пресвятыя Богородицы. И стал посреди церкви, весь исполнен умиления и радости, взирая на красоту церковную и на образ Божией Матери… внидя во внутренняя его; и соединился с ним, якобы един… человек. И начал в нем и им делать и действовать, якобы природным своим естеством; и дотоле действоваша в нем, дондеже всему его изучи и всему его научи… и вселися в сосуд, который на то уготован еще издревле. И от того время отец Авель стал вся познать и вся разумевать: наставляя его и вразумляя всей мудрости и всей премудрости».
И «с того убо время начал писать и сказывать, что кому вместно».
Но уже не на Валааме писал и сказывал Авель, а в Костроме, в Николо-Бабаевском монастыре на Волге…
3
Зимой 1796 года инок Николо-Бабаевского монастыря Авель показал монаху Аркадию книгу, в которой было написано о царской фамилии.
Аркадий донес о книге настоятелю и тот, прочитав, что 6 ноября нынешнего года матушка-государыня императрица Екатерина Алексеевна непременно помрет, немедленно отправил книгу и ее сочинителя по инстанциям.
Неизвестно, писал ли Авель, что императрицу хватит удар, когда она будет сидеть на ночном горшке, но все равно предсказание чрезвычайно разгневало петербургских чиновников.
– Како ты, злая глава, смел писать такие титлы на земного бога?! – кричал на костромского пророка обер-прокурор Сената генерал А.Н. Самойлов. – Кто научил тебя писать о подобных секретах?!
– Меня научил писать сию книгу Тот, Кто сотворил небо и землю и вся иже в них, – отвечал Авель. – Тот же повелел мне и все секреты оставлять…
Обер-прокурор направил Авеля в Тайную экспедицию.
Там пророка допрашивал «коллежский советник и кавалер» Александр Макаров.
Запись допроса сохранилась. Любопытно, что начался допрос вопросом самого Авеля.
– Есть ли Бог и есть ли диавол? – спросил он у своего следователя. – И признаешь ли ты их?
– Тебе хочется знать, есть ли Бог и есть ли диавол и признаются ли они от нас? – переспросил Макаров. – На сие тебе ответствуется, что в Бога мы веруем и по Священному Писанию не отвергаем бытия и диавола; таковые твои вопросы, которых бы тебе делать отнюдь сметь не должно, удовлетворяются из одного снисхождения, в чаянии, что ты, конечно, сею благосклонностью будешь убежден и дашь ясное и точное на требуемое от тебя сведение и не напишешь такой пустоши, каковую ты прислал. Если же и за сим будешь ты притворствовать и не отвечать на то, что тебя спрашивают, то должен ты уже на себя самого пенять, когда жребий твой нынешний переменится в несноснейший и ты доведешь себя до изнурения и самого истязания…
Доводить себя до изнурения и самого истязания Авель не стал и подробно рассказал, что крещен в веру греческого исповедания, которую содержа повинуется всем церковным преданиям и общественным положениям; женат, детей имеет троих сыновей; женат против воли и для того в своем селении жил мало, а всегда шатался по разным городам.
– Когда ты говоришь, что женат против воли и хаживал по разным местам, то где именно и в чем ты упражнялся? – спросил Макаров. – И какое имея пропитание, а домашним – пособие?
– Когда мне было еще десять лет от роду, то и начал мыслить об отсутствии из дому отца своего с тем, чтобы идти куда-либо в пустыню на службу Богу; а притом, слышав во Евангелии Христа Спасителя слово: «Аще кто оставит отца своего и матерь, жену и чада и вся имени Моего рода, то сторицею вся приимет и вселится в царствии небесном», внемля сему, вячше начал о том думать и искал случая о исполнении своего намерения. Будучи же семнадцати лет, тогда отец принудил жениться, а по прошествии несколько тому времени начал обучаться российской грамоте, а потом учился и плотничной работе.
– Откуда был глас и в чем он состоял?
– Когда был в пустыне Валаамской, был из воздуха глас, яко боговидцу Моисею пророку и якобы изречено тако: иди и скажи северной царице Екатерине Алексеевне, иди и рцы ей всю истину, еже аз тебе заповедую…
– Для чего внес в книгу свою такие слова, которые касаются Ея Величества и именно, якобы на нее сын восстанет и прочее, и как ты разумел их? – задал Макаров главный вопрос.
– На сие ответствую, – ответил Авель, – что восстание есть двоякое: иное делом, а иное словом и мыслию, и утверждаю под смертной казнью, что я восстание в книге своей разумел словом и мыслию; признаюся чистосердечно, что сам сии слова написал потому, что он, то есть сын, есть человек подобострастен, как и мы.
4
Когда императрице доложили об итогах допроса, Екатерина II спокойно выслушала пророчества Авеля, но когда услышала, что умрет 6 ноября нынешнего года, впала в истерику.
Скоро появился указ:
«Поелику в Тайной экспедиции по следствию оказалось, что крестьянин Василий Васильев неистовую книгу сочинял из самолюбия и мнимой похвалы от простых людей, что в непросвещенных могло бы произвести колеблемость и самое неустройство, а паче что осмелился он вместить тут дерзновеннейшие и самые оскорбительные слова, касающиеся до пресветлейшей особы Ее Императорского Величества и высочайшего Ея Величества дома, в чем и учинил собственноручное признание, а за сие дерзновение и буйственность, яко богохульник и оскорбитель высочайшей власти по государственным законам заслуживает смертную казнь; но Ее Императорское Величество, облегчая строгость законных предписаний, указать соизволила оного Василия Васильева, вместо заслуженного ему наказания, посадить в Шлиссельбургскую крепость, вследствие чего и отправить при ордере к тамошнему коменданту полковнику Колюбякину, за присмотром, с приказанием содержать его под крепчайшим караулом так, чтобы он ни с кем не сообщался, ни разговоров никаких не имел; на пищу же производить ему по десяти копеек в каждый день, а вышесказанные, писанные им бумаги запечатать печатью генерал-прокурору, хранить в Тайной экспедиции».
Монах Авель. Гравюра начала XIX в.
9 марта Авеля разместили на пожизненное заключение в секретной камере номер двадцать два. Здесь, в Шлиссельбургской крепости, и провел узник десять месяцев и десять дней, пока императрицу не нашли свалившеюся с ночного горшка на полу будуара. Государыню поразил удар, и она скончалась, как и предсказал Авель, на следующий день – 6 ноября 1796 года…
Очень скоро «зело престрашная книга» монаха Авеля была показана императору Павлу.
Прочитав ее, Павел повелел отыскать «столь зрячего провидца».
5
Император Павел поначалу благоволил пророку.
Известно, что в новый 1797 год Василий (Авель) передал ему через князя Куракина письмо следующего содержания:
«Ваше Императорское Величество, всемилостивейший Государь! С сим, с новонаступившим годом усердно поздравляю: да даст Господь Бог вам оный, а по оном и многие богоугодно и душеспасительно препроводить.
Сердечно чувствую высокомонаршия ваши ко мне недостойному сказуемые, неописанные милости, коих по гроб мой забыть не могу. Осмеливаюсь священную особу вашу просить о следующем и о последнем: 1) Благоволите указом не в продолжительном времени посвятить меня в иеромонашеский чин, дабы я мог стояти во церкви у престола Божия и приносити Всевышнему Существу жертву чистую и непорочную за вашу особу и за всю вашу царскую фамилию, да даст вам Бог дни благоприятны и времена спасительны и всегда победу и одоление на враги и супостаты; 2) Егда меня заключили на вечное житие в Шлиссельбургскую крепость и дал я обещание Богу такое: егда отсюда освободят, и схожу в Иерусалим поклониться Гробу Господню и облобызать стопы, место ног Его; 3) Чтоб я был допущен лично к Вашему Императорскому Величеству воздать вам достодолжную благодарность и облобызать вашу дражайшую десницу и буду почитать себя счастливым; 4) Благоволите вы мне объяснить на бумаге, за что меня набольше посадил Самойлов в крепость, в чем остаюсь в ожидании благонадежным».
Тем не менее и при Павле Авель недолго гулял на свободе.
26 мая 1800 года, как следует из донесения генерала Макарова, Авель был «привезен исправно и посажен в каземат в равелине».
«Он, кажется, только колобродит, – доносил генерал, – и враки его ничего более не значат; а между тем думает мнимыми пророчествами и сновидениями выманить что-нибудь; нрава неспокойного».
Через два дня Авель написал митрополиту Амвросию: «Я, нижайший монах Авель, обошел все страны и пустыни, был и в царских палатах, и в великолепных чертогах и видел в них дивная и предивная, а наипаче видел и обрел в пустынных местах великия и тайныя и всему роду полезная; того ради, ваше высокопреосвященство, желаю я с вами видеться и духовно с вами поговорить и оныя пустынныя тайны вам показать. Прошу ваших святых молитв».
Уже на следующий день, 29 мая, митрополит Петербургский принимает Авеля, беседует с ним и в тот же день сообщает письменно Обольянинову: «Монах Авель по записке своей, в монастыре им написанной, открыл мне. Оное его открытие, им самим написанное, на рассмотрение ваше при сем прилагаю. Из разговора же я ничего достойного внимания не нашел, кроме открывающегося в нем помешательства в уме, ханжества и рассказов о своих тайновидениях, от которых пустынники даже в страх приходят. Впрочем, Бог весть».
6
Как и предсказывал Авель, император Павел закончил свой земной путь 11 марта 1801 года, а на престол взошел его убийца – император Александр I.
Он приказал послать Авеля в Соловецкий монастырь.
Здесь была составлена третья «зело престрашная книга», в которой рассказывалось о взятии и сожжении Москвы французами.
Как только исполнилось и это предсказание, 1 июля 1813 года Авель был выпущен из Соловецкого монастыря и поселился в Троице-Сергиевой лавре, жил он тихо, разговаривать не любил. К нему повадились было ездить московские барыни, донимавшие Авеля вопросами о дочерях да женихах, но Авель отвечал, что он не провидец.
События последних лет жизни пророка описаны на страницах журнала «Русская старина».
«Так, в 1817 году, после странствий, Авель по распоряжению императора Александра I был определен в Высотский монастырь под Серпуховом. Здесь он провел несколько лет под строгим присмотром монастырских властей, все высказывания его неукоснительно записывались. Авель, всегда смиренный, терпел долго и вдруг, однако, через несколько месяцев после кончины Александра I и воцарения Николая I потихоньку собрал свои вещи и скрылся из монастыря в неизвестном направлении, по некоторым данным – на свою родину в деревню Окулово Тульской губернии».
Если бы арестантам, подобно генералам, выдавали эполеты с вензелями императоров, при которых довелось им сидеть, у Авеля не хватило бы и места на таких эполетах.
Он сидел при Екатерине II, при Павле, при Александре I.
Вот и при Николае I ему не удалось никуда сбежать, его изловили и заточили по приказу нового императора в Спасо-Евфимьевом монастыре в Суздале.
При Николае I и скончался он в тесной арестантской камере 29 ноября 1841 года, унося в могилу самую свою «зело престрашную книгу» судеб русских императоров…
7
Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский, живший примерно в одни годы с монахом Авелем, «зело престрашных книг» предсказаний не составлял, но будущее было открыто ему едва ли не яснее, чем Авелю.
Когда граф Николая Александрович Протасов, назначенный Николаем I в 1835 году обер-прокурором Святейшего Синода, преобразовал его в министерство с подчиненными лично ему департаментами и тем самым освободил архиереев от бремени, как он издевательски выражался, руководства Русской Православной Церковью, митрополит Филарет написал Николаю I письмо…
«Государь! Св. Церковь не есть человеческое учреждение, это есть Царствие Божие земле, Царство вечной Истины и Добродетели, основанное Сыном Божиим… Ставить в видимом средоточии Церкви человека, епископской хиротонией не уполномоченного к тому Божественной Главой Церкви – что это значит, как не заменять Божественный Дух и Жизнь греховным человеческим элементом, не могущим ничего сообщить, ни распространить вокруг себя, кроме гниения ума и омертвения сердца?
Государь, всмотритесь, против кого направлена введенная Протасовым администрация Церкви? Ни Вы, ни Ваш родитель, без сомнения, никогда не желали и не желаете такого страшного извращения Царства Божия в Вашем государстве. Но оно совершается пред очами Вашими и нашими!
Государь! И Вы, и мы принадлежим к этому Царству, и Вы, и мы должны слушать Господа нашего Иисуса Христа, Царя и Правителя сего Царства. Господь завещал сие Царство Апостолам и преемникам их (Лк. 22: 29). Зная это, никто, кроме одних отступников, никогда не дерзал возлагать своих рук на Достояние Божие. Россия также всегда твердо держалась порядка, утвержденного Иисусом Христом и существовавшего в Церкви с времен Апостольских. Митрополиты и епископы пасли в ней Церковь. В конце XVI столетия митрополит наименован был Патриархом. Имя переменилось, но благодать в управлении Церковью оставалась так же неразлучною, как и прежде, ибо это было епископское лицо; посредством Таинства хиротонии сделавшееся органом Духа Святого в действовании на Церковь»…
Как отмечает публикатор этого письма С. Шевченко, в черновых набросках вслед за этими словами шло пророческое предостережение о судьбе царского престола в России: «Что ж, Вам удалось поставить на колени Российскую Православную Церковь. Но помните, следующая очередь Вашего престола».
Страшное и грозное предсказание… Вернее, не предсказание, а констатация гибельности того пути, на который столкнуло Россию своеволие Петра I и его преемников, свернуть с которого не удавалось и сыновьям императора Павла. Публикатор считает, что митрополит Филарет не решился вставить это предсказание в чистовик письма, считая, что оно заденет самолюбие монарха, однако нам представляется, что святитель считал своим долгом не предупредить императора о будущем, а побудить его предотвратить это будущее…
«Государь! – обращаясь к императору, заклинал святитель. – Не против людей возвышаем мы свой голос. Нам равно любезны все люди, к какому бы классу они ни принадлежали. Мы восстаем против начала мирского, вытесняющего собою начало Божественное в отечественной Церкви…
Государь! Подобное состояние Св. Церкви не может больше продолжаться. Если православные миряне внимательно всмотрятся в нынешнюю администрацию Церкви, то отпадение от нее будет не десятками, а тысячами и миллионами лиц. Раскол, естественно, должен увеличиться. Епископы, будучи законными блюстителями Божественных сокровищ, дарованных человечеству, подавляются игом чужой власти в отправлении своей деятельности, пока хотя безмолвствуют, но не могут не сознавать незаконности этой власти…
Государь! Протасов сделался помещиком над архиереями, все архиереи стали с того времени крепостными рабами обер-прокурора и его свиты. Окажите справедливость Св. Церкви, справедливость, в которой Вы не отказываете последнему подданному! И мы ваши поданные! Мы не были ни преступниками, ни изменниками царской власти. Государь, чем более будет укореняться это постыдное иго, тяготеющее над духовенством, тем глубже будет входить расстройство в жизнь народа. Пощадите своих подданных! Устраните своею отеческою благостию печальные последствия существующего зла»…
Увы…
Ни императору Павлу, ни его сыновьям, ни потомкам Николая не удалось устранить своею отеческою благостию печальные последствия существующего зла.
И тогда и исполнились страшные пророчества…
8
Любопытно, что пророческое предсказание Авеля «о судьбах державы Российской» и основанной Павлом династии еще при жизни основателя было вложено в конверт с наложением личной печати императора Павла I и с его собственноручной надписью: «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины».
«В Гатчинском дворце, постоянном местопребывании императора Павла I, когда он был наследником, в анфиладе зал была одна небольшая зала, и в ней посередине на пьедестале стоял довольно большой узорчатый ларец с затейливыми украшениями, – рассказывала обер-камерфрау императрицы Александры Феодоровны М.Ф. Герингер. – Ларец был заперт на ключ и опечатан. Вокруг ларца на четырех столбиках, на кольцах, был протянут толстый красный шелковый шнур, преграждавший к нему доступ зрителю. Было известно, что в этом ларце хранится нечто, что было положено вдовой Павла I, императрицей Марией Феодоровной, и что ею было завещано открыть ларец и вынуть в нем хранящееся только тогда, когда исполнится сто лет со дня кончины императора Павла I, и притом только тому, кто в тот год будет занимать царский престол в России».
Согласно завещанию, сто лет спустя, 11 марта 1901 года, император Николай II с императрицей Александрой Федоровной, министром двора и лицами свиты прибыли в Гатчинский дворец и после панихиды по императору Павлу вскрыли пакет…
Еще утром, как свидетельствует М.Ф. Герингер, собираясь из Царскосельского Александровского дворца ехать в Гатчину, государь и государыня были веселы. К предстоящей поездке они относились как к праздничной прогулке, обещавшей доставить им незаурядное развлечение.
Веселыми вошли они в Гатчинский дворец, а вышли удрученными.
Точного содержания предсказания никто не знает, но после этой поездки Николай II стал поминать о 1918 годе как о роковом годе и для него лично, и для династии, когда стало ясно, что не удается и ему устранить своею отеческою благостию печальные последствия посеянного первыми Романовыми зла, когда ясно стало, что придется для этого принять мученический венец.
9
Возможно, что запечатанное императором Павлом на сто лет предсказание Авеля как-то было связано с его пророчеством, помещенным в «Житии», которое было напечатано в журнале «Русская старина»…
«Сей отец Авель родился в северных странах, в московских пределах, в Тульской губернии, деревня Окулово, приход церкви Ильи-пророка. Рождение сего монаха Авеля в лето от Адама семь тысяч и двести шестьдесят и в пять годов, а от Бога Слова – тысяча и семьсот пятьдесят и в семь годов. Зачатия ему было и основание месяца июня и месяца сентября в пятое число; а изображение ему и рождение месяца декабря и марта в самое равноденствие; и дано имя ему, якоже и всем человекам, марта седьмого числа. Жизни отцу Авелю от Бога положено восемьдесят и три года и четыре месяца; а потом плоть и дух его обновятся, и душа его изобразится яко ангел и яжо архангел… И воцарится… на тысячу годов… царство восстанет… в то убо время воцарятся… вси избранные его и вси святые его. И процарствуют с ним тысячу и пятьдесят годов, и будет в то время по всей земле стадо едино и пастырь в них един… И процарствует тако, как выше сказано, тысячу и пятьдесят годов; и будет в то время от Адама восемь тысяч и четыреста годов, потом же мертвые восстанут и живые обновятся; и будет всем решение и всем разделение: которые воскреснут в жизнь вечную и в жизнь бессмертную, а которые предадятся смерти и тлению и в вечную погибель; а прочая о сем в других книгах. А мы ныне не возвратимся на первое и окончаем жизнь и житие отца Авеля. Его жизнь достойна ужаса и удивления…»
Срок, когда «мертвые восстанут и живые обновятся, и будет всем решение и всем разделение: которые воскреснут в жизнь вечную и в жизнь бессмертную, а которые предадятся смерти и тлению и в вечную погибель…», еще не наступил…
По Авелю этот срок падает на 2892 год.
Еще почти целое тысячелетие до него…
Глава вторая Отец (император Павел)
Его рождение воспел в своей оде Михаил Васильевич Ломоносов…
Ему исполнилось год, когда была издана первая в стране грамматика русского языка…
Два – когда открылся первый русский государственный театр…
Три – когда основали Академию художеств…
Будущий император рос под грохот победных залпов Семилетней войны: взят Кенигсберг, пал Берлин, впервые прозвучало еще незнакомое имя – Суворов!
Павел был первым русским императором, которого готовили к этому титулу с первого дня жизни.
В душных, жарко натопленных покоях императрицы Елизаветы Петровны, где Павел провел свои первые годы, считалось, что с его рождением восстановится запутанный Петром I порядок престолонаследия, закончится чехарда дворцовых переворотов, навсегда будет ограждена страна от засилья всевластных временщиков…
Считалось, что с рождением Павла завершается миссия Екатерины II в Русской империи…
«Только что спеленали его, – вспоминала потом она, – как явился по приказанию императрицы духовник ея и нарек ребенку имя Павла, после чего императрица тотчас велела повивальной бабушке взять его и нести за собою, а я осталась на родильной постели»…
Ребенка навсегда отняли от матери, и теперь Екатерина «могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать о его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель и уложив в колыбель, обитую мехом черно-бурой лисицы»…
Во второй раз Екатерине показали сына спустя шесть недель, в третий раз – уже весной…
Ее ребенок принадлежал Российской империи.
Павлу было четыре года, когда воспитателем ему назначили Федора Дмитриевича Бехтеева.
В первый же день вступления в должность Федор Дмитриевич посадил четырехлетнего великого князя учиться грамоте. Вместе с Павлом сели за парту и прислуживавший Павлу дворянин Иван Иванович Ахлебин и мамушка Анна Даниловна. Они притворились, что не умеют грамоте, и будут учиться вместе с великим князем.
С четырех лет Павла стали одевать в такое же, как у взрослых, платье и парик. Парик Павел носил с тех пор каждый день до конца жизни…
Конечно, никак не связано с ребенком, надевшим в четыре года парик и взрослое платье, открытие первого медицинского факультета в России или изобретение солдатским сыном Иваном Ползуновым первой в мире паровой машины, но вместе с тем связано. Самим фактом своего рождения Павел создавал уверенность в завтрашнем дне для всей страны, ту уверенность, без которой не могло быть ни медицинского факультета, ни Ивана Ползунова со своей машиной.
Многое, что делалось для Павла, делалось для всей страны и в прямом, и в переносном смысле. Он был еще ребенком, но с его именем уже прочно связывалось само это понятие – первое.
Ему была сделана первая в стране детская прививка от оспы, а первый русский учебник по физике назывался «Краткие понятия о физике для употребления Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Павла Петровича».
1
Надеждам страны на спокойную уверенную жизнь не суждено было сбыться…
25 декабря 1761 года умерла дочь Петра Великого – императрица Елизавета Петровна.
В этот день обрывается детство Павла. На русский престол взошел Петр III, у которого было очень много чести и своеобразного благородства и очень мало политического опыта и ума.
Сводя на нет все жертвы, понесенные Россией в Семилетней войне, Петр III немедленно заключил мир с Пруссией, вернул без всяких условий взятые русскими войсками города.
«Я никогда не в состоянии заплатить за все, чем вам обязан… – писал ему Фридрих II. – Я отчаялся бы в своем положении, но в величайшем из государей Европы нахожу еще верного друга: расчетам политики он предпочитал чувство чести».
Через двести тридцать лет подобные хвалебные послания, облеченные в нобелевские премии и почетные звания, будут получать и другие руководители нашего государства, и сейчас мы уже на собственном опыте знаем цену этим похвалам, расточаемым за предательство своей страны.
Как и Михаилу Горбачеву два с лишним века спустя, похвалы кружили слабую голову Петра III. Продолжая предпочитать «расчетам политики чувство чести», новый император немедленно возвратил из ссылки Миниха и Бирона, приказал очистить от икон православные храмы…
И вот через шесть месяцев его жена Екатерина Алексеевна, поддержанная гвардейскими полками, произвела дворцовый переворот.
В ту ночь на 27 июня 1762 года Павла Петровича внезапно разбудили и под охраной перевезли в Зимний дворец. Ребенку было восемь лет, и внезапный ночной переезд напугал его. Новый воспитатель его, генерал Никита Иванович Панин, провел с ним в постели всю ночь, чтобы успокоить его.
Наутро Павла повезли к Казанскому собору, где его мать Екатерина II была провозглашена самодержавной императрицей, а он объявлен наследником престола.
А через десять дней Павел узнал о смерти отца-императора…
Все ошибки и преступления перед страной, совершенные Петром III, не имели и не могли иметь отношения к Павлу, если бы не его мать, которая, кажется, уже к тому времени начала ненавидеть своего сына…
Павлу было десять лет, когда Екатерина II, собравшись замуж за Григория Орлова, начала распускать слухи: дескать, великий князь неизлечимо болен и потому не способен наследовать престол.
Воспитатель великого князя граф Никита Иванович Панин посадил тогда мальчика в седло и проскакал с ним двенадцать верст, чтобы доказать вздорность этих слухов.
Пригнувшись к гриве скакуна, Павел мчался следом за Паниным по раскисшей от весенней грязи дороге, даже не догадываясь, какой приз поставлен на эту скачку.
Ведь уже родился у Екатерины II сын, прозванный в дальнейшем графом Бобринским, и если бы не выдержал Павел испытания, устроенного Никитой Ивановичем, очевидно, Екатерина не успокоилась бы, сделала бы все, чтобы возвести графа Бобринского на престол.
Ту скачку Павел выиграл, но еще тридцать три долгих года отделяли его от ноябрьского вечера, когда примчится он из Гатчины в Зимний дворец, чтобы наконец-то занять узурпированный матерью собственный престол…
Жестокое убийство отца, интриги вокруг престола, в которые втягивали и малолетнего Павла, не могли не подействовать на его характер. Несчастливая звезда российских императоров, кажется, тогда и взошла над его судьбой…
Современники вспоминают, что уже в десять лет взгляд Павла сделался схожим со взглядом старика. Напряженная и непосильная для ребенка духовная работа изнуряла его тело и ум.
Быть может, если бы у Павла появились товарищи-сверстники, детские игры и игрушки, он сумел бы позабыть о разыгравшейся трагедии, но императрица Екатерина II, уже привыкшая видеть в сыне не ребенка, а соперника, как к взрослому и относилась к нему.
Нет-нет! Ничего похожего на «голштинскую педагогию» она не применяла. У Павла было все.
Еще восьми лет от роду Павла пожаловали полковником в лейб-кирасирский полк, а в десять – назначили генерал-адмиралом Российского флота. Хотя Екатерина II и опасалась Павла, она никогда не пользовалась своей властью, чтобы досадить ему или как-то стеснить. Просто она забывала, что ее соперник – ее сын и, главное, что это вообще еще ребенок.
Поэтому-то так мало напоминали богато обставленные покои великого князя детскую… Как, впрочем, и вся жизнь будущего императора в те годы очень мало напоминала детство.
В 1764 году Иван Иванович Бецкой составил «Общий Регламент для воспитания детей обоего пола». Опираясь на модные тогда идеи Жан-Жака Руссо и набирающих силу масонов, в регламенте рекомендовалось удалять детей из естественной среды, из общества, из семьи и до двадцати лет держать в узком кругу воспитателей.
Нельзя сказать, что все правила регламента были осуществлены в воспитании Павла, но общий дух его пронизывал детство будущего императора.
И, перечитывая записки учителя Павла – полковника Семена Прошина, ясно видишь это…
«1764 год. 20 сентября. День рождения Его Императорского Высочества: минуло десять лет…»
С утра Павел ходил с матерью-императрицей к обедне, после выслушал проповедь отца Платона и поплакал…
Возвратившись к себе, принимал поздравления от придворных, потом позавтракал…
Потом в одиночестве играл в бильярд.
В шесть часов отправился на бал.
В десятом часу лег опочивать.
Вот такой день…
Еще один день одиночества и холода, еще один день взрослого человека десяти лет от роду.
Екатерина II не жалела денег на Павла. Не жалела она денег и на игрушки для него, но игрушки эти точно соответствовали нешуточным званиям, возложенным на Павла.
2 октября 1764 года в приемной зале у Павла появился четырехметровый корабль, сделанный мастером Качаловым. Все было настоящим на этом корабле. Все снасти, вся палубная обстановка. Это и был настоящий, только уменьшенный корабль. Его можно было разглядывать, можно было изучать по нему устройство парусного оснащения, но играть этим кораблем было нельзя.
Павел забрал с корабля шлюпку и поставил на стол. Установил парус, потом разложил весла… Шлюпка тоже была настоящей, только притворившейся игрушкой, и скоро Павел позабыл и про нее.
На следующий день, как пишет С. Прошин, «Его Высочество изволил разбирать и укладывать сигнальные флаги у корабля своего».
Вот и все игры…
А другие «игрушки»?..
«7 октября. Незадолго перед обедом поднес Его Высочеству артиллерийский один офицер родом грузинец князь Чухлыманов две духовые гаубицы и две пушки. В зале делали им пробу. Стреляли деревянными ядрами».
Пушечки эти, изготовленные в 1756 году мастером Даниловым в масштабе один к двенадцати, и сейчас хранятся в Военно-морском музее Санкт-Петербурга. Но о том, как играл этими пушечками Павел, как и тем кораблем, что несколько дней простоял в приемной зале, кроме короткой записи Прошина не найти ни полслова. Это более чем странно, ведь Павел – первый русский (опять первый!) император, дни детства которого расписаны почти по минутам.
А может быть, потому и нет записей, что не играл…
Может, потому и не играл, что ясно понимал – всё это не игрушки…
И корабль, притворившийся игрушкой, и гаубицы, и звания, возложенные на него…
Перечитывая дневники Семена Прошина, ясно ощущаешь диссонанс, пронизывающий все детство Павла.
«Граф Иван Григорьевич читал Его Высочеству рапорт от капитана Плещеева из Средиземного моря».
И тут же, почти без всякого перехода:
«Великий князь изволил говорить, что в республике (так Павел называл свою птичню. – Н.К.) снегири представляют стариков, овсянки старух, чижики буянов, а зяблики кокеток…»
В одной из комнат у великого князя была сделана решетчатая птичня, в другой стоял токарный станок.
Словно бы пытаясь позабыть о страшном взрослом мире, где любовник матери убил его отца, о том мире, из которого приносят ему рапорты боевых офицеров флота и притворяющиеся игрушками взрослые вещи, Павел сам придумывает себе игры.
…Ему казалось, что при нем находится особый конный отряд из дворян в двести человек и в этом отряде он состоит ефрейтором. Часто в виде игры он бегал, размахивал руками, давал приказы – производил упражнения с воображаемым отрядом.
…Рассматривая планы и виды Парижа, великий князь воображал себя полковником и производил распределение полка по местности.
Эти чуть жутковатые – они совершались в полном одиночестве – игры пугали воспитателей Павла, хотя, возможно, они и понимали, что Павел обращается к ним, чтобы хоть как-то освоиться в окружающем взрослом мире, «проходя по всем ступеням службы», не начиная ее с чина генерал-адмирала Российского флота.
Кстати, по сообщению Семена Прошина, в своем воображаемом конном отряде дворян Павел «дослужился» только до чина вахмистра.
Эти одинокие игры одиннадцатилетнего мальчика, заполняя разрыв в самой методике воспитания, чрезвычайно развивали и обостряли болезненную фантазию и мечтательность.
Однажды Прошин застал Павла в задумчивости сидящим за столом, на котором стояла стеклянная пирамида.
– Чем вы заняты, Ваше Высочество? – спросил он.
– Ах! – вздыхая, ответил Павел. – Я так в свой корабль вгляделся, что и эта пирамида кораблем мне кажется, когда немного призадумаюсь…
Потом он отодвинул пирамидку и приказал «принести себе из столярной пилку» и долго пилил что-то. Потом лег опочивать…
Размышляя о характере своего воспитанника, Семен Прошин записывал:
«У Его Высочества ужасная привычка, чтобы спешить во всем: спешить вставать, спешить кушать, спешить опочивать ложиться… Гораздо легче Его Высочеству понравиться, нежели навсегда соблюсти посредственную, не токмо великую и горячую от него, дружбу и милость»[154].
Великий князь, свидетельствовал архимандрит Платон, «наружностью всякого, в глаза бросающегося более прельщался, нежели углублялся во внутренность».
О нервности, непредугадываемости характера Павла пишет и преподаватель астрономии и физики Франц Иванович Эпиниус: «Голова у него умная, но в ней есть какая-то машинка, которая держится на ниточке – порвется эта ниточка, машинка завернется и тут конец уму и рассудку…»
Странно читать эти записи, потому что беспрепятственно, на много лет вперед различают воспитатели Павла его будущую судьбу. И потому и различают, что уже тогда печать ее отчетливо лежала на лице воспитанника, на его характере… Потому что и сам он, кажется, уже тогда очень ясно различал вперед свою собственную судьбу.
«…Выслушав историю Мальтийского ордена, Великий князь вообразил себя Мальтийским кавалером», – записывал Семен Прошин.
Так и рос Павел.
Современники утверждают, что народ всегда радостно встречал великого князя. В нем, а не в немке Екатерине видели законного наследника престола.
Павлу было двенадцать лет, когда отношения с матерью-императрицей окончательно испортились.
Случилось это 9 июля 1766 года, когда Павел отказался принимать участие в праздновании годовщины восшествия Екатерины II на престол.
Павел считал этот день годовщиной убийства отца.
Он спрятался.
Ночью поднялся шум – братья Орловы обыскивали петергофский парк и дворец.
Забившись в темную каморку, Павел прислушивался к грохоту сапог и думал, что его сейчас найдут и убьют, как убили отца.
И не об этой ли страшной детской ночи вспоминал русский император Павел в холодном, наполненном, как и прошедшее детство, одиночеством Михайловском замке, когда накинул Яков Скарятин на его шею удавку?..
2
Впрочем, Павел и жил всю свою жизнь как будто с удавкой на шее.
20 августа 1772 года ему исполнилось восемнадцать лет…
Он достиг совершеннолетия, но мать не уступила престол, хотя клялась, совершая переворот, сделать это!
Более того…
Когда Екатерина заметила, что великая княгиня Наталья Алексеевна[155] внушает мужу мысли: дескать, у него больше прав на престол, нежели у матери, она нашла возможность расправиться с дерзкой супротивницей.
Когда великой княгине пришла пора рожать, пять дней не отходила императрица-мать от ее постели, но на ноги роженица больше не встала.
И ослушницу тогда Екатерина II покарала, и сына на время отвлекла от мыслей о престоле.
– Мертвых не воскресить, – сказала ему императрица-мать, – надо думать о живых. Разве оттого, что воображали себя счастливым, но потеряли эту уверенность, следует отчаиваться в возможности снова возвратить ее? Итак… Я предлагаю вам, Ваше Величество, станем искать эту другую…
– Кто она? – спросил Павел, пораженный, что и мать уже подыскала ему новую невесту. – Какова она?
– Кроткая, хорошенькая, прелестная… Одним словом, сокровище: сокровище приносит с собою радость!
Вюртембергская принцесса София-Доротея, с которой Павел познакомился в Берлине, действительно понравилась ему. Принцесса показалась ему недурною собой, стройной. Была принцесса не застенчива, отвечала на вопросы умно и расторопно.
Павел одобрил выбор матери.
Мария Федоровна, вторая супруга Павла I (с портрета Ж.Л. Вуаля). 1794 г.
15 апреля 1776 года скончалась великая княгиня Наталья Алексеевна, а уже 26 сентября 1776 года состоялось бракосочетание великого князя с Софией-Доротеей, принявшей в православии имя Мария Федоровна…
Через год родился сын Александр, и Павел снова попытался расширить свое участие в управлении Российской империей, но в результате был вообще отстранен матерью от государственных дел.
Когда мать подарила ему в 1783 году Гатчину, Павел переехал туда, выстроил школу, больницу, четыре церкви для различных вероисповеданий, завел стеклянный и фарфоровый заводы, суконную фабрику и шляпную мастерскую.
Однако самым любимым делом Павла стало устройство своей гатчинской армии.
«Великий князь, в качестве генерал-адмирала, потребовал себе батальон морских солдат с несколькими орудиями, а как шеф кирасиров – эскадрон этого полка, чтобы образовать гарнизон Гатчины, – пишет в своих “Записках” Н.А. Саблуков. – Оба желания великого князя были исполнены и таким образом положено начало пресловутой “гатчинской армии”…
Батальон и эскадрон были разделены на мелкие отряды, из которых каждый изображал полк императорской гвардии. Все они были одеты в темно-зеленые мундиры и во всех отношениях напоминали собою прусских солдат.
Во всех гатчинских войсках офицерские должности были заняты людьми низкого происхождения, так как ни один порядочный человек (выделено мной. – Н.К.) не хотел служить в этих полках, где господствовала грубая прусская дисциплина…
Что это были за офицеры! Что за странные лица! Какие манеры! И как странно они говорили! Это были по большей части малороссы. Легко представить себе впечатление, которое произвели эти грубые бурбоны на общество, состоявшее из ста тридцати двух офицеров, принадлежавших к лучшим семьям русского дворянства»…
Екатерина не вмешивалась в гатчинские затеи, поскольку она уже окончательно решила устранить сына от правления, передав трон своему внуку Александру Павловичу.
Мы рассказывали, что после рождения великого князя Николая Павловича Екатерина пыталась привлечь на свою сторону и великую княгиню Марию Федоровну. И хотя та отказалась участвовать в этом предприятии, Екатерина своих хлопот не оставила.
Поэтому-то, когда 5 ноября 1796 года за обедом на мельнице Павлу доложили, что из Петербурга прибыл гонец со срочным донесением, великий князь помрачнел.
Какие срочные дела могли быть к нему у матери? Императрица могла, конечно, известить, решилась ли судьба брака великой княжны Александры Павловны со шведским королем, но вероятнее было, что посланец прибыл, чтобы арестовать его и – об этом давно ходили слухи – отвезти в замок Лоде…
– Що там таке? – выходя из-за стола, спросил Павел у гусара-малоросса, принесшего ему это известие.
– Шталмейстер граф Николай Александрович Зубов приихав, Ваше Высочество! – ответил гусар.
– Зубов? Брат Платона?! – Павел нахмурился. Похоже, что сбывались самые пессимистические прогнозы. Зачем, спрашивается, присылать к нему курьером брата всесильного князя Платона Александровича Зубова, последнего любовника матери? – А, богацько их?[156]
Гусар, вспомнив часто слышанную русскую пословицу, решил блеснуть знанием русского языка.
– Один, як пес, приихав, Ваше Высочество.
– Ну, с одним псом можно и справиться, – облегченно проговорил Павел и перекрестился.
Когда Павел узнал настоящую причину появления Николая Зубова в Гатчине, внезапный переход от ожидания ареста к ощущению себя самодержавным правителем вызвал такое сильное удушье, словно на горло накинули петлю. Лицо Павла побагровело, несколько мгновений новый император не мог произнести ни звука.
Он только мотнул головой, глядя на высокого, атлетически сложенного красавца, привезшего ему долгожданную весть.
Николай Зубов вежливо опустил глаза.
Еще не пришло время.
Еще больше четырех лет оставалось до той мартовской ночи, когда зажатой в кулаке табакеркой проломит Николай Зубов голову своего императора…
Наконец, Павел взял себя в руки и приказал закладывать карету…
Не прошло и получаса, как с супругой великой княгиней Марьей Федоровной помчался он в Петербург, навстречу судьбе.
«Проехав Чесменский дворец, наследник вышел из кареты, – пишет Ф.В. Ростопчин. – Я привлек его внимание на красоту ночи. Она была самая тихая и светлая; холода было не более 3 градусов, луна то показывалась из-за облаков, то опять скрывалась. Стихии, как бы в ожидании важной перемены, пребывали в молчании, и царствовала глубокая тишина. Говоря о погоде, я увидел, что наследник устремил взгляд свой на луну, и, при полном ее сиянии, мог я заметить, что глаза его наполнялись слезами, и даже текли слезы по лицу».
О чем думал в эти минуты Павел? Может быть, вспоминал, как везли его, восьмилетнего, июньской ночью 1762 года из Петергофа в Зимний дворец?
Или вспоминал грохот орловских сапог 9 июля 1766 года, когда он, Павел, забился в темную каморку, чтобы не принимать участия в праздновании годовщины восшествия матери на престол, а Орловы начали обыскивать дворец и парк?
Или думал о сне, который минувшей ночью приснился одновременно и ему, и великой княгине? Павел чувствовал в этом сне, что некая невидимая и сверхъестественная сила возносит его к небу. Он часто просыпался, засыпал и опять просыпался от повторения этого же сна. Приметив, что великая княгиня не спит, Павел рассказал ей о своем сновидении и узнал, что и она видела во сне то же самое и тем же самым была разбужена.
Перебросившись несколькими французскими фразами с Федором Васильевичем Ростопчиным, Павел приказал ехать дальше. Дорогою беспрерывно встречались посланные из Петербурга курьеры, они разворачивались назад, и теперь за каретой следовала длинная свита саней.
Около девяти часов вечера прибыли в Зимний дворец.
Великие князья Александр и Константин встретили Павла в мундирах своих гатчинских батальонов.
«Прием, ему сделанный, был уже в лице государя, а не наследника», – пишет Ф.В. Ростопчин.
Павел сразу же прошел к умиравшей матери, которая все еще лежала на полу. Расспросив медиков, есть ли надежда, и, получив отрицательный ответ, Павел приказал поднять мать на кровать и прошел с супругою в угольный кабинет, прилегавший к спальне Екатерины, где она незадолго до этого пила кофе и обдумывала, как составить указ об отрешении Павла от наследования престола.
Всю ночь Павел безвыходно провел во внутренних покоях императрицы, призывая в угольный кабинет тех, с кем хотел разговаривать.
Вызванные должны были проходить через спальню, где все еще шумно дышала императрица. Лицо ее было искажено то ли болью, то ли бессильной злобой. В кабинете тоже слышно было «воздыхание утробы» и хрипение умирающей Екатерины II. По временам из гортани ее извергалась темная мокрота…
В угольном кабинете той ночью Павел принял Алексея Андреевича Аракчеева, прискакавшего по его приказанию вслед за ним из Гатчины.
Воротник Алексея Андреевича забрызгало грязью от скорой езды, и великий князь Александр Павлович, узнав, что Аракчеев выехал из Гатчины в одном мундире, не имея с собой никаких вещей, повел его к себе и дал ему собственную рубашку.
Следом за Алексеем Андреевичем в приемных Зимнего дворца начали появляться гатчинцы в своих непривычных для екатерининских вельмож мундирах.
«Тотчас все приняло иной вид, зашумели шарфы, ботфорты, тесаки, – писал Г.Р. Державин, – и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом»…
Екатерина II еще дышала, когда Павел приказал собрать и запечатать бумаги, находившиеся в кабинете, и, как отмечено в камер-фурьерском журнале, «сам начав собирать оныя прежде всех».
Существует предание, что граф Александр Андреевич Безбородко, помогавший Павлу собирать бумаги, указал на пакет, перевязанный черною лентою. Павел вопросительно взглянул на Безбородко, тот молча кивнул на топившийся камин.
Павел бросил пакет в огонь. Считается, что в пакете было подписанное Екатериной завещание…
Кажется, только этот, перевязанный черною лентой пакет и связывал Екатерину Великую с земной жизнью.
Едва запылал он, объятый пламенем, как стихли хрипы императрицы. Искаженные то ли мукою, то ли бессильной злобою черты лица разгладились, и она превратилась в простую, правда, сильно ожиревшую немецкую старушку…
– Милостивые государи! – выйдя в дежурную комнату, объявил граф Самойлов. – Императрица Екатерина скончалась, а государь Павел Петрович изволил взойти на всероссийский престол.
«Никогда не забуду я этого дня и ночи, проведенных мною в карауле во дворце, – писал Н.А. Саблуков. – Что это была за суета, что за беготня вверх и вниз, взад и вперед! Какие странные костюмы! Какие противоречивые слухи! Императорское семейство то входило в комнату, в которой лежало тело покойной императрицы, то выходило из оной. Одни плакали и рыдали о понесенной потере, другие самонадеянно улыбались в ожидании получить хорошие места».
3
Павел занимал трон всего четыре с половиной года.
Вот его портрет, сделанный графиней Ливен, которая имела все основания не любить его…
«Император Павел был мал ростом. Черты лица имел некрасивые за исключением глаз, которые у него были очень красивы; выражение этих глаз, когда Павел не подпадал под власть гнева, было бесконечно доброе и приятное. В минуты же гнева вид у Павла был положительно устрашающий. Хотя фигура его была обделена грациею, он далеко не был лишен достоинства, обладал прекрасными манерами и был очень вежлив с женщинами; все это запечатлевало его особу истинным изяществом и легко обличало в нем дворянина и великого князя.
Он обладал литературною начитанностью и умом бойким и открытым, склонен был к шутке и веселью, любил искусство; французский язык и литературу знал в совершенстве, любил Францию, а нравы и вкусы этой страны воспринял в свои привычки. Разговоры он вел скачками, но всегда с непрестанным оживлением. Он знал толк в изощренных и деликатных оборотах речи. Его шутки никогда не носили дурного вкуса, и трудно себе представить что-либо более изящное, чем краткие милостивые слова, с которыми он обращался к окружающим в минуты благодушия.
Я говорю это по опыту, потому что мне не раз до и после замужества приходилось соприкасаться с императором. Он нередко наезжал в Смольный монастырь, где я воспитывалась; его забавляли игры маленьких девочек, и он охотно сам даже принимал в них участие. Я прекрасно помню, как однажды вечером в 1798 года я играла в жмурки с ним, последним королем Польским, принцем Конде и фельдмаршалом Суворовым; император тут проделал тысячу сумасбродств, но и в припадках веселости он ничем не нарушал приличий. В основе его характера лежало величие и благородство – великодушный враг, чудный друг, он умел прощать с величием, а свою вину или несправедливость исправлял с большой искренностью».
Но такие портреты Павла в дворянской историографии редкость.
Чаще Павла изображали в виде этакой копии его официального отца, императора Петра III.
Это ложь…
Павел совершенно не походил на Петра III.
И ничего похожего на «деяния» Петра III в правление Павла тоже не происходило.
5 апреля 1797 года, когда в Москве состоялась коронация, император Павел достал составленный им девять лет назад совместно с Марией Федоровной акт о наследовании престола старшим сыном и, начертав: «Верно. Павел», положил в специальный ковчег в алтаре Успенского собора.
Павел I. Гравюра XVIII в.
Так был восстановлен отмененный Петром I закон о наследовании престола. Этот акт существенно ограничивал свободу монарха в выборе преемника. Престол теперь должен был наследовать старший сын, независимо от борьбы дворцовых партий и придворной конъюнктуры.
Благодетельность для страны этого акта мы покажем в посвященных царствованию последних русских императоров очерках, а пока скажем, что еще в день коронации Павла был обнародован манифест о трехдневной барщине и запрещено обезземеливание крестьян.
Велико было тогда возмущение рабовладельцев-крепостников, но оно стало еще сильнее, когда через неделю Павел отменил указ 1785 года, освобождающий дворян от телесных наказаний. Осужденные за уголовные преступления рабовладельцы теряли былую привилегию.
Павел значительно ограничил дворянское рабовладение, запретив продажу крестьян без земли[157].
Еще большее возмущение екатерининских вельмож, забывших, как это можно жить без взяток и казнокрадства, вызвала попытка Павла «открыть все пути и способы, чтобы глас слабого, угнетенного был услышан». Для этого императором был устроен «ящик», или, как его называли иначе, «окно», в которое каждый желающий мог опустить прошение на имя императора.
«Оно помещалось, – пишет Н.А. Саблуков, – в нижнем этаже дворца, под одним из коридоров, и Павел сам хранил у себя ключ от комнаты, в которой находилось это окно[158]. Каждое утро, в седьмом часу, император отправлялся туда, собирал прошения, собственноручно их помечал и затем прочитывал их или заставлял одного из своих статс-секретарей прочитывать себе вслух.
Резолюции или ответы на эти прошения всегда были написаны им лично или скреплены его подписью и затем публиковались в газетах для объявления просителю. Все это делалось быстро и без замедления. Бывали случаи, что просителю предлагалось обратиться в какое-нибудь судебное место или иное ведомство и затем известить его величество о результате этого обращения.
Этим путем обнаружились многие вопиющие несправедливости, и в таковых случаях Павел был непреклонен. Никакие личные или сословные соображения не могли спасти виновного от наказания, и остается только сожалеть, что его величество иногда действовал слишком стремительно и не предоставлял наказания самим законам, которые покарали бы виновного гораздо строже, чем это делал император, а между тем он не подвергался бы зачастую тем нареканиям, которые влечет за собою личная расправа.
Не припомню теперь в точности, какое преступление совершил некто князь Сибирский, человек высокопоставленный, сенатор, пользовавшийся благосклонностью императора. Если не ошибаюсь, это было лихоимство. Проступок его, каков бы он ни был, обнаружился через прошение, поданное государю вышеописанным способом, и князь Сибирский был предан уголовному суду, приговорен к разжалованию и к пожизненной ссылке в Сибирь. Император немедленно утвердил этот приговор, который и был приведен в исполнение, причем князь Сибирский, как преступник, публично был вывезен из Петербурга через Москву, к великому ужасу тамошней знати, среди которой у него было много родственников».
Сожаление Саблукова о том, что Павел не предоставлял наказания самим законам, которые покарали бы виновного гораздо строже, чем это делал император, едва ли можно считать заслуживающим внимания. Надо было знать, что в екатерининской России за исполнением законов следили самые отъявленные казнокрады, взяточники и лихоимцы. Вот уж воистину, если бы Павел отдал исполнение жалоб в их ведение, они были бы чрезвычайно довольны…
Нелепы и упреки современников Павла в том, что он ввел в армии муштру, уволил со службы без права ношения мундира А.В. Суворова, возвысил А.А. Аракчеева.
Не будем забывать, что тот же Павел присвоил Александру Васильевичу Суворову чин генералиссимуса, а верного Алексея Андреевича Аракчеева дважды увольнял со службы, на которую тот возвратился первый раз благодаря заступничеству наследника престола, великого князя Александра Павловича, а второй раз был возвращен ввиду готовящегося заговора. Однако тогда, при жизни Павла, Аракчеев не успел возвратиться… Вечером 11 марта 1801 года он примчался в Петербург, но на заставе его не пропустили в город…
Муштра же выразилась, прежде всего, в том, что Павел запретил офицерам кутать подобно барышням свои изнеженные ручки в меховые муфты и ездить на военные учения в каретах, запряженных шестериком лошадей.
Гонения на гвардию достигли пика, когда Павел запретил крепостникам записывать своих младенцев-отпрысков в гвардию и тем самым лишил их «выслуги лет», которую они ранее, лежа в колыбелях, приобретали наравне с солдатами, совершающими боевые походы. Разумеется, гвардейцам, в совершенстве овладевшим искусством изменять своей присяге и почитающим это искусство важнейшим для офицера гвардии, требования Павла, касающиеся повышения боеспособности, не могли не казаться чрезмерными. Сама мысль, что аристократические гвардейские полки могут использоваться не только для совершения дворцовых переворотов, но и для проведения военных операций, казалась многим рабовладельцам нелепой и отчасти даже сумасшедшей.
«Убежденный, что нельзя более терять ни минуты, чтобы спасти государство и предупредить несчастные последствия общей революции, граф Пален опять явился к великому князю Александру, прося у него разрешения выполнить задуманный план, уже не терпящий отлагательства. Он прибавил, что последние выходки императора привели в высочайшее волнение все население Петербурга различных слоев и что можно опасаться самого худшего», – пишет генерал Левин Август Теофил Беннигсен, возвращенный в Петербург по ходатайству фон Палена специально для участия в перевороте.
Поэтому и «принято было решение овладеть особой императора и увезти его в такое место, где он мог бы находиться под надлежащим надзором и где бы он был лишен возможности делать зло».
Наступление Павла на свободу, или, как выражались дворянские писатели, занятые «информационным обеспечением» цареубийства, «удушение им свободы», выразившееся в ограничении рабовладения и безнаказанности творимого знатью беззакония, не прибавляло симпатии к Павлу со стороны крепостников. Однако, если мы не разделяем усиленно внушаемой и нынешними «демократами» точки зрения, что какой-то определенный класс людей или какаято определенная национальность имеют право жить за счет угнетения остальных соотечественников, мы должны и о правлении Павла судить не по отношению к нему крепостников, а по конкретным делам, совершенным в те годы.
А дела эти такие…
Учреждена Российско-американская компания; основаны Духовные академии в Петербурге и Казани; основан Клинический повивальный институт; учреждена Медико-хирургическая академия; основана первая хозяйственная школа в Павловске…
При Павле началось заселение южной части Восточной Сибири, прилегающей к границам Китая, и принято «единоверие» – компромисс между старообрядчеством и православием; при Павле впервые издано «Слово о полку Игореве»!
В 1781 году граф Безбородко составил по указанию Екатерины «инвентарь» ее деяний за девятнадцать лет царствования. Оказалось, что за это время было устроено по новому образцу 29 губерний, построено 144 города, заключено 30 конвенций и трактатов, одержано 78 побед, издано 88 замечательных указов и еще 123 указа для облегчения народа. Итого было совершено почти полтысячи дел…
В число 30 конвенций и трактатов Александр Андреевич Безбородко, разумеется, не преминул включить договор, заключенный 31 марта 1764 года между Россией и Пруссией. По этому договору Пруссия обязалась продвигать любовника Екатерины II – Станислава Понятовского на польский престол. Мудрый Фридрих II успокаивал тогда свою верную помощницу Екатерину II, что он «достаточно знает польскую нацию, чтобы быть уверенным – расточая в пору деньги и употребляя непосредственные угрозы… вы доведете их до того состояния, какого желаете».
В число одержанных побед включалась, должно быть, и вторая «выгонка» старообрядцев с Ветки в 1786 году, завершившая окончательный разгром старообрядческих поселений на острове, и победы, одержанные генералами и фельдмаршалами над крестьянским войском Емельяна Пугачева.
Очень интересно, фигурировал или нет в числе указов, «изданных для облегчения народа», Указ от 17 января 1765 года, предоставляющий помещикам право ссылать крепостных на каторгу на какой угодно срок?
А Указ от 22 августа 1767 года о ссылке навечно на каторжные работы в Нерчинск крестьян, подающих жалобы на своих владельцев?
А распоряжение от 21 июля 1768 года о запрещении раскольникам строить церкви и часовни?
А впереди еще будет 3 мая 1783 года – законодательное закрепощение крестьян на Украине, «чтобы уравнять в правах малороссийских дворян с дворянами великорусскими»…
«Инвентарь» свершений императора Павла числом не так богат, но по важности для страны он, безусловно, превосходит все свершения Екатерины, про которую если уж и говорить, что она великая, то обязательно прибавляя «немка» или «пруссачка», потому что почти все совершенное Екатериной для России было злом или оборачивалось злом, как, например, присоединение земель, полученных при разделе Польши[159]…
Говоря так, я не пытаюсь идеализировать образ Павла.
Екатерина II сделала все, чтобы воспитать сына вне православия, вне русской духовной культуры, в духе модных тогда полумасонских-полупросветительских теорий. Воспитатели настойчиво требовали от Павла, чтобы он «из славных французских авторов» выучивал наизусть места, «где заключаются хорошие сентенции». Заучивание «хороших сентенций» позволяло скрывать отсутствие собственных мыслей, но овладевать национальными мыслями оно не помогало. С помощью заученных сентенций невозможно было не только полюбить Россию, но и узнать и понять ее.
И Павел так и не сумел до конца постигнуть страну, которой он правил. Чувствуя несправедливость, он пытался исправить ее и отчасти исправлял, но иногда тут же забывал, что нужно продолжать исправление далее.
Особенно ярко эта непоследовательность проявилась в отношении Павла к крепостному праву.
«Будучи весьма строг относительно всего, что касалось государственной экономии, и стремясь облегчить тягости, лежащие на народе, император Павел был, несмотря на это, весьма щедр при раздаче пенсий и наград за заслуги, причем в этих случаях отличался истинно царскою милостью, – пишет Н.А. Саблуков. – Во время коронации в Москве он раздал многие тысячи государственных крестьян важнейшим сановникам государства и всем лицам, служившим ему в Гатчине, так что многие из них сделались богачами. Павел не считал этого способа распоряжаться государственными землями и крестьянами предрассудительным для общего блага, ибо он полагал, что крестьяне гораздо счастливее под управлением частных владельцев, чем тех лиц, которые обыкновенно назначаются для заведывания государственными имуществами».
Парадокс? Несомненно…
К сожалению, вся преобразовательная деятельность Павла лишена была последовательности и твердости…
И стоит ли удивляться, что так часто Павла преследовали неудачи?
Все, совершенное им для облегчения народа, делалось, руководствуясь исключительно чувством высокой, рыцарской справедливости. Этого рыцарства, кстати сказать, у Павла не отнимали даже самые злые его карикатуристы. Но никаким самым высоким чувством справедливости невозможно компенсировать непонимание России.
Точно так же, как никакой мистицизм не способен заменить православия.
В этом и заключалась личная трагедия Павла, но, если бы он был иным, кто знает, удалось бы ему главное дело его жизни – основание новой династии – или нет.
4
Удивительное ощущение возникает у каждого, кто бесстрастно вглядывается в этот исторический персонаж.
Происходит непостижимое…
Человек эпохи Просвещения, окруженный множеством образованных людей, оставивших сотни дневниковых и мемуарных свидетельств, он не улавливается в сети памяти.
В многочисленных записках, посвященных его правлению, мы находим только вздорные карикатуры или фантастические слухи, напоминающие волнение, возникающее в помещении, когда через него быстро проходит большой человек, самого же императора мы видим в другом, эпически-легендарном измерении, где и положено находиться основателю новой императорской династии.
Можно подробно проследить все политические события и тенденции, приведшие к «мальтийской затее», когда Павел взял под свое покровительство орден мальтийских рыцарей, а 29 ноября 1798 года принял и звание «великий магистр державного ордена Святого Иоанна Иерусалимского»[160].
Звучит, разумеется, диковато. Не зря некоторые исследователи сопоставляют это предприятие по своему безумию с затеей Петра I принять в русское подданство пиратов Мадагаскара.
Однако, если мы вспомним, что звание «великий магистр» Павел принимает накануне заключения в Петербурге союзного договора с Англией, а в Константинополе – союзного и оборонительного договора с Турцией, то в контекст этих договоров «мальтийская затея» впишется совершенно естественно. Мальта была важна стратегически для борьбы с угрозой превращения Средиземного моря во «французское озеро».
Напомним, что именно тогда и состоялась знаменитая русско-турецкая экспедиция под командой Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. Эскадра Ф.Ф. Ушакова подошла к Ионическим островам. Острова были освобождены от французов. Крепость на острове Корфу взята в осаду.
Какое же тут безумие? Напротив…
Все в этой затее стратегически и политически обосновано. И если непостижимое и присутствует, то проявляется оно в другом…
Все политические резоны и стратегические расчеты, связанные с «мальтийской затеей», как и другие перипетии «рыцарской» войны Павла с Наполеоном, существуют как бы без соприкосновения с Россией, вне русской жизни. Они занимают в русской истории такое же место, как сказка или обрывок древнего эпоса, по ошибке вклеенные в институтский учебник.
Павел в облачении великого магистра Державного ордена Святого Иоанна Иерусалимского…
Знаменитый, вошедший во все учебники военного искусства переход А.В. Суворова через Альпы…
Легендарный штурм Ф.Ф. Ушаковым крепости Корфу…
В.О. Ключевский писал, что царствованию Павла «принадлежит самый блестящий выход России на европейской сцене», но, на наш взгляд, эти великие походы и сражения принадлежат истории XVIII века так же мало, как и египетские походы Наполеона…
Они разновременны с событиями, которые происходили тогда в России и в мире. Они из того древнего эпоса, в котором Божия воля осуществляется зримо и очевидно для всех, где вожди, герои и рыцари существуют не как образы, а как объективная реальность, формирующая новые великие династии и государства.
Но зарождение подлинных царских династий и должно происходить в подобной мистически-древней глубине, а не среди придворных интриг «шурья». Не криками подкупленных, полупьяных казаков утверждается династия, а в древнем эпосе, где живут герои и рыцари…
И что толковать: дескать, это время давно миновало…
Время тоже в Божией воле, и то Божие Чудо, которое было сотворено с историей в конце XVIII века, лучшее доказательство этому.
После всех трудов энциклопедистов и просветителей, после революционного атеизма зарождается династия Наполеона…
В России мы видим рождение династии Павла…
И рождаются обе эти династии не придворными интригами, а подвигами героев и рыцарей.
Анализ внешней политики Павла без учета вневременной, эпохообразующей составляющей бессмыслен. Вся павловская политика обращается тогда в хаос, который только и улавливают мемуаристы, воспитанные в духе екатерининского вольтерьянства и афеизма.
Действительно… Россия то воюет с Францией, защищая Средиземное море, то вступает с Францией в союз, чтобы совершить индийский поход…
Это не вмещалось в сознание екатерининских вельмож, заменивших способность к размышлению заимствованием у французских просветителей общепризнанных истин и готовых шаблонов, облеченных в красивые фразы.
Военный переворот, совершенный Наполеоном Бонапартом 19 брюмера (11/22 ноября) 1799 года, поставил точку на Французской революции. Став Первым консулом, Наполеон стремительно выводит из войны Австрию, а в 1801 году начинает переговоры с Павлом об изъятии совместными усилиями «жемчужины английской короны» – Индии.
Эта русско-французская экспедиция достойна была, по словам Наполеона, «увековечить первый год XIX столетия и правителей, замысливших это полезное и славное предприятие». Целью похода должно было стать безвозвратное изгнание англичан из Индостана и освобождение богатой страны от британского ига… Наполеон предполагал использовать общую армию в 70 тысяч человек, из коих с русской стороны 25 тысяч регулярных войск всех родов оружия и 10 тысяч казаков.
Французские войска должны были спуститься по Дунаю в Черное море. Затем на транспортных судах переплыть Черное и Азовское моря и высадится в районе Таганрога. Далее Французский корпус должен был идти вдоль правого берега Дона до казачьего городка Пяти-Избянки. Достигнув его, армия должна была переправиться через Дон и сухим путем идти к Царицыну, а оттуда спуститься к Астрахани. Там французские войска должны были сесть на суда и отправиться в Астрабад, приморский персидский город, который становился главною квартирой союзной армии, – сюда подходили русские войска и казачьи части, и здесь сосредоточивались военные и продовольственные магазины.
Павел I с крестом Мальтийского ордена. Портрет В.Л. Боровиковского. 1800 г.
Выступив в поход, русско-французская армия должна была пройти через города Герат, Ферах и Кандигар и достигнуть правого берега Инда.
По расчетам Наполеона, марш французской, а затем объединенной армии должен был занять от Дуная до берегов Инда 120 дней.
Перед высадкой русских войск в Астрабаде Наполеон планировал послать комиссаров обоих правительств ко всем ханам и малым деспотам тех стран, через которые должна будет проходить армия. Комиссары эти должны были разъяснить, что «армия двух могущественнейших в мире наций должна пройти через их владения, дабы достигнуть Индии; что единственная цель этой экспедиции состоит в изгнании из Индустана англичан, поработивших эти прекрасные страны, некогда столь знаменитые, могущественные и богатые произведениями и промышленностью, что они привлекали народы всей вселенной к участию в дарах, которыми Небу благоугодно было осыпать их; что ужасное положение угнетения, несчастий и рабства, под которым ныне стенают народы тех стран, внушило живейшее участие Франции и России; что вследствие этого эти два правительства положили соединить свои силы для освобождения Индии от тиранского ига англичан; что государям и народам тех государств, через которые должна проходить союзная армия, нечего опасаться; что, напротив, их приглашают содействовать всеми способами успеху этого полезного и славного предприятия; что эта экспедиция, по тем причинам, по каким предпринимается, так же справедлива, как была несправедлива экспедиция Александра <Македонского>, желавшего покорить всю вселенную; что союзная армия не будет требовать контрибуций; что она будет покупать только добровольно продаваемые ей жизненные припасы и расплачиваться чистыми деньгами; что самая строгая дисциплина будет удерживать армию в исполнении ее обязанностей; что вера, законы, обычаи, нравы, собственность и женщины будут всюду уважаемы»…
Индийский поход Наполеон решил повторить по плану уже проведенного им египетского, и никаких сомнений в успехе не испытывал. Тотчас по достижении союзною армией берегов Инда, должны были начаться военные действия.
Поход этот готовился в России в глубочайшей тайне – в него не был посвящен даже наследник престола – цесаревич Александр.
12 января 1801 года атаману Войска Донского Василию Петровичу Орлову был отправлен секретный приказ: немедленно поднять казачье войско и двинуться на Оренбург, а оттуда через Бухарию и Хиву выступить на реку Инд, «чтобы поразить неприятеля в его сердце».
На следующий день Павел I пишет атаману: «Василий Петрович, посылаю вам подробную и новую карту всей Индии. Помните, что вам дело до англичан только, мир со всеми, кто не будет им помогать… Мимоходом утвердите Бухарию, чтоб китайцам не досталась».
Около 30 тысяч казаков с артиллерией пересекли Волгу и в середине января 1801 года двинулись в Казахстан.
Бонапарт тем временем предложил несколько изменить план экспедиции, отправив французские войска не через Германию, а из Египта.
«Нельзя не признать, что по выбору операционного направления план этот был разработан как нельзя лучше, – анализируя разработанный Наполеоном план, писал историк С.Б. Окунь. – Этот путь являлся кратчайшим и наиболее удобным. Именно по этому пути в древности прошли фаланги Александра Македонского, а в 40-х годах XVIII века пронеслась конница Надир-Шаха. Учитывая небольшое количество английских войск в Индии, союз с Персией, к заключению которого были приняты меры, и, наконец, помощь и сочувствие индусов, на которые рассчитывали, следует также признать, что и численность экспедиционного корпуса была вполне достаточной»
Повторим, что весь Индийский поход готовился в России в глубочайшей тайне. Все приказы записывались под диктовку государя и отдавались прямо из его кабинета, в запечатанных конвертах для отправки на Дон. Ливену, который непосредственно занимался этим, строго-настрого было запрещено сообщать кому-либо о сделанных распоряжениях.
Когда казачье войско двинулось в волжские степи, начали говорить, что император решил переселить их в другое место (здесь и надо искать источник слуха о сосланном в Сибирь полке), и только потом английской разведке во Франции удалось выяснить, куда «безумный» император надумал заслать казаков!
Считается, что совместные действия Франции и России на индийском направлении привели к падению 2 февраля 1801 года правительства Питта.
Одновременно с этим они ускорили и действия заговорщиков в России.
5
Когда мы читаем в мемуарах, что «безумие этого несчастного государя (нельзя сомневаться в том, что он был не в своем уме) дошло до таких пределов, что долее не было возможности выносить его», не нужно думать, будто авторы подобных сочинений неискренни.
Мы уже говорили, что политика Павла была не всегда последовательной, много проявлялось императором ненужной горячности, много было совершено ошибок от недостаточного знания и понимания русского характера и самой России. Медленно, как бы на ощупь, пытался сформировать Павел направление национально ориентированной политики. И этим он настолько напугал рабовладельцев своей империи, что действительно казался им безумным.
Ощущение безумия императора в глазах других людей пытались создать, искажая его приказы, преувеличивая наказания, которым он подвергал подчиненных за пустяковые нарушения, всячески шаржируя его поступки…
Поразительно, но, невзирая на смену общественного строя, в монархической, коммунистической и демократической России существует единый стереотип поведения, опираясь на который антирусские силы действуют против тех руководителей нашей страны, которые пытаются проводить национальную политику. Начинают эти силы свою борьбу с неугодной им властью попыткой окарикатурить все действия правительства. Причем делается это не только не вполне допустимыми в цивилизованной политической борьбе приемами: преувеличением совершенных ошибок, распусканием не совсем верных слухов, но и совершенно недопустимым преувеличением, так сказать, в действии.
Так было, например, во время сталинских чисток 30-х годов, когда чекистские начальники, тайно симпатизируя представителям ленинско-троцкистской гвардии, сознательно доводили репрессии до немыслимых размеров, подвергая репрессиям не только большевиков-ленинцев, троцкистов и зиновьевцев, но и людей, никакого отношения к этим ненавистникам нашей страны не имеющим.
Точно так же действовали и враги императора Павла.
Граф Петр Алексеевич Пален рассказывал графу Ланжерону, что однажды, воспользовавшись хорошим настроением императора, «когда ему можно было говорить что угодно», разжалобил его насчет участи разжалованных офицеров.
Павел «был романического характера, он имел претензию на великодушие. Во всем он любил крайности: два часа спустя после нашего разговора двадцать курьеров уже скакали во все части империи, чтобы вернуть назад в Петербург всех сосланных и исключенных со службы. Приказ, дарующий им помилование, был продиктован мне самим императором. Тогда я обеспечил себе два важных пункта: 1) заполучил Беннигсена и Зубовых, необходимых мне (для организации заговора против Павла. – Н.К.), и 2) еще усилил общее ожесточение против императора: я изучил его нетерпеливый нрав, быстрые переходы его от одного чувства к другому, от одного намерения к другому, совершенно противоположному. Я был уверен, что первые из вернувшихся офицеров будут приняты хорошо, но что скоро они надоедят ему, а также и следующие за ними. Случилось то, что я предвидел, ежедневно сыпались в Петербург сотни этих несчастных: каждое утро подавали императору донесения с застав. Вскоре ему опротивела эта толпа прибывающих: он перестал принимать их, затем стал просто гнать и тем нажил себе непримиримых врагов в лице этих несчастных, снова лишенных всякой надежды и осужденных умирать с голоду у ворот Петербурга (выделено мной. – Н.К.)».
Сам Павел понимал это, но исправить ситуацию не мог.
«Меня выставляют за ужасного невыносимого человека, – говорил Павел в апреле 1800 года шведскому послу, – а я не хочу никому внушать страха».
К этим словам императора можно было бы отнестись с некоторым скепсисом, но вот что любопытно. Самые спокойные месяцы правления Павла – сентябрь – октябрь 1800 года. Неслышно становится о жутких экзекуциях, меньше обрушивается опал…
А что случилось? Да ничего… Просто как раз в эти месяцы граф Пален отправлен командовать армией на прусской границе, а должность военного губернатора Петербурга исполняет генерал-лейтенант Александр Сергеевич Свечин[161]…
Любопытно, что граф Никита Петрович Панин пытался вовлечь Свечина в заговор. Он объявил ему, что решено заставить Павла отречься от престола в пользу сына Александра.
Свечин был отважным генералом, героем Русско-шведской войны 1789–1790 годов. Он с негодованием отверг предложение Панина, но объявил при этом, что «не изменит доверию» Никиты Петровича и не будет доносить на него.
На этом и закончился разговор, если не считать того, что через две недели Александру Сергеевичу Свечину пришлось освободить место военного губернатора для графа Палена.
Но тут уж такое дело… Не могли заговорщики оставить такой пост за человеком, который не поддерживает их.
Другое дело – Пален.
Фон дер Палену было в 1801 году пятьдесят шесть лет. С главными заговорщиками он был знаком давно. В армии Петра Ивановича Панина воевал ротмистром еще в турецкой кампании 1770 года, с Платоном Александровичем Зубовым познакомился в бытность свою правителем Рижского наместничества.
Зубов проезжал тогда через Ригу в Митаву осматривать свои имения, и фон дер Пален расстарался. Встретил Платона Александровича так, что удостоился гнева императора Павла.
«С удивлением уведомился я обо всех подлостях, вами оказанных в проезд князя Зубова через Ригу, – написал тогда Павел. – Из сего я и делаю сродное о свойстве вашем заключение, по коему и поведение Мое против вас соразмеренно будет».
Пален был выключен со службы, но через полгода принят снова и получил возможность лично представиться Павлу. Человек умный, хитрый и совершенно аморальный, фон дер Пален славился умением быстро нащупывать слабости собеседника и самым бессовестным образом играть на них. Говорят, что в родной Лифляндии о Палене говорили: «Er hat die Pfiffologie studiert» – от немецкого слова «pfiffing» – «хитрый, ловкий, пронырливый человек», который всегда запутывает других, а сам никогда не остается в дураках. Палену такая характеристика нравилась, он и сам употреблял это выражение, желая похвалить кого-либо.
Стремительной была его карьера в Петербурге.
31 марта 1798 года Пален пожаловали чином генерала от кавалерии и 28 июля назначили санкт-петербургским военным губернатором. В этой должности он находился до 12 августа 1800 года, когда Павел поручил ему командование армией, выдвинутой на границу с Пруссией.
На примере интриги, посредством которой были возвращены в Петербург Беннигсен и Зубовы, мы видели, как ловко использовал Пален маску преданного императору человека. Будучи прекрасным психологом, он мастерски играл на лучших чувствах Павла, чтобы употребить достигнутое во вред ему.
Как плелись нити заговора, точно установить сейчас невозможно, но на основании многочисленных свидетельств можно сделать вывод, что вначале заговором руководили Никита Петрович Панин[162] и Иосиф Михайлович Дерибас[163]. В заговор был посвящен и наследник престола великий князь Александр Павлович.
«…Граф Панин, – пишет в своих записках Беннигсен, – обратился к великому князю. Он представил ему те несчастия, какие неминуемо должны явиться результатом этого царствования, если оно продлится; только на него одного нация может возлагать доверие, только он один способен предупредить роковые последствия, причем Панин обещал ему арестовать императора и предложить ему, великому князю, от имени нации бразды правления. Граф Панин и генерал де-Рибас были первыми, составившими план этого переворота. Последний так и умер, не дождавшись осуществления этого замысла, но первый не терял надежды спасти государство. Он сообщил свои мысли военному губернатору, графу Палену. Они еще раз говорили об этом великому князю Александру и убеждали его согласиться на переворот, ибо революция, вызванная всеобщим недовольством, должна вспыхнуть не сегодня завтра, и уже тогда трудно будет предвидеть ее последствия. Сперва Александр отверг эти предложения, противные чувствам его сердца. Наконец, поддавшись убеждениям, он обещал обратить на них свое внимание и обсудить это дело столь огромной важности, так близко затрагивающее его сыновние обязанности, но, вместе с тем, налагаемое на него долгом по отношению к его народу. Тем временем граф Панин, попав в опалу, лишился места вице-канцлера, и Павел сослал его в его подмосковное имение, где он, однако, не оставался праздным».
Тут можно передать слово и самому Петру Алексеевичу Палену…
«Сперва Александр был, видимо, возмущен моим замыслом… он сказал мне, что вполне сознает опасности, которым подвергается империя, а также опасности, угрожающие ему лично, но что он готов все выстрадать и решился ничего не предпринимать против отца.
Я не унывал, однако, и так часто повторял мои настояния, так старался дать ему почувствовать настоятельную необходимость переворота, возраставшую с каждым новым безумством, так льстил ему или пугал его насчет его собственной будущности, представляя ему на выбор – или престол, или же темницу и даже смерть, что мне, наконец, удалось пошатнуть его сыновнюю привязанность и даже убедить его установить вместе с Паниным и со мною средства для достижения развязки, настоятельность которой он сам не мог не сознавать».
6
И военный губернатор Санкт-Петербурга Петр Алексеевич Пален, и граф Никита Петрович Панин, пытавшийся вовлечь Свечина в заговор, были сторонниками союза с Англией.
И не только они. Очень многим представителям петербургского высшего света безумием казалось вступать в конфликт с Англией.
И не геополитические соображения причина тому, не англомания… Все было гораздо проще.
«Англия снабжала нас произведениями и мануфактурными и колониальными за сырые произведения нашей почвы, – пишет в своих записках М.А. Фонвизин. – Эта торговля открывала единственные пути, которыми в Россию притекало все для нас необходимое. Дворянство было обеспечено в верном получении доходов (выделено мной. – Н.К.) со своих поместьев, отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лен и проч. Разрыв с Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу…»
Это свидетельство дорогого стоит. Это – бесценные штрихи в портрету российского дворянства! Какие там государственные интересы, какая верность присяге!
Главное, что благосостояние нарушается! Из-за этого и на убийство помазанника Божия можно пойти!
Тем более что не впервой ведь было русскому дворянству ходить на такое…
Штаб-квартирой заговорщиков стал салон Ольги Александровны Жеребцовой на Исаакиевской площади…
Ольга Александровна только в замужестве стала Жеребцовой, а по рождению была сестрой братьев Зубовых.
Семейство это весьма любопытное.
Платон Александрович Зубов был последним фаворитом Екатерины II.
Двадцатидвухлетним секунд-ротмистром он прорвался в постель шестидесятилетней, ожиревшей императрицы, а вышел из нее светлейшим князем, генерал-фельдцейхмейстером, над фортификациями генеральным директором, главноначальствующим флотом Черноморским, Вознесенскою легкою конницей и Черноморским казачьим войском, шефом Кавалергардского корпуса…
Благодаря постельной отваге Платона Александровича выдвинулись и его братья – Валериан Александрович и Николай Александрович Зубовы.
Николай Александрович Зубов, высокий красавец атлет, между прочим, женился на дочери Александра Васильевича Суворова[164].
Неожиданную кончину своей «старушки» братья Зубовы встретили без паники. Николай Александрович Зубов сразу полетел в Гатчину и первым привез Павлу радостное известие, за что и был пожалован орденом Андрея Первозванного.
А Платон Александрович Зубов, по слухам, указал Павлу место, где Екатерина хранила касающиеся самого Павла бумаги.
Как бы то ни было, но вопреки мнению, что Павел якобы преследовал всех фаворитов матери, братья Зубовы сохранили все свои должности и звания.
В первое время, кажется, они еще более укрепили свои позиции и попали в опалу наравне с другими павловскими вельможами. Впрочем, еще в царствование Павла они были прощены и возвращены к прежним должностям… Сделано это было, как мы уже говорили, по настоянию графа Палена…
Кроме трех братьев имелась в дружной зубовской семье и сестра.
Тридцатипятилетняя Ольга Александровна Жеребцова отличалась – родовая черта Зубовых! – необыкновенной красотой и – тоже родовая черта? – столь же необыкновенным корыстолюбием. Будучи в интрижке с английским послом сэром Чарльзом Уитвортом, она приняла его предложение организовать за два миллиона рублей государственный переворот в России…
Из салона Ольги Александровны Жеребцовой-Зубовой и начинают растекаться слухи, что Павел якобы страдает припадками буйного умопомешательства. Здесь переписываются все новые и новые экземпляры памфлета поручика Марина. Императора чернят за союз с Наполеоном, обвиняют в намерениях извести казачество.
Приказ атаману Орлову только еще послан, казаки еще только движутся к Волге, но в сплетнях, распускаемых из салона Жеребцовой-Зубовой, ходит слух, что Павел решил уничтожить всё донское казачество, что казачьи эскадроны уже гибнут в безводных степях! Здесь же, в салоне, рождается легенда о полке, сосланном императором Павлом прямо с парада в Сибирь.
Ну а главное, в салоне вербуют молодых гвардейских офицеров – пехоту грядущего дворцового переворота. Чтобы придать отваги будущим цареубийцам, Ольга Александровна уверяет, что на всякий случай на Неве будет стоять английская яхта, она примет на борт заговорщиков в случае неудачи.
Английская яхта – чистый блеф. Неоткуда было взяться на Неве английской яхте, поскольку еще в начале года в ответ на захват англичанами Мальты было наложено эмбарго на все английские суда, находящиеся в российских портах. Сама Ольга Александровна Жеребцова, во всяком случае, ни на какой яхте не собиралась спасаться. За день до цареубийства она выехала за границу. Об убийстве Павла она узнала уже в Берлине и со спокойной совестью поехала в Лондон, получать честно заработанные миллионы.
Многие участники заговора, как бы пытаясь оправдать преступление, совершенное ими, в своих воспоминаниях назойливо подчеркивают, что о заговоре знали многие, но никто не донес. Значит, делают они вывод, Павел был так ненавистен, что практически все желали его гибели, но не могли решиться на это сами.
Скажем сразу, что это не соответствует истине.
Доносы делались, и, хотя многие из них перехватывались ближайшим окружением Павла, вовлеченным в заговор, Павлу все-таки стало известно о заговоре.
Об этом свидетельствует сам Петр Алексеевич Пален, рассказавший графу Ланжерону, что 7 марта, когда в семь часов утра он вошел в кабинет императора, чтобы отрапортовать о состоянии столицы, Павел остановил его.
– Господин фон Пален, – спросил он, – вы были здесь в 1762 году?
– Да, Ваше Величество…
– Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни?
– Ваше Величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом, я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в Конном полку. Я ехал на лошади со своим полком, ничего не подозревая, что происходит. Но почему, Ваше Величество, задаете вы мне подобный вопрос?
– Почему? Вот почему: потому что хотят повторить 1762 год.
Пален, как он признавался потом сам, затрепетал от страха, что заговор раскрыт, но он был готов к этому, и готов был нужный ответ.
– Да, Ваше Величество, – ответил он. – Хотят! Я это знаю и участвую в заговоре.
– Как! Вы это знаете и участвуете в заговоре? Что вы мне такое говорите!
– Сущую правду, Ваше Величество! Я должен сделать вид, что участвую в заговоре, но участвую ввиду моей должности, ибо как иначе мог бы я узнать, что намерены они делать? Я вынужден притворяться, что хочу способствовать их замыслам… Но не беспокойтесь… Вам нечего бояться: я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно. Не старайтесь проводить сравнений между вашими опасностями и опасностями, угрожавшими вашему отцу. Он был иностранец, а вы русский; он ненавидел русских, презирал их и удалял от себя; а вы любите их, уважаете и пользуетесь их любовью; он не был коронован, а вы коронованы; он раздражил и даже ожесточил против себя гвардию, а вам она предана. Он преследовал духовенство, а вы почитаете его; в его время не было никакой полиции в Петербурга, а нынче она так усовершенствована, что не делается ни шага, не говорится ни слова помимо моего ведома… Каковы бы ни были намерения императрицы, она не обладает ни гениальностью, ни умом вашей матери; у нее двадцатилетние дети, а в 1762 году вам было только семь лет.
– Все это верно… – сказал Павел. – Но, конечно, не надо дремать!
Поверил ли Павел Палену?
Если и поверил, то не до конца…
Через день он отправил опальному графу А.А. Аракчееву письмо: «С получением сего вы должны явиться немедленно. Павел».
Это послание и ускорило гибель императора. Граф Пален, которому стало известно о вызове Аракчеева, понял, что оттягивать задуманное более невозможно.
Аракчеев явился по зову императора. Как рассказывает Н.А. Саблуков, он прибыл в Петербург вечером 11 марта, когда Павел был еще жив, но его – такое было отдано распоряжение военным губернатором фон Паленом! – не пропустили через заставу.
7
«11-го (23-го) марта 1801 г., утром, я встретил князя Зубова в санях, едущим по Невскому проспекту, – вспоминая этот черный день, пишет Беннигсен. – Он остановил меня и сказал, что ему нужно переговорить со мной, для этого он желает поехать ко мне на дом. Но, подумав, он прибавил, что лучше, чтобы не видели вместе, и пригласил меня к себе ужинать. Я согласился, еще не подозревая, о чем может быть речь, тем более что я собирался на другой день выехать из Петербурга в свое имение в Литве. Вот почему я перед обедом отправился к графу Палену просить у него, как у военного губернатора, необходимого мне паспорта на выезд.
Он отвечал мне: “Да отложите свой отъезд, мы еще послужим вместе” – и добавил: “Князь Зубов вам скажет остальное”.
Я заметил, что все время он был очень смущен и взволнован. Так как мы были связаны дружбой издавна, то я впоследствии очень удивлялся, что он не сказал мне о том, что должно было случиться; хотя все со дня на день ожидали перемены царствования, но, признаюсь, я не думал, что время уже настало.
От Палена я отправился к генерал-прокурору Обольянинову, чтобы проститься, а оттуда часов в десять приехал к Зубову. Я застал у него только его брата, графа Николая, и трех лиц, посвященных в тайну, – одно было из Сената, и ему предназначалось доставить туда приказ собраться, лишь только арестуют императора. Граф Пален позаботился, велел заготовить необходимые приказы, начинавшиеся словами: “По высочайшему повелению”, и предназначенные для арестования нескольких лиц, в первый же момент.
Князь Зубов сообщил мне условленный план, сказав, что в полночь совершится переворот.
Моим первым вопросом было: кто стоить во главе заговора? Когда мне назвали это лицо, тогда я, не колеблясь, примкнул к заговору, правда, шагу опасному, однако необходимому, чтобы спасти нацию от пропасти (выделено мной. – Н.К.), которой она не могла миновать в царствование Павла.
До какой степени эту истину все сознавали, видно из того, что, несмотря на множество лиц, посвященных в тайну еще накануне, никто, однако, ее не выдал.
Немного позже полуночи я сел в сани с князем Зубовым, чтобы ехать к графу Палену. У дверей стоял полицейский офицер, который объявил нам, что граф у генерала Талызина и там ждет нас.
Мы застали комнату полной офицеров; они ужинали у генерала, причем большинство находились в подпитии, – все были посвящены в тайну. Говорили о мерах, которые следует принять, а между тем слуги беспрестанно входили и выходили из комнаты.
Заговорщики условились, что генерал Петр Александрович Талызин соберет свой гвардейский батальон, неподалеку от Летнего сада; а генерал Леонтий Иванович Депрерадович[165] – свой, также гвардейский, батальон на Невском проспекте, вблизи Гостиного двора. Во главе этой колонны будут находиться военный губернатор и генерал Федор Петрович Уваров. Во главе первой – трое братьев Зубовых и Беннигсен. По пути к ним присоединиться “пехота” – завербованные в салоне Ольги Александровны Жеребцовой исполнители цареубийства. Граф Пален со своей колонной должен был занять главную лестницу замка, а колонна Зубовых-Беннигсена – пройти по потайным лестницам, чтобы убить императора в его спальне…»
Тут тоже нужно сделать пояснение… Почти никто из участников заговора не употребляет слово «убийство». Его заменяют эвфемизмом «арест» или выражениями типа «лишить возможности делать зло»…
Делается это не столько из страха перед расплатой (чего опасаться, если подельником с тобою проходит новый император), сколько в соответствии с обычаями екатерининского времени ни о какой вещи не говорить прямо, а изъясняться пусть и непонятно, но прилично и велеречиво.
И только такие циники, как Петр Алексеевич Пален, позволяли себе говорить об этом со свойственной прибалтийским немцам грубоватой прямотой.
«Но я обязан, в интересах правды, сказать, что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца, – рассказывал он графу Ланжерону, – я дал ему слово: я не был настолько лишен смысла, чтобы внутренне взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но надо было успокоить щепетильность моего будущего государя, и я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что они не исполнятся. Я прекрасно знал, что надо завершить революцию, или уже совсем не затевать ее, и что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция, и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре обагрит и столицу и губернии».
Тем не менее независимо от того, эвфемизмами ли изъяснялись участники заговора или говорили прямо, как и положено военным людям, но все они знали, на что идут.
И «пехота» заговора, и сами великие князья…
Косвенно подтверждают это и воспоминания Н.А. Саблукова, который в заговоре не участвовал и которого по этой причине заговорщикам надобно было отстранить от участия в охране Михайловского замка.
Дело в том, что по расписанию 11 марта эскадрон конногвардейцев, которым командовал Н.А. Саблуков, должен был нести караул в Михайловском замке.
Как и положено, в десять часов утра Саблуков вывел свой караул на плац-парад. Там во время развода к нему подошел адъютант полка Ушаков и сообщил, что, по именному приказанию великого князя Константина Павловича, Саблуков назначен сегодня дежурным полковником по полку.
«Это было совершенно противно служебным правилам, – пишет Н.А. Саблуков в своих “Записках”, – так как на полковника, эскадрон которого стоит в карауле и который обязан осматривать посты, никогда не возлагается никаких иных обязанностей. Я заметил это Ушакову несколько раздраженным тоном и уже собирался немедленно пожаловаться великому князю, но, к удивлению всех, оказалось, что ни его, ни великого князя Александра Павловича не было на разводе. Ушаков не объяснил мне причин всего этого, хотя, по-видимому, он их знал.
Так как я не имел права не исполнить приказание великого князя, то я повел караул во дворец и, напомнив офицеру о всех его обязанностях (ибо я не рассчитывал уже видеть его в течение дня), вернулся в казармы, чтобы исполнить мою должность дежурного по полку».
В восемь часов вечера, приняв рапорты от дежурных офицеров пяти эскадронов, Саблуков отправился в Михайловский замок, чтобы сдать рапорт шефу своего полка великому князю Константину.
Выходя из саней у большого подъезда, он встретил камер-лакея собственных его величества апартаментов, который спросил Саблукова: куда тот идет? Саблуков отвечал, что идет к великому князю Константину.
– Пожалуйста, не ходите, – попросил камер-лакей. – Ибо я тотчас должен донести об этом государю.
– Не могу не пойти, – сказал Саблуков. – Я дежурный полковник и должен явиться с рапортом к его высочеству; так и скажите государю.
Когда Саблуков вошел в переднюю Константина Павловича, Рутковский, его доверенный камердинер, спросил с удивленным видом:
– Зачем вы пришли сюда?
– Вы, кажется, все здесь с ума сошли! – ответил Саблуков, бросая шубу на диван. – Я – дежурный полковник!
Только тогда Рутковский отпер дверь в зал.
Пока Саблуков отдавал Константину рапорт, «прокрадываясь, как испуганный заяц», в зале появился великий князь Александр. Но тут же из задней двери вошел император Павел. Церемониальным шагом, в сапогах и шпорах, со шляпой в одной руке и тростью в другой, словно на параде, он направился к великим князьям.
Александр поспешно убежал в собственные апартаменты, а Константин застыл, хлопая себя по карманам, «словно безоружный человек, очутившийся перед медведем». Саблуков, повернувшись, по уставу, на каблуках, отрапортовал императору о состоянии полка.
– А, ты дежурный! – сказал император, учтиво кивнул и пошел назад к двери.
Когда он вышел, Александр, немного приоткрыв свою дверь, снова заглянул в комнату. Наконец громко захлопнулась дверь в соседнем зале, куда ушел император, и только тогда Александр вернулся в зал.
– Ну, братец, что скажете вы о моих конногвардейцах? – указывая на Саблукова, сказал ему Константин. – Я говорил вам, что он не испугается!
– Как? – удивился Александр. – Вы не боитесь императора?
– Нет, Ваше Высочество, – ответил Саблуков. – Чего же мне бояться? Я дежурный, да еще вне очереди; я исполняю мою обязанность и не боюсь никого, кроме великого князя, и то потому, что он мой прямой начальник, точно так же, как мои солдаты не боятся его высочества, а боятся одного меня.
– Так вы ничего не знаете? – спросил Александр.
– Ничего, Ваше Высочество, кроме того, что я дежурный не в очередь.
– Я так приказал, – сказал Константин.
– К тому же, – сказал Александр, – мы оба под арестом.
Еще Саблуков узнал от великих князей, что Обольянинов водил их сегодня в церковь присягать в верности императору Павлу.
Это существенная подробность. Весьма показательно и поведение великого князя Александра Павловича за три часа до убийства отца. Если Александр Павлович знал, чем закончится «лишение императора возможности делать зло», то объяснимым становится тот панический страх, которым был объят будущий император…
Было чего бояться…
Нелегко, должно быть, смотреть в глаза своему отцу, зная, что через несколько часов его убьют по твоему приказу.
«В последующих моих беседах с императором Александром, – пишет князь Адам Чарторыйский, – последний неоднократно рассказывал мне совершенно искренно о своем ужасном душевном волнении в эти минуты, когда сердце его буквально разрывалось от горя и отчаяния. Да оно и не могло быть иначе, ибо в такие минуты он не мог не думать об опасности, угрожавшей ему, его матери и всему семейству в случае неудачи заговора»…
А убийцы уже собрались тогда у Зубовых, где отважный любовник прежней императрицы сказал горячую речь, в которой описал «плачевное положение России», указал на «бедствия, угрожающие государству и частным лицам, если безумные выходки Павла будут продолжаться. Он указал на безрассудность разрыва с Англией»…
Свою речь Зубов закончил заявлением, что великий князь Александр, удрученный бедственным положением родины, решился спасти ее и что, таким образом, все дело сводится теперь лишь к тому, чтобы низложить императора Павла, заставив его подписать отречение в пользу наследника престола. Провозглашение Александра, по словам оратора, спасет отечество и самого Павла от неминуемой гибели. В заключение граф Пален и Зубовы категорически заявили всему собранию, что настоящий проект вполне одобрен Александром.
«С этого момента, – пишет князь Адам Чарторыйский, – колебания заговорщиков прекратились: пили здоровье будущего императора, и вино полилось рекою. Пален, оставивший на время собрание, поехал во дворец и вскоре вернулся, принеся известие, что ужин в Михайловском замке прошел спокойно, что император, по-видимому, ничего не подозревает и расстался с императрицей и великими князьями, как обыкновенно».
8
Ужин у Зубовых между тем продолжался, и всеобщее возбуждение росло благодаря обильным возлияниям, большинство же гостей были сильно навеселе, причем несколько человек уже едва держались на ногах. Наконец время, назначенное для исполнения заговора, наступило. В полночь все встали из-за стола и двинулись к Михайловскому замку.
Проводником колонны, в которой шли братья Зубовы и Беннигсен, был адъютант Преображенского полка Александр Васильевич Аргамаков, знавший все потайные ходы и комнаты, так как ему по нескольку раз случалось ходить по ним, принося рапорты и принимая приказание императора. Аргамаков повел заговорщиков сперва в Летний сад, потом по мостику в дверь, сообщавшуюся с Летним садом, далее по лесенке, которая привела убийц в маленькую кухоньку, смежную с прихожей перед спальней Павла.
Здесь Аргамаков постучался в дверь, запертую на ключ.
– Кто там? – раздался голос камердинера Павла. – Что нужно…
– Я адъютант государя! – отвечал Аргамаков. – Можно ли спрашивать, что мне нужно? Я прихожу каждое утро подавать рапорт императору. Уже шесть часов. Отпирай скорее!
– Как шесть часов? – возразил камердинер. – Еще и двенадцати нет. Мы только что улеглись спать.
– Вы ошибаетесь! – сказал Аргамаков. – Ваши часы, вероятно, остановились. Теперь более шести часов. Открывайте, а то из-за ваших часов меня посадят под арест.
Обманутый камердинер открыл дверь.
Беннигсен переговоры Аргамакова с камердинером не слушал. В его воспоминаниях заговорщики сразу попали в прихожую.
«Там мы застали камер-гусара, который спал крепчайшим сном, сидя и прислонившись головой к печке. Из всей толпы офицеров, сначала окружавших нас, оставалось теперь всего человека четыре, да и те вместо того, чтобы вести себя тихо, напали на лакея; один из офицеров ударил его тростью по голове, и тот поднял крик.
Пораженные, все остановились, предвидя момент, когда общая тревога разнесется по всем комнатам.
Я поспешил войти вместе с князем Зубовым в спальню, где мы, действительно, застали… императора уже разбуженным этим криком и стоящим возле кровати, перед ширмами. Держа шпаги наголо, мы сказали ему: “Вы арестованы, Ваше Величество!”»
Прервем тут рассказ генерала Беннигсена…
М.А. Фонвизин рассказывает, что Павел, встревоженный шумом, вскочил с постели, схватил шпагу и спрятался за ширмами. Князь Платон Зубов, не видя Павла на постели, испугался, но Беннигсен, хладнокровно осмотрев помещение, нашел Павла, спрятавшегося за ширмами, со шпагою в руке и вывел его из засады.
Самое замечательное здесь – подчеркнутое хладнокровие генерала. Если Платон Александрович и позволил себе для храбрости хватануть за ужином лишку, то генерал Беннигсен был трезв и предельно собран.
Когда он произнес слова об аресте, Павел взглянул на него и сразу же, не произнеся ни слова, обернулся к князю Зубову.
– Что вы делаете, Платон Александрович? – спросил он.
«В эту минуту, – свидетельствует Беннигсен, – вошел в комнату офицер нашей свиты и шепнул Зубову на ухо, что его присутствие необходимо внизу, где опасались гвардии, что один поручик не был извещен о перемене, которая должна совершиться. Несомненно, что император никогда не оказывал несправедливости солдату и привязал его к себе, приказывая при каждом случае щедро раздавать мясо и водку в петербургском гарнизоне (выделено мной. – Н.К.).
Тем более должны были бояться этой (выделено мной. – Н.К.) гвардии, что граф Пален еще не прибыл со своей свитой и батальоном для занятия главной лестницы замка, отрезавшей всякое сообщение между гвардией и покоями императора.
Князь Зубов вышел, и я с минуту оставался с глазу на глаз с императором, который только глядел на меня, не говоря ни слова.
Мало-помалу стали входить офицеры из тех, что следовали за нами. Первыми были подполковник Яшвиль, брат артиллерийского генерала Яшвиля, майор Татаринов и еще несколько других.
Я должен здесь прибавить, что так как за последнее время было сослано и удалено со службы огромное количество офицеров всех чинов, то я уже не знал почти никого из тех, кого теперь видел перед собой, и они тоже знали меня только по фамилии.
Тогда я вышел, чтобы осмотреть двери, ведущие в другие покои; в одном из них, между прочим, были заперты шпаги арестованных офицеров. В эту минуту вошло еще много офицеров.
Я узнал потом те немногие слова, какие произнес император по-русски – сперва: «Арестован, что это значит арестован?» Один из офицеров отвечал ему: «Еще четыре года тому назад с тобой следовало бы покончить!» На это он возразил: «Что я сделал?» Вот единственные произнесенные им слова.
Офицеры, число которых еще возросло, так что вся комната наполнилась ими, схватили его и повалили на ширмы, которые были опрокинуты на пол. Мне кажется, он хотел освободиться от них и бросился к двери, и я дважды повторил ему: «Оставайтесь спокойным, Ваше Величество, – дело идет о вашей жизни!»
В эту минуту я услыхал, что один офицер, по фамилии Бибиков, вместе с пикетом гвардии вошел в смежную комнату, по которой мы проходили. Я иду туда, чтобы объяснить ему, в чем будет состоять его обязанность, и, конечно, это заняло не более нескольких минут».
М.А. Фонвизин рассказывает, что несколько угроз, вырвавшихся «у несчастного Павла, вызвали ярость Николая Зубова, который был силы атлетической. Он держал в руке золотую табакерку и с размаха ударил ею Павла в висок, – это было сигналом, по которому князь Яшвиль, Татаринов, Горданов и Скарятин яростно бросились на него, вырвали из его рук шпагу: началась с ним отчаянная борьба. Павел был крепок и силен: его повалили на пол, топтали ногами, шпажным эфесом проломили ему голову и, наконец, задавили шарфом Скарятина»…
9
Самое замечательное у М.А. Фонвизина, однако, идет далее…
«В начале этой гнусной, отвратительной сцены Беннигсен вышел в предспальную комнату, на стенах которой развешены были картины, и со свечкою в руке преспокойно рассматривал их.
Удивительное хладнокровие. Не скажу – зверское жестокосердие, потому что генерал Беннигсен во всю свою службу был известен как человек самый добродушный и кроткий. Когда он командовал армией, то всякий раз, когда ему подносили подписывать смертный приговор какому-нибудь мародеру, пойманному на грабеже, он исполнял это как тяжкий долг, с горем, с отвращением и делая себе насилие. Кто изъяснит такие несообразные странности и противоречия человеческого сердца!»
Барон Левин Август Теофил Беннигсен родился в родовом поместье близ Ганновера. Будучи обладателем богатого родового поместья, на русскую службу Беннигсен поступил в 1773 году, не принимая при этом, однако, русского подданства.
Михайловский замок. Гравюра Б. Патерсона. 1801 г.
Во время польской кампании барон познакомился с Валерианом Александровичем Зубовым, и с этого момента в карьере его происходит перелом. Награды и повышения в званиях так и сыплются на него.
Участие Беннигсена в убийстве императора Павла было предопределено его близостью к братьям Зубовым. Император прозорливо отметил, увольняя Беннигсена со службы: «Имею я повод думать, что Беннигсен у нас не весьма усерден, и особенно лично ко мне»…
Тем не менее по ходатайству Палена Беннигсен был возвращен и теперь хладнокровно разглядывал со свечкой в руках картины на стенах, ожидая, когда «пехота» завершит цареубийство.
В отличие от пьяных офицеров русской гвардии, вообразивших, что чем гнуснее будут они убивать императора, тем более будет заслуга, Беннигсен прекрасно понимал, что для продолжения стремительной карьеры надобно, по крайней мере, уклониться от прямого участия в цареубийстве[166].
Он так и поступил.
Полюбовавшись картинами, он вернулся в спальню императора.
«Кто-то из офицеров сказал мне: “С ним покончили!”
Мне трудно было этому поверить, так как я не видел никаких следов крови. Но скоро я в том убедился собственными глазами. Итак, несчастный государь был лишен жизни непредвиденным образом и, несомненно, вопреки намерениям тех, кто составлял план этой революции, которая, как я уже сказал, являлась необходимой. Напротив, прежде было условлено увезти его в крепость, где ему хотели предложить подписать акт отречения от престола».
В своих мемуарах Беннигсен, не довольствуясь собственным алиби, тут же называет и имена подлинных убийц.
«Припомните, генерал, что было много выпито вина за ужином, предложенным… офицерам, бывшим виновниками этой сцены, которую, к несчастью, нельзя вычеркнуть из истории России». Примечание это весьма существенное, поскольку у фон Палена тоже хватило ума не принимать непосредственного участия в убийстве императора Павла. Беннигсен, однако, исправляет эту несправделивость.
«Должен прибавить, – пишет он, – что граф Пален, обращаясь к этим офицерам, сказал им между прочим: “Господа, чтобы приготовить яичницу, необходимо разбить яйца”. Не знаю, с каким намерением было употреблено это выражение, но эти слова могли подать повод к ложным толкованиям».
Правда, другие участники цареубийства подозревали, что, в отличие от Беннигсена, Пален подстраховывался не только от неприятностей, связанных с раздражением будущего императора на убийц отца, но заодно и от гнева самого Павла в случае провала переворота.
«Пален тоже пришел на место действия, когда уже все было кончено, – пишет М.А. Фонвизин. – Или он гнушался преступлением и даже не хотел быть свидетелем его, или, как иные думали, он действовал двулично: если бы заговор не увенчался успехом, он явился бы к императору на помощь, как верный его слуга и спаситель».
«Думают, – замечает по этому поводу граф Ланжерон, – что Пален, адский гений которого все предвидел, а в особенности не забыл ничего, что могло касаться его лично, уклонился от деятельного участия не потому, как он уверял меня, что хотел исполнить обещание, данное великому князю Александру, а для того, чтобы быть в состоянии, если не удастся предприятие, броситься на помощь к императору: не желая сам совершать преступления, он, зная хладнокровие и невозмутимое мужество Беннигсена, призвал его, чтобы заменить себя, и правда, что без Беннигсена ничего не удалось бы».
«Весть о кончине Павла была тотчас же доведена до сведения графа Палена, который расположился на главной аллее у замка с несколькими батальонами гвардии, – вторит Фонвизину и Ланжерону княгиня Ливен. – Войска были собраны по его приказу, чтобы, глядя по обстоятельствам, или явиться на подмогу императору, или послужить для провозглашения его преемника. И в том, и в другом случае граф Пален питал уверенность, что ему на долю достанется первенствующая роль».
Если вспомнить, что, по рассказу самого фон Палена, он приказал великому князю одеться в мундир и ждать, поскольку потом дорога будет каждая минута и нового императора надобно будет показать войскам немедленно, «адский гений» его явит еще одно подтверждение. Ведь если бы Палену в случае провала цареубийства пришлось врываться во дворец, чтобы перебить заговорщиков, он смог бы предъявить одетого в мундир Александра как доказательство того, что именно Александр и организовал заговор.
Воистину адский гений!
Причем адский – без всякого преувеличения.
Палену – вспомните разговор, который недавно состоялся у него с императором Павлом, когда Пален признался, что стоит во главе заговора, чтобы разоблачить его! – удалось отладить заговор до такого виртуозного совершенства, что все в нем: и «пехота» цареубийства, и Беннигсен, и братья Зубовы, и великий князь Александр, и сам император Павел – были только маленькими винтиками механизма, ключи от которого держал он, Пален.
Что он чувствовал, стоя с несколькими батальонами гвардии на главной аллее у замка?
Пытался представить, что происходит сейчас в покоях императора?
Нетерпеливо поглядывал на часы, выжидая, на чью сторону склонятся весы победы?
Или просто с холодной усмешкой смотрел, как приближается к нему из замка посланец?
И может быть, Пален уже готов был объявить батальонам, что в замке заговорщики покушаются на государя императора, и скомандовать идти на штурм. И уже все напряглось в нем… Еще минута, и он с обнаженной шпагой ворвется в замок во главе батальонов и, сметая на своем пути жизни товарищей по заговору, предстанет перед императором Павлом как спаситель государя и Отечества! И таким и останется навеки…
И уже все дрожало, все пело в нем от восторга предстоящей схватки, но тут со страшным криком взлетела в воздух с крыши замка огромная стая ворон, захлопали в темном воздухе черные крылья.
Черный, как эти вороньи крылья, вышел из сумерек посланец.
– Тиран убит! – прошептал он, и Пален, словно и не воображал себя минуту назад спасителем Отечества, поправил треуголку и деловито зашагал к замку.
Осталось только взглянуть на труп, и можно было идти докладывать о победе новому императору.
Одетый, тот ожидал известия от заговорщиков…
Воистину адский гений!
Ну а разудалые братья Зубовы выйти из спальни не догадались.
Сам светлейший князь Платон Александрович Зубов, хотя и был пьян, в избиении императора участия не принимал, отвернувшись, барабанил он пальцами по оконному стеклу.
– Боже мой, как этот человек кричит! – проговорил он, наконец. – Это невыносимо!
Услышав слова брата, Николай Александрович Зубов, который стоял рядом и нюхал табак, захлопнул массивную золотую табакерку и подошел к императору.
– Что ты кричишь? – сказал он, хватая Павла за руку.
– Дайте мне помолиться перед смертью! – закричал Павел, в гневе отталкивая его руку.
– Что ты кричишь?! – пьяно повторил Зубов и ударил Павла табакеркой в левый висок.
«Беннигсен не захотел мне больше ничего говорить, – пишет граф Ланжерон, – однако оказывается, что он был очевидцем смерти императора, но не участвовал в убийстве. Убийцы бросились на Павла, и он защищался слабо: он просил пощады, умолял, чтобы ему дали время прочесть молитвы, и, увидев одного офицера конной гвардии, приблизительно одного роста с великим князем Константином, он принял его за сына и сказал ему, как Цезарь Бруту: “Как! и Ваше Высочество здесь”. (Это слово “высочество” очень необычайно при подобным обстоятельствах.) Итак, несчастный государь умер, убежденный, что его сын был одним из его убийц, и это страшное сознание еще более отравило его последние минуты. Убийцы не имели ни веревки, ни полотенца, чтобы задушить его; говорят, Скарятин дал свой шарф, и через него погиб Павел. Не знают, кому приписать позорную честь быть виновником его жестокой кончины; все заговорщики участвовали в ней, но, по-видимому, князю Яшвилю и Татаринову принадлежит главная ответственность в этом страшном злодействе. Оказывается, что Николай Зубов, нечто вроде мясника, жестокий и разгоряченный вином, который упился, ударил его кулаком в лицо, а так как у него была в руке золотая табакерка, то один из острых углов этой четырехугольной табакерки ранил императора под левым глазом».
Павел был сыном Екатерины II, и убил его ее последний любовник, его брат и их подручные…
Другой любовник Екатерины II со своими подручными, как мы уже говорили, убил императора Петра III, который был официальным отцом Павла…
Во многих своих начинаниях Павел был первым.
Едва ли не самым первым был он в своей бескомпромиссной приверженности закону, перед которым он почитал равными и своего «друга» Аракчеева, и любого из дворян.
Август Коцебу пишет в своих записках, что на следующий день, когда пьяные гвардейские офицеры, ликуя, поздравляли солдат: «Радуйтесь, братцы! Тиран умер!», в ответ они слышали:
«Для нас он был не тиран, а отец!»… Император Павел мало что успел сделать.
Офицеры гвардии убили его за то, что он покусился на основы рабовладельческого устройства империи, убили, чтобы он не успел сделать то, что собирался сделать.
Всходя на престол, Александр I сказал, что при нем все будет как при бабушке…
Так не получилось. Россия, как бы этого ни хотелось его убийцам, уже не могла вернуться после его правления в эпоху первых Романовых.
И словно небесный знак этого – захоронение русских императоров в Петропавловском соборе.
Раздается голос священника, возвещающего: «Сие есть тело Мое»… «Сия есть кровь Моя».
Распахиваются Царские врата, и по правую руку – надгробья Павловичей, по левую – первых Романовых…
И наверное, это и есть ответ на главный вопрос нашей истории.
Это свидетельство того, что императору Павлу, вопреки заговорщикам-крепостникам, удалось исправить ошибки первых Романовых. Самой своей мученической кончиной искупил он многие грехи, совершенные основателями династии.
Павловичи подобных грехов уже не совершали…
Глава третья Отцеубийца
И все-таки самое страшное в ночь с 11 на 12 марта происходило не в спальне императора Павла, а рядом с нею…
Услышав подозрительный шум, гренадеры Преображенского полка, стоявшие во внутреннем карауле, поняли, что царю угрожает опасность, и заволновались.
«Одна минута, – пишет М.А. Фонвизин, – и Павел мог быть спасен ими. Но Марин не потерял присутствия духа, громко скомандовал: смирно! от ночи и все время, как заговорщики управлялись с Павлом, продержал своих гренадер под ружьем неподвижными, и ни один не смел пошевелиться. Таково было действие русской дисциплины на тогдашних солдат: во фронте они становились машинами».
Крики добиваемого императора, который пытался ограничить рабовладельческий беспредел, и русские гренадеры из императорского караула, что неподвижно застыли в строю, потому что им отдал такую команду нарушивший присягу рабовладелец – поручик Сергей Никифорович Марин!
Воистину более страшного символа рабовладельческой империи не придумать…
1
Ах, как торжествовал утром 12 марта 1801 года аристократический Петербург! Нельзя и сейчас без омерзения перечитывать страницы воспоминаний, посвященных описанию торжества победителей.
«Лишь только рассвело, как улицы наполнились народом. Знакомые и незнакомые обнимались между собою и поздравляли друг друга с счастием – и общим, и частным для каждого порознь…» – пишет в своих записках Беннигсен.
«Весть об этом событии была в целом государстве вестью искупления: в домах, на улицах, люди плакали, обнимали друг друга, как в день Светлого Воскресения», – свидетельствует Н.М. Карамзин.
Но, как утверждает М.А. Фонвизин, «этот восторг изъявляло, однако, одно дворянство, прочие сословия приняли эту весть довольно равнодушно».
Впрочем, и среди дворян, радующихся убийству своего государя, тоже встречались порядочные люди. Если судить по «Запискам» Н.А. Саблукова, некоторые из офицеров гвардии испытывали достаточно неприязненные чувства к своим товарищам, изменившим присяге.
«Желая расположить общественное мнение в свою пользу, Пален, Зубов и другие вожаки заговора решили устроить большой обед, в котором должны были принять участие несколько сот человек. Полковник N, один из моих товарищей по полку, зашел ко мне однажды утром, чтобы спросить, знаю ли я что-нибудь о предполагаемом обеде. Я отвечал, что ничего не знаю. “В таком случае, – сказал он, – я должен сообщить вам, что вы внесены в список приглашенных. Пойдете ли вы туда?”
Я отвечал, что, конечно, не пойду, ибо не намерен праздновать убийство. – “В таком случае, – отвечал N, – никто из наших также не пойдет”. С этими словами он вышел из комнаты».
Однако неприязненные чувства русский рабовладелец мог выказывать только по отношению к тем изменникам и цареубийцам, которые решались на это, так сказать, в приватном порядке. Когда же помазанника Божия «мочили» с согласия столпов высшего света, ни о каком осуждении и речи не могло идти…
«В тот же день граф Пален пригласил меня к себе, и едва я вошел в комнату, он сказал мне:
– Почему вы отказываетесь принять участие в обеде?
– Рагсе que je n'ai rien de commun avec сеs messieurs[167], – отвечал я.
Тогда Пален с особенным одушевлением, но без всякого гнева сказал: “Вы не правы, Саблуков! Дело уже сделано, и долг всякого доброго патриота, забыв все партийные раздоры, думать лишь о благе родины и соединиться вместе для служения отечеству. Вы так же хорошо, как и я, знаете, какие раздоры посеяло это событие: неужели же позволить им усиливаться? Мысль об обеде принадлежит мне, и я надеюсь, что он успокоит многих и умиротворит умы. Но, если вы теперь откажетесь прийти, остальные полковники вашего полка тоже не придут, и обед этот произведет впечатление, прямо противоположное моим намерениям. Прошу вас поэтому принять приглашение и быть на обеде”».
Разумеется, демагогия Палена не выдерживала никакой критики.
Как это можно осуждение цареубийства называть партийными раздорами? И можно ли соединяться для служения Отечеству с только что нарушившими присягу цареубийцами?
Но вот что странно. Н.А. Саблукова, человека умного и не замаравшего себя 11 марта и не изменившего присяге, хотя он и находился в самом центре событий, слова Палена убеждают.
Оказывается, что при всей его порядочности общего у Н.А. Саблукова «с господами цареубийцами» все-таки больше, чем с простыми русскими солдатами. Как и братья Зубовы, как и хитрый Пален, Саблуков принадлежит к касте рабовладельцев и нарушать ее законы, какими бы гнусными они ни были, не смеет.
«Я обещал Палену исполнить его желание, – пишет Н.А. Саблуков. – Я явился на этот обед и другие полковники тоже, но мы сидели отдельно (вот и весь возможный протест! – Н.К.) от других, и, сказать правду, я заметил весьма мало единодушия, несмотря на то, что выпито было немало шампанского. Много сановных и высокопоставленных лиц, а также придворных особ посетили эту “оргию”, ибо другого названия нельзя дать этому обеду. Перед тем, чтобы встать со стола, главнейшие из заговорщиков взяли скатерть за четыре угла, все блюда, бутылки и стаканы были брошены в средину, и все это с большою торжественностью было выброшено через окно на улицу»…
Но выбрасывали цареубийцы в окно не только грязную посуду.
Свою честь – ведь все они изменили присяге! – тоже.
А заодно и честь всех тех, кто хотя и отдельно, но тоже сидел за столом цареубийц…
2
Когда Пален убедился, что император Павел мертв, он отправился к цесаревичу Александру известить, что дело закончено.
Платон Александрович Зубов отправился с той же целью к великому князю Константину Павловичу.
«Платон Зубов, – рассказывал потом тот, – пьяный вошел ко мне в комнату, подняв шум. (Это было уже через час после кончины моего отца.) Зубов грубо сдергивает с меня одеяло и дерзко говорит: “Ну, вставайте, идите к императору Александру; он вас ждет”. Можете себе представить, как я был удивлен и даже испуган этими словами. Я смотрю на Зубова: я был еще в полусне и думал, что мне все это приснилось. Платон грубо тащит меня за руку и подымает с постели: я надеваю панталоны, сюртук, натягиваю сапоги и машинально следую за Зубовым…. Вхожу в прихожую моего брата, застаю там толпу офицеров, очень шумливых, сильно разгоряченных, и Уварова, пьяного, как и они, сидящего на мраморном столе, свесив ноги.
В гостиной моего брата я нахожу его лежащим на диване в слезах, как и императрица Елизавета. Тогда только я узнал об убийстве моего отца»…
«Великий князь Александр Павлович, – пишет М.А.Фонвизин в своих Записках, – в эту ночь не ложился спать и не раздевался; при нем находились генерал Уваров и адъютант его князь Волконский. Когда все кончилось и он узнал страшную истину, скорбь его была невыразима и доходила до отчаяния. Воспоминание об этой страшной ночи преследовало его всю жизнь и отравляло его тайной грустью. Он был добр и чувствителен, властолюбие не могло заглушить в его сердце жгучих упреков совести даже и в самое счастливое и славное время его царствования, после Отечественной войны. Александр всей ненавистью возненавидел графа Палена, который воспользовался его неопытностью и уверил его в возможности низвести отца его с трона, не отняв у него жизни».
Но ненависть придет позднее.
И жгучие упреки совести тоже.
Пока же слезы, льющиеся по щекам императора, не более чем театр. Поэтому, когда пьяный Платон Зубов привел великого князя Константина, фон Пален сказал:
– Полно ребячиться, Ваше Величество! Пошли! Надо успокоить караульных солдат!
Дальше, как всегда и бывает во время таких революций, всё пошло бестолково и суматошно. Вспомнили, что и граф Панин, и князь Зубов, и сам великий князь Александр, замышляя переворот, имели намерение не только угодить англичанам, но и ввести умеренную конституцию.
Платон Александрович даже брал у генерала Клингера для прочтения «Английскую конституцию» Делольма, и на основе ее изготовил свой проект. Никитой Ивановичем Паниным тоже был изготовлен вариант английской конституции, переделанной на русские нравы и обычаи. Был также проект Гавриила Романовича Державина, по которому в России следовало образовать нечто наподобие кортесов – органов сословного представительства на Пиренейском полуострове…
Насколько эти проекты были созвучны русской действительности, наглядно демонстрирует ошибка, сделанная академиком Я.К. Гротом при публикации конституционной заметки Державина. Вместо «его кортесов» он напечатал «его картонов».
«Который же из проектов был глупее, – справедливо замечает по этому поводу князь А.Б. Лобанов-Ростовский, – трудно описать: все три были равно бестолковы».
– Где же бумаги? – был задан вопрос князю Зубову, когда вспомнили о своих конституционных амбициях.
Тот начал рыться в карманах, но текста конституции не нашел. То ли Платон Александрович обронил ее в суматохе, то ли позабыл дома, поскольку на убийство монарха отправился сильно навеселе.
– Полно ребячиться, Ваше Величество! – повторил граф Пален. – Идите царствовать. Покажитесь гвардии, пока нас не подняли на штыки.
Новый император взглянул на Платона Александровича, пьяно ощупывающего себя в поисках конституции, потом вздохнул.
– При мне все будет как при бабушке! – дрожащим голосом произнес он.
Это всех присутствующих, и главного «конституционера» Платона Зубова в том числе, устраивало больше, чем любая конституция.
Так и записали в манифесте о вступлении на престол императора Александра I…
«Судьбам Всевышнего угодно было прекратить жизнь Императора Павла Петровича, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11-го на 12-е марта. Мы, восприемля наследственно Императорский Всероссийский Престол, восприемлем купно и обязанность управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в Бозе почивающей Августейшей Бабки Нашей Государыни Императрицы Екатерины Великия, коея память Нам и всему отечеству вечно пребудет любезна, да по ея премудрым намерениям шествуя, достигнем вознести Россию на верх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным Нашим».
По сути дела, Александр I повторил то, что сделал, вступая на престол, Павел.
Сокороновав прах Петра III с прахом Екатерины II и захоронив их в один день, Павел как бы вычеркнул правление матери, установив свое прямое наследование Петру III.
Но ведь подчеркивая, что его правление будет продолжением правления Екатерины II, Александр I тоже как бы вычеркивает правление Павла…
Вот такой странной и зловещей игрой с мертвецами обернулась новая конституционная попытка в России.
Забегая вперед, скажем, что сами участники переворота вполне серьезно относились к установленной ими «конституции». Заговорщики открыто хвастали своей удалью и в соответствии с закрепленным в «конституции» бабкиным обычаем награждать цареубийц требовали, чтобы и император Александр достойно вознаградил их.
«Русские защитники самовластия… – остроумно заметил по этому поводу А.С. Пушкин, – принимают славную шутку г-жи де-Сталь за основание нашей конституции: “En Russie Ie gouver – nement est un despotisme mitige par la strangulatijn”»[168].
Ну а тогда ночью в Михайловском замке, решив вопрос с конституцией, император Александр вышел к войскам гвардии…
Как и положено, в первую очередь Пален представил нового императора Преображенскому полку.
– Да здравствует император Александр! – воскликнул генерал Талызин.
В ответ было гробовое молчание. Слух о том, что происходило в покоях императора, распространился среди солдат, и приветствовать, подобно офицерам, криками «ура!» свержение с трона помазанника Божия солдаты не могли.
Император перешел к Семеновскому полку; тут думали, что император умер своей смертью, тут прокричали «ура!». Другие полки последовали примеру семеновцев, но преображенцы по-прежнему безмолвствовали.
Новый император сел в сани и умчался в Зимний дворец.
Войска выстроились в колонны и двинулись на Дворцовую площадь.
Преображенцы снялись от Михайловского замка, только когда солдатам показали труп императора Павла.
Лицо Павла, чтобы менее заметными стали следы удушения, было нарумянено и набелено. Чтобы прикрыть красную полосу вокруг шеи, повязали широкий галстук, на лицо, чтобы закрыть пролом на виске, надвинули шляпу…
Император лежал на парадной кровати в мундире, в галстуке и в шляпе, словно куда-то шел или уже стоял перед кем-то с докладом.
Жутковато страшным было его лицо… А Александр I, прибыв в Зимний дворец, продолжал плакать о невосполнимой потере.
Впрочем, и в горе своем он не забывал о деле.
Когда граф Ливен вошел в его кабинет, император упал в его объятия с рыданиями: «Мой отец! Мой бедный отец!»
Слезы обильно потекли по его щекам.
«Этот порыв, – рассказывал сам граф Ливен супруге, – продолжался несколько минут. Потом государь выпрямился и воскликнул: “Где же казаки?”»
Вот так-то…
Горе горем, конституция – конституцией, а обязательства перед англичанами тоже надобно было отрабатывать.
Ливен обстоятельно объяснил новому императору задачу, поставленную Павлом перед казаками, и получил приказ немедленно вернуть казаков назад.
Так была спасена Англия…
«Они промахнулись по мне 3 нивоза, но попали в меня в Петербурге», – воскликнул Бонапарт, получив печальное известие из России.
Задуманный поход в Индию не состоялся…
Заговорщикам-цареубийцам удалось пресечь его.
Но пресекали они не только задуманную императорами Наполеоном и Павлом операцию. Спасая свое право быть рабовладельцами, они пресекали новую мировую историю человечества, в которую пытались прорубить ход император Наполеон и император Павел …
3
Всего два часа потребовалась заговорщикам, чтобы произвести революцию.
При всем критическом отношении к тогдашней петербургской аристократии нельзя не признать, что она довела до совершенства механику государственных переворотов и теперь не знала равных в искусстве совершения измен.
Кроме караула преображенских гренадер, поставленных поручиком Мариным по команде «Смирно!» под ружье, некоторое сопротивление действиям заговорщиков оказала только императрица Мария Федоровна.
Когда обер-гофмейстерина графиня Ливен разбудила императрицу, та спросонок долго не могла ничего понять.
– Боже мой! – заволновалась она. – Беда случилась? С Мишелем?
– Никак нет. Его высочеству лучше, жара нет, он спокойно спит.
– Значит, кто-нибудь из других детей заболел?
– Нет… Все здоровы.
– Вы меня, верно, обманываете, Катерина?
Графиня Ливен не придумала ничего лучшего, как сказать императрице, что Павел внезапно заболел и состояние его очень опасное.
Чего она ожидала?
Что Мария Федоровна обрадуется этому известию и на радостях переедет в Зимний дворец?
Императрица не оправдала ее надежд. Она тотчас же встала и, накинув на себя халат, направилась к спальне мужа…
Тогда графиня Ливен принуждена была сказать государыне, что император Павел перестал жить. Императрица посмотрела на обер-гофмейстерину блуждающими глазами, словно не понимая этих слов.
– Ваш супруг скончался, – твердо повторила графиня. – Просите Господа Бога принять усопшего милостиво в лоно Свое и благодарите Господа за то, что Он вам столь многое оставил.
Когда императрица осознала, наконец, что случилось, она лишилась чувств. Позвали доктора, чтобы пустить кровь.
Когда сознание вернулось к императрице, «роковая истина предстала пред ее рассудком в сопровождении ужасающих подозрений. Она с криком требовала, чтобы ее допустили к усопшему. Ее убеждали, что это невозможно. Она на это восклицала: “Так пусть же и меня убьют, но я должна его видеть!”»
Мария Федоровна бросилась к спальне мужа, но двери, через которые она обычно ходила к мужу, были заперты. Тогда императрица направилась кружным путем через залы.
Но и там везде стояла стража… Караульный офицер объяснил императрице, что получил приказание никого не пропускать в опочивальню к усопшему. Царица, не обращая внимания, хотела пройти в двери, за которыми лежало обезображенное тело государя, но офицер схватил ее за руку.
Императрица тогда упала на колени.
– Да ты, матушка, нас не бойся, – вскричали старые гренадеры. – Мы все тебя любим!
Разумеется, момент для заговорщиков был критическим. Императрица могла напрямую апеллировать к солдатам, и тогда судьба всего заговора стремительно изменилась бы. Стоило императрице сказать одно только слово, и штыки солдат разорвали бы заговорщиков, и при всеобщем ликовании народа Мария Федоровна, как некогда Екатерина II, была бы провозглашена правительницей при малолетнем сыне Николае…
Некоторые исследователи утверждают, что Мария Федоровна не пошла на этот шаг вследствие нежелания заниматься делами правления, утверждается также, что известную роль сыграла и ее ревность, повод для которой давало увлечение Павла Анной Петровной Лопухиной[169]…
Думается, что все эти аргументы малоосновательны. Императрица-мать активно влияла или, вернее, пыталась влиять на политику Александра I, а ревность ее по поводу Лопухиной сильно преувеличена. Лопухина была выдана замуж за князя Гагарина, и ее влияние на императора Павла ограничивалось ходатайствами за несправедливо обиженных.
Если уж у императрицы и были какие-то мысли об устройстве еще одного переворота[170], то останавливала ее не лень и не ревность, а тот самый акт о престолонаследии, который был подписан ею при коронации Павла и положен в ковчег в алтаре Успенского собора.
Сейчас, в предрассветные часы 12 марта 1801 года, этот Павловский Закон и прошел первое испытание.
И выдержал его.
Опустив голову, императрица согласилась вернуться в свои покои.
И сколько раз еще силы зла и тьмы будут пытаться сокрушить династию Павла, но на таком крепком основании оказалась воздвигнута она, что никакими дворцовыми интригами целое столетие нельзя было и пошатнуть ее…
Однако покинуть замок раньше, чем простится с прахом супруга, Мария Федоровна отказалась категорически.
«Когда… она отправилась к своим невесткам, супругам великих князей Александра и Константина, я велел запереть двери, ведшие в апартаменты великих княгинь, – пишет в своих мемуарах генерал Беннигсен. – До сих пор императрица не была осведомлена, в чью пользу была произведена эта революция… Когда она узнала, что командование поручено мне, она приказала мне явиться к ней. Я уже осведомился о приказаниях императора, который велел мне передать, чтобы я отправился к ней и посоветовал, попросил ее от его имени покинуть Михайловский замок и ехать в Зимний дворец, где ей будет сообщено все, что она пожелает узнать. Вследствие этого я отправился в апартаменты великих княгинь, где находилась императрица. Увидав меня, ее величество спросила, мне ли поручено командовать здешними войсками. На мой утвердительный ответ она осведомилась с большой кротостью и спокойствием душевным: “Значит, арестована?”»
– Значит, я арестована? – повторила вопрос императрица.
– Совсем нет, – отвечал Беннигсен, – возможно ли это?
– Но меня не выпускают, все двери на запоре…
– Ваше Величество, это объясняется лишь необходимостью принять некоторые меры предосторожности для безопасности императорской фамилии, здесь находящейся. Могут случиться беспорядки вокруг замка.
– Следовательно, мне угрожает опасность?
– Все спокойно, Ваше Величество, и мы все находимся здесь, чтобы охранять особу вашего величества.
Императрица молчала, обдумывая услышанное, и Беннигсен решил исполнить поручение императора.
– Император Александр, – сказал он, – поручил мне…
– Император Александр?! – прервала его Мария Федоровна. – Но кто провозгласил его императором?
– Голос народа! – по-генеральски мудро отвечал Беннигсен.
– Ах! Я не признаю его, – сказала императрица и, понизив голос, добавили: – Прежде пусть он мне даст отчет о своем поведении.
Потом взяла Беннигсена за руку и подвела к дверям.
– Велите отворить двери, – проговорила твердым голосом. – Я желаю видеть тело моего супруга!
Тщетно Беннигсен говорил, что после подобного события следует всячески избегать всякого шума и поэтому императрица обязана успокоиться…
«Я сказал ей, что до сих пор все спокойно, как в замке, так и во всем городе; что надеются на сохранение этого порядка и что я убежден, что ее величество сама желает тому способствовать. Я боялся, что если императрица выйдет, то ее крики могут подействовать на дух солдат, как я уже говорил, весьма привязанных к покойному императору. На все эти представления она погрозила мне пальцем, со следующими словами, произнесенными довольно тихо: “О, я вас заставлю раскаяться”. Смысл этих слов не ускользнул от меня. Минута молчания и, быть может, размышления вызвали несколько слез. Я надеялся воспользоваться этой минутой растроганности. Я заговорил опять, стал побуждать ее к умеренности и уговаривать покинуть Михайловский дворец и ехать в Зимний. Здесь молодая императрица поддержала мой совет с той кротостью и мягкостью, которые были так свойственны этой великой княгине, любимой всеми, кто имел счастье знать ее, и обожаемой всей нацией. Императрица-мать не одобрила этого шага и, обернувшись к невестке, отвечала ей довольно строгим тоном: “Что вы мне говорите? Не мне повиноваться! Идите, повинуйтесь сами, если хотите!”»…
Раздражение императрицы усиливалось с минуты на минуту. Она решительно объявила Беннигсену, что не выйдет из дворца, пока не увидит тела своего супруга.
Фон Пален тоже пытался вести переговоры с императрицей, но и у него ничего не вышло…
– Что здесь произошло? – спросила императрица.
– То, что давно можно было предвидеть! – ответил фон Пален с обычным хладнокровием.
– Кто же зачинщики этого дела?
– Много лиц из различных классов общества.
– Но как могло это совершиться помимо вас, занимающего пост военного губернатора?
– Я прекрасно знал обо всем, – отвечал фон Пален, – и поддался этому, как и другие, во избежание более великих несчастий, которые могли бы подвергнуть опасности всю императорскую фамилию.
Посчитав, что он все разъяснил, фон Пален удалился, и весь гнев императрицы опять устремился на Беннигсена.
– Приказываю вам пропустить меня! – потребовала она.
– Не в моей власти повиноваться вам, пока я вижу Ваше Императорское Величество такой взволнованной! – оттягивая время, отвечал Беннигсен. – Только под одним условием я мог бы исполнить ее волю.
– Какое же это условие? – спросила Мария Федоровна.
– Чтобы Ваше Величество соблаговолили успокоиться…
– Не вам предписывать мне условия! Ваше дело повиноваться мне! Прежде всего велите отпереть двери!
– Ваше Величество! – сказал Беннигсен. – Мой долг предписал мне еще раз напомнить вам о ваших обязанностях по отношению к народу и умолять избегать малейшего шума… Любое волнение сейчас может иметь самые пагубные и даже опасные последствия.
– Ну хорошо, – после некоторого молчания поговорила императрица. – Обещаю вам ни с кем не говорить.
Все это время шли необходимые приготовления.
В спальне Павла навели порядок.
Вытерли с пола кровь. Одели труп императора в мундир и положили на кровать. Лицо забелили и нарумянили.
В семь часов утра приготовления были закончены и императрице разрешили войти в спальню убитого супруга.
«Нам пришлось пройти лишь две комнаты, чтобы достигнуть той, где стояло тело покойного императора, – пишет Беннигсен. – Г. Родиерсон и я находились возле ее величества, которую сопровождали обе великие княжны, графиня Ливен, две камер-юнгферы и камердинер. В последней комнате ее величество села на минуту, потом поднялась, и мы вошли в спальню покойного императора».
Как мы уже говорили, тело Павла было облачено в мундир его гвардейского полка, на голову, по самые брови, была нахлобучена шляпа.
– Боже, поддержи меня! – произнесла по-немецки Мария Федоровна, шагнула к постели супруга и громко вскрикнула.
Потом встала на колени и поцеловала руку покойного.
– Ах, друг мой! – проговорила она. Все еще стоя на коленях, она потребовала ножницы. Камер-юнгфера подала ножницы, и Мария Федоровна отрезала прядь волос с головы императора, сдвинув при этом треуголку и обнажив страшную рану…
Только в одиннадцать часов утра императрица-мать допустила к себе сына-императора.
Свидание в Зимнем дворце происходило без свидетелей.
Как пишет княгиня Ливен, государь вышел от императрицы-матери очень взволнованный, и с этого мгновения вплоть до кончины император проявлял к своей родительнице самое восторженное почтение, внимательность и нежность…
А Мария Федоровна сдержала слово и отомстила убийцам.
Первой жертвой ее стал граф Пален. Любопытно, что адский гений этого человека, который не знал никаких препятствий и страхов, Марии Федоровне удалось сокрушить в союзе с раскольниками, которые чрезвычайно почитали императора Павла за то, что он прекратил старообрядческие гонения, в которых упражнялись все прежние Романовы.
Дело было так… Чтобы выразить сочувствие вдовствующей императрице, многие раскольники присылали ей богато украшенные образа, снабженные надписями из Священного Писания…
Проект катафалка и балдахина для похорон императора Павла I
Иконы эти императрица передала в церковь воспитательного дома…
«Однажды утром, – пишет в своих записках Н.А. Саблуков, – во время обычного доклада государю, Пален был чрезвычайно взволнован и с нескрываемым раздражением стал жаловаться его величеству, что императрица-мать возбуждает народ против него и других участников заговора, выставляя напоказ в воспитательном доме иконы с надписями вызывающего характера. Государь, желая узнать, в чем дело, велел послать за моим отцом. Злополучные иконы были привезены во дворец, и вызывающая надпись оказалась текстом из Священного Писания, взятым, насколько помню, из Книги Царств.
Императрица-мать была крайне возмущена этим поступком Палена, позволившего себе обвинять мать в глазах сына, и заявила свое неудовольствие Александру. Император, с своей стороны, высказал это графу Палену в таком твердом и решительном тоне, что последний не знал, что отвечать от удивления.
На следующем параде Пален имел чрезвычайно недовольный вид и говорил в крайне резком, несдержанном тоне. Впоследствии даже рассказывали, что он делал довольно неосторожные намеки на свою власть и на возможность “возводить и низводить монархов с престола”. Трудно допустить, чтобы такой человек, как Пален, мог выказать такую бестактную неосторожность; тем не менее в этот же вечер об этом уже говорили в обществе.
Как бы то ни было, достоверно только то, что, когда на другой день, в обычный час, Пален приехал на парад в так называемом “vis-a-vis”, запряженном шестеркой цугом, и собирался выходить из экипажа, к нему подошел флигель-адъютант государя и, по высочайшему повелению, предложил ему выехать из города и удалиться в свое курляндское имение».
Там фон Пален и умер. Кончина его была ужасной.
Как пишет графиня Ливен, «Пален со времен ссылки совершенно не выносил одиночества в своих комнатах, а в годовщину 11 марта регулярно напивался к 10 часам вечера мертвецки пьяным, чтобы опамятоваться не раньше следующего дня».
И так до самой смерти, двадцать пять лет подряд… Умер фон Пален в ссылке, через несколько недель после кончины императора, которого он и возвел на трон.
Вот так молитвами раскольников и гневом царицы-матери был сражен адский гений[171].
Беннигсена Марии Федоровне одолеть не удалось, но всю жизнь она не давала ему позабыть о совершенном преступлении.
«Генерал Беннигсен, – пишет граф Ланжерон, – был тоже предметом яростной ненависти со стороны императрицы-матери»…
И действительно.
Хотя после кончины М.И. Кутузова император Александр I и возвратил Беннигсена к командованию русской армией, разгромившей Наполеона и вошедшей в Париж, маршальского звания он по настоянию вдовствующей императрицы так и не получил.
«Хотя никто не заслужил этой почести больше его», – замечает по этому поводу граф Ланжерон.
Отмщение подлым цареубийцам – дело, безусловно, праведное, и нравственная польза этого отмщения не ограничивается масштабами только самого этого дела.
Вот и тут получилось, что одновременно с местью убийцам осуществлялась и ликвидация «екатерининской конституции», дарованной Александром I заговорщикам, а это было безусловным благом для всей страны…
«Спустя несколько дней после моего приезда в Петербург граф Валериан Зубов высказал желание увидаться со мною, – пишет князь Адам Чарторыйский. – Во время разговора он много и подробно говорить о совершившемся перевороте и о современном настроении умов, жалуясь, что государь не высказался за своих истинных друзей, которые возвели его на престол, пренебрегая всеми опасностями ради его дела…»
– Не так действовала императрица Екатерина, – говорил Валериан Александрович. – Матушка открыто поддерживала тех, кто ради ее спасения рисковали своими головами. Она не задумалась искать в них опору, и благодаря этой политике, столь же мудрой, сколь предусмотрительной, она всегда могла рассчитывать на их безграничную преданность… Вот почему царствование Екатерины было столь могущественным и славным!
В заключение Валериан Александрович Зубов сказал, что «императрица Екатерина категорически заявила ему и его брату, князю Платону, что на Александра I им следует смотреть как на единственного законного их государя, и служить ему, и никому другому, верой и правдой. Они это исполнили свято, а между тем, какая им за это награда?».
Эти рассуждения не удивили польского аристократа. Они показались ему вполне естественными в «традиционной стране дворцовых переворотов». И тут он – увы! – был прав. После Петра I дворцовые перевороты действительно стали в России как бы частью обряда коронации.
Интереснее замечание Адама Чарторыйского на слова графа Зубова, что «этот образ действий был естественным последствием тех обязательств, которые императрица на них возложила по отношению к своему внуку».
«Они, очевидно, не знали, – замечает Чарторыйский, – что Александр и даже великий князь Константин вовсе не были проникнуты по отношению к своей бабке тем чувством, которое они в них предполагали»…
Это суждение князя Адама Чарторыйского весьма существенно для понимания всего царствования Александра I…
Александр Павлович, хотя Екатерина II и готовила его к престолу и даже собиралась посадить на престол в обход отца, действительно не испытывал к бабке ни особой любви, ни особой благодарности.
Его отношение к ней представляло весьма сложную гамму чувств, разобраться в которой было нелегко не только бывшим любовникам Екатерины II, но и самому императору Александру I.
4
«Я буду очень заботиться, чтобы из него не сделали прехорошенькой куклы, потому что не люблю их…» – писала вскоре после рождения Александра императрица Екатерина II.
Если своего сына Павла императрица не любила, то внука полюбила безмерно.
Или сделала вид, что полюбила… Впрочем, для Екатерины II это было, как мы уже говорили, одно и то же. Она слишком хорошо умела делать вид, будто чувствует то, что и должно, что положено чувствовать, и сама, наверное, не всегда различала, притворяется или нет…
Занимая сыновний престол, прилично было изображать любящую и заботливую бабушку будущего наследника.
С этой задачей Екатерина II справлялась превосходно. Не было ни одной мелочи быта, в которую бы ни вникала она. Посреди важных государственных дел императрица находила время собственноручно составить «Наставление касательно здравия и сохранения оного».
Не это ли «Наставление» и имел ввиду Г.Р. Державин, когда в оде «На рождение в севере порфирородного отрока» писал:
Гении к нему слетали В светлом облаке с небес; Каждый Гений с колыбели Дар рожденному принес…Хотя, конечно, согласно «Наставлению касательно здравия и сохранения оного», колыбели у «порфирородного отрока» не было, и няня, англичанка Прасковья Ивановна Гесслер, должна была следить, чтобы температура в его покоях не поднималась выше 15 градусов.
Но наставления, касательно сохранения здравия, Екатерине II показалось мало, и она тут же пишет второе – «касательно продолжения и подкрепления умонаклонения к добру», затем третье и четвертое…
Всего Екатерина II написала семь таких наставлений.
Все они сразу переводились и распространялись в Европе, чтобы всему свету было известно, какая замечательная и заботливая бабушка у будущего русского императора.
Сейчас уже трудно определить, что – искренняя забота о внуке или желание произвести благоприятное впечатление на европейские дворы – двигало Екатериной II.
Сами наставления производят весьма странное впечатление…
Это какая-то нелепая смесь очень верных и точных наблюдений дочери прусского коменданта и пустого, напыщенного резонерства: «Детские игры не суть игры, но прилежное упражнение детей…», «Дети не любят быть праздными…», «От младенчества надлежит хотение детей подчинять здравому рассудку и справедливости».
Однако Екатерина II и не была бы Екатериной Великой, если бы писала наставления только ради хорошего впечатления и приличий.
Нет! Стержневая идея, которой должна была подчиняться вся система воспитания, сформулирована предельно точно и без всяких околичностей:
«Да будет то, что Бабушка приказала непрекословно исполнено; что запретила, того отнюдь не делать, и чтоб им казалось столь же трудно то нарушить, как переменить погоду по их хотению…» В детстве Александра I, в последней четверти XVIII века, словно провозвестники грядущей эпохи машин и механизмов, начали появляться самые разнообразные заводные игрушки.
Кукла-модница смотрелась в зеркало, и сама расчесывала волосы… Куклы-солдаты маршировали по столу, производя все воинские артикулы… Заводной барабанщик отбивал ритм настоящего марша…
Появились тогда и «говорящие книги»: потянешь за веревочку – и заблеет коза, замычит корова, захрюкают свиньи… Появились стульчики с музыкой – садишься, и начинает играть музыка!
Игрушки эти были дорогими, и Екатерина II – вот она, рачительность дочери небогатого прусского коменданта! – указывала в своем наставлении:
«Полезно будет детям вдруг не давать более одной вещи, и когда захотят иметь другую, тогда отбирать первую».
Сие указание императрицы строго исполнялось генеральшей Софьей Ивановной Бенкендорф, присматривающей за наследником.
Екатерина II была довольна.
«Он делает, что хочет, но у него отнимают куклу, если он с ней дурно обращается», – удовлетворенно отмечала она.
Правила обращения с игрушками, сформулированные Екатериной II, наверное, были неплохи, поскольку приучали ребенка беречь вещи. Однако напомним, что Александру I было всего два года и он не мог понять, почему строгая госпожа Бенкендорф отбирает у него игрушки, когда ему хочется поставить их рядом; не понимал, отчего она навсегда уносит из детской заводного барабанщика – ведь так и не удалось проверить, сможет ли этот бравый солдат отстукивать марш, лежа на спине…
Но добиваться отмены распоряжения было столь же трудно, как переменить погоду по своему хотению. Еще бессмысленней было плакать. Госпожа Бенкендорф оказывалась тут совсем неумолимой, ибо эта неумолимость тоже была санкционирована мудрой Бабушкой:
– Буде чего будут просить со слезами или с упрямством, то запрещать им давать!
И вот уже к четырем годам Александр полностью разлюбил игрушки. Это заметила и сама Екатерина.
«Он не любит играть с теми, кто знает меньше его! – то ли хвастается, то ли жалуется она в письмах Гримму. – Игрушки уже не забавляют господина Александра, столярное искусство заменило игрушки».
И все же, как нам кажется, удивление ее было наигранным.
Этого ведь и добивалась расчетливая и сама в детстве не любившая кукол Екатерина II.
Ведь это в ее наказах было начертано:
«Детские игры не суть игры, но прилежное упражнение детей»…
«После семи лет, буде захотят новых игрушек, то пускай сами сделают или помогают делать»…
Так и случилось, как было задумано. Другое дело, что произошло это не естественным, а насильственным путем. Не Александр I разлюбил игрушки, а его заставили разлюбить их.
Разумеется, нелепо было бы упрекать Екатерину II в какой-то жестокости по отношению к внуку. Ее борьба с его младенчеством преследовала другую, куда более важную цель.
Больше всего не хотела Екатерина II, чтобы русский престол достался Павлу. Мы уже говорили, что она даже предпринимала определенные шаги, чтобы в обход сына передать престол внуку. И может быть, бессознательно, но она как бы торопила Александра поскорее взрослеть!
«Не оставлять Их Высочеств никогда в праздности. Буде не играют и не учатся, тогда начать с ними какой ни есть разговор, сходственный их летам и понятию, через который получили бы умножение знаний».
В пять лет у великого князя Александра начинают появляться игрушки, явно рассчитанные на более старший возраст.
Великие князья Александр и Константин Павловичи. Гравюра конца XVIII в.
«Прошу вас, – пишет Екатерина II в Германию, – купите для господина Александра карманную книгопечатную машину; надо так же, чтобы были буквы и несколько дюжин дощечек для печатания картинок. Это будет славное угощение для господина Александра, который и без того все рыскает по фабрикам, где только об оных прослышит».
Александр был родным внуком своей венценосной бабушки, и очень скоро ее принцип «быть таким или делать вид, что ты такой, одно и то же» оказался усвоен им.
Бабушка хотела, чтобы он был взрослым…
Повзрослеть Александр не мог, но мог сделать вид, что он взрослый.
И непонятно, что больше умиляло Екатерину – чудесное исполнение несбыточных мечтаний и торжество ее педагогики или понимание, что Александр притворяется взрослым, чтобы угодить ей…
«Если б вы видели… – захлебываясь от восторга, сообщала она в Германию, – как господин Александр копает землю, сеет горох, пашет сохою… боронит, потом весь в поту идет мыться в ручье, после чего берет свою сеть и с помощью сударя Константина принимается за ловлю рыбы!»
Екатерина II не замечала (или не хотела замечать?), что Александр прекрасно уживается и с отцом в Гатчине.
Она не обращала внимания на удивительное свойство внука «быть изнеженным в Афинах» – так называла она свое Царское Село – и суровым спартанцем в гатчинской Спарте.
Приезжая в Гатчину, Александр попадал из «изящной грязи» «просвещенного века» с его скептицизмом и вольтерьянством в суровый мир средневековой рыцарской романтики, где распутству бабушкиного двора противопоставлялась верность традиционным заветам морали. Ученик республиканца Лагарпа[172] привыкал в Гатчине к дисциплине монархического и военного абсолютизма.
Очень трудно соединить республиканскую энергетику с постоянством «монархиста», и, совершая это, Александр наполнял своим особым содержанием и царскосельскую «революционность», и гатчинскую «реакционность». Революционный демократизм преобразовывался в стремление слышать от своих ближайших советчиков и сотрудников то, что ему хотелось бы услышать, а рыцарская доверчивость и благородство мягко перетекала в убеждение, что «все люди (под людьми он разумел дворян и аристократию. – Н.К.) мерзавцы».
И получалось в результате, что влияния Царского Села и Гатчины не только не мешали, сталкиваясь и противореча, но дополняли в его мировоззрении друг друга, вырабатывая в нем экзотический характер либерала-абсолютиста.
Но это с одной стороны…
А с другой стороны, как это ни парадоксально, но именно это, так сказать, духовное двуличие и позволило Александру, «вписав», «укоренив» основанную Павлом династию в мире Российской дворянской, рабовладельческой империи, отчасти подчинить закону вскормленный первыми Романовыми произвол…
Ведь чтобы не говорили критики Александра I, а между одой Державина и злой эпиграммой Пушкина:
«Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой Над нами царствовал тогда», —целая, названная Александровской, эпоха, вся загадочная жизнь этого коронованного отцеубийцы…
5
Взойдя на престол, Александр I возвратил на службу многих сановников, выгнанных отцом. Какой-то шутник написал тогда на воротах Петропавловской крепости: «Свободна от постоя»…
Милости и все новые и новые свободы так и посыпались на головы аристократии, которой Александр I в манифесте обещал «доставить ненарушимое блаженство».
Однако Александр I, который уже в 1796 году чувствовал себя усталым и мечтал поселиться с женой на берегу Рейна и вести жизнь частного человека, с первых же дней своего царствования энергично взялся за государственное строительство, которое соответствовало, по его мнению, духу просвещенного абсолютизма.
5 июля 1801 года он потребовал, чтобы Сенат представил «доклад о своих правах и обязанностях». Полномочия Сената, как верховного органа правосудия и контроля за исполнением законов, были утверждены как государственный закон, и сам Александр обязался «силой данной ему от Бога власти потщиться подкреплять, сохранять и соделать его навеки непоколебимым».
Одновременно вместо Государственного Совета учреждался Непременный Совет, а восстановленные еще Павлом коллегии были преобразованы в восемь министерств.
Удивительна стремительность, с которой Александр I сбрасывает с себя зависимость от соучастников убийства отца. Сделано это было отчасти благодаря хлопотам вдовствующей императрицы Марии Федоровны, но велика была роль и самого императора.
Очень скоро уже не заговорщики стали определять политику государя, а друзья: граф Павел Александрович Строганов, граф Николай Николаевич Новосельцев, князь Адам Чарторыйский, составившие «интимный» комитет, в который не вошел ни один участник заговора…
И это было безусловной победой Александра I.
Другое дело, что влияние «интимного» комитета, призванного разработать конституцию, взамен утерянной по пьянке Платоном Александровичем Зубовым, оказалось для Александра I еще пагубней давления заговорщиков.
Ведь не без влияния «интимного» комитета одновременно с государственным переустройством шло тогда массовое строительство тайных обществ. Одна за другой возникают в Петербурге новые масонские ложи, одной из которых самим императором было разрешено носить его имя – «Александра благотворительности к коронованному Пеликану».
Да и сам «интимный» комитет императора Александра I по закрытости своей и таинственности подозрительно напоминает масонскую ложу. Большинство участников его и были масонами, а объединял их прежде всего космополитизм[173], пожалуй, впервые – бесхитростно – хуторское немецкое засилье не в счет! – так ярко проявившийся при русском дворе.
Рассказывая о первой конституционной инициативе в России, предпринятой верховниками при избрании Анны Иоанновны, мы говорили, что «Кондиции» разрабатывались тогда тайком, а вводились – обманом. Созванный по воле самого императора, «интимный» комитет пытался разработать и ввести конституцию точно так же, как пытались ее ввести столетие назад верховники.
Тоже – тайно и тоже – обманом…
В кружке этом считали, что система законов, охраняющих от произвола установленные действующим законодательством отношения и порядки, должна вводиться тайно и только личная власть государя может быть единственной активной силой нововведений. И это не было самодеятельностью «интимных» друзей. Они действовали так в полном соответствии с инструкциями республиканца Лагарпа.
«Ради народа вашего, – писал тот, – государь, сохраните неприкосновенной власть, которой вы облечены и которую хотите использовать только на большее его благо; не дайте себя увлечь тем отвращением, какое вам внушает абсолютная власть; сохраните ее в целости и нераздельно (выделено мной. – Н.К.), раз государственный строй вашей страны законно ее вам предоставляет, – до тех пор, когда, по завершении под вашим руководством преобразований, необходимых для определения ее пределов, вы сможете оставить за собой ту ее долю, какая будет удовлетворять потребности в энергичном правительстве».
Забегая вперед, скажем, что конституционные попытки, которые будут предприняты в нашей стране еще через одно столетие (перед падением и сразу после падения монархии), тоже будут строиться на тайне и обмане[174].
И вот это и давало (и дает) повод многочисленным недругам России рассуждать о ее рабской ментальности, сопротивляющейся духу свободы и закона. Это, разумеется, абсолютная ложь… Просто те конституции, которые тайком пытались ввести (и вводили) у нас, вводились не для всего народа, а в интересах определенных групп людей, определенного сословия или определенной (не титульной) национальности…
Потому тайно и обманом и намеревались верховники ввести «Кондиции», что они закрепляли в виде закона их власть, которой они достигли, не считаясь ни с какой законностью…
Конституция, разрабатываемая «интимным» комитетом, оказалась более всеобъемлющей, а потому и более опасной. Если бы она оказалась принята, произошло бы окончательное законодательное оформление рабовладельческой империи.
Это, конечно, парадокс…
Казалось бы, «рыцари свободы», каким представляли себя члены «интимного» комитета, должны были, получив возможность проведения реформ, хоть что-то сделать для уничтожения рабства в собственной стране. Ведь руководил ими женевский народный депутат, ведь все они воспитывались в республиканском духе, ведь почти все прошли обучение в якобинских клубах Парижа.
Но не тут-то было…
Хотя граф Павел Александрович Строганов и называл поместное русское дворянство «самым невежественным, самым ничтожным, а в отношении к своему духу наиболее тупым», и считал крайне несправедливым оставлять за ним право владеть личностями и трудом русских крестьян, но единственное, что было сделано «интимным» комитетом для ограничения крепостного права, – это запрещение печатать объявления о продаже крестьян без земли…
То есть не запретили продавать русских крестьян без земли, а запретили только публично объявлять об этом заранее…
Едва ли можно найти пример большего лицемерия.
Едва ли можно найти более поразительный пример нравственной глухоты русских крепостников-вольтерьянцев, которые получили возможность не только тешить свою плоть, но таким вот подлым образом соответствовать духу Просвещения, утолять свою потребность в приличном, цивилизованном облике.
И трудно не согласиться тут с Виктором Острецовым, который писал, что «ушедший из Церкви русский дворянин погружался в житейские утехи… Разуму отводилась роль адвоката телесных услад. Теперь в нем, вольтерьянце, проснулась “порода” – он не просто так, а “передовой”, он бросил предрассудки, как старую ветошь. Теперь он – сверхчеловек. Ему все можно. Он, этот вольтерьянец, ищет себе же подобных…»
Самим своим существом крепостники-рабовладельцы были ориентированы на национальное предательство!
О том, что гвардейские офицеры готовы были изменять присяге и своим государям, подобно тому, как распутные жены изменяют своим мужьям, мы уже говорили.
Но еще страшнее другое…
В принципе, такую же измену монарху, вернее самой идее монархии, совершали, не осознавая того, и самые убежденные, самые мыслящие монархисты, когда внушали императору, будто рабовладельческий строй является в современной России основой единства империи.
«У нас не Англия; мы столько веков видели Судию в Монархе и добрую волю его признавали вышним Уставом… – писал незадолго до Отечественной войны Н.М. Карамзин в записке “О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях”. – Сирены могут петь вокруг трона: “Александр, воцари закон в России” и проч. Я возьмусь быть толкователем сего хора: “Александр! дай нам, именем закона, господствовать над Россиею, а сам покойся на троне, изливай единственно милости, давай нам чины, ленты, деньги!”»[175]
Когда же читаешь сочиненные русскими крепостниками трактаты, доказывающие, что от освобождения крестьян пострадает и государство, и сами освобожденные крестьяне, остается только руками развести. Действительно, прав Павел Александрович Строганов – более тупого «в отношении к своему духу» сословия не знала история.
Впрочем, мы ведь сами видели, как, меняя по своему произволу государей, не брезгуя при этом и цареубийствами, весь XVIII век русское поместное дворянство самоотверженно билось за право вести паразитический образ жизни за счет остальной страны. Странно было бы ожидать, что оно расстанется с вырванными у монархов привилегиями…
«Надлежало бы не Дворянству быть по чинам, но чинам по Дворянству, т. е. для приобретения некоторых чинов надлежало бы необходимо требовать благородства… – писал в записке “О древней и новой России” Н.М. Карамзин. – Дворянин, облагодетельствованный судьбою, навыкает от самой колыбели уважать себя, любить Отечество и Государя за выгоды своего рождения (выделено мной. – Н.К.) …»
И можно только удивляться, насколько глубок и точен Н.М. Карамзин в анализе событий минувшей истории и насколько сентиментален и поверхностен он в оценках и прогнозах, касающихся современной ему жизни:
«Ничем Александр не возвысил бы онаго столь ощутительно, как законом принимать всякого Дворянина в воинскую службу Офицером, требуя единственно, чтобы он знал начала Математики и Русский язык с правильностью: давайте жалованье только комплектным; все благородные, согласно с пользою Монархии, основанной на завоеваниях, возьмут тогда шпагу в руку вместо пера, коим ныне, без сомнения, ко вреду Государственному, и богатые, и не богатые Дворяне вооружают детей своих в Канцеляриях, в Архивах, в Судах, имея отвращение от солдатских казарм, где сии юноши, деля с рядовыми воинами и низкие труды, и низкие забавы, могли бы потерпеть и в здоровье и в нравственности. В самом деле, чего нужного для службы нельзя узнать Офицером? Учиться же для Дворянина гораздо приятнее в сем чине, нежели в Унтер-Офицерском. Армии наши обогатились бы молодыми, хорошо воспитанными Дворянами, тоскующими ныне в повытьях…»
Напомним еще раз, что «Записка» написана накануне Отечественной войны, когда многие тоскующие ныне в повытьях молодые дворяне будут разбегаться подальше от фронта, а иные пойдут служить Наполеону, в то время как их невоспитанные, неблагородные рабы, которым не положено было знать ничего, кроме сохи, возьмутся за оружие, чтобы изгнать «антихриста» со Святой Руси…
А мысль Н.М. Карамзина о том, что дворянам приятнее учиться в офицерском чине? Такое ощущение, что великий русский историк позаимствовал ее у персонажей фонвизинского «Недоросля»…
Отстаивая свое право владеть рабами, русские дворяне боролись за саму основу своего бытия. Отмена рабовладения обозначала начало гибели всего сословия поместного дворянства. Забегая вперед, скажем, что так и произошло, когда крепостное право все-таки пало…
Уже после войны 1812 года Александр I приказал нескольким сановникам разработать проекты возможного освобождения крестьян.
«Любопытно, – пишет В.О. Ключевский, – как распределились государственные дельцы на стороны, на партии в этом вопросе. Из всех проектов особенный интерес представляют два: один из них принадлежит либеральному и талантливому лицу – адмиралу Мордвинову, другой – нелиберальному и неталантливому дельцу графу Аракчееву, имя которого тогда уже стало одним из ненавистных имен в России. Как бы вы думали, предполагали освобождение крестьян эти дельцы? Трудно наперед угадать придуманные ими способы решения, по качеству своему они обратно пропорциональны умам и талантам обоих дельцов. Адмирал Мордвинов находил справедливым и возможным выкуп личной свободы, об освобождении с земельным наделом не было и речи, земля должна была вся остаться во владении помещиков; но крестьяне получали право выкупить личную свободу, для этого автор проекта составил таксу – сумма выкупа соответствует возрасту выкупающегося, т. е. его рабочей способности. Например, дети от 9—10 лет платят по 100 руб.; чем старше возраст, тем выше плата; работник 30–40 лет – 2 тыс. (на тогдашнем рынке это равняется нашим 6–7 тыс. руб.); работник 40–50 лет платит меньше и т. п. по мере рабочей силы. Понятно, какие крестьяне по этому проекту вышли бы на волю, – это сельские кулаки, которые получили бы возможность накопить необходимый для выкупа капитал. Словом, трудно было придумать проект, менее практический и более несправедливый, чем тот, какой развивается в записке Мордвинова.
Неизвестно, кто составил проект для Аракчеева, которому это было поручено императором, едва ли подписавшийся под ним был его автором. Этот проект отличался некоторыми достоинствами: Аракчеев предполагал освобождение крестьян провести под руководством правительства – оно покупает постепенно крестьян с землею у помещиков по соглашению с ними по ценам данной местности. Для этого оно назначает капитал ежегодно; капитал этот образуется или посредством отчисления известной суммы из питейного дохода, или посредством выпуска соответственного количества 5-процентных облигаций государственного казначейства. Крестьяне выпускаются с землею в размере двух десятин на душу. В проекте Аракчеева изложены были выгоды такой операции для землевладельцев, о выгоде операции для крестьян автор благоразумно умалчивал».
И вот тогда-то и пригодилось Александру I «двойное» воспитание…
Он был глуховат, но монархический слух у него оказался отменным. Мечтая ввести конституционный строй как систему гарантий от каких-либо потрясений существующего порядка, Александр I не собирался ограничиваться лишь гарантиями незыблемости рабовладельческой империи, где монарх неизбежно должен попасть в зависимость от аристократии.
Как справедливо отмечал историк Александр Евгеньевич Пресняков, Александр I перестает верить своим приближенным, «все больше стремится он иметь свои личные способы осведомления и воздействия на ход дел, противопоставляет официальным органам своей власти доверенных людей, которые должны наблюдать за ними, доставлять ему сведения по личному поручению, как бы – приватно, наблюдать друг за другом и действовать по личным его указаниям, вне установленного порядка. Мысль о едином министерстве, о назначении во главу всех ведомств людей одинакового направления, придерживающихся единой общей программы, ему глубоко антипатична. При первом же назначении высших должностных лиц в министерства он противопоставляет министрам из старшего поколения опытных дельцов, их товарищей из среды своего личного окружения; так действует и дальше, стремясь иметь своих личных агентов в разных ведомствах – негласных и полугласных, – как в делах внутренних, особенно в министерстве полиции, так и в делах иностранных, которые ведет – в важнейших вопросах – лично сам через особо командируемых с секретными инструкциями лиц помимо своих министерств, помимо своих послов при иностранных дворах».
Об этом говорили и сами «интимные» друзья императора.
«Император, – писал П.А. Строганов, – взошел на престол с наилучшими намерениями – “утверждать порядок на возможно наилучших основаниях”; но его связывают личная неопытность и вялая, ленивая натура. Казалось, что им легко будет управлять. У него большое недоверие к самому себе; надо его подкрепить, подсказывая ему, с чего следует начать, и, помогая ему, сразу обнять мыслью целое содержание каждого вопроса. Он особенно дорожит теми, кто умеет уловить, чего ищет его мысль, и найти ей подходящее изложение и воплощение, избавляя его от труда самому ее разрабатывать. Надо только при этом с тем считаться, что он весьма дорожит “чистотою принципов”; поэтому надо все сводить к таким “принципам”, в правильности которых он не мог бы сомневаться».
Как мы знаем, такого сотрудника Александр I нашел в Михаиле Михайловиче Сперанском. Сперанский хорошо умел уловить, чего ищет мысль императора, умел и найти ей подходящее изложение и воплощение, избавляя императора от труда самому ее разрабатывать.
Кроме того, у Сперанского было и еще одно достоинство.
Он происходил из духовного сословия и блестящую карьеру сделал не с помощью влиятельных родственников, а благодаря личным дарованиям и огромной трудоспособности.
Пока Сперанский не вступил в масонскую ложу, он оставался чуждым бюрократической среде, которая, по словам А.Е. Преснякова, была насыщена своими интересами, в значительной мере дворянскими – классовыми, а в текущем быту – личными и кружковыми, которые опутывали императора сетью интриг, самого его в них вовлекали и часто налагали на него сложные и напряженные стеснения.
6
Александр I и Александровская эпоха.
Что тут поставить на первое место по степени влияния друг на друга? Пожалуй, впервые, начиная с правления Петра I, затрудняешься ответить на этот вопрос однозначно.
Понятно, что Петр I сам и определял свое время, бесцеремонно разрушив все традиционные русские обычаи и установления и решительно приступив к строительству взамен Святой Руси рабовладельческой империи.
Сменившая петровское время эпоха дворцовых переворотов как раз и была утверждением принципов рабовладельческой империи, в которой рабовладельцы неизбежно подчиняли своему влиянию государя, а саму монархию превращали в «деспотизм, ограниченный удавкою».
Идеального состояния рабовладельческая империя достигла при Екатерине II, ибо эта императрица только, исполняя все требования крепостников-вольтерьянцев, и могла незаконно оставаться на троне. Когда А.С. Пушкин говорил, что «развратная государыня развратила и свое государство», он, вероятно, это и имел в виду…
Интересы дворян, превратившихся в замкнутую касту рабовладельцев, определяли теперь не только внутреннюю, но и внешнюю политику.
Павла, пошедшего наперекор рабовладельцам-вольтерьянцам, убили. Его сына, Александра I, принудили участвовать в заговоре-убийстве прежде всего для того, чтобы у него, когда он взойдет на трон, не появилось искушения, подобно отцу, изменить характер рабовладельческой империи.
И Александр I подчинился… Объявив, что при нем все будет как при бабушке, он принял на себя обязательства, от которых трудно было освободиться.
Мы уже говорили, что заговорщиков подтолкнул к убийству императора Павла его разрыв с Англией, нанесший серьезный экономический ущерб русским рабовладельцам. Иных причин у России для вражды с Наполеоном не было.
И все-таки потребовалось поражение под Аустерлицем, прежде чем Александр I попытался развернуть эту губительную для русских национальных интересов политику и попытаться, как и собирался убитый отец, «съесть европейский пирог» вместе с Наполеоном.
Сближение это Александру I давалось трудно, практически весь «интимный» комитет активно противодействовал, не гнушаясь при этом и прямым предательством. Известно, например, что идеолог комитета Лагарп, будучи послан к Наполеону с посланием Александра I, письмо так и не передал, «найдя, что Наполеон действует уже не в том направлении, какое видел он (Лагарп. – Н.К.) в его делах ранее».
Письмо, которое многое могло переменить в истории, «благородный» республиканец возвратил через тридцать лет уже Николаю I.
И не только в «интимном» кружке зрело предательство.
«Вероятность новой войны между Россией и Францией возникла почти вместе с Тильзитским миром, – писал М.М. Сперанский. – Самый мир заключал в себе почти все элементы войны».
Тильзитский мир был чрезвычайно непопулярен среди дворян-крепостников. Все выгоды, которые получала от этого мира Россия, не способны были вознаградить потерю коммерческих интересов дворян-рабовладельцев, вызванных континентальной блокадой. Какое значение мог иметь выход России к Средиземному морю или решение других насущных национальных задач, если рабовладельцы теряли при этом, как сказал поэт:
Все, чем для прихоти обильной Торгует Лондон щепетильный, И по балтическим волнам За лес и сало возит нам…Определение щепетильный тут характеризует не лондонскую нравственность, а лондонскую специальность – торговца различными мелочами: иголками, булавочками, наперстками, шнурочками, тесемочками, крючочками, пуговичками, шпильками, колечками, сережками, бисером, духами, помадой…
Ради того, чтобы не нарушилось снабжение России этими крайне необходимыми развратным русским рабовладельцам товарами, и вынуждено было русское правительство пойти на нарушение главного условия Тильзитского мира и Эрфуртской конвенции – континентальной блокады Англии.
Встреча императора Александра I и Наполеона на Немане около Тильзита 23 июня 1807 г.
Французский посол сообщал тогда, что в высшем свете Петербурга «развязно и смело» толкуют о возможности, даже неизбежности нового дворцового переворота, все чаще вспоминают о примере 11 марта 1801 года. И «если, – пишет Коленкур, – нечего опасаться за жизнь Наполеонова союзника (Александра I. – Н.К.), то только потому, что его охраняет страх перед воцарением Константина, в котором видят нового Павла».
Вот так из-за шпилек и булавок наша аристократия шаг за шагом и вовлекала Россию в войну.
И добилась своего.
12 июня 1812 года, ночью, 600-тысячная армия Наполеона переправилась через Неман. Началось нашествие «двунадесяти языков»…
Дворянами-рабовладельцами начало войны было встречено с необыкновенным воодушевлением. Московское дворянство, например, еще до 16 июля, когда был подписан манифест о созыве народного ополчения, не ожидая воззвания государя, постановило составить ополчение, в которое сдавало каждого десятого от своих крепостных.
Наверное, если бы крепостнический патриотизм и далее развивался в том же русле, слова Александра I: «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем» – так бы и остались только словами…
Тут нужно сказать то, о чем не любят говорить у нас…
Кампанию 1812 года Наполеон не планировал как завоевательную и не собирался присоединять Россию к своей империи. Ему важно было разгромить русскую армию и принудить Александра I заключить мир на условиях, невыгодных для русских рабовладельцев, а главное, совершенно неприемлемых для Англии.
И наверное, это и удалось бы ему, и после стремительного наступления французской армии, после Смоленска или Бородина Александр и согласился бы подписать мир, однако события развивались иначе, и такого развития их не мог предугадать и гениальный Наполеон…
Стало общим местом говорить о неумении Александра I руководить государством и командовать армией.
«Для Александра 1812 г. был связан с весьма ему тягостным личным испытанием, – пишет А.Е. Пресняков. – Он всю борьбу с Наполеоном воспринимал как свое личное дело, не русское только, а общеевропейское. Тем труднее ему было примириться с роковой необходимостью снова пережить сознание “бесполезности” императора, который не годится в полководцы».
В принципе, тут все верно, кроме одного…
Тут нет ответа на вопрос: кто же все-таки сумел сделать войну 1812 года Отечественной?
Неужто московские рабовладельцы, порешившие в патриотическом возбуждении отдать в ополчение каждого десятого своего раба?
Или, может быть, российские генералы Барклай де Толли и Багратион, в результате всех своих «блистательных» маневров только у Смоленска и сумевшие соединить русские армии?
Или наш гений Михаил Илларионович Кутузов, при том при всем все-таки сдавший Москву неприятелю?
Спору нет… Если и не полководческими талантами, то пониманием характера войны наши генералы, вероятно, превосходили маршалов Наполеона…
И некоторые русские дворяне не только жертвовали войне крепостных рабов, но и сами выходили на поле боя, сами проявляли чудеса храбрости. Можно вспомнить тут легендарный бой корпуса Н.Н. Раевского с маршалом Даву возле деревни Салтановка. Прикрывая переправу через Днепр армии Багратиона, генерал Раевский сумел сдержать натиск противника. В самый острый момент боя он, взяв за руки своих сыновей, лично повел в атаку на французские батареи Смоленский полк.
– Вперед, ребята! – кричал он. – За Царя и за Отечество! Я и дети мои укажем вам дорогу!
Рядом с генералом шли его сыновья – шестнадцатилетний Александр и одиннадцатилетний Николай[176].
И все-таки исход войны решили не таланты генералов и не личное мужество офицеров-дворян.
И талантов, и мужества хватало и в армии Наполеона…
Исход войны решил простой русский солдат, решил русский народ, тот самый мужик, который всего поколение назад сжигал во время восстания Пугачева дворянские усадьбы и города…
И вот тут самое время задаться вопросом: а отчего же, с какой стати, поднялся русский народ? Зачем ему нужно было защищать страну, в которой он находился в рабстве? Ведь, защищая ее, он защищал и своих рабовладельцев! Ведь Наполеон – об этом у нас никто не говорит! – принес бы ему свободу уже в 1812 году, и не нужно было бы дожидаться ее от своих царей еще полвека…
Но в том-то и дело, что воевали русские мужики не за свою свободу и, разумеется, не за своих рабовладельцев…
Еще в 1806 году, когда после поражения под Аустерлицем Александр I собирался продолжать борьбу с Наполеоном, он издал повеление Синоду возбудить население против «неистового врага мира и благословенной тишины», порожденного «богопротивной революцией», из-за которой «за ужасами безначалия последовали ужасы угнетения» сперва для Франции, потом и для всех стран, поддавшихся этой заразе, сущего антихриста, который в Египте «проповедовал алкоран магометов», а в Париже собрал еврейский синедрион с мыслью устремить евреев против христиан и разыграть роль «лжемессии», а теперь «угрожает нашей свободе».
Александр I на фоне сражения. 1810-е гг. (с оригинала Г.В. Бозио)
По ряду свидетельств можно судить, что повеление императора русским духовенством, чрезвычайно раздраженным вольтерьянством рабовладельцев, было выполнено с особой охотой. В результате русский мужик привык относиться к Наполеону как антихристу, и, когда Наполеон пришел на русскую землю, это было воспринято как покушение на самое главное, что осталось у русского человека, – на его православную веру…
И тут нужно сразу оговориться, что неверно было бы воспринимать манифесты Александра только как удачные приемы в информационной войне. Никакими пропагандистскими приемами невозможно было укоренить в народном сознании такой образ, если бы не вступала в действие ненависть, которая аккумулировалась в сердцах простых русских людей по отношению к их вольтерьянцам-рабовладельцам. Эта ненависть и переносилась на Наполеона и его армию[177].
И теперь, чтобы ни обещал Наполеон в России, как бы гуманно ни обращались с мирным населением его солдаты, это ничего не могло переменить в отношении к нему русского народа. Никакие блага из его рук не собирался принимать простой русский человек, он старался избежать самой возможности встречи с ним.
«Проезжали мы деревни совершенно пустые, в который не только людей, даже никаких животных не видели…» – писал в те дни А.С. Шишков, возвращавшийся вместе с императором из Смоленска в Петербург.
Тут кстати надо сказать, что, в отличие от крепостных крестьян, владельцы их, помещики-рабовладельцы, вели себя более трусливо.
Когда император Александр I попросил флигель-адъютанта С.Г. Волконского рассказать ему о настроении армии, тот ответил, что все от главнокомандующего до рядового солдата готовы положить свою жизнь за Отечество.
– А дух народный? – спросил государь.
– Государь! – ответил Сергей Григорьевич. – Вы должны гордиться им: каждый крестьянин – герой, преданный Отечеству и вам.
– А дворянство?
– Стыжусь, что принадлежу к нему! – отвечал Волконский.
Стыдиться было чего.
Множество дворян, оставшихся в захваченных Наполеоном городах, перешли на службу к французам, в созданные ими органы муниципалитетов.
Ну а для русских крепостных крестьян, для русских солдат, для самого императора кампания 1812 года превращалась в Отечественную войну, становилась войной за самое главное для русского народа – за свою православную веру.
Происходило некое неподдающееся рационалистическому объяснению действо. Как бы исчезала прослойка рабовладельцев, отделявшая монарха от его народа. Возникало то мистическое единство, которое и делает непобедимым и народ, и его государя…
Через сто тридцать лет подобная история повторится на другой войне, которую тоже назовут Отечественной. Тогда Иосиф Виссарионович Сталин в минуту наивысшей опасности сумеет через голову своего интернационалистического окружения обратиться напрямую к русскому народу, вспомнив о его православии, которое пытались растоптать интернационалисты…
И тогда и произойдет перелом в ходе безнадежно проигрываемой войны.
Как и на той, первой, которую тоже назвали Отечественной.
Очень скоро выяснилось, что оставленные врагу местности для французов не безопасны…
«Крестьян никто не организовывал, – писал адъютант генерала П.П. Коновицына полковник Д. Ахшарумов, – и не заставлял это делать, так как дворяне спешили уехать, а отходившая армия была занята своим делом… При первом знаке все собирались и с неизобразимою яростью устремлялись на неприятеля».
Очень скоро выяснилось и то, что помощь Божия – это не предание старины далекой, а реальная и действенная сила. Интересно, что утром на Преображение Господне, когда начался отход русских армий от Смоленска, генерал Д.С. Дохтуров, прикрывавший отход, продержался весь день. Его полки ушли из города ночью, унося с собою, как во времена Святой Руси, Смоленской Чудотворный образ Божией Матери. Отныне этот Образ сопровождал русскую армию во всех походах 1812–1814 годов.
И когда думаешь о духовном переломе, который произошел в конце лета 1812 года, понимаешь, что заслуга тут прежде всего самого Александра I и заслуга эта, пожалуй, перевешивает и таланты российских генералов, и все подвиги дворян офицеров…
Очень точно передано ощущение чудотворящей силы, которую порождает единство монарха и народа в записках знаменитого А.С. Шишкова, автора практически всех манифестов военной поры, призванного, кстати сказать, из отставки на службу как раз накануне вторжения в Россию Наполеона.
«Между тем пришла весть о взятии Москвы. Сперва тихие шепоты смутно о сем распространились, а потом государь, призвав меня к себе, объявил мне это и приказал написать бумагу во всенародное о том известие. Услышав сие, пошел я домой с сокрушенным сердцем.
Чувства мои, сначала пораженные жестокою горестью, вдруг воспламенились гневом, родившим во мне, вместо уныния и отчаяния, гордость и надежду.
Я сел и написал следующую бумагу: “Во всенародное известие, по высочайшему повелению. С крайнею и сокрушающею сердце каждого сына отечества печалью, сим возвещается, что неприятель, сентября 3 число, вступил в Москву.
Но да не унывает от сего великий народ Российский! Напротив, да поклянется всяк и каждый воскипеть новым духом мужества, твердости и несомненной надежды, что всякое наносимое нам врагами зло и вред обратятся напоследок на главу их!
Неприятель занял Москву не оттого, чтоб преодолел силы наши или бы ослабил их. Главнокомандующий, по совету с присутствующими генералами, нашел за полезное и нужное уступить на время необходимости, дабы с надежнейшими и лучшими потом способами превратить кратковременное торжество неприятеля в неизбежную ему погибель.
Сколь ни болезненно всякому Русскому слышать, что первопрестольный град Москва вмещает в себе врагов отечества своего, но она вмещает их в себе пустая, обнаженная от всех сокровищ и жителей. Гордый завоеватель надеялся, вошед в нее, соделаться повелителем всего Российского царства и предписать ему такой мир, какой заблагорассудит; но он обманется в надежде своей и не найдет в столице сей не только способов господствовать, ни же способов существовать, он затворился в гроб, из которого не выйдет жив…
Не в ту страну зашел он, где один смелый шаг поражает всех ужасом и преклоняет к стопам его и войски и народ! Россия не привыкла покорствовать, не потерпит порабощения, не предаст законов своих, веры, свободы, имущества. Она, с последнею в груди каплею крови, станет защищать их…
Итак, да не унывает никто!
И в такое ли время унывать можно, когда все состояния государственные дышат мужеством и твердостью? Когда неприятель с остатком отчасу более исчезающих войск своих, удаленный от земли своей, находится посреди многочисленного народа, окружен армиями нашими, из которых одна стоит против него, а другие три стараются пресекать ему возвратный путь и не допускать к нему никаких новых сил?..
Боже всемогущий! Обрати милосердые очи свои на молящуюся тебе с коленопреклонением Российскую церковь! Даруй поборающему по правде верному народу твоему бодрость духа и терпение! С ими да восторжествует он над врагом своим, да преодолеет его и, спасая себя, спасет свободу и независимость царей и царств!”»
Поразительно, как верно и точно сумел предугадать Александр Семенович Шишков всю стратегию борьбы с Наполеоном, которая в те дни начала сентября неясна была до конца и самому Михаилу Илларионовичу Кутузову.
И дело тут, разумеется, не в стратегических или пророческих дарованиях Александра Семеновича, а в необыкновенной чудотворящей силе, которую производило единение монарха с народом, токи которого и ощущал на себе А.С. Шишков.
«Написав сию бумагу, – вспоминал он, – я прочитал ее несколько раз, сам сомневаясь в предвещаниях моих, столь мало тогдашнему положению нашему соответствовавших. Однако ж ободрился, не переменил ни слова и понес ее к государю: он выслушал и приказал прочитать в комитете господ министров, дав повеление заседать мне в оном.
В комитете выслушали меня с молчанием, выключая, что некоторые члены находили сказанное в ней о Наполеоне выражение: “Он затворился в гроб, из которого не выйдет жив”, – слишком ненадежным и гадательно предвещаемым. Я донес государю о сем их замечании. Он отдал мне на волю – выпустить или не выпустить сии слова. Я, хотя и не охотно, однако ж, чтоб не показать себя упрямым, исключил их.
Известие о взятии Москвы подало повод к разным толкам, обвинявшим фельдмаршала Кутузова. Приметя, что и сам государь поставляет ему в вину, для чего не дал он вторичного под Москвою сражения, я осмелился спросить у него: не думает ли он сменить Кутузова? и очень обрадовался ответу его: “Нет, я отнюдь сего не думаю”…»
Читаешь эти записки и понимаешь, что цари, как говорил Александр Семенович Шишков, больше имеют надобности в добрых людях, нежели добрые люди в них…
Отечественная война 1812 года – година тяжких испытаний и величайшего подъема народного духа, увенчавшаяся блистательной победой, – высочайшая вершина Александровской эпохи…
Война эта подтвердила имперское могущество России и принесла Александру I блистательную, немеркнущую в веках славу победителя Наполеона…
7
По уверениям самой Екатерины II, ее внук уже в четыре года делал необыкновенные успехи в учебе:
«Намедни господин Александр начал с ковра моей комнаты и довел мысль свою… до формы Земли… Я принуждена была послать в Эрмитажную библиотеку за глобусом. Но когда он его получил, то принялся усердно путешествовать по земному шару и через полчаса, если не ошибаюсь, он знал почти столько же, сколько покойный г. Вагнер пережевывал со мной в продолжение нескольких лет».
Мнения преподавателей Александра о его успехах в учебе заметно разнятся с мнением императрицы.
«Замечается в Александре Павловиче, – писал своем о воспитаннике А.Я. Протасов, – много остроумия и способностей, но совершенная лень и нерадение узнавать о вещах, и не только чтоб желать, ведать о внутреннем положении дел… но даже удаление читать публичные ведомости и знать происходящее в Европе».
Еще более категоричны в оценке собственноручные записи Александра.
В двенадцать лет он послушно записывал в своем дневнике под диктовку республиканца Лагарпа: «После того как меня учили читать шесть лет сряду, пришлось снова учить меня складам подобно шестилетнему ребенку. И так, в продолжение всего этого времени, я не научился ничему не по недостатку в способностях, а потому что я беспечен, ленив и не забочусь быть лучшим…»
Диктовки эти – тоже в духе педагогики, поощряемой Екатериной II. Цель их, как и остальных педагогических новаций, не исправление недостатков характера, а изображение такого исправления. Покорно и бездумно записывал двенадцатилетний Александр под диктовку Лагарпа унылые фразы: «…и так в шесть лет я не успел ничего и меня придется снова учить азбуке. Если проживу 60 лет, то, может быть, научусь тому, что другие знают в 10».
Когда Александр записывал эту диктовку, он и не подозревал, насколько пророческими окажутся эти роковые слова, насколько точно очерчивают они не только всю его жизнь, но даже и посмертную судьбу…
Записывая диктовку Лагарпа, Александр не мог знать, что в двадцать три года ему придется стать во главе организованного на английские деньги заговора рабовладельцев и это с его молчаливого согласия будет убит отец – император Павел…
Не знал…
Как не знал и того, что подкупленные англичанами рабовладельцы в тот роковой вечер 11 марта 1801 года накинут удавку и на его, Александра, шею и даже блистательная победа над Наполеоном не поможет ему высвободиться из страшной петли.
Ведь после завершения Отечественной войны Александр I совершит, быть может, еще большее предательство, нежели в ночь на 12 марта 1801 года. Он снова отдаст в руки трусоватых дворян-рабовладельцев свой народ, который и одержал победу в Отечественной войне, который спас и Отечество, и царя…
Еще во время наступления Наполеона на Москву Александр I сказал, что лучше он отрастит бороду и будет питаться картофелем с последним из своих крестьян, нежели подпишет постыдный мир…
И вот он победил… Победил вместе с народом…
И в награду снова вернул русский народ в рабство!
Думал ли об этом император? Наверняка думал! С каждым годом все мучительнее, все больнее терзали его угрызения совести! Известно, что в последние годы жизни он полюбил монастыри, полюбил церковные службы.
И всё нестерпимей становилась возникшая еще в детстве раздвоенность, и, наконец, когда она стала совсем непереносимой, в ночь на 1 сентября 1825 года, император уехал в далекий Таганрог, чтобы внезапно умереть там или – роковая загадка! – превратиться в загадочного Федора Кузьмича[178] и под этим именем начать новую жизнь, чтобы научиться думать и чувствовать так, как должен думать и чувствовать человек в десять лет…
Но еще до ухода-смерти, 15 ноября 1825 года, окружающим императора людям был явлен зловещий, жутковатый образ…
Когда император Александр исповедался и причастился в последний раз перед смертью, смотреть на него стало страшно. Плешивая голова императора сделалась вдруг будто вылепленной из воска, а за ушами зашевелились черные волосы пиявок…
Генерал-адъютант П.М. Волконский, прозванный за педантизм и твердость характера «каменным князем», утверждал, что поставить пиявок после исповеди и причастия Александра уговорил священник. С крестом в руках он встал тогда на колени перед постелью императора. Делал это священник, выполняя просьбу докторов и императрицы, но сам факт от этого не меняется – это по его молитвам, словно из преисподней, выглянул лик императора с шевелящимися вокруг головы пиявками-змеями.
В жизни ничего не происходит случайно и ничто не проходит бесследно…
Незадолго до своей загадочной кончины император Александр говорил, что солдат служит в армии двадцать пять лет и выходит в отставку, а он на императорской службе тоже двадцать пять лет.
Пора и ему на покой…
Скорее всего, превращение императора Александра I в старца Федора Кузьмича – только легенда…
Но легенда эта рождается не в досужих сплетнях, а в том мистическом единении монарха и народа, которое так реально, так величественно, так победительно проявилось в 1812 году, единство, которое было предано Александром I после войны…
Таким же мистически непостижимым образом легенда о бегстве императора от одинаково враждебных и ему, и его народу рабовладельцев в народную глубь облеклась в реальную плоть и начала свое независимое ни от каких доводов историков бытие…
В 1789 году будущий директор Швейцарской республики Фридрих-Цезарь Лагарп, насмешливо кривя губы, диктовал будущему русскому императору, что если тот проживет до шестидесяти лет, то, может быть, научится тому, что другие знают в десять.
В 1825 году, когда фельдъегерские тройки мчали в Петербург безвестное тело, названное телом русского императора Александра I, самому Александру, а теперь – Федору Кузьмичу оставалось до шестидесяти как раз одно десятилетие…
Глава четвертая Царская каша
Мы говорили, что бабушкой Екатерина II была гораздо более заботливой, нежели матерью. Во всяком случае, восторгалась она успехами внуков воистину на весь белый свет…
Вот и про третьего своего внука, «рыцаря Николая», она засвидетельствовала в письме Гримму, что внук уже на восьмой день от роду начал есть кашу…
Факт этот интересен еще и тем, что через пятьдесят девять лет, 18 февраля 1855 года, распространился слух, будто, отравившись кашей, скоропостижно скончался русский император Николай I.
Другие утверждали, что император отравился сам, переживая за очередные неудачи в Крымской войне.
Обе версии, как мы покажем далее, не соответствуют действительности, однако некое образное истолкование этот слух имеет…
Увы…
Императору Николаю I, взошедшему на престол после событий 14 декабря 1825 года, все свое правление приходилось «расхлебывать декабристскую кашу», заваренную старшими венценосными братьями – Александром и Константином, и не этой ли кашей и отравился он?
Впрочем, конечно же, каша была заварена раньше, и всё XVIII столетие настаивалась, доходила на огне дворцовых переворотов, и такой и была подана на стол сыновьям императора Павла…
1
Каша была заварена крепко.
Мы говорили, что все предвоенное правление Александра I проникнуто смутным предощущением реформ, симпатией к масонству, мистикой…
В послевоенные годы, когда великий князь Николай Павлович уже достиг совершеннолетия, император Александр I обратился к более традиционным для России духовным ценностям, чем вызвал ожесточенную критику в свой адрес со стороны аристократии, и, по сути, сам подал сигнал для начала подготовки новых заговоров и переворотов.
Но словно в зеркальном отражении, с той и с другой стороны – одни и те же люди. Мягкий Александр I проявляет необыкновенную твердость и не сдает никого из своего окружения. При этом никому из приближенных, не исключая ни Алексея Андреевича Аракчеева, ни Михаила Михайловича Сперанского, он не доверяет до конца…
Причину этого постоянства некоторые исследователи видят в зависимости императора от его окружения, в его нерешительности и лукавости…
Нерешительность, разумеется, присутствовала, но как объяснить, почему многие масонские ложи, как только император – нет-нет! – не запретил, а только утратил интерес к ним, стремительно преобразуются в тайные общества заговорщиков?
Как объяснить, почему при дворе Александра I мирно уживались суровые монархисты и убежденные республиканцы, восторженные либералы и откровенные реакционеры? А главное, почему все эти монархисты и республиканцы, либералы и реакционеры, вместо того чтобы враждовать между собою, дружно и единым строем противостояли любым попыткам императора освободить крестьян?
Да… Александр I бывал и нерешительным, и неискренним, но, в принципе, это не так уж и важно. Все свое правление он оставался императором рабовладельческой страны и высвободиться из этого ненавистного ярма не мог.
Насколько «неадекватно» повели себя дворяне-крепостники, оставив в рабстве у себя русский народ, который и спас в этой войне и Россию, и государя, мы уже говорили.
Поразительно, но идеологов рабовладельческого строя нисколько не смущало, что рабство становится анахронизмом даже в Российской империи и приобретает исключительно славянскую окраску!
Ведь в 1814–1816 годах провело освобождение всех своих крестьян эстляндское дворянство. В 1817 году были освобождены крестьяне Курляндии, в 1819 году – Лифляндии.
Зато русские крепостники, хотя разрешение освобождать крестьян им было предоставлено еще Указом от 1803 года о вольных хлебопашцах, освободили за двадцать два года всего 47 153 крестьянина[179].
Примерно по две тысячи крестьян в год…
И это по всей огромной России… Чтобы освободить такими темпами из рабства всех русских людей, потребовалось бы несколько тысячелетий.
«Самое невежественное и самое ничтожное», как говорил граф П.А. Строганов, сословие русского поместного дворянства стояло в вопросе рабовладения стеной. И стена эта была нерушимой независимо от того, либералом или реакционером был рабовладелец.
Что мог этому противопоставить Александр I?
Николаем Николаевичем Новосильцевым был разработан проект отмены крепостного права, но и его не удалось осуществить.
Когда Александра I спросили, почему он медлит с этими реформами, он ответил: «Неким взять!»
При этом не следует забывать, что Александру I требовались помощники даже для того, чтобы угадать и выразить приличным образом его мысль… Александр I ожидал, что его мысль сумеет выразить либеральный Николай Семенович Мордвинов, но тот не сумел. Не смог сделать этого и верный Алексей Андреевич Аракчеев.
О каком противостоянии монолитной армии рабовладельцев можно говорить? Кто еще оставался, на кого еще можно было надеяться?
И не об этом ли и размышлял Александр I, когда ему доложили о существовании мощного оппозиционного заговора, выразившегося в создании Северного, Южного и Славянского тайных обществ?
Мы знаем сейчас, что для подобных мыслей основания действительно имелись. Практически все участники будущего выступления на Сенатской площади выросли и возмужали в Александровскую эпоху, еще в предвоенное время, проникнутое смутным предощущением реформ, масонской мистикой.
Такое впечатление, что первым делом император в силу неистребимого лукавства своего характера подумал тогда, а не те ли это люди, которыми можно взять, которых он ждет, чтобы выразить мысль, которая так мучила и его, и всю страну…
– Вы знаете, что я сам разделял и поддерживал эти иллюзии, – сказал он, выслушав доклад. – Не мне их карать.
Другого докладчика Александр I не стал и слушать…
Тем не менее в последний год жизни он распорядился провести широкое дознание.
Во время следствия он и скончался в Таганроге 19 ноября 1825 года.
Смерть была внезапной и таинственной, как и все последние месяцы его правления.
2
Все чаще и чаще в последние месяцы Александр I обращался к Церкви, к Богу. Давно уже, может быть, со времен царя Алексея Михайловича, не случалось такого с русскими государями…
Мысли оставить престол, которые в последние годы царствования все чаще посещают Александра I, тоже необычны для русских царей. Кажется, последним подобные намерения высказывал Иоанн Васильевич Грозный, а среди Романовых и не было еще ни одного царя, который бы беспокоился о душевном покое. Все Романовы ощущали себя на русском троне вполне комфортно и насмерть готовы были биться с любыми родственниками за место, позволяющее удовлетворять личные причуды, своеволия и похоти.
Александр I на фоне Невы. 1820 г. (рисунок А. Орловского)
Но, может быть, потому и возникали подобные мысли у Иоанна Васильевича Грозного и Александра I, что они понимали свое царствование не как возможность неограниченного произвола, а еще как очень и очень нелегкое служение?
В любом случае совершенно точно известно, что о возможности оставить престол Александр I говорил, и говорил не раз.
«Это было в Красном Селе, летом 1819 года, – вспоминала императрица Александра Федоровна, супруга Николая I. – Однажды император Александр, пообедав у нас, сел между нами двумя и, беседуя интимно, внезапно изменил тон, стал очень серьезным и начал… высказывать нам, что он остался очень доволен, как утром его брат справился с порученным ему командованием; что он вдвойне рад тому, что Николай хорошо исполняет свои обязанности, так как на нем когда-нибудь будет лежать большая ответственность, что он видит в нем своего преемника и что это случится гораздо раньше, чем можно предполагать, так как то случится еще при его жизни»…
Факт этого разговора подтверждается и воспоминаниями Николая I, где акценты того разговора расставлены еще жестче и яснее.
«Государь начал говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшей дочерью Марией); что он счастия сего никогда не знал, виня себя в связи, которую имел в молодости; что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтобы уметь ценить с молодости сие счастие; что последствия для обоих были, что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли (здесь и далее выделено мной. – Н.К.), и что сие чувство самое для него тяжелое. Что он чувствует, что силы его ослабевают; что в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как он его разумеет; и что потому он решился, ибо сие считает долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время. Что он неоднократно о том говорил брату Константину Павловичу, который, быв одних с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле, тем более что они оба видят в нас знак благодати Божьей, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство».
Запомним эти слова императора Александра I…
Хотя он косвенно и участвовал в убийстве отца, но участвовать в убийстве основанной Павлом династии не желал. Главнейшей обязанностью почитал он не допустить, чтобы династия Павловичей сорвалась в вакханалию новых дворцовых переворотов.
– Я должен сказать тебе, брат, что я хочу абдикировать, – сказал Александр I осенью того же года своему брату Константину Павловичу, наместнику Царства Польского. – Я устал и не в силах сносить тягость правительства; я предупреждаю тебя для того, чтоб ты подумал, что тебе надобно будет делать в сем случае.
– Тогда я буду просить у вас место второго камердинера вашего, – ответил Константин Павлович, – я буду служить вам и, ежели нужно, чистить вам сапоги. Когда бы я это теперь сделал, то почли бы подлостью, но когда вы будете не на престоле, я докажу преданность мою к вам, как благодетелю моему.
«При сих словах, – говорил великий князь Константин Павлович, – государь поцеловал меня так крепко, как еще никогда в 45 лет нашей жизни он меня не целовал».
– Когда придет время, – сказал Александр, – я дам тебе знать, и ты мысли свои напиши к матушке».
Через два с половиной года время пришло, и Константин Павлович в бытность свою в Петербурге составил письмо с отречением от престола:
«Не чувствую в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть когда бы то ни было возведену на то достоинство, к которому по рождению моему могу иметь право, осмеливаюсь просить Вашего Императорскаго Величества передать cиe право тому, кому оно принадлежит после меня и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение нашего государства… 14 января 1822 года».
«Любезнейший брат… – ответил Константину 2 февраля 1822 года император Александр I. – С должным вниманием читал я письмо ваше. Умев всегда ценить возвышенные чувства вашей доброй души, cиe письмо меня не удивило. Оно мне дало новое доказательство искренней любви вашей к государству и попечения о непоколебимом спокойствии оного. По вашему желанию предъявил я письмо cиe любезнейшей родительнице нашей. Она его читала с тем же, как и я, чувством признательности к почтенным побуждениям, вас руководившим. Нам обоим остается, уважив причины вами изъявленные, дать полную свободу вам следовать непоколебимому решению вашему, прося всемогущего Бога, дабы он благословил последствия столь чистейших намерений».
Летом 1823 года Александр I, «томимый предчувствием близкой кончины», поручает митрополиту Филарету составить манифест о назначении престолонаследником великого князя Николая Павловича.
Он запечатал этот манифест в конверт, на котором собственноручно делает надпись: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия».
Решение, которое принял император, достаточно небывалое в русской истории…
«Отречение Константина было оформлено только келейно, между членами императорской семьи, а заготовленным актам о престолонаследии придан небывалый характер посмертных распоряжений, которые будут опубликованы, только когда их автор ляжет в могилу и, стало быть, перестанет быть носителем власти, – пишет А.Е. Пресняков. – Этот государственно-правовой парадокс, который можно назвать политической бестактностью, не смущал Александра. В состоянии моральной депрессии, в каком он доживал последние года, он готов был откладывать крупные и требовавшие решимости действия до времени, когда не ему придется их совершать. Так в деле будущих декабристов, так в деле о престолонаследии».
Адресованные Александру I упреки в политической бестактности кажутся нам преувеличенными…
Чтобы ни объявил Александр I, исполнять это должны были бы те же люди, которые не захотели исполнить ясно и четко выраженную волю императора – не предпринимать всякого действия прежде вскрытия оставленного им пакета.
Возможно, если бы об отречении Константина от прав на наследие престола было объявлено заранее, смена императоров прошла бы спокойнее, но могло быть и наоборот. Те темные силы, что препятствовали Николаю I занять престол, могли бы подготовить к наступающему междуцарствию еще более страшные подарки…
3
Некоторые историки утверждают, что из-за того, что Александр I не объявил Николая I своим наследником, тот не был как следует подготовлен к должности императора.
На это можно возразить, что в самой императорской семье все, и сам Николай I тоже, знали о запечатанном в конверт манифесте и никто не мешал готовить Николая I в императоры, никто не мешал ему самому готовиться к предстоящему правлению.
Но есть еще и другое соображение, позволяющее предположить, что, может быть, потому и не был Николай I публично объявлен наследником престола, что Александр I хотел подготовить его к предстоящему служению наилучшим образом.
Тот же А.Е. Пресняков совершенно справедливо отмечает, что, «вращаясь в военно-служебной (он командовал гвардейской дивизией и управлял военно-инженерной частью. – Н.К.) и придворнослужилой среде, в так называемом “высшем” обществе, Николай хорошо его знал со всей его пустотой и распущенностью, дрязгами и интригами. Он находил потом, что время, затраченное на толкотню в дворцовых передних и секретарских дежурных комнатах, не было потеряно: оно послужило “драгоценной практикой для познания людей и лиц”, и он тут “многое видел, многое понял, многих узнал – и в редком ошибся”. В салонах этой среды творилось то, что тогда в Петербурге считалось общественным мнением; это было мнение высшего дворянства и бюрократии, – и Николай знал ему цену».
И вот тут резонно задать себе вопрос: не является ли это знание людей, которое получил Николай I, гораздо более необходимым для будущего императора, нежели знания, как докладываются и как подписываются государственные бумаги? И другой вопрос напрашивается здесь: сумел ли бы Николай I получить эти знания, если бы был объявлен наследником престола?
Сам Александр I такого знания не получил и все двадцать пять лет царствования страдал от этого. Практически все ошибки его царствования, так или иначе, были связаны с этим недостатком в его подготовке.
О какой же тогда политической бестактности или трусости может идти речь, если Александр I проявил величайшую мудрость, когда воспользовался случаем и дал будущему императору возможность пожить почти наравне со своими подданными, чтобы лучше узнать их?
Скажем сразу, что этот «педагогический» эксперимент удался на славу. Николай I узнал то высшее общество рабовладельцев, которое уже давно разделяло народ с его монархом, монарха с его народом.
«К этому обществу, – пишет А.Е. Пресняков, – у него было не больше симпатии и уважения, чем у Павла или Александра. Дворянство и для него, прежде всего, – служилая среда, которую он стремится дисциплинировать и удержать в положении покорного орудия власти… Слишком остры противоречия русской жизни в эпоху разложения крепостного хозяйства и роста торгово-промышленных интересов страны, чтобы Николай мог твердо стоять в положении “дворянского царя”».
Но все это впереди, а когда, в конце лета 1825 года, император Александр I объявил, что отправляется в Таганрог на всю зиму, князь Голицын, которому император поручил привести в порядок бумаги, хранившиеся в его кабинете, спросил: как быть с актом о престолонаследии?
– Положимся на Бога, – сказал Александр I. – Он устроит все лучше нас, слабых смертных.
4
По официальной версии, поездка в Таганрог была вызвана назначением врачей. Они нашли, что для здоровья императрицы Елизаветы Алексеевны полезно провести зиму на юге.
Сама по себе эта версия выглядит неубедительно.
Не очень-то веской была причина, чтобы императору покинуть свою столицу на столь длительный срок. Не слишком удачно было выбрано и место для лечения. Все-таки побережье Азовского моря, даже и в России, далеко не самый лучший зимний курорт.
Тем не менее 1 сентября император покинул Петербург.
Только он сам, кажется, и знал, что покидает свою столицу навсегда.
Странным и зловещим был этот отъезд…
Из Каменноостровского дворца император выехал ночью, выехал без всякой свиты.
В четыре часа с четвертью пополуночи коляска императора, запряженная тройкой, остановилась у ворот Александро-Невской лавры.
Здесь его уже ждали. Александр I принял благословение от митрополита Серафима и направился в соборную церковь.
«Спаси, Господи, люди Твоя», – запели монахи.
Войдя в собор, государь остановился перед ракою святого Александра Невского, и началось молебствие…
Когда наступило время чтения Евангелия, император сказал митрополиту: «Положите мне Евангелие на голову!», и опустился на колени.
По окончании молебна государь посетил схимника отца Алексея.
Когда дверь кельи отворилась, мрачная картина представилась глазам государя: пол и все стены до половины были обиты черным сукном; с левой стороны у стены виднелось большое Распятие с предстоящими Богоматерью и евангелистом Иоанном; у другой стены кельи находилась черная, длинная деревянная скамейка; лампада, горевшая перед иконами, тускло освещала печальное жилище.
Когда император вошел в келью, схимник пал на колени перед Распятием.
– Государь, – обращаясь к Александру, сказал он. – Молись!
Александр I положил три земных поклона, а схимник, взявши крест, прочел отпуст и осенил государя.
По окончании молитвы государь вполголоса спросил у митрополита:
– Где спит схимник? Я не вижу постели…
– Спит он, – отвечал митрополит, – на том же полу, перед сим самым Распятием, пред которым молится.
– Нет, государь, и у меня есть постель, – сказал схимник и повел императора за перегородку в своей келье, где стоял черный гроб, в котором лежала схима, свечи и все относящееся к погребению. – Смотри! Вот постель моя, и не моя только, а постель всех нас: в ней все мы, государь, будем спать.
– Государь, – продолжал схимник. – Я человек старый и многое видел на свете; благоволи выслушать слова мои. До великой чумы в Москве нравы были чище, народ набожнее, но после чумы нравы испортились; в 1812 году наступило время исправления и набожности, но по окончании войны сей нравы еще более испортились. Ты – государь наш и должен бдеть над нравами. Ты – сын Православной Церкви и должен любить и охранять ее. Так хочет Господь Бог!
Когда император садился в коляску, в глазах его стояли слезы.
Перед выездом из Петербурга государь остановился у заставы и, обратившись назад, несколько минут, в задумчивости, глядел на город, как бы прощаясь с ним.
Существует предание, что, остановившись в Нижнем Новгороде, Александр I заезжал в Саров к великому молитвеннику и чудотворцу Серафиму Саровскому.
«В 1825 году старец Серафим однажды обнаружил будто бы какое-то беспокойство, – пишет Е.Н. Поселянин. – Он точно ожидал какого-то гостя, прибрал свою келью, собственноручно подмел ее веником. Действительно, под вечер в Саровскую Пустынь прискакал на тройке военный и прошед в келью отца Серафима. Кто был этот военный, никому не было известно; никаких предварительных предупреждений о приезде незнакомца сделано не было.
Между тем великий старец поспешил навстречу гостю на крыльцо, поклонился ему в ноги и приветствовал его словами: “Здравствуй, Великий Государь!” Затем, взяв приезжего за руку, отец Серафим повел его в свою келью, где заперся с ним. Они пробыли там вдвоем в уединенной беседе часа два-три. Когда они вместе вышли из кельи и посетитель отошел уже от крыльца, старец сказал ему вслед: “Сделай же, Государь, так, как я тебе говорил”».
Считается, что это и был император Александр I.
Во время этой встречи преподобный Серафим предрек: «Будет некогда Царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого Царя и самодержавия, но Бог Царя возвеличит»…
В Таганрог император Александр I приехал 13 сентября.
Через десять дней приехала императрица, которая буквально сразу же начала быстро поправляться – «окрепла и физически и морально».
20 октября Александр I отправился в Крым…
Накануне произошел знаменательный разговор.
В четвертом часу пополудни небо затянуло тучами и стало очень темно. Государь приказал камердинеру Анисимову подать свечи.
Когда небо прояснилось и сделалось светло и солнечно, Анисимов осмелился побеспокоить государя.
– Не прикажете ли, Ваше Величество, свечи принять? – спросил он.
– Для чего? – спросил государь.
– Для того, государь, что по-русски со свечами днем писать не хорошо, с улицы могут подумать, что здесь покойник.
– Ну, когда так, – сказал государь, – то возьми свечи…
В Таганрог император вернулся уже больным….
Это отмечено в журнале, который вел генерал-адъютант П.М. Волконский.
«5-го ноября. Государь император изволил возвратиться из Крыма в 6 часов вечера… На вопрос мой о здоровье его изволил ответить по-французски: “Я чувствую маленькую лихорадку, которую схватил в Крыму, несмотря на прекрасный климат, который нам так восхваляли. Я более, чем когда-либо, думаю, что мы прекрасно сделали, избрав Таганрог местопребыванием моей жены”…
Когда я спросил Его Величество, с каких пор он испытывает лихорадку, император ответил мне, что с Бахчисарая, где “прибыв вечером и почувствовав жажду, я спросил пить, и мой камердинер Федоров подал мне барбарисового сиропа. Так как во время путешествия в Крыму погода была очень жаркая, я подумал, что сироп мог испортиться, но мой камердинер сказал мне, что сироп не пострадал. Я проглотил целый стакан и лег спать. Ночью я почувствовал страшные припадки, но, благодаря моему организму и прекрасному желудку, меня сильно прослабило и все обошлось этим. По приезде в Перекоп я посетил госпиталь, где почувствовал снова небольшую лихорадку”.
По этому поводу я осмелился заметить его величеству, что было неблагоразумно с его стороны отправиться в госпиталь, где он мог лишь усилить свою лихорадку, вследствие нахождения в нем большого числа лиц, пораженных этой болезнью, и что император постоянно забывает, что, приближаясь к пятому десятку, не пользуешься уже теми силами, как в двадцать лет.
Он отвечал мне: “О, дорогой друг, я слишком чувствую это и уверяю вас, что я очень часто вспоминаю об этом и надеюсь, что все обойдется благополучно”. Спросив меня затем о здоровье императрицы, он отправился к ней, где их величества и провели вместе остальную часть вечера».
«6-го ноября. По утру в восемь часов позван я был, как по обыкновению, к его императорскому величеству во время умывания: спросил о его здоровье, его величество изволил отозваться, что ночь провел изрядно и лихорадки не чувствовал. Взгляд у государя был слабый, и глаза мне показались мутны. Сверх того глухота была приметнее, и до того, что, докладывая по некоторым бумагам, его величество изволил сказать мне, чтобы я остановился чтением до совершенного окончания его туалета. Одевшись, его величество, вышедши в кабинет, стал у камина греться, приказав мне продолжать доклад…»
«8-го ноября. Ночь проводил неспокойно и имел лихорадку. Поутру в восемь часов изволил делать свой туалет по обыкновению, приняв от меня поздравление с праздником, сожалел, что не может идти к обедне, дабы не возобновить лихорадки. Отпустив меня к обедне, сам изволил в кабинете, сев на канапе, заняться чтением Библии. После обедни, пришедши к его величеству, нашел его сидящим на канапе в маленьком жару. Государь изволил спрашивать, по обыкновению, хорошо ли отправлялась служба, как пели певчие и хорошо ли служил вновь вывезенный его величеством из Новочеркасска диакон?..
Вечером сделался пот, который продолжался всю ночь».
Здесь нужно сделать примечание…
8 ноября Православная Церковь празднует Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплодных – Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. И легко предположить, что, расспрашивая, как пели в церкви, император Александр думал о других голосах, которые ему, отцеубийце, вскоре предстоит услышать…
Но пойдем дальше…
«9-го ноября. Ночь была изрядная. Поутру хотя пот и продолжался, но государь чувствовал себя лучше, что продолжалось во весь день. Так как в тот день должна была отправиться экстрапочта в С.-Петербург, то и просил я у его величества, чтобы изволил писать ея величеству о болезни. Государь император приказал государыне писать к ея императорскому величеству государыне императрице Марии Федоровне… что, возвратясь из Крыму с лихорадкою, принужден не выходить из дома, дабы не увеличивать лихорадки».
Как явствует из «Журнала» Волконского, первый обморок с императором случился 10 ноября, второй – на следующий день.
Любопытно замечание лейб-медика государя баронета Я.В. Виллие, сделанное в эти дни: «Начиная с 8-го числа, я замечаю, что что-то такое другое его занимает больше, чем его выздоровление, и беспокоит его мысли»…
14 ноября «около обеда сделался опять сильный жар, и за ушами шея к голове заметно покраснела, почему г. Виллие и Стоффреген предложили его величеству поставить за уши пиявки, но государь и слышать о сем не хотел…».
Пиявки за уши, тридцать пять штук, поставили на следующий день, когда император исповедался и причастился. Смотреть на императора стало страшно – плешивая голова, только за ушами шевелятся черные волосы пиявок.
«16-го ноября. Ночь проводил худо и все почти в забытьи; в два часа ночи попросил лимонного мороженого, которого откушал одну ложечку, потом во весь день ему было худо; к вечеру положили еще к ляжкам синапизмы, но жар не уменьшился. Государь был все хуже, в забытьи и ничего не говорил».
«17-го ноября. Ночью было государю худо, поутру в шесть с половиной часов положили на спину шпанскую муху. В десять часов утра стал всех узнавать и немного говорить, то есть только просил пить. К вечеру сделалось хуже, однако позвал меня и сказал “делай мне”, и остановился; я спросил у его величества: что прикажете сделать? Посмотрев на меня, отвечал: “полосканье”; отошед от него, заметил, что уже нельзя ему полоскать рта, потому что сил не имел, чтобы подняться, а между тем забылся опять и был всю ночь в опасности».
И вот наступило 19 ноября…
«Утро было пасмурное и мрачное, площадь перед дворцом вся была покрыта народом, который из церквей, после моления о здоровье государя, приходил толпами ко дворцу, чтобы получить вести о положении императора. Государь постоянно слабел, часто открывал глаза и прямо устремлял их на императрицу и святое распятие… В выражении лица его не заметно было ничего земного, а райское наслаждение и ни единой черты страдания. Дыхание становилось все реже и тише».
«В 10 часов и 50 минут испустил последний дух. Императрица закрыла ему глаза и, подержав челюсть, подвязала платком, потом изволила пойти к себе». Внезапность и необъяснимость (от простуды? от лихорадки?) смерти императора, в глуши, вдалеке от столицы, сразу вызвала разговоры и недоумения. Беспокоили всех и противоречия в свидетельствах очевидцев кончины императора.
На следующий день вечером было сделано вскрытие тела. Вскрывались грудная полость, брюшина и череп, чтобы установить причину смерти императора…
Акт вскрытия, хотя его и подписали дмитриевского вотчинного госпиталя младший лекарь Яковлев, лейб-гвардии Казачьего полка штаб-лекарь Васильев, таганрогского карантина главный медицинский чиновник доктор Лакиер, придворный врач коллежский асессор Доберт, медико-хирург надворный советник Тарасов, штаб-лекарь надворный советник Александрович, доктор медицины и хирургии статский советник Рейнгольд, действительный статский советник, лейб-медик Стоффреген, баронет Яков Виллие, тайный советник и лейб-медик, завершался весьма смутным и условным выводом: дескать, «сиe анатомическое исследование очевидно доказывает, что августейший наш монарх был одержим острою болезнью, коею первоначально была поражена печень и прочие, к отделению желчи служащие, органы. Болезнь сия в продолжении своем постепенно перешла в жестокую горячку с приливом крови в мозговые сосуды и последующими затем отделением и накоплением сукровичной влаги в полостях мозга, и была, наконец, причиною самой смерти его императорского величества».
Князь В.В. Барятинский, занимаясь в дальнейшем разбором смерти императора Александра I, разослал этот акт вскрытия видным петербургским медикам и получил заключение от них, «что при всей трудности определить по протоколу вскрытия причину смерти – смерть эта отнюдь не могла произойти ни от брюшного тифа, ни от малярии» (т. е. «крымской лихорадки»), как пишется в большинстве биографий Александра I…
5
Разбирая бумаги, оставшиеся в кабинете Александра в Таганроге, Петр Михайлович Волконский и Иван Иванович Дибич[180] нашли церемониал погребения Екатерины II…
Зачем император взял его с собою в Таганрог?
Еще больше недоумений вызывают медлительность и небрежность в организации похорон Александра I, словно не императора хоронили, а частного человека. Только через два дня было произведено вскрытие тела и началось бальзамирование.
«21-го числа, поутру в 9 часов, по приказанию Дибича, отправился я, как старший в чине из числа моих товарищей, для присутствия при бальзамировании тела покойного государя, – вспоминает Н.И. Шениг. – Вошел в кабинет, я нашел его уже раздетым на столе, и четыре гарнизонные фельдшера, вырезывая мясистые части, набивали их какими-то разваренными в спирте травами и забинтовывали широкими тесьмами. Доберт и Рейнгольд, с сигарами в зубах, варили в кастрюльке в камине эти травы. Они провели в этом занятии всю ночь, с той поры, как Виллие вскрыл тело и составил протокол. Череп на голове был уже приложен, а при мне натягивали кожу с волосами, чем немного изменилось выражение черт лица. Мозг, сердце и внутренности были вложены в серебряный сосуд, вроде сахарной большой жестянки с крышкою, и заперты замком. Кроме вышесказанных лиц и караульного казацкого офицера, никого не только в комнате, но и во всем дворце не было видно. Государыня накануне переехала на несколько дней в дом Шихматова. Доктора жаловались, что ночью все разбежались и что они не могут даже добиться чистых простынь и полотенец. Это меня ужасно раздосадовало. Давно ли все эти мерзавцы трепетали одного взгляда, а теперь забыли и страх, и благодеяния. Я тотчас же пошел к Волконскому, который принял меня в постели, рассказал, в каком положении находится тело государя, и тот, вскочив, послал фельдъегеря за камердинерами. Через четверть часа они явились и принесли белье. Между тем фельдшера перевертывали тело, как кусок дерева, и я с трепетом и любопытством имел время рассмотреть его. Я не встречал еще так хорошо сотворенного человека. Руки, ноги, все части тела могли бы служить образцом для ваятеля; нежность кожи необыкновенная; одно только место, которое неосторожно хватил Тарасов, было черного цвета.
По окончании бальзамирования одели государя в парадный общий генеральский мундир, со звездою и орденами в петлице, на руках перчатки и положили на железную кровать, на которой он скончался, накрыв все тело кисеею. В ногах поставили аналой с Евангелием, которое по очереди читали священники, сменяясь каждые два часа»…
Однако прошло почти три недели после кончины государя, прежде чем тело императора было перевезено из дворца в собор Александровского монастыря.
Здесь гроб стоял и 14 декабря, когда в Петербурге вышли на Сенатскую площадь те, чьи иллюзии разделял и поддерживал мертвый император.
Только 29 декабря, когда, выдержав экзамен на императорское звание, Николай I подавил мятеж и арестовал основных заговорщиков, печальный картеж двинулся в Петербург.
Императрица Елизавета Алексеевна не сопровождала тело мужа. Она, хотя и чувствовала себя хорошо, осталась в Таганроге до весны.
Гроб повезли через Харьков, Курск, Орел, Тулу…
3 февраля, когда поезд прибыл в Москву, слух, что император скрылся, а в гробу везут тело умершего солдата, принял угрожающие размеры.
Гроб поставили в Архангельском соборе Кремля, но уже в девять часов вечера кремлевские ворота заперли и выкатили к ним заряженные орудия. В Кремле расположилась пехота, а кавалерийская бригада с оседланными лошадями – в экзерциргаузе.
Гроб в Москве не открывали.
Как свидетельствуют лица, сопровождавшие его, первый раз гроб открыли 7 февраля в семь часов вечера в селе Чашошкове.
Второй осмотр был произведен лично графом Аракчеевым за Новгородом, а вот в третий раз осматривали тело всего несколько десятков километров спустя – в деревне Бабино.
Где-то здесь, вблизи Тосно, встретила гроб сына императрица Мария Федоровна.
Сцена знаменательная.
Четверть века назад мартовской ночью 1801 года императрица пыталась прорваться в кабинет своего мужа императора Павла, и ее не пускали туда.
Теперь ей попытались не показать тело сына, организовавшего в ту мартовскую ночь убийство отца!
В.В. Барятинский полагает, что это по требованию императрицы, а не по личному приказу императора Николая I и было произведено лейб-медиком Яковом Виллие вскрытие гроба…
«Сего 26-го февраля в 7 часов пополудни, в Бабине, я производил осмотр тела блаженной памяти императора Александра… – писал баронет лейб-медик. – Раскрыв его до мундира, я не нашел ни малейшего признака химического разложения, обнаруживающегося обыкновенно выделениями сернисто-водородного газа, обладающего весьма едким запахом; мускулы крепки и тверды и сохраняют свою первоначальную форму и объем»…
Таким увидела тело сына и императрица Мария Федоровна…
В таком состоянии и находилось тело 28 февраля, когда прибыли в Царское Село. Здесь гроб был поставлен в дворцовой церкви на катафалке под балдахином.
1 марта в одиннадцать часов вечера священник и все дежурные были удалены из церкви, а при дверях поставлены часовые.
В присутствии министра духовных дел князя А.Н. Голицына, графа Орлова-Денисова был открыт гроб.
Надворный советник Тарасов снял атласный матрац из ароматных трав, покрывавший все тело, вычистил мундир, на который пробилось несколько ароматных специй, переменил на руках императора пожелтевшие белые перчатки, возложил на голову корону и обтер лицо, так что тело представлялось совершенно целым и не было ни малейшего признака порчи.
Спустя несколько минут вся императорская фамилия с детьми, кроме царствующей императрицы, вошли в церковь при благоговейной тишине, и все целовали покойного в лицо и руку.
Когда августейшие особы покинули церковь, сняли корону и, покрыв тело ароматным матрацем, закрыли гроб. Все дежурные и караул снова введены были в церковь, и началось чтение Евангелия. 6 марта тело было перевезено в Казанский собор.
Оно семь дней стояло здесь в закрытом гробу, а 13 марта 1826 года, в одиннадцать часов, во время сильной метели, погребальное шествие направилось в Петропавловскую крепость…
Почему ни в Москве, ни в Петербурге не открывали гроб?
«Кажется, единственно по той причине, – пишет Тарасов, – что цвет лица покойного государя был немного изменен в светло-каштановый, что произошло от покрытия оного в Таганроге уксусно-древесною кислотою, которая, впрочем, ни мало не изменила черт лица».
Однако утверждение это, как мы видим, противоречит свидетельствам о хорошей сохранности тела. Загадок и неувязок, связанных со смертью императора Александра, так много, что смутные слухи об его уходе вскоре переросли в твердую убежденность общества, будто именно так и обстояло дело.
Скоро нашелся и человек, в которого якобы воплотился император Александр в новой жизни. Это был старец Федор Кузьмич, человек святой жизни, великий подвижник и молитвенник…
Как мы уже говорили, можно спорить, насколько справедлива эта версия… Скорее всего, мы никогда не узнаем этого наверняка.
Но важно ведь не только то, что было на самом деле, а и то, во что поверила народная душа.
Кем был император Александр I? Сыном, с молчаливого согласия которого был убит злодеями-крепостниками его отец император Павел?
Реформатором-либералом, увлекающимся масонством?
Первым русским императором, сумевшим осознать мистическую силу единения монарха с подданными, поднявшим свой народ на Отечественную войну и одержавшим величайшую победу?
Одиноким, слабым правителем, который не сумел противиться злобному и агрессивному натиску аристократии и так и не освободил народ из жестокой неволи?
В этот ряд естественно и логично для народной совести вписывается превращение императора Александра I в старца, замаливающего свои грехи…
Оно из той русской жизни, сила которой и помогла стране одолеть и новоявленного завоевателя Вселенной, и ту иноземную мистику, что липучим туманом стремилась окутать сознание России.
6
Известие о кончине императора пришло в Варшаву к цесаревичу Константину Павловичу 25 ноября вечером, а в Санкт-Петербурге еще и на следующий день молились о выздоровлении Александра I…
Тем не менее в царском дворце прошло тогда совещание, на котором обсуждалось, кто должен занять престол в случае смерти государя. Верховодил на этом совещании военный генерал-губернатор Петербурга граф М.А. Милорадович.
В принципе, всё было ясно.
По указу Павла, выпущенному в 1797 году, права на престол принадлежали Константину. Однако Константин был женат вторым браком на польской дворянке, и поэтому в силу указа Александра I от 1820 года, по которому наследник престола должен быть женат на особе из владетельного дома, Константин прав на престол лишался, и наследником становился Николай I.
Однако военный генерал-губернатор Петербурга граф М.А. Милорадович заявил, что, поскольку всенародного отречения Константина от престола не было, гвардия присягу Николаю не принесет.
Михаилу Андреевичу Милорадовичу предложили познакомиться с распоряжениями императора (там было и отречение Константина), но он ответил, что корона для него священна и, прежде чем читать бумаги, надобно исполнить свой долг.
М.А. Милорадович вел себя во время совещания весьма смело.
– У кого 60 тысяч штыков в кармане, тот может смело говорить! – пояснил он и добавил, что великий князь Николай никак не может надеяться наследовать брату своему Александру I, ибо законы империи не дозволяют располагать престолом по завещанию. К тому же завещание Александра I известно только некоторым лицам, а в народе, как и отречение Константина, оно не ведомо. Если бы Александр I хотел, чтобы Николай наследовал престол, он должен был обнародовать свою волю и согласие с нею Константина еще при жизни. А теперь поздно… Теперь ни народ, ни войско не поймут отречения и припишут все измене, тем более что ни государя самого, ни наследника нет в столице. Гвардия откажется в таких обстоятельствах принести присягу Николаю…
Командующий гвардией А.Л. Воинов и командующий гвардейской пехотой генерал К.И. Бистром поддержали М.А. Милорадовича.
И вот на следующий день, 27 ноября, когда во время молебствия за здравие Александра I в Зимний дворец пришло сообщение о кончине императора, Николай под давлением М.А. Милорадовича вынужден был подписать присяжный лист.
«Великий князь поднял руку; задыхаясь от рыданий, дрожащим голосом повторял он за священником слова присяги; но когда надобно было произнести слова: государю императору Константину Павловичу, дрожащий голос сделался твердым и громким; все величие этой чудной минуты выразилось в его мужественном, решительном звуке», – вспоминал об этой присяге в дворцовой церкви В.А. Жуковский.
То ли Василий Андреевич не знал, что Николай Павлович приносит присягу брату Константину под прямым давлением Михаила Андреевича Милорадовича, угрожавшего поднять всю гвардию, то ли слишком хорошо знал это…
С необыкновенной силой и точностью запечатлел он один из самых драматичных моментов русской истории, когда законный наследник престола, подчиняясь обстоятельствам, ради того, чтобы не допустить кровавой драмы, жертвует своим правом на престол.
Точно так же поступил в свое время сын равноапостольного князя Владимира святой князь мученик Борис, который тоже пожертвовал великокняжеским столом, чтобы предотвратить гражданскую войну… Забегая вперед, скажем, что, как и тогда князю Борису, Николаю не удалось предотвратить пролития крови, но это не его вина…
Следом за Николаем, в обход существующего порядка, Константину присягнула гвардия. Однако не долгим было торжество генерал-губернатора Милорадовича, устроившего это беззаконие.
Уже 3 декабря великий князь Михаил Павлович привез из Варшавы письма Константина Павловича, который подтверждал свой отказ от прав на престол. Такого еще не бывало в истории Дома Романовых…
Рассказывают, что Николай I, когда пришло это известие, почти на целый час покинул сановников. Но когда снова вышел к ним, даже в походке, в движениях произошли перемены. Это был уже не юноша, а император, принявший на себя ответственность за державу!
9 декабря Николай I сам набросал текст, объясняющий запутанную ситуацию престолонаследия, и поручил Н.М. Карамзину написать на этой основе манифест о восшествии на престол.
«Когда получено было 27-го числа минувшего Ноября горестное известие о кончине блаженной и вечной славы достойной памяти Государя Императора Александра I, первое стремление сердца моего было принесть присягу в верности старшему брату моему, Государю Цесаревичу и Великому Князю Константину Павловичу, как законному по первородству Наследнику Престола Государства Российского, буде другого покойным Императором не назначено и объявлено не было. Исполнив первый таким образом священный долг верноподданного, известился я от Государственного Совета, что находится в архиве оного пакет, на имя Председателя от покойного Императора присланный, с собственноручною над оным надписью: хранить до собственного Его Императорского Величества востребования, или в случае кончины Его Императорского Величества прежде всякого действия в чрезвычайном собрании Совета вскрыть, и что сие последнее повеление Государственным Советом исполнено, и найдено, что пакет сей включал: I) Письмо Государя Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича к покойному Императору, в коем торжественно просит Его Императорское Величества согласия на свободное уступление в пользу мою и потомства моего права наследия Престола Всероссийского, Его Высочеству Цесаревичу принадлежащего по праву первородства; 2) и в последствие сего Манифест покойного же Императора Александра I от 16 Августа 1823 года, по желанию Его Высочества Цесаревича, торжественно меня назначающей Наследником Всероссийского Престола и проч.
По объявлении мне о том я остался однако ж верен присяге старшему моему брату, непоколебим в решении своем и настоял, чтоб все Государство последовало примеру моему, не в ослушание священной для верноподданных воле покойного Государя, общего нашего отца и благодетеля, но дабы нелицемерным исполнением долга своего пред законным Наследником Престола, по Манифесту блаженной памяти Родителя нашего Императора Павла I, утвержденному 15 Сентября 1801 года, и потому по коренному закону наследия Всероссийского Престола, утвердить навсегда законный порядок наследия, что лично Государынею Императрицею, любезнейшею Родительницею нашею, удостоено благословения.
Великий князь Николай Павлович. Портрет Дж. Доу. 1823 г.
Но Его Императорское Высочество Цесаревич и Великий Князь Константин Павлович, свято сохранивший слово свое, торжественно им данное и утвержденное покойным Императором Александром в 16 день Августа 1823 года, тотчас по получении им 25 Ноября горестного известия о кончине покойного Государя Императора, тогда же в письме, привезенном любезнейшим братом нашим Великим Князем Михаилом Павловичем к любезнейшей Родительнице нашей Государыне Императрице Марии Федоровне, со включением копии с грамоты Его Императорского Величества Александра I к Его Высочеству Цесаревичу в ответ на Его письмо, подтвердил вторично торжественное отречение, в нашу и потомства нашего пользу, от наследия Престола Всероссийского и проч., а в грамоте на наше имя признает нас Императором и Самодержцем Всероссийским и проч., и себе предоставляет прежний титул Цесаревича и называет себя нам верноподданнейшим…
Но и тогда остановились мы объявить о сей непоколебимой воле Его Императорского Высочества, доколе не получим ответа на принесенную присягу нами и всем Государством.
Ныне дошла до нас и на сие торжественная неколебимая воля Его Императорского Высочества Цесаревича, которой, повинуясь с покорностию и объявляя о том всенародно, прилагаем при сем: 1) Грамоту Его Императорского Высочества Цесаревича к Его Императорскому Величеству, покойному Императору Александру I; 2) ответ на оную Его Императорского Величества и 3) Манифест Его же Императорского Величества, Наследником нас назначающий, а равно письмо Его Императорского Высочества Цесаревича к любезнейшей Родительнице нашей, Государыне Императрице Марии Федоровне, и грамоту на наше имя, которою Мы от Его Высочества Цесаревича, удостоены были, и, наконец, объявляем, что мы по законному нашему ныне праву на наследие, по воле Божией, любезнейшего брата нашего Цесаревича, Великого Князя Константина Павловича, и по силе Манифеста блаженной памяти Государя Императора Александра I вступили на Престол Всероссийский 19 Ноября 1825 года, и повелеваем в подданстве нам и законному, по праву наследия. Наследнику нашему Его Императорскому Высочеству, Государю Великому Князю Александру Николаевичу, любезнейшему нашему сыну, учинить присягу.
Да будет царствование наше царствованием законов и правосудия; да наставит нас Всемогущий Творец следовать по священным стопам Предместника Нашего, вечной славы и благодарности достойного Государя Императора Александра I, и да даст нам силы сносить бремя правления с твердостию и упованием на Его благодать. Клянемся сохранить все коренные законы Государства нашего и ненарушимость границ Государства, и да будет залогом благих намерений наших ныне оказанное нами почтение к первому отечественному коренному закону, обеспечивающему и на будущие времена ненарушимость законного наследия Престола Государства Российского: в чем да поможет нам Всемогущий и Всемилосердый Бог!»
Между прочим, тогда же, 9 декабря, члены тайного общества выбрали будущего «диктатора» – князя Сергея Петровича Трубецкого.
А через день (в Таганроге в тот день, наконец, перевезли тело императора Александра I из дворца в собор Александровского монастыря) А.А. Аракчеев сообщил Николаю, что в гвардии готовится заговор с целью осуществления государственного переворота.
– Я еще не государь ваш, но должен поступать уже как государь… – сказал Николай.
12 декабря он вручил М.А. Милорадовичу список заговорщиков и поручил арестовать их, однако Михаил Андреевич выкинул этот список в корзину.
Роль М.А. Милорадовича в декабрьских событиях 1825 года смутна и непонятна. Считается, что он отстаивал интересы Константина Павловича и потому и противодействовал Николаю. Но если это так, то почему он продолжал загонять ситуацию в тупик и тогда, когда определенно стало известно об отречении Константина?
Еще более странным становится поведение военного генерал-губернатора, когда выясняется, что Михаил Андреевич был связан с декабристом Александром Якубовичем, а генерал Карл Иванович Бистром, активно поддерживавший М.А. Милорадовича, – с декабристом Евгением Оболенским.
Интересно, что вечером 12 декабря Николай получил письмо подпоручика Якова Ростовцева. Подпоручик предупреждал Николая о заговоре и о том, что смертельно опасно и для самого Николая и для всего государства принимать в этой ситуации престол.
Считается, что Яков Ростовцев сделал донос.
Однако донос этот был странным. Ни одной фамилии подпоручик не назвал, только предупреждал Николая I о заговоре.
Поскольку потом, в ходе следствия, выяснилось, что подпоручик действовал с санкции К.Ф. Рылеева, письмо это следует считать не доносом, а попыткой запугать человека, которому завтра предстоит стать императором…
Подтверждает эту мысли и то, что письмо подпоручика было подано в пакете, который принес адъютант генерала Карла Ивановича Бистрома.
Угроза, исходящая то ли от декабристов, то ли от Милорадовича – Бистрома, Николая не запугала.
«Воля Божия и приговор братний надо мной совершается! (выделено мной. – Н.К.) 14-го числа я буду государь или мертв… – написал он в тот вечер в письме генерал-адъютанту П.М. Волконскому. – Да будет воля Божия!..»
Весь день 13 декабря прошел в приготовлениях к предстоящей переприсяге…
– Неизвестно, что ожидает нас, – сказал Николай своей супруге перед сном. – Обещай мне проявить мужество и, если придется умереть, умереть с честью.
О чем он думал, что вспоминал в ту ночь?
Может быть, о детстве?
7
Рассказывают, что в 1797 году Николай уже танцевал на придворном балу. Было ему тогда от роду один год и четыре месяца…
В три года Николай надел малиновый мундир лейб-гвардии Конного полка.
Но из первых лет жизни запомнилось не многое и совсем не главное…
Смутно и неясно остался в памяти шведский король Густав Адольф, который «подарил фарфоровую тарелку с фруктами из бисквита»; желтые сапоги гусар венгерской дворянской гвардии; лагерь Финляндской дивизии, пришедшей в Гатчину на осенние маневры.
Лучше запомнилась встреча с А.В. Суворовым…
Однако Суворова Николай запомнил не великим полководцем, а просто – спасителем няни, которую будущий император очень любил и которая научила его и русской азбуке и молитве «Отче наш»… Александр Васильевич Суворов спас няню из плена в Варшаве.
Но лучше других запомнился отец… Ясно запечатлелось в памяти: калитка малого сада в Павловске… Голые ветки деревьев… Он, Николай, бежит по аллее навстречу отцу, и тот обнимает его.
– Поздравляю, Николаша, с новым полком, – говорит он. – Я тебя перевел из Конной гвардии в Измайловский полк в обмен с братом[181]…
Было тогда будущему императору три с небольшим года, и с тех пор зеленый с золотыми петлицами мундир с нашитыми на него звездами Андрея Первозванного и Святого Иоанна Иерусалимского и стал навсегда его мундиром…
Запомнилась и первая игрушка – деревянное ружьецо, купленное за полтора рубля. Потом появились в детской литавры, деревянные шпаги, алебарды, гренадерские шапки, трубы, пушечки, зарядные ящики…
Николай I сам записал свои детские воспоминания, изданные потом тиражом пятьдесят экземпляров. Несколько страниц в них отведено событиям трагической ночи 11 марта 1801 года, ночи, которую наверняка вспоминал Николай ночью 14 декабря 1825 года…
Может быть, он вспоминал свежеиспеченный хлеб, который, чтобы спастись от сырости, клали на подоконнике в Михайловском замке… Может быть, вспоминал ковер в кабинете отца, на котором они с братом Михаилом играли по утрам…
Впрочем, раскроем лучше сами «Воспоминания о младенческих годах императора Николая Павловича, записанные им собственноручно»…
«Однажды вечером был концерт в большой столовой; мы находились у матушки; мой отец уже ушел… потом поднялись к себе и принялись за обычные игры. Михаил (младший сын императора Павла. – Н.К.), которому было тогда три года, играл в углу один, в стороне от нас, англичанки, удивленные тем, что он не принимает участия в наших играх, обратили на это внимание и задали ему вопрос: что он делает? Он, не колеблясь, отвечал: “Я хороню своего отца!”. Как ни малозначащи должны были казаться такие слова в устах ребенка, они тем не менее испугали нянек. Ему, само собою разумеется, запретили эту игру, но он… продолжал ее, заменяя слово отец – Семеновским гренадером. На следующее утро моего отца не стало. То, что я здесь говорю, есть действительный факт.
События этого печального дня сохранились в моей памяти, как смутный сон; я был разбужен и увидел перед собою графиню Ливен.
Когда меня одели, мы заметили в окно, на подъемном мосту перед церковью, караулы, которых не было накануне; тут был весь Семеновский полк в крайне небрежном виде. Никто из нас и не подозревал, что мы лишились отца; нас повели вниз к моей матушке, и вскоре оттуда мы отправились с нею, сестрами, Михаилом и графиней Ливен в Зимний дворец…
Матушка моя лежала в глубине комнаты, когда вошел император Александр в сопровождении Константина и князя Николая Ивановича Салтыкова; он бросился перед матушкой на колени; и я до сих пор еще слышу его рыдания. Ему принесли воды, а нас увели. Для нас было счастье опять увидеть наши комнаты и, должен сказать по правде, наших деревянных лошадок, которых мы там позабыли».
Отца убили, когда Николаю Павловичу было четыре с половиной года…
Ему не исполнилось еще пяти, когда ему подарили уже не деревянную, а настоящую лошадь и он начал ездить верхом.
Когда Николаю исполнилось шесть, появились у него воспитатели-мужчины. Главный надзор за воспитанием великого князя осуществлял начальник Первого кадетского корпуса генерал Ламздорф.
Его выбрал еще сам император Павел.
Говорят, что Ламздорф отказывался, но Павел пресек его возражения.
– Если вы не желаете исполнить моего желания для меня, – сказал он, – то должны это сделать во имя России. Но предупреждаю вас, чтобы вы из моих сыновей не сделали таких повес, каковы, по большей части, немецкие принцы.
Ламздорф добросовестно исполнил наказ покойного императора.
Он установил для великих князей такой же жесткий, как и в кадетском корпусе, порядок.
За нарушение его и Николай, и Михаил наказывались – до ударов шомполом включительно. На ужин будущему императору полагался кусок хлеба с солью. Каждый день поднимали в семь утра. В десять вечера, перед сном, Николай должен был заполнить дневной журнал.
Самое удивительное, что вся эта строгость, еще определенная покойным отцом, не вызывала протеста со стороны самого мальчика. Более того, военная строгость проникала и в его детские игры.
Почти настоящей была игра великих князей в часовых. Часами могли они, играя, неподвижно стоять в карауле.
Однако любимыми игрушками Николая Павловича становятся в это время оловянные солдатики.
Русские мастера к тому времени в совершенстве овладели техникой нюрнбергской школы, и оловянные фигурки[182], в точности копирующие и форму, и вооружение русских полков, начали поступать в продажу.
Много было у Николая и фигурок солдат, изготовленных за границей.
Интересно, что среди книг его детской библиотеки – а там были сочинения Гомера, Лафонтена, Плутарха, Ломоносова – находим мы и книгу-игрушку «Естественная история с оловянными фигурками». В книге описывались события, а извлекаемые из коробки, приложенной к книге, фигурки помогали ребенку включить исторические персонажи в свои детские игры[183].
Образование Николая тем не менее шло своим чередом, и в восемь лет он уже читал и писал под диктовку по-французски, читал по-русски Псалтырь, знал четыре правила арифметики.
Многие участники детских игр Николая I обращали внимание на его пристрастие к крепостям. Он любил срисовывать их модели, а на прогулках возводил из земли редуты. Даже в детской, занимаясь строительством из стульев «дачи» для няни, он всегда укреплял постройку пушками «для защиты». Несомненно, что в этом пристрастии подсознательно проявлялся гнетущий детский страх перед преступлением, совершенным в Михайловском замке…
Должно быть, заметив любовь Николая к крепостям, император Александр I и возложил на него ответственность за все саперные службы гвардии.
Первая настоящая служба Николая – участие в походе на Париж в 1814 году.
Было тогда Николай Павловичу восемнадцать лет.
Потом он командовал гвардейской дивизией.
Рано приохотился великий князь и к рисованию. Рисунки свои он подписывал монограммой, которая объединяла буквы «Р», «Н» и римскую цифру III.
Обозначала она – Николай, третий, Романов.
Первыми Романовыми в династии императора Павла считались тогда Александр и Константин.
Но эти первые сыновья Павла почти безраздельно воспитывались бабушкой – императрицей Екатериной II, а Николай оказался первым сыном, которого Павел начал воспитывать сам…
И – случайно ли? – судьбе угодно было распорядиться, чтобы он стал не Романовым третьим, а императором Николаем I – первым русским царем, сумевшим обуздать собственное своеволие, сумевшим поставить интересы страны выше своих личных пристрастий и интересов…
8
Мы не знаем, какие картины детства вспоминал Николай I, какие сны видел в ту ночь.
14 декабря 1825 года император встал около шести часов.
«Молитесь Богу за меня, дорогая и добрая Мария! – написал он в то раннее утро своей сестре, герцогине Саксен-Веймарской. – Пожалейте несчастного брата – жертву воли Божией и двух своих братьев! Я удалял от себя эту чашу, пока мог, я молил о том провидение, и я исполнил то, что мое сердце и мой долг мне повелевали. Константин, мой государь, отверг присягу, которую я и вся Россия ему принесли… Наш ангел должен быть доволен – воля его исполнена, как ни тяжела, как ни ужасна она для меня»…
Николай запечатывал письмо, когда вошел Александр Христофорович Бенкендорф.
– Сегодня вечером, быть может, нас обоих не будет более на свете… – сказал ему Николай I. – Но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг.
Около семи часов явился командующий Гвардейским корпусом генерал А.Л. Воинов. Николай вышел в залу, где собрались гвардейские генералы и полковые командиры. Он зачитал завещание Александра I и отречение Константина.
Затем А.Л. Воинов вручил господам командирам циркуляр: «Его императорское величество высочайше повелеть изволил г.г. генералам и полковым командирам по учинении присяги на верность и подданство его величеству отправиться первым в старейшие полки своих дивизий и бригад, вторым – к своим полкам. По принесении знамен и штандартов и по отдании им чести сделать вторично на караул, и старейшему притом или кто из старших внятно читает, прочесть вслух письмо его императорского высочества государя цесаревича великого князя Константина Павловича к его императорскому величеству Николаю Павловичу и манифест его императорского величества (которые присланы будут); после чего взять на плечо, сделать на молитву и привести полки к присяге, тогда, сделав вторично на караул, опустить знамена и штандарты, а полки распустить».
К восьми часам закончилось принесение присяги в Сенате и Синоде.
В восемь часов тридцать минут присягнула Конная гвардия.
К девяти часам присягнул 1-й Преображенский батальон, размещенный рядом с дворцом.
Первый сбой произошел в казармах Московского полка.
Там Михаилу Бестужеву вместе с его братом Александром, выдававшим себя за адъютанта императора Константина, удалось одурачить солдат.
– Ребята, все обман! – говорили они солдатам. – Нас заставляют присягать насильно! Государь Константин Павлович не отказался от престола, его задержали на дороге!
Кажется, никогда еще дворянская подлость по отношению к простому русскому народу не приобретала столь яркого и полного воплощения, как утром 14 (26) декабря 1825 года.
Братья Бестужевы, а с ними был и князь Дмитрий Щепкин-Ростовский, чтобы вывести на Сенатскую площадь солдат Московского полка, пошли на откровенный подлог!
Семьсот московцев с заряженными ружьями двинулись к Сенату и выстроились здесь в каре, возле памятника Петру I, чтобы защитить закованного в цепи государя Константина, которому они присягали.
Подобно картежным шулерам, подменяющим карты, братья Бестужевы подменили стремление простых русских солдат остаться верными присяге и своему государю бунтом против законного государя.
Самое поразительное, что ни тогда, ни после подавления восстания эти герои не задумывались о подлости совершенного тогда обмана. Не задумываются об этом апологеты декабризма и сейчас.
Любопытно сопоставить поведение самого Михаила Бестужева во время обмана и погубления солдат Московского полка с его же воспоминаниями о пребывании в Алексеевском равелине.
– Кто подле меня сидит? – спросил Бестужев у прислуживающего ему низенького солдатика «с выражением на лице неизъяснимой доброты».
– Бестужев, – ответил солдатик.
– А подле него и далее?
– Одоевский и Рылеев.
– Не можешь ли ты отнести записки к брату?
– Пожалуй можно. Но за это нашего брата гоняют сквозь строй…
«Я содрогнулся преступной мысли… Что за бесценный русский народ!.. Я готов был упасть на колени перед таким нравственным величием одного из ничтожных существ русского доброго элемента, даже не развращенного тюремным воспитанием… Как высоко стоял… этот необразованный солдатик, который в простой фразе “пожалуй можно” совместил всё учение Христа. Я не решился воспользоваться добротою, бескорыстною в полном смысле, потому что я ничем не мог заплатить ему за услугу, когда он рисковал, может быть, жизнью. Когда привезли поляков, они его не пощадили… Пойманный, он был жестоко наказан и умер в госпитале»[184].
Разумеется, можно иронизировать над этим восхищением «нравственным величием одного из ничтожных существ русского доброго элемента» человека, который всего несколько дней назад, спекулируя на верности солдат принесенной ими присяге, поднимал роты Московского полка на восстание, прекрасно зная, какой ценой придется солдатам заплатить за это.
И можно тут вспомнить и поручика Сергея Никифоровича Марина, который скомандовал «Смирно!» гренадерам из императорского караула и продержал их под ружьем неподвижными, пока заговорщики убивали императора Павла.
И все же ирония едва ли оправдана.
Да, декабристы, поднимая солдат на восстание, бессовестно обманывали их.
Да, все они принадлежали к сословию рабовладельцев и, хотя и возлюбили свободу, другого языка, кроме кнута и лжи, для разговора с «ничтожными существами русского доброго элемента» не знали.
Но после восстания, когда началось следствие, благодаря воистину спасительным беседам с императором Николаем Павловичем, очень многие декабристы начали понимать, на край какой пропасти поставили они 14 (26) декабря 1825 года страну и самих себя.
Прозрение было мучительно трудным, но – воспоминания Михаила Бестужева свидетельство этому! – оно происходило…
Впрочем, об этом разговор еще впереди, а пока вернемся на Сенатскую площадь, где московцы с заряженными ружьями выстроились в каре возле памятника Петру I.
9
Если до сих пор такие генералы, как М.А. Милорадович и К.И. Бистрем, действовали практически заодно с бунтовщиками, то после избиения генералов в Московском полку они испугались. По свойственной им авантюристической жилке генералы собирались поиграть в любимую гвардейскую игру под названием «дворцовый переворот», а вместо этого начиналась революция!
В одиннадцать часов уцелевший при избиении генералов в Московском полку начальник штаба Гвардейского корпуса генерал-майор А.И. Нейдгардт доложил Николаю I, что «Московский полк в полном восстании».
Николай I немедленно приказал генералу Апраксину выводить на Сенатскую площадь кавалергардов, а сам повел навстречу мятежникам батальон верных присяге преображенцев.
Некоторые историки называют этот поступок государя безумной отвагой. Отваги тут действительно было много, а безумия – никакого.
Николай I спасал династию и империю.
И только так он и мог спасти ее, потому что никаких других военных команд в ту минуту у него не было. Не было и командиров, которым бы мог он доверить этот единственный в тот момент верный присяге батальон…
А вот поведение инициатора этих событий, генерала М.А. Милорадовича, действительно можно назвать безумным. Увидев, во что вылилась его игра в дворцовый переворот, Михаил Александрович азартно попытался отыграть ситуацию назад и тем самым спасти хотя бы свою карьеру.
Он бросился было к конногвардейцам, но те не спешили умирать за царя, хотя и присягнули ему. Милорадович, вскочив на коня, поскакал на Сенатскую площадь в сопровождении лишь своего адъютанта.
В двенадцать часов он прорвался сквозь толпу к выстроившимся в каре мятежникам и начал уговаривать солдат прекратить мятеж, поскольку они обмануты. Опасаясь, что уговоры Милорадовича подействуют на солдат, декабрист П.Г. Каховский выстрелил в генерал-губернатора.
Так оборвалась жизнь генерала. Впрочем, существует версия, что уговаривал Михаил Александрович не солдат, а офицеров, неправильно исполнявших его приказы, но это только версия. Следствие по делу декабристов, как мы увидим далее, было в этом направлении прекращено самим Николаем I.
Через полчаса после выстрела Каховского на Сенатскую площадь подошли эскадроны Конной гвардии. Николай I приказал выстроить их у Адмиралтейства. Какое-то время войска стояли друг против друга, не предпринимая никаких действий.
Подходили верные Николаю I части.
Подходило пополнение и к бунтовщикам. Без пятнадцати час примкнула к ним рота лейб-гренадер Александра Сутгофа. Еще через час под предводительством Николая Бестужева вышел на площадь.
Гвардейский экипаж – 1100 матросов.
Однако верных частей было больше. Подошел на Сенатскую площадь Измайловский полк, и мятежники были окружены. Через полчаса к восставшим, взяв крест, направился митрополит Петербургский Серафим.
– Воины, успокойтесь! – сказал владыка. – Вы против Бога и церкви выступили!
Появление владыки произвело большое впечатление на солдат, но офицеры-заговорщики помешали ему завершить дело миром.
– Какой ты митрополит? – с вольтерианским бесстрашием начали кричать они. – Константин в оковах! А ты изменник! Не верим тебе!
Как вспоминал А.Е. Розен, люди, шедшие с площади, просили восставших продержаться еще часок…
Еще часок – это до наступления темноты.
Темноту ждали все. Офицеры-бунтовщики – с надеждой. В темноте, обманывая солдат, они поднимали восстание.
Темнота помогла бы им и теперь… Темноты и опасался император. После депутации великого князя Михаила Павловича к восставшим он приказал рассеять мятежников картечью.
Было пять часов вечера.
Уже сгущались петербургские сумерки.
Наступал вечер первого дня тридцатилетнего царствования императора Николая I.
Первую ложку заваренной для него каши он сумел разжевать.
Глава пятая Имперская дорога
Император, который ведет навстречу мятежникам единственный верный присяге Преображенский батальон, – трагический символ русского XIX века…
События 14 декабря во многом были определены рецидивом сословной памяти о лихих гвардейских переворотах XVIII столетия, превративших поместное дворянство в класс свободных от каких-либо обязанностей рабовладельцев.
И тут дворянство можно было понять. Уже два царствования русские императоры только на словах декларировали уважение к их сословию, но никаких новых льгот не даровали. Более того, они вели неуклонное наступление на права, завоеванные ими в эпоху дворцовых переворотов.
В результате рабовладельцы убили императора Павла и поймали Александра I в капкан отцеубийства, из которого он не мог выбраться всю жизнь. Но и Александр I, хотя и пообещал, что при нем все будет как при бабушке, так и не воротил екатерининского раздолья.
Междуцарствие, образовавшееся после его кончины, давало дворянам еще один шанс на защиту построенной Петром I и его преемниками рабовладельческой империи…
События на Сенатской площади, имевшие место 14 декабря, стали только верхушкой айсберга, которому можно уподобить дворянское противостояние Павловичам. Ну а сами декабристы, как и последовавшие за ними революционеры, представляли собою более или менее яркие отражения живого солнечного света на мертвой, ледяной поверхности. Сверкания эти и воспринимались как борьба за народную свободу, хотя по природе своей определялись борьбой поместного дворянства с монархией за свободу рабовладения.
Николая I крепостникам не удалось ни поймать, ни запугать.
Вопреки предательству гвардейского генералитета (военный генерал-губернатор М.А. Милорадович и другие высшие командиры гвардии), вопреки запугиванию, вопреки прямому бунту он выиграл первое сражение. Провалилась еще одна попытка конституционного закрепления рабовладельческих отношений.
1
Уже на первых допросах декабристов выяснилось, что в подготовку восстания были вовлечены высшие чины империи.
15 декабря на допросах прозвучало имя члена Государственного Совета Михаила Михайловича Сперанского, следом – имена генералов Алексея Петровича Ермолова и Михаила Федоровича Орлова, адмирала Николая Семеновича Мордвинова…
Стало ясно, что М.М. Сперанский, как отмечал историк В.И. Семевский, был не только вовлечен в заговор, но может считаться и подстрекателем к вооруженному мятежу этих «маленьких умом гвардейских офицериков». Вслед за Сперанским все они – и эти, и те, и другие – были членами масонских лож, и сама организация заговора строилась по масонским образцам.
Размах заговора способен был испугать любого…
Многие исследователи отмечали, что следователи по делу декабристов исключали из анкет допросов вопросы, опасные для лиц, которых решено было освободить не только от суда, но и от обвинения[185]. Ну а поскольку, – делают вывод эти исследователи, – Николай I держал все следствие под личным контролем, то, значит, это он и отдавал соответствующие команды.
Заседание следственной комиссии по делу декабристов. Рисунок В. Адлерберга. 1826 г.
Думается, что это не вполне верно… Тогда можно сказать, что и неразбериха с присягами, устроенная М.А. Милорадовичем, тоже совершалась с согласия Николая I. Ведь так и было, и, значит, так и можно говорить, правда, обязательно добавляя при этом про 60 тысяч штыков «в кармане» Михаила Андреевича, которыми он угрожал Императорскому Дому. Думается, что злых языков и лживых перьев в карманах у лиц, которых было решено освободить не только от суда, но и от обвинения, было не меньше…
Весь правительственный аппарат предыдущего царствования, почти все сановники Александра I перешли в царствование Николая I, сохранив сложившиеся в двух-трех поколениях масонские родственные связи. И императору Николаю I приходилось соглашаться с тем, что следствие ведется так, а не как положено. Еще не пришел решающий миг, когда надо самому вести на злоумышленников верный Преображенский батальон…
1 января 1926 года Николай I собрал в Зимнем дворце дипломатический корпус и объявил о своем восшествии на престол.
С печалью рассказал император о событиях 14 декабря, когда «банда злоумышленников и заговорщиков», эксплуатируя чувства привязанности русского народа к Императорскому Дому, ввела его в заблуждение и само чувство привязанности сделала своим орудием, дабы ниспровергнуть монархию…
Как явствовало из выступления Николая I, он ясно осознавал масштабы и характер заговора. Поэтому не вполне справедливыми представляются нам и упреки Николаю I, что он не только не привлек к ответственности Сперанского и Мордвинова, но, напротив, включил их в состав Высшего уголовного суда.
Действительно, включил…
Однако вспомним, что и М.А. Милорадовича Николай I тоже «включил» в состав своих сторонников на Сенатской площади. Наказание над предателем-заговорщиком совершилось само, и совершилось гораздо быстрее, чем могло бы совершиться, если бы исполнение его император взял на себя.
Правда, некоторые исследователи полагают, что для того и застрелили М.А. Милорадовича, чтобы не рассказал он, кто отдавал приказы ему, но для самого генерала это ничего не меняет…
Хотя, конечно, как и в случае с Милорадовичем, в случае со Сперанским и Мордвиновым действия государя во многом были вынужденными.
«Можно не сомневаться, – справедливо отмечает Виктор Острецов, – увидев подлинные размеры заговора, Государь почувствовал себя в большей опасности, чем тогда, когда выехал верхом на Сенатскую площадь утром 14 декабря, чтобы лично командовать подавлением мятежа.
Несомненно также, что ни Рылеев, ни Пестель, ни кн. С.П. Трубецкой, ни прочие публичные главари восстания не были подлинными руководителями заговора. Главная часть его простиралась не столько в сторону армейских полков и гвардейских казарм, сколько в сторону создания общественного мнения и дискредитации правительственных решений, подрыва авторитета православного духовенства и Самодержавия.
И, увидев размеры заговора, Император, человек с железной волей, но вместе с тем и реалист, почувствовал себя одиноким и совершенно беззащитным перед той силой, что называется масонством, пронизавшим весь высший слой Империи».
2
Можно согласиться с тем, что с первых же шагов Николай I почувствовал себя одиноким перед той силой, которую выявило следствие. Однако говорить, что он ощущал себя совершенно беззащитным, едва ли правильно.
Николай I был слишком благороден, слишком добр, чтобы быть тираном.
Плоть от плоти Павлович, он и править хотел как государь мечтательный и романтичный, не прибегая для укрепления власти к арсеналу приемов, используемых диктаторами, – подкупам, обманам, жестокостям…
Как известно, следственная комиссия по делу декабристов вела расследование в отношении 600 участников беспорядков. То ли стремясь выслужиться, то ли стараясь снять с себя возможные подозрения, судьи готовы были утопить в крови расследование и предлагали четвертовать основных участников мятежа, а еще двум десяткам отрубить головы! И только непосредственное вмешательство императора ограничило наказание, так чтобы оно не превратилось в расправу и не утратило своего воспитательного воздействия. Из 600 бунтовщиков лишь 121 участник восстания был осужден на каторгу и ссылку и только пятеро – казнены.
В ходе следствия император Николай I проявил необыкновенное благородство, постоянно побуждая заговорщиков к моральному, нравственному и духовному очищению и раскаянию. Насколько успешной была его деятельность в этом направлении, свидетельствует пример Кондратия Федоровича Рылеева.
«Бог и Государь решили участь мою; я должен умереть, и умереть смертию позорною, – писал тот в предсмертном письме. – Да будет Его святая воля! … Благодарю моего Создателя, что Он меня просветил и что я умираю во Христе».
Напомним, как развивались события в 1826 году.
13 марта. Состоялось погребение привезенного в Петербург тела Александра I.
21 апреля. Николай повторил своим указом Сенату запрет на деятельность тайных обществ на территории России.
22 мая. Умер писатель, автор «Истории государства Российского» Николай Михайлович Карамзин.
30 мая. Следственная комиссия по делу декабристов завершила работу. О тайных обществах было составлено «Донесение».
10 июня. Введен новый цензурный устав адмирала А.С. Шишкова.
3 июля. Учреждено Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии. Главноуправляющим поставлен А.X. Бенкендорф.
9 июля. Николаю I представлен доклад Верховного уголовного суда по делу декабристов. Для главных виновников М.М. Сперанский требовал четвертования. Император смягчил наказание.
13 июля. Состоялась казнь пятерых декабристов. На кронверке Петропавловской крепости повесили Павла Ивановича Пестеля, Кондратия Федоровича Рылеева, Петра Григорьевича Каховского, Михаила Павловича Бестужева-Рюмина, Сергея Ивановича Муравьева-Апостола.
На следующий день после совершения очистительного молебна царский двор выехал в Москву, где и состоялась коронация императора.
В последовательности этих событий очень много мудрости монаршей воли и нет никакой растерянности. Напротив, монаршая воля очень весомо подкрепляется волей Божией.
Словно по промыслу смерть замечательного нашего историка, выступавшего апологетом рабовладельческих привилегий, разместилась между запретом на деятельность тайных дворянских обществ на территории России и завершением работы следственной комиссия по делу дворян-декабристов. Напомним, что причиной смерти Карамзина послужила простуда, полученная 14 декабря, когда он весь день провел на улице, наблюдая за подавлением мятежа…
Декабристы многому научили Николая I.
«Николай, – пишет А.Е. Пресняков, – вслушивался и вчитывался в показания декабристов, вникал в столь ему чуждый строй мысли и чувства и всматривался в раскрытую тут картину русской жизни, ее противоречий и недостатков. Правителю дел следственной комиссии поручено было составить сводку суждениям о различных сторонах положения дел в государстве, какие декабристы высказывали в своих показаниях и которыми они поясняли общее недовольство, вызвавшее их на попытку переворота. Записка этого чиновника кончалась поучительным выводом, сколько трудных задач предстоит новому правительству разрешить: “Надобно даровать ясные положительные законы, водворить правосудие учреждением кратчайшего судопроизводства, возвысить нравственное образование духовенства, подкрепить дворянство, упавшее и совершенно разоренное займами в кредитных учреждениях, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, направить просвещение юношества сообразно каждому состоянию, улучшить положение земледельцев, уничтожить унизительную продажу людей, воскресить флот, поощрить частных людей к мореплаванию – словом, исправить неисчислимые беспорядки и злоупотребления”. Перо, излагавшее вины “преступников”, составило, по повелению той же власти и словами декабристов, характеристику положения государства, до такой степени расшатанного “неисчислимыми беспорядками и злоупотреблениями”, что не остается иного выхода, кроме коренного изменения всей правительственной системы, а стало быть, и основ государственного строя.
Казненные декабристы – Пестель, Рылеев, Бестужев, Муравьев, Каховский (с обложки журнала «Полярная звезда», 1861 г.)
Сами декабристы в своих письмах-завещаниях Николаю как бы передавали ему в руки свое недоделанное дело. По свидетельству Кочубея (председателя Государственного Совета), сводка их замечаний и суждений была постоянно под рукой у Николая, и он часто ее просматривал, а копии с нее дал Кочубею и цесаревичу Константину».
Николай I видел, что большинство из бунтовщиков по молодости своей не обладали ни достаточным опытом, ни развитым умом и поэтому не понимали, что стали послушными исполнителями чужой, неведомой им воли, одинаково враждебной и им самим, и русскому народу, и Российской империи.
По словам императора, восстание вскрыло «тайну зла долголетнего», его подавление «очистило Отечество от следствий заразы, столько лет среди его таившейся». Эта зараза пришла с Запада как нечто чужое, наносное: «Не в свойствах, не в нравах русских был сей умысел», но тщетны будут все усилия к прочному искоренению зла без единодушной поддержки всего общества.
Николай I призвал в своем манифесте все сословия соединиться в доверии к правительству. И снова, как отец и брат, напомнил Николай I дворянству его значение, подчеркнул его обязанность насаждать «отечественное, природное, не чужеземное воспитание».
Потребность в преобразованиях, считал Николай, получит удовлетворение «не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных», а путем постепенных усовершенствований существующего порядка мерами правительства. Общество может этому помочь, выражая перед властью, путем законным, «всякое скромное желание к лучшему, всякую мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности», что будет принимаемо «с благоволением».
Так была сформулирована национально-консервативная программа Николая I. Он открыто поднял национальное знамя во внешней и внутренней политике.
Вскоре после коронации Николай I встретился в Чудовом монастыре с возвращенным по его приказу из ссылки А.С. Пушкиным…
Отношения эти в нашем рассказе обойти невозможно, поскольку Николай I, как государственный деятель, пытался исполнить в управлении страной ту же роль, что удалось исполнить А.С. Пушкину в литературе. Не всегда осознанно, но достаточно последовательно Николай I пытался соединить Российскую империю с допетровской Россией, выправить разлом, образовавшийся в общественном устройстве в результате петровских реформ.
Первым из Романовых Николай I предпринял шаги (не всегда безошибочные) к возрождению Православия в его прежнем для России значении. Первым начал ограничивать своеволие и себя как монарха, и своих подданных.
А.С. Пушкин был посвящен в эти замыслы монарха и, как это видно из многочисленных воспоминаний, вполне сочувствовал им. Вообще, сама первая встреча царя с поэтом, та долгая беседа в Чудовом монастыре, что состоялась после возвращения Пушкина из ссылки, произвела глубокое впечатление («…Нынче говорил с умнейшим человеком в России…») на императора.
И на Пушкина тоже…
Встреча эта знаменовала для него начало нового этапа жизни. Мы видим, что из Чудова монастыря выходит зрелый, полностью освободившийся от заблуждений и пустых мечтаний юности поэт.
Естественно, что приобретенное расположение государя породило немало завистников и врагов, число их увеличилось, когда стало понятно, что Пушкин окончательно порвал с вольтерьянскими и масонскими идеями. Клевета, сплетни, доносы обрушиваются тогда на поэта. И это не странно, а закономерно, что люди, преследующие Пушкина, пытающиеся очернить его в глазах государя, противятся и осуществлению замыслов самого Николая I.
Нет, идеального совпадения позиций царя и поэта не было и не могло быть.
«Строй политических идей даже зрелого Пушкина, – отметил Петр Струве, – был во многом не похож на политическое мировоззрение Николая, но тем значительнее выступает непререкаемая взаимная личная связь между ними, основанная одинаково и на их человеческих чувствах и на их государственном смысле. Они оба любили Россию и ценили ее исторический образ».
Возникновению недомолвок, недоумений немало способствовали преследователи Пушкина, «жадною толпой стоящие у трона» и одинаково враждебные – подчеркнем это еще раз! – и поэту, и самому Николаю I.
И все же духовная связь никогда не прерывалась.
«Я перестал сердиться (на государя. – Н.К.), – пишет 16 июня 1834 года жене Пушкин, – потому что он не виноват в свинстве его окружающих»…
«Знаю лично Пушкина, – говорит Николай I, – я его слову верю».
Такими же – пролетающими высоко над объятой бесовским возбуждением толпой офранцузившихся, англизировавшихся рабовладельцев – оказываются и слова последнего, заочного диалога Царя и Поэта:
«Прошу тебя исполнить последний долг христианина»…
«Мне жаль умереть… Был бы весь его (императора Николая. – Н.К.)…»
Трудно отделаться от ощущения, что Александр Сергеевич Пушкин и был тем идеальным россиянином, которого имел в виду Николай I в своем манифесте. Только опираясь на таких людей, как Пушкин, и мог Николай осуществить то, что он задумал. Эти люди и были – верным ему батальоном преображенцев, который император мог повести в решительную атаку на силы зла.
Сходны с беседою государя с А.С. Пушкиным в Чудове монастыре и другие докоронационные события правления Николая I. Рождение в России неевклидовой геометрии (7 февраля 1826 года профессор Казанского университета Н.И. Лобачевский представил сочинение «Сжатое изложение начал геометрии»), издание первого учебника по астрономии на русском языке («Руководство к астрономии» Д.М. Перевощикова) идут бок о бок с указами о закрытии Русского Библейского общества и запрещением деятельности всех тайных обществ на территории России. Если отбросить мероприятия, связанные с погребением Александра I, ликвидацией мятежа и началом Русско-персидской войны, возникает совершенно очевидная доминанта, которая, как выяснится в дальнейшем, распространится на всю Николаевскую эпоху. И правление это в результате превратится в начало золотого века русской литературы, станет временем крупномасштабных инженерных свершений, а российская наука и техника достигнут таких высот, что открытия, сделанные русскими учеными, начнут определять развитие всей мировой цивилизации!
С другой стороны, мы знаем и иные – «жандарм Европы», «Николай Палкин» – оценки Николая I. При всей тенденциозности их некоторые основания для подобных характеристик имеются.
И нет тут никакого противоречия.
В правление Николая I впервые при Романовых национальная русская идея начинает проявляться как система, как общественная и политическая программа. Развивая просвещение и гражданское самосознание, и тем самым обеспечивая воистину выдающиеся прорывы России в научной, литературной и духовной сферах, Николай I укрепляет правопорядок в стране и стремится защитить империю от разрушающих ее сил.
Он поступал как монарх-инженер – а он и на самом деле был выдающимся инженером![186] – перестраивающий величественное здание своей империи. Укрепляя его, безжалостно выбраковывал он негодный, испорченный материал, защищал от разрушающего влияния стихий несущие конструкции.
Большие и малые победы русского духа наполняют первые годы нового правления. Одни из них определены предыдущими годами, другие принадлежат целиком царствованию Николая I, но все они нацелены в великое будущее Российской империи, дорогу в которое прокладывал на чертеже истории новый император.
«Еще Александр, – отмечает А.Е. Пресняков, – порвал, в последние два-три года своей жизни и царствования, с проектами реформы политического строя империи, круто изменил свое отношение к Польше, отверг зависимость русской политики на Ближнем Востоке от тенденций Священного союза, вернулся к охранительному таможенному тарифу, отступился от вневероисповедной точки зрения в вопросах церковного управления и народного просвещения в пользу православно-церковной реакции. Программой николаевского царствования стали заветы последних лет Александра».
3
Николая I часто упрекают за то, что он ничего не сделал для преодоления противоречий русской жизни, когда старый строй государственных и общественных отношений рабовладельческой империи продолжал всецело господствовать в стране, в то время как экономическая, гражданская и духовная жизнь страны уже не вмещалась в эти рамки.
Упрек не очень справедливый. Вернее – совсем не справедливый.
Переустройством империи Николай занялся, учитывая опыт отца и брата. Как остроумно заметил А.Е. Пресняков, Николай I приступил к преобразованию империи, «получив недурную подготовку в показаниях декабристов». Сразу после завершения процесса он поручил так называемому «Комитету 6 декабря 1826 г.», созданному для разбора бумаг императора Александра, рассмотреть все проекты реформ, намечавшихся при Александре I, и разработать предположения о неотложных преобразованиях, особенно в устройстве государственных учреждений и в положении сословий.
Используя прежний антикрепостнический опыт отца и брата, Николай I постарался перевести на практический лад как прекраснодушные рассуждения Александра I, так и хитровато-отвлеченные проекты многочисленных его советников, а заодно и все пламенные разговоры еще более многочисленных революционизирующих юношей, воспитанных в предшествовавшее царствие[187].
Сделать это было невероятно трудно. Русское поместное дворянство, переродившееся в результате дворцовых переворотов в класс паразитирующих рабовладельцев, давно уже перестало быть реальной опорой государства и императорской власти, но оно по-прежнему изображало из себя такую опору. И получалось, что царская власть не только не могла опереться на дворянство, но и освободиться от этой лжеопоры тоже была не в силах – при демонтаже рабовладельческого сословия неизбежно оказалась бы сокрушенной и власть императора, и сама российская государственность.
«Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении, есть зло, для всех ощутительное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным! – говорил Николай I. – Нынешнее положение таково, что оно не может продолжаться, но вместе с тем и решительные к прекращению его способы также невозможны без общего потрясения».
Отметим попутно, что, понимая необходимость перестройки всего здания русской народно-государственной жизни, ни декабристы, ни последующие революционные либералы и демократы никаких практических путей вывода страны из рабовладельческого состояния предложить не могли.
Даже такие деятели, как В.Г. Белинский, все свои упования в этом деле возлагали на государя. «Патриархально-сонный быт весь изжит, и надо взять иную дорогу», – призывал наш великий демократ, но первого шага на этой «иной дороге» он ожидал от «воли государя-императора», которая только и может разрешить великую задачу освобождения крестьян, если не помешают окружающие престол «друзья своих интересов и враги общего блага».
«Друзья своих интересов» – олигархи-рабовладельцы – разумеется, помешать старались. Мысль Н.М. Карамзина, этого соловья крепостничества, что «дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства», а если государь, «отняв у них сию власть блюстительную, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена», то не удержать ему такой тяготы, перепевалась ими на все лады…
Министр народного просвещения граф Сергей Семенович Уваров утверждал, например, что «вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросом о самодержавии и даже единодержавии: это две параллельные силы, которые развивались вместе, у того и другого одно историческое начало и законность их одинакова»; он говорил о крепостном праве: «Это дерево пустило далеко корни – оно осеняет и церковь, и престол, вырвать его с корнем невозможно».
Спорить с творцом триады «православие – самодержавие – народность»[188] трудно, поскольку С.С. Уваров, говоря абсолютно бесспорные вещи, в жертву весьма прозаичным и корыстным интересам русских рабовладельцев чуть-чуть смещает акценты. Ничего не меняется, но прокрадывается некая фальшь, которая и разрушает его высокие и очень правильные рассуждения. Наличие этой, весьма трудно выделяемой фальши и обусловило, на наш взгляд, то печальное обстоятельство, что триада «православие – самодержавие – народность» так и осталась только официальной доктриной, а не стала нормой народной русской жизни…
В этих условиях, и пытался Николай I найти реальный план вывода страны из тупика, в который завело ее развращенное эпохой дворцовых переворотов поместное дворянство.
Выглядело это на первый взгляд так просто и обыденно, что, разумеется, было подвергнуто осмеянию.
«Николай I, – писал В.О. Ключевский, – предпринимал против рабства подпольную минную войну медленным потаенным подкопом: с начала царствования он учреждал один за другим шесть секретных и весьма секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Словно хотели украсть крепостное право у дворян и подкинуть свободу крестьянам. Сановники, которых не в шутку считали государственными людьми, вроде министра внутренних дел Перовского, надеялись постепенным ограничением крепостного права довести дело до того, чтобы крестьянин стал свободным, прежде чем услышал бы слово свобода.
Эти государственные мужи так понимали психологию русского народа, что надеялись утолить его вековую жажду свободы, вливая ее ежегодно, посредством ограничительного указа в воспаленные уста по микроскопической капле. Таким гомеопатическим лечением зла, по всему вероятию, довели бы пациента до движения, перед которым пугачевщина показалась бы мелкой ссорой крестьянских ребят с барчуками. Эта политика постепенности и скрытности строилась не на народной, а на правительственной и дворянской психологии, вытекала из инстинктивного страха властвующих слоев перед народом, а страх внушал им смутное чувство своей виновности перед этим народом, у которого они все брали и которому за это ровно ничего не давали»…
Приверженность к гомеопатии у Николая I действительно была, но в его руках и гомеопатия давала ощутимые результаты.
Первым делом был отредактирован изданный четверть века назад Александром I Закон о свободных хлебопашцах. Его заменило новое положение об «обязанных» крестьянах, по которому помещики, сохраняя право вотчинной собственности, предоставляли бы крестьянам личную свободу и определенную часть земли за повинности и оброки. Николая I всячески ругали потом, что он попал под влияние остзейских порядков, разрешив личное освобождение крестьян и объявив помещичью поземельную собственность «навсегда неприкосновенной в руках дворянства», как гарантию «будущего спокойствия», но на деле он попытался лишь заменить сентиментальные надежды разработчиков прежнего закона (с какой это стати рабовладельцы будут добровольно расставаться и со своими рабами, и со своей землей?) реальным содержанием.
Следующим шагом перевода русского крестьянина из рабства в «переходное состояние» стала реформа 1837 года, когда уезды были разделены на станы с назначением становых приставов, как и уездных заседателей, губернским правлением. Всевластие дворян-рабовладельцев над своими крепостными было, таким образом, значительно сокращено.
Однако планы Николая I были шире, он стремился изменить статус не только крестьян-рабов, но и дворян-рабовладельцев. Он стремился наполнить новым содержанием «малополезную», по выражению В.О. Ключевского, для государства жизнь русского дворянства.
Неоднократно Николай I высказывал взгляд на дворянство как на сословие, основой привилегированного положения которого должно быть землевладение, а не владение крепостными.
«Николаевское правительство, – пишет А.Е. Пресняков, – ставит себе двойную задачу: восстановить социальную силу дворянства и выработать из него орудие правительственной администрации… Дворянские избранники – лишь разновидность правительственного чиновничества, их служба приравнена к службе государственной. Предводители дворянства – по делам целого ряда “комитетов” дорожного, по земским повинностям, по рекрутским наборам, народному продовольствию, борьбе с эпидемиями и т. п. – становились помощниками губернских властей в местном управлении».
С этим согласен и В.О. Ключевский, который говорит, что «со времени издания законов 1831 и 1837 гг. дворянство стало вспомогательным средством коренной администрации, полицейским орудием правительства».
Все эти меры хотя и не привели к отмене крепостного права – удельный вес крепостных в общем составе населения России при Николае I уменьшился всего лишь с 45 до 37 %, – однако, на наш взгляд, подготовили реформу, которую провел Александр II. Николай I не освободил крестьян от неволи, но он освободил дворян от права оправдывать рабовладение служением государству. И это действительно можно назвать и гомеопатией, но без этих малозаметных изменений невозможно было бы совершить то, что совершил его сын – Царь-Освободитель.
Мог ли Николай I вести реформы иначе?
Наверное, нет… Прежде чем ограничивать рабовладельческий беспредел, необходимо было изменить характер самой царской власти. При Николае I, как в далекие, допетровские времена, монархическая власть снова становится служением долгу, а не средством реализации своеволия и удовлетворения своих прихотей.
В исполнении своей императорской должности Николай I проявлял и решительность, и самоотверженность человека, принявшего на себя ответственность за державу.
И если беспристрастно взглянуть на его правление, то обнаружится, что «деспот» Николай I и сумел-таки уничтожить деспотизм монархического правления. Все последующие государи – его сын Александр II, внук Александр III, правнук Николай II – правили страной, как и он, ставя интересы державы превыше собственных…
Многое было сделано Николаем I для укрепления правопорядка в стране, развития промышленности, науки, просвещения и культуры. Случайно ли, что именно на годы его правления приходится расцвет творчества классиков русской литературы? Случайно ли, что при Николае I российская наука и техника достигает таких высот, когда открытия, сделанные русскими учеными, начинают определять движение всей мировой науки?..
Народное хозяйство при нем вышло на новые пути торгово-промышленного развития. Русский вывоз возрос с 75 до 230, ввоз с 52 до 200 миллионов рублей.
4
Говоря о времени Николая I, нельзя не коснуться и одного из главных дел его царствования – строительства первой русской железной дороги.
Рассказывая в первой части нашей книги о строительстве Бабиновской дороги в Сибирь, мы говорили, что эта дорога вела в будущее Руси. Первая железная дорога, построенная при Николае I, тоже была дорогой в будущее Российской империи…
Расскажем о строительстве ее подробнее, потому что в этом конкретном деле сошлись многие проблемы эпохи, которую называют Николаевской, зримо и явно проявилось благотворное влияние, которое оказывал Николай I и на другие дела империи…
Напомним, что в 1825 году англичанин Джордж Стефенсон построил первую железную дорогу Дарлингтон – Стоктон.
Через девять лет, в 1834 году, в Россию приехал австрийский инженер, чех Франц фон Герстнер. В виде опыта Николай I разрешил ему строительство железной дороги Санкт-Петербург– Царское Село – Павловск длиною двадцать пять верст.
Даже если не вспоминать о паровозе Черепановых, который уже бегал в 1834 году на Нижне-Тагильских заводах, все равно Россия, как мы видим, совсем не так уж безнадежно отставала со строительством железных дорог, как это утверждается в учебниках истории. Тут Россия шла в ногу с прогрессом, и главная заслуга в этом, несомненно, принадлежала императору Николаю I, поскольку противодействие олигархов-рабовладельцев строительству железных дорог действительно было необыкновенно сильным…
О железной дороге из Санкт-Петербурга в Москву еще только начинали говорить, но реакция «общественности» последовала немедленно.
В 1835 году в газетах были опубликованы «Мысли русскою крестьянина-извозчика о чугунных дорогах и пароходных экипажах между Санкт-Петербургом и Москвой».
«Дошли до нас слухи, что некоторые наши богатые господа, прельстясь заморскими затеями, хотят завести у нас между Питером, Москвою и Нижним чуянные колеи, по которым будут ходить экипажи, двигаемые невидимою силою, помощью парю.
Мы люди простые, неученые; но проживши полвека, Бог привел измерить всю родную землю, быть не раз в Неметчине, на ярмарке в Липовце, и довольно наглядеться иноземного и наслушаться чужих толков. Затеваемое на Руси неслыханное дело за сердце взяло: хочу с проста-ума молвить, авось люди умные послушают моих мужицких речей».
Далее автор рассказывает об удобстве езды по шоссе на извозчиках и заключает свою заметку так: «Сдается, однакож, что этому не бывать. Русские вьюги не потерпят иноземных хитростей, занесут, матушки, снегом колеи, в шутку, пожалуй, заморозят пары. Да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасал огонь под ходунами-самоварами? Али тратить еще деньги на покупку заморского угля для того, чтобы отнять насущный хлеб у православных. Стыдно и грешно! А тут-то, может быть, и штука!
Сухопутный пароход (паровоз) от Ораниенбаума до Санкт-Петербурга. Петербург. Нарвские ворота (с ориг. акад. Иванова). 1830 г.
Господа богатые да умные! поразмыслите, коли вам наскучили деньги, употребите их на такое дело, чтобы вам было прибыльно и народу любо. Такое предприятие Бог благословит и милостивый наш Государь дозволит».
Простонародный «штиль» мыслей крестьянина-извозчика едва ли кого ввел в заблуждение. Публикация фельетона была организована предпринимателями, занимавшимися перевозкой пассажиров между двумя столицами.
В 1820 году было завершено строительство шоссейной дороги и никаких препятствий для бурного роста перевозок не предвиделось. Налаживалось дилижансное сообщение. Весь путь занимал от трех до четырех суток, в экипаж вмещалось до шести человек.
И вот – пронеслись слухи о грядущем строительстве железной дороги. Как же тут «с проста-ума» не попытаться придушить такого конкурента, пока он находится еще в колыбели.
Насколько умно и расчетливо была задумана «античугуночная» кампания, показали ближайшие события. А пока скажем, что пророчества анонимного «крестьянина-извозчика», как ни странно, очень скоро подтвердились…
Железная дорога на Царское Село была открыта 30 октября 1837 года, а 21 мая 1839 года произошло первое в России крушение на перегоне Павловск – Царское Село.
От поезда оторвались хвостовые вагоны и, двигаясь под уклон, нагнали тормозящий состав. Поезд сошел с рельс. В результате схода погибли два человека и пятьдесят пассажиров получили ранения.
После этого случая были введены дополнительные соединительные цепи, а вдоль состава протянули сигнальную веревку. Кондукторы оказались, в буквальном смысле, связанными с паровозной бригадой. В случае непредвиденной ситуации они дергали за веревку, и на паровозе начинал звонить колокол.
Но через год, 11 августа 1840 года, произошло еще более крупное крушение. Поезд, под управлением подвыпившего машиниста Роберта Максвелла, нарушил расписание и на девятой версте от города столкнулся со встречным составом. Разбилось шесть вагонов. Шесть пассажиров погибли, семьдесят восемь были ранены.
По результатам этой аварии тоже были приняты соответствующие меры. Главноуправляющий путей сообщения граф Карл Федорович Толь издал приказ, предусматривающий замену склонных к пьянству машинистов-англичан трезвыми немцами. Этим, однако, дело не ограничилось. Паровозные бригады доукомплектовали вторыми машинистами, запрещено было и скрещение поездов.
Аварии – увы! – были неизбежны в новом деле, но, право же, русские железнодорожники успешно учились на них, практически мгновенно вводя усовершенствования, позволяющие повысить безопасность перевозок. Для этого и заводилась в России столь дорогая игрушка, как железная дорога между Петербургом и Царским Селом.
«Царскосельской дороге предстояло… – писал потом наш первый министр путей сообщения Павел Петрович Мельников, – разъяснить непосредственным опытом, в какой мере действительны те опасения, которые, как мы видели, выражались в печатных заявлениях относительно затруднений, каких надобно ожидать в сооружении, и относительно выгодности в эксплуатации по причине глубоких снегов и сурового климата».
Николая I аварии не запугали.
Не запугал его и пессимизм членов специальной комиссии, созданной для изучения вопроса строительства железнодорожной магистрали. Лишь трое членов комиссии – генерал К.В. Чевкин, граф А.А. Бобринский и герцог Лейхтенбергский – отважились объявить себя сторонниками строительства…
Противников оказалось гораздо больше.
Герой 1812 года, главноуправляющий путями сообщения граф К.Ф. Толь заявил, что местные трудности будут непреодолимы для постройки дороги между двумя столицами вследствие непроходимости болот в Новгородской губернии, трудности перехода через Валдайские горы и разливов рек.
Министра финансов графа Е.Ф. Канкрина трудности строительства не волновали, но он беспокоился о расходах.
– Строить железную дорогу между столицами будут на счет казны, – рассуждал Егор Францевич, – а доходность ее весьма сомнительна. Ведь перевозки грузов по шоссе гужем обходятся сейчас всего по 30 копеек с пуда ассигнациями. Е.Ф. Канкрин считал, что в рабовладельческой империи, которой была Россия, надо развивать земледелие и покровительствовать преимущественно добывающей промышленности, и то осторожно, «гомеопатическими дозами».
В качестве возражений указывалось даже и на то, что железная дорога «поведет к равенству сословий, т. к. и сановник, и простяк, барин и мужик поедут, сидя рядом в вагоне, в одном поезде».
Это «излияние мнений» продолжалось до 13 января 1842 года, пока в комиссию, в ее последнее заседание, не пожаловал сам Николай I.
Император оказался смелее своего министра финансов, он серьезно увлекался вопросами предпринимательства и техники, напомним, что, еще будучи великим князем, он возглавлял все саперные службы гвардии.
Выслушав министров, он объявил свою Высочайшую волю:
1. Сооружение железной дороги между столицами признать возможным и полезным делом.
2. Насколько он убежден в необходимости этой дороги, настолько считает не нужным пролагать теперь дороги в других местностях России.
Как мы уже говорили, Николая I принято изображать тупым и ограниченным солдафоном.
Но на самом деле он был совершенно другим…
Вот и тут мы видим, какое воистину мудрое решение принимает император, когда его министры начинают путаться. Во-первых, вопреки всем советчикам, он проявил недюжинную прозорливость и смелость и дорогу приказал строить.
Во-вторых, запретил строить одновременно и другие дороги. Этой «государевой» мудрости не грех было бы поучиться и позднейшим правителям России. Вообразим, что Николай I не проявил бы осмотрительности, и началось бы, как это было у нас принято, на счет казны строительство сразу нескольких дорог… Тогда страна, скорее всего, получила бы множество, говоря современным языком, «незавершенок», и когда появились бы в России железные дороги, одному Богу ведомо.
А был, был еще и третий пункт, который изволил огласить государь. Видя несогласие министров, он не оставил это весьма нужное для страны дело в их руках.
– Так как все господа министры против устройства железной дороги, – объявил император, – мы учреждаем для этого важного предприятия особый комитет, назначая председателем его Наследника Престола, Цесаревича Александра Николаевича. При комитете образуется особая строительная комиссия.
29 января 1842 года состоялось первое заседание комитета.
В состав его были включены графы К.Ф. Толь, Е.Ф. Канкрин, А.Х. Бенкендорф, Орлов, Левашев, П.Д. Киселев, П.А. Клейнмихель, Л. Перовский; генералы Дестрем, К. Чевкин, герцог Лейхтенбергский и граф Бобринский. На заседании комитета образовали Строительную комиссию Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. В ее состав вошли граф Бенкендорф, граф Клейнмихель, герцог Лейхтенбергский, генерал-лейтенант Дестрем, генерал-майор Чевкин, полковники Крафт и Мельников.
Вот так четко, разумно и вместе с тем не оскорбительно ни для кого все руководство гигантским проектом передается в руки лиц, для которых этот проект – главное дело жизни.
Такому у царя-«деспота» тоже бы не мешало поучиться…
А вот еще один урок русского императора…
Кто не слышал известного анекдота, как Николай I «проектировал» железную дорогу из Петербурга в Москву? В свое время учителям истории даже рекомендовали рассказывать этот анекдот при проведении уроков.
Анекдот же такой…
Слушая соображения ученых мужей об изыскательских работах, Николай I этой непонятной ученостью утомился и решил дело по-солдатски просто. Положил на карту линейку и провел прямую линию от Москвы до Петербурга. Вот вам, господа ученые, и изыскания все…
Соль же анекдота состояла в том, что ноготь указательного пальца императора выступил за линейку и в этом месте, посреди Новгородской губернии, очертился знаменитый Веребьенский обход. Анекдот мне – школьнику – очень понравился, и, вернувшись домой, я первым делом вытащил карту и приложил к ней линейку.
Увы…
Не получалось…
Дорога была почти прямой, но все же рыскала по сторонам и «спрямлялась» только на таком малом масштабе, где ноготь должен был бы занять не Веребьенский обход, а добрую половину Новгородской области.
Разумеется, я не знал тогда, что и вобравший в себя всю соль анекдота обход появился не на проекте трассы, а гораздо позднее, когда железная дорога была уже построена и когда выяснилось, что экономнее и безопаснее пускать в том месте поезда в обход…
Но это что касается анекдота…
Что же касается истории, то споры велись нешуточные. И касались они направления дороги. Многие склонялись к мысли, что дорога должна пройти через Новгород…
Николай I, утомившись от бесконечных споров, вызвал к себе полковника-профессора Павла Петровича Мельникова и попросил его высказаться по этому поводу.
– Ваше Величество! – ответил Мельников. – Дорога должна соединять две весьма населенные столицы, все движение, как грузовое, так и пассажирское, будет сквозное. В непродолжительном времени должны примкнуть к Москве другие дороги со всех концов России; таким образом, сквозное движение между Петербургом и Москвою разовьется в несколько десятков раз против настоящего. Было бы большою ошибкою и неисчислимою потерею в общей государственной экономии, если обречь дальнейшие поколения на уплату восьмидесяти с лишком верст, в продолжение целого века или больше, пока прямой расчет не вынудил бы строить другую, кратчайшую дорогу от Петербурга до Москвы.
– Молодец! – сказал государь. – Я рад, что ты одного со мною мнения. Веди дорогу прямо!
На докладе государь положил такую резолюцию:
«Дорогу устроить по прямому направлению, ибо не нахожу ни одной уважительной причины вести ее на Новгород, который не лишится всех выгод, которыми ныне пользуется».
Вот, кажется, и все, что касается этой истории.
Но все же смотришь на прочерченную словно по линейке благодаря мудрости Николая I и таланту Павла Петровича Мельникова железную дорогу, останавливаешься на возникшем уже после ее строительства Веребьенском обходе и снова думаешь, что действительно по линейке и прочерчена она.
Только держала эту линейку в руках сама История государства Российского, сама его Судьба, разместившая на одной линии с древними русскими городами Москвою и Тверью и новую его столицу – Санкт-Петербург…
А Веребьенский обход, что ж… Государь – не просто верховный правитель, а еще и Помазанник Божий, и когда он сохраняет верность этому высокому предназначению, мистической глубиною наполняются его деяния.
Когда по линейке Истории Российской прочерчивается дорога, то и ноготь ложится именно там, где ему и положено быть…
Знаменитую поэму Н. Некрасова «Железная дорога» предваряет, как известно, разговор умного Вани, одетого в кучерский армячок, с «папашей» в пальто на генеральской красной подкладке.
– Папаша! – спрашивает Ваня. – Кто строил эту дорогу?
– Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!
В прижизненных изданиях поэм эпиграф был другим. Папаша отвечал, что дорогу построили «инженеры»…
Считается, что исправление Николай Алексаеевич Некрасов сделал по настоянию цензуры, поскольку сам он от своей сестры, которая была замужем за инженером-железнодорожником, конечно же, знал, кого считал герой его поэмы подлинным строителем дороги, но это объяснение не совсем верное…
И инженеры строили дорогу, и граф Петр Андреевич Клейнмихель…
11 апреля 1842 года скончался герой войны 1812 года, яростный противник железнодорожного строительства граф К.Ф. Толь… Главноуправляющим путями сообщений назначили графа П.А. Клейнмихеля.
До этого П.А. Клейнмихель заведовал строительной частью в ведомстве графа А.А. Аракчеева и был фигурой воистину запоминающейся.
В его послужном списке: управление военными поселенцами и организация составления тридцатитомного «Исторического описания одежды и вооружений Российских войск с древних времен»; устройство телеграфного сообщения между Санкт-Петербургом и Варшавою и восстановление сгоревшего в 1837 году Зимнего дворца; постройка зданий Чесменской богадельни и строительство Благовещенского (потом он был переименован в Николаевский, затем – в Лейтенанта Шмидта) моста через Большую Неву…
Но, разумеется, главным делом его стало строительство железной дороги! Как пишет его биограф В.И. Панаев, Петр Андреевич «вступил в управление ведомством путей сообщения с сильным против него (ведомства. – Н.К.) предубеждением и по своему горячему характеру тотчас же начал громить направо и налево».
Но, добавляет Панаев, «в самом непродолжительном времени полюбил ведомство путей сообщений, значительно распространил сферу его деятельности… Его называли “писарем”, но он был враг бюрократического порядка».
П.А. Клейнмихель объезжал работы по строительству дорог только два раза в год, весной и осенью, большей частью в самую распутицу, когда тарантас его приходилось то ставить на полозья, то снова водружать на колеса.
К приезду графа подготавливались все проекты, которые Петр Андреевич тут же на месте и утверждал. Необходимых специальных, технических знаний ему, разумеется, недоставало, но зато был огромный опыт разнообразного строительства, зато было знание человеческой природы, и, как это ни странно, технические «экспертизы» графа Клейнмихеля оказывались безошибочными.
Если пользоваться современной терминологией, то Петра Андреевича можно смело отнести к руководителям волюнтаристского типа.
Строительство было невиданное по размаху работ, по средствам, выделяемым для этого, и от желающих погреть руки вокруг стройки отбоя не было. Существенно облегчало возможность для махинаций отсутствие опыта строительства подобных сооружений.
Вот, например, департамент железных дорог заключил контракт на поставку шпал с лесопромышленниками Громовым и Скрябиным. Все вроде было правильно, но уже в ходе работ выяснилось что если шпалы принимать только в трех, предусмотренных контрактом пунктах (на реках Волге, Клязьме и Мсте), то доставка их на нужное место будет стоить в пятнадцать раз больше, чем стоят сами шпалы (5 рублей при действительной стоимости шпалы в тридцать копеек).
П.П. Мельников доложил об этом П.А. Клейнмихелю, и тот вызвал подрядчиков к себе.
Со свойственной ему прямотой он сказал, что из создавшегося положения видит только три выхода. Первый – добровольно изменить условия контракта и поставлять шпалы по всей линии. Второй – отказаться от контракта. И наконец, есть третий вариант. Прямо из его кабинета отправиться на прогулку по Владимирке в Сибирь. Подумавши, подрядчики согласились на первый вариант, выговорив себе, правда, несколько процентов надбавки.
Говорить о законности действий Клейнмихеля тут не приходится, но спасти для казны несколько миллионов рублей ему удалось.
И тут, конечно, можно поспорить с историками, утверждающими, будто Петр Андреевич только потому и удерживался на своем посту так долго, что во всем поддакивал царю. Объяснение это ложное уже хотя бы потому, что императору Николаю I не нужны были министры, которые умели только поддакивать. Скажем, к слову, что и графское достоинство Петр Андреевич Клейнмихель получил не за расшаркивания на дворцовых паркетах, а за восстановление сгоревшего Зимнего дворца.
Спору нет… Петр Андреевич Клейнмихель дворцовую службу, конечно, знал, но и строить тоже умел. Тем более что все вопросы, связанные с практическими работами, он смело передоверил опытным инженерам.
Николай Осипович Крафт возглавил Южную дирекцию (участок Бологое – Москва), а Павел Петрович Мельников – Северную (Бологое – Санкт-Петербург).
Кстати сказать, на примере отношений с Павлом Петровичем Мельниковым видно, что и пересиливать себя П.А. Клейнмихель, несмотря на свою взрывчатость и гневливость, тоже умел. Как пишет В.И. Панаев, Петр Андреевич «не жаловал Мельникова по причине сильной разнородности характеров… Мельников был холодного и спокойного характера и не отличался энергией… но Клейнмихель уважал в нем познания, его рыцарскую честность».
Результаты совмещения энергии и волюнтаризма Клейнмихеля со знаниями и спокойствием инженеров были налицо. Изыскательские работы были завершены в 1843 году, а в следующем уже приступили к земляным работам и строительству мостов…
Уже в июне 1846 года началось движение на участке Петербург – Александровский завод – Колпино, а в 1849 году на участке Колпино – Чудово (86 верст) и Тверь – Вышний Волочек (111 верст). Строили дорогу даже по западным меркам того времени очень быстро, но – для России-то это строительство было делом невиданным! – всем казалось, что строится она слишком медленно и для того и строится так, чтобы можно было разворовывать государственные деньги.
Этим, очевидно, вызвано и то, что никто из тогдашних сановников не заслужил такой, как остроумно заметила А.Ф. Тютчева, «популярной ненависти», как Петр Андреевич Клейнмихель.
В петербургских кофейнях тогда записывались в очередь, чтобы почитать его очередные приказы и поупражняться в остроумии, комментируя их.
Николай I, разумеется, легкомысленности остроумцев из кофеен не разделял, но и он не выдержал.
22 августа 1850 года в Москве за обедом он спросил:
– Петр Андреевич! Когда же ты все-таки повезешь меня в Москву железной дорогой?
– На будущий год, на юбилей коронации, Ваше Величество! – мгновенно ответил Клейнмихель.
За столом тогда присутствовал и П.П. Мельников.
– Вы слышали мой ответ государю? – спросил у него Клейнмихель после обеда.
– Слышал! – ответил Мельников. – Но это немыслимо.
– Вы слышали, – сказал Клейнмихель, – и это должно быть исполнено.
И ведь действительно было исполнено.
К лету 1851 года строительство завершили.
Сто шестьдесят лет назад, 18 августа 1851 года, из Петербурга отправился первый поезд. Император и вся августейшая семья ехали на празднование двадцатипятилетия коронации государя.
А 1 ноября 1851 года Санкт-Петербургско-Московская железная дорога была открыта и для общественного пользования.
Вот что писала тогда газета «Северная пчела»:
«Сегодня, в четверг 1 ноября, двинулся первый всенародный поезд по новой железной дороге в Москву. С утра большое число публики столпилось перед станцией и наполнило обширные ее сени. В одном отделении записывали виды проезжающих, в другом – продавали билеты на поезд, в третьем – принимался багаж пассажиров. Принятый багаж кладется в багажный вагон, стоящий под навесом, так что вещи не могут испортиться от дождя и снега. Получив билеты, пассажир входит в просторные сени, где ожидает время отправления.
В вагонах первого класса устроены для пассажиров покойные кресла, в которых можно и растянуться и уснуть…
В 11 ч. утра раздался первый звонок колокольчика, через 5 минут другой, а в 11 ч. 15 мин. подан был знак свистком, и поезд, ведомый паровозом № 154-м, двинулся. В поезде было 17 пассажиров первого класса, 63 – второго и 112 – третьего»…
К этому репортажу можно добавить, что первым пассажирам поезда Петербург – Москва выдавались сувениры – скатерти с подробным маршрутом-картой движения поезда. Эти сувениры, которых не углядел сотрудник «Северной пчелы», сейчас можно увидеть в музее Октябрьской железной дороги…
И тут хотелось бы снова вернуться к «Железной дороге» Н.А. Некрасова.
Некрасов, разумеется, великий поэт…
Про тень, набежавшую на стекла морозные, про мертвецов очень хорошо сказано в поэме. И нужно ли упрекать поэта, что в эти исполненные истинного таланта строки не вместились экскаваторы, выписанные П.П. Мельниковым для Северной дирекции из Америки и работавшие в районе Валдайской возвышенности, не вместился сам Петр Петрович Мельников, который «хотя и не был единственным начальником всей дороги, но… положительно был душою всего дела и учителем всего и всех…» здесь.
Не вместились в замечательную поэму Некрасова и мраморные доски в церкви в Любани, где высечены были фамилии всех строителей дороги[189].
Многое не вместилось в поэму Некрасова.
И что уж поделаешь тут, если и сама его «железная дорога» везла в одну сторону, а настоящая, имперская – в другую…
В первый же год было перевезено по этой железной дороге около 800 тысяч пассажиров. Первые пять лет дорога практически не приносила казне никакой выгоды, и только с 1856 года чистый доход взлетает сразу аж до 2 миллионов рублей и неуклонно год от года растет, достигнув к 1868 году почти 10 миллионов.
5
Завершая рассказ о строительстве первой железной дороги российской, надо сказать и о создании Министерства путей сообщения, о первых его руководителях, потому что эти люди, несомненно, входили в тот Преображенский батальон, который вел император Николай I на ополчившиеся против России силы зла и тьмы…
Как мы уже говорили, Петр Андреевич Клейнмихель, когда получил назначение на должность главноуправляющего путей сообщения, имел сильное предубеждение против этого ведомства, считая его царством взяточников и разгильдяев. За тринадцать проведенных в должности лет его представления претерпели существенную эволюцию, но в обществе – увы! – мнение о ведомстве не изменилось. Причем главным взяточником все считали уже самого П.А. Клейнмихеля.
«Клейнмихель… пал и уничтожен… – вспоминает современник. – Все поздравляют друг друга с победой, которая за недостатком настоящих побед составляет истинное общественное торжество».
Напомним, что в 1855 году, когда были произнесены эти слова, умер император Николай I, пал Севастополь…
Поводов для торжеств действительно было немного.
Генерал-адъютант К.В. Чевкин, занимая место низвергнутого Клейнмихеля, подобно самому Петру Андреевичу тринадцать лет назад, считал ведомство путей сообщений безнадежно зараженным «болезнью казнообирательства».
Константин Владимирович принадлежал к тому типу талантливых и энергичных русских людей, деяния которых настолько велики, что уже и не ощущаются как деятельность отдельного человека. В 1823 году он получил первый офицерский чин, а через восемь лет был уже генерал-майором. В 1834 году его назначили начальником штаба Корпуса горных инженеров. Сделано Чевкиным в самых различных областях так много, что и гигантская работа в должности главноуправляющего путей сообщений воспринимается только как эпизод…
А ведь Константин Владимирович имел непосредственное касательство еще к строительству Царскосельской дороги, во многом благодаря именно ему был положительно решен вопрос о строительстве дороги Петербург– Москва… Он и возглавил ведомство, когда началась лихорадка железнодорожного строительства. За время управления генерала Чевкина было построено 2123 версты железных дорог!
Еще в 1854 году в спешном порядке военного времени развернулись изыскательские работы по постройке новой железной дороги Москва – Харьков– Феодосия с веткой на Севастополь и линиями на Донбасс и Ростов-на-Дону.
Начальником экспедиции был Павел Петрович Мельников. Пронивелировав за два с половиной года 4000 километров трассы, 1857 году Мельников подготовил техническое обоснование по строительству железной дороги к югу от Москвы…
Павлу Петровичу Мельникову, избранному к тому времени уже почетным членом Петербургской академии наук, и предстояло в 1862 году сменить К.В. Чевкина.
Человек удивительно разносторонний, Мельников успешно совмещал свои профессорские обязанности с инженерной работой еще до того, как он начал вплотную заниматься железнодорожным строительством.
Когда в ночь на 3 февраля 1834 года вихрем сорвало купол с Троицкого собора лейб-гвардии Измайловского полка в Петербурге, Павел Петрович взялся за восстановление его. Ему удалось найти остроумное инженерное решение, позволившее без наружных лесов воздвигнуть двадцатипятиметровый купол на высоте в семьдесят пять метров. Разработанный для этого метод оценивается как крупный вклад в теорию и практику строительного искусства[190].
Не стояли на месте и научные исследования П.П. Мельникова. В 1836 году он публикует труд «Основания практической гидравлики, или О движении воды в различных случаях и действии ее ударом и сопротивлением», получивший высокую оценку академика М.В. Остроградского.
О широте интересов Павла Петровича Мельникова говорит и тот факт, что, будучи уже главой самой крупной в России стройки, он находит время и силы и становится редактором «Вестника путей сообщения». Удивительно, но и на новой издательской стезе П.П. Мельников проявил себя наилучшим образом. Во-первых, журнал превращается под его руководством в регулярное, ежемесячное издание, а во-вторых, подобно тому, как изнутри Измайловского собора поднимал Павел Петрович купол, «Вестник путей сообщения» постепенно превращается в первый в России железнодорожный журнал. Среди публикаций журнала нельзя не упомянуть и статьи самого Мельникова (общий объем 450 журнальных страниц), обобщившие материалы, собранные Мельниковым во время знакомства с железнодорожной Америкой. От номера к номеру журнал становится своеобразной школой русских инженеров, которым и предстояло в ближайшие годы заняться практическим строительством железных дорог. Напомним, что П.П. Мельников еще в 1835 году выпустил книгу о железных дорогах.
Вот при этом удивительном человеке Павле Петровиче Мельникове и было преобразовано ведомство в министерство, и так уж получилось, что человек который и строил сам первые железные дороги, стал и первым железнодорожным министром.
За семь лет, пока он возглавлял министерство, в России было построено около 5000 километров железных дорог…
Но – вот уж ирония судьбы! – именно при Мельникове-министре и было продано его детище – Николаевская железная дорога.
Павел Петрович, как мог, сопротивлялся продаже, но времена «крестьян-извозчиков» ушли в прошлое, возле железных дорог сколачивались миллионные состояния, и к дороге тянулись такие сильные руки, что противостоять этому напору у Мельникова просто не хватило сил.
– Да, ничего не поделаешь, – говорил он. – Надо уступать, но я утешаюсь тем, что неурядица должна скоро исчезнуть, ошибки можно впоследствии исправить и потери со временем даже вознаградятся, но дороги нужны обширной России, она покроется сетью, это главное, и каждая верста построенной железной дороги есть благо.
С этими словами, буквально выжитый из превратившегося в Клондайк министерства, и ушел Мельников в отставку. Заботы академика, генерала, отставного министра целиком переключились в эти годы на семью.
Очень хорошо устроил Павел Петрович свою племянницу.
П.П. Мельников. Скульптура работы М.М. Герасимова. 1955 г.
Она вышла замуж за наследника А.С. Пушкина и сделалась хозяйкой Михайловского. Это она с мужем и стояла, можно сказать, у истоков Михайловского музея-заповедника.
Так что и это семейное дело сделал Павел Петрович так же хорошо и очень задушевно, как делал все в своей насыщенной трудами на благо России жизни…
Удивительно достойно доживал академик, генерал-лейтенант Мельников свои последние годы в Любани, возле построенной им Николаевской железнодорожной магистрали…
6
Бывает, что человек болен и ему надобно лечиться, но близкие, чтобы не волновать его, о болезни не говорят, успокаивают, и человек живет, учится, работает, строит свое будущее, не понимая, что это будущее не принадлежит ему, оно разрушено, оно съедено той болезнью, которая развивается в нем. И спасение только в одном – немедленно, со всей серьезностью и ответственностью заняться лечением!
Правление Николая I во многом подобно этому человеку.
Восстание декабристов – серьезный рецидив болезни тайных обществ, которой оказалось заражено русское общество.
Но общество тогда испугалось. И испугались не столько болезни, сколько лечения. И решило позабыть о болезни…
Любопытны выводы А.Х. Бенкендорфа, рисующего Николаю I картину общественного мнения в 1830 году.
«Масса недовольных слагается из следующих элементов:
1. Из так называемых русских патриотов, воображающих в своем заблуждении, что всякая форма правления может найти применение в России; они утверждают, что Императорская фамилия немецкого происхождения, и мечтают о бессмысленных реформах в русском духе.
2. Из взяточников и лихоимцев, которые боятся суровых мер, направленных против их злоупотреблений.
3. Из гражданских чиновников, жалующихся на то, что их держат в черном теле, отдавая предпочтение военным и затрудняя им даже получение отличий.
4. Из литераторов и части читающей публики…
5. Из гвардейских офицеров, которые выражают определенное недовольство тем, что с ними, так же как и с войсками, дурно обращаются.
6. Из некоторых армейских офицеров, завидующих гвардейцам.
7. Из помещиков, которые жалуются на недостаток правосудия и недостаточное стремление изменить ход дел.
8. Из крупных коммерсантов, разделяющих мнение последних.
9. Из раскольников.
10. Из всего крепостного сословия, которое считает себя угнетенным и жаждет изменения своего положения»[191].
Десять пунктов Александра Христофоровича замечательны, прежде всего, тем, что написаны, как и сам доклад, на французском языке и воистину с какой-то нездешней легковесностью пытаются нарисовать картину жизни гигантской империи, сводя накопившиеся за века противоречия к набору водевильных сюжетов об армейских офицерах, завидующих гвардейцам; коммерсантах, разделяющих мнение помещиков; взяточниках, боящихся суровых мер, направленных против их злоупотреблений; гражданских чиновниках, жалующихся на затруднения в получении отличий…
Из бенкендорфского водевиля выпали только «так называемые русские патриоты, мечтающие о бессмысленных реформах в русском духе», и русские крепостные крестьяне, «которые, как писал А.Х. Бенкендорф, считают себя угнетенными».
«Знакомясь с правительственной деятельностью изучаемой эпохи, – отметил С.Ф. Платонов, – мы приходим к заключению, что первое время царствования Николая I было временем бодрой работы, поступательный характер которой, по сравнению с концом предшествующего царствования, очевиден. Однако позднейший наблюдатель с удивлением убеждается, что эта бодрая деятельность не привлекала к себе ни участия, ни сочувствия лучших интеллигентных сил тогдашнего общества и не создала императору Николаю I той популярности, которой пользовался в свои лучшие годы его предшественник Александр. Одну из причин этого явления можно видеть в том, что само правительство императора Николая I желало действовать независимо от общества и стремилось ограничить круг своих советников и сотрудников сферой бюрократии… Другая же причина сложнее. Она коренится в обстоятельствах, создавших попытку декабристов и репрессию 1825–1826 гг.
Разгром декабристов болезненно отразился не на одном их круге, а на всей той среде, которая образовала свои взгляды и симпатии под влиянием западноевропейских идей. Единство культурного корня живо чувствовалось не только всеми ветвями данного умственного направления, но даже и самим правительством, подозрение которого направлялось далее пределов уличенной среды; а страх перед этим подозрением и отчуждение от карающей силы охватывали не только причастных к 14 декабря, но и не причастных к нему сторонников западной культуры и последователей европейской философии. Поэтому как бы хорошо ни зарекомендовала себя новая власть, как бы ни была она далека от уничтоженной ею “аракчеевщины”, она все-таки оставалась для людей данного направления карающей силой. А между тем именно эти люди и стояли во главе умственного движения той эпохи».
Все это так, но определяющим моментом неприязни к императору была, разумеется, не «карающая сила», а национально ориентированная политика Николая I. Этого и не могла простить русскому императору рабовладельцы-космополиты. Некоторые исследователи, возражая на это утверждение, говорят, что упреки Николаю адресовали не только западники, но и славянофилы…
Это действительно так…
Темные силы, которые император не пресек при расследовании декабрьских событий, продолжали действовать вопреки воле государя, вопреки интересам страны. Эти темные силы пытались развести императора с А.С. Пушкиным, им удалось развести государя со славянофилами, защищавшими, в отличие от денационализированной аристократии, позиции патриотизма, государственности, православия.
Как это случилось?
Официальная, сформулированная С.С. Уваровым доктрина под «православием» и «самодержавием» понимала тот порядок, который существует в реальной действительности, под понятием «народность» – совокупность черт титульного народа. Славянофилы же видели идеал «православия» в московской, допетровской и даже «доромановской» эпохе, когда Церковь была независимой от государства носительницей соборного духа, когда в государстве «правительству принадлежала сила власти, земщине – сила мнения»… Черты народного духа славянофилы были расположены искать во всем славянстве, а не только в русских.
Но вот что любопытно… Фальшивую ноту в сформулированную С.С. Уваровым триаду привносило, как мы говорили, смещение акцентов, подсознательное стремление распространить рабовладельческую узурпацию XVIII века на всю историю Русской государственности. Опять же и в мечтательности, и расплывчатости некоторых тезисов наших славянофилов, тоже обнаруживается подсознательное стремление рабовладельцев увести разговор с насущных проблем в приятственную пустоту.
Николаю I трудно было соединить умозрительное славянолюбие, с тем конкретным и последовательным шаг за шагом отстаиванием русских интересов и интересов православия, которым была подчинена вся его политика. И именно этой политикой, а не только суровым отношением его к политическому и общественному легкомыслию обусловлена нелюбовь к императору «просвещенного» общества.
«Странная моя судьба… – словно бы отвечая будущим историкам, писал Николай I, – мне говорят, что я – один из самых могущественных государей в мире, и надо бы сказать, что все, то есть все, что позволительно, должно бы быть для меня возможным, что я, стало быть, мог бы по усмотрению быть там, где хочется и делать то, что мне хочется. На деле, однако, именно для меня справедливо обратное. А если меня спросят о причине этой аномалии, есть только один ответ: долг! Да, это не пустое слово для того, кто с юности приучен понимать его так, как я. Это слово имеет священный смысл, перед которым отступает всякое личное побуждение, все должно умолкнуть перед этим одним чувством и уступать ему, пока не исчезнешь в могиле. Таков мой лозунг»…
И тут, наверное, и скрыт источник той неприязни, с которой встречались все начинания Николая I в так называемом передовом русском обществе.
Правление Николая I было попыткой вывести Россию на светлый путь ее исторической самореализации. И поэтому против императора Николая I восстали все темные силы.
Зарубежные венценосные враги Николая I готовы были пожертвовать принципами монархии только ради того, чтобы не дать русскому императору совершить то, что он собирался сделать. Объединилась против Николая I и вся та аристократия, которая ради своих интересов готова была пожертвовать интересами государства.
Наиболее ярко проявилось это в ходе Крымской войны.
Тогда против Николая I выступили не только Франция и Англия, не только Турция и Австрия, но и наиболее продвинутые, как говорят сейчас, русские дворяне-крепостники, и объединены они были в этом противостоянии аж с самими… Марксом и Энгельсом.
И произошло это потому, что деятельность императора, поставившего своим принципом следование долгу, пока не исчезнешь в могиле, невыносима была для них, ибо в корне противоречила их интересам.
7
Крымскую войну 1853–1854 годов, кажется, с самых первых ее дней, когда еще только начинались боевые действия, уже объявили поражением России, произошедшим вследствие гнилости и бессилия николаевского режима.
Формулировка эта практически без редактуры вошла в учебники нашей истории и мало у кого вызывает сомнения, хотя реальным фактам она, мягко говоря, не вполне соответствует…
Напомним, что осенью 1853 года в Молдавию и Валахию – «в залог доколе Турция не удовлетворит справедливым требованиям России» и не прекратит преследование своих подданных, исповедующих православие, – были введены русские войска.
Турция объявила тогда войну России.
Война эта началась первым в истории сражением военных пароходов. 5 ноября 1853 года турецкий пароходофрегат был захвачен русским «Владимиром», а 18 ноября эскадра вице-адмирала П.С. Нахимова уничтожила на Синопском рейде турецкий флот. В Синопском сражении у нас участвовало 6 кораблей и 2 фрегата. Турки (Осман-паша) имели 7 сильных фрегатов и 2 корвета, поддержанные четырьмя береговыми батареями.
Все турецкие суда были уничтожены, Осман-паша взят в плен, а береговые батареи срыты.
25 декабря 1853 года турецкая армия потерпела поражение и в Закавказье.
Казалось, начинается очередная победоносная для России кампания, но после Синопского торжества и побед в Закавказье натянутые отношения с Францией и Англией окончательно испортились.
Эти страны не желали допустить разгрома турок, и 23 декабря соединенный англо-французский флот вошел в Черное море. 15 февраля 1854 года последовал резкий английский ультиматум, после чего дипломатические сношения были прерваны.
Тут можно говорить и о просчетах во внешней политике России, однако коалицию враждебных нашей стране государств создали не только дипломатические ошибки ведомства Нессельроде, но прежде всего последовательное отстаивание Российской империей национальных интересов, вошедших сейчас в резкое противоречие с интересами Англии и Франции.
Россия попыталась наконец-то распахнуть себе выход в Средиземное море, и этого и не желали допустить наши западные противники. И трудно представить себе дипломатические ходы, которые могли бы помешать тому, что произошло.
28 февраля Англия и Франция заключили военный союз с Турцией.
Положение России усугублялось политикой Австрии и Пруссии, которые хотя и не вступили в войну, но вели себя угрожающе. Российские войска вынуждены были покинуть дунайские княжества и везде, за исключением Закавказья, перейти к обороне.
11 апреля состоялся Высочайший манифест о войне с Англией и Францией, но тем не менее, если не считать бомбардировки Одессы англо-французской эскадрой и неудачной попытки высадить десант, непосредственные боевые действия начались только во второй половине августа 1854 года.
Небольшой отряд морской команды и казаков под командой контр-адмирала Завойко (фрегат «Диана» и две шхуны с 60 орудиями) отразил тогда в Петропавловске-на-Камчатке нападение англо-французской эскадры (6 кораблей и фрегатов с 250 орудиями).
Высаженный союзниками десант у Петропавловска был разбит нашими матросами и линейцами. Счет потерь был невелик. 45 русских и 88 французов и англичан пало в том бою, но контр-адмирал Завойко, удерживая стратегическую инициативу, провел свою флотилию в Николаевск-на-Амуре и в заливе Кастри нанес поражение британской эскадре. Адмирал Принс, командовавший британской эскадрой, застрелился.
«Всех вод Тихого океана недостаточно, чтобы смыть позор британского флага!» – с горечью восклицает историк английского флота.
Одновременно англо-французская эскадра появилась под Кронштадтом, а на Белом море два английских пароходо-фрегата 6 июля произвели бомбардировку Соловецкого монастыря и 8 июля высадили на Соловецких островах десант, который был отбит монахами и солдатами.
Почти одновременно с этой более психологической, нежели боевой операцией начались уже серьезные боевые действия в Крыму.
6 сентября союзные войска высадили в Евпатории 60-тысячную сухопутную группировку, которую поддерживал мощный флот.
8 сентября, на Рождество Богородицы, англо-французский десант (55 тысяч) под командованием маршала А.Ж. Сент-Арно нанес поражение русской армии князя А.С. Меншикова (34 тысячи) на реке Альма в Крыму. Русские потери 5000 человек, потери союзников – 4300. Главное же – союзной армии был открыт путь на Севастополь. По количеству паровых кораблей англичане и французы значительно превосходили русский, преимущественно парусный флот, и 11 сентября, чтобы преградить путь противнику на Севастопольском рейде, были затоплены корабли «Три святителя», «Уриил», «Варна», «Силистрия», «Селафаил», «Сизополь», «Флора».
13 сентября армия союзников под командованием генералов Ф.Дж. Раглана и Ф. Канробер (67 тысяч) подошли к Севастополю, в котором находился семитысячный гарнизон и 24 тысячи человек флотских экипажей. Началась 349-дневная Севастопольская оборона, которую возглавили вице-адмиралы В.А. Корнилов и П.С. Нахимов.
В январе 1855 года в войну на стороне союзников вступила и Сардиния. В Западном Крыму были сосредоточены сухопутные корпуса Турции и Сардинии – около 45 тысяч человек.
Повторим, что положение России усугублялось из-за недоброжелательного поведения Австрии и Пруссии. Невозможно было высвободить развернутые на западной границе войска и перебросить в Крым, а сил русской армии Меншикова, что стояла возле Севастополя, явно недоставало для противодействия союзникам…
Севастополь тем не менее союзникам взять не удалось, и только в конце августа 1855 года, когда был захвачен Малахов курган, русские войска оставили город.
Спору нет…
Военные действия в Крыму тяжело протекали для нашей армии. Соотношение сил на протяжении всей кампании было не в нашу пользу.
Но никакой катастрофы не происходило. Сражение примерно шло на равных.
349 дней обороны Севастополя обошлись нам в 128 тысяч человек. Союзники потеряли 70 тысяч человек, не считая больных – смертность у союзников была намного выше, чем в русской армии.
Получается, что боевые потери были сравнимыми, а общие – примерно равными.
Взятие Севастополя было крупным успехом союзников, но катастрофой для России не стало.
Россия готова была продолжать войну. Интересно отметить тут, что одновременно с потерей Севастополя генералом Н.Н. Муравьевым была взята турецкая крепость Карс, в стратегическом отношении имевшая гораздо более важное значение, чем Севастополь.
Таковы были основные события этой войны.
Повторим, что еще никогда России не приходилось воевать против коалиции могущественнейших стран того времени – Франции и Англии, прикрываясь одновременно от возможного удара со стороны Пруссии и Австрии.
И каковы же были успехи союзников? После годовой осады ценою многотысячных потерь взяли Севастополь, который им пришлось потом обменивать на Карс?
Очевидно, что успех союзников в Севастополе (если его и можно назвать успехом) весьма скромен и временен. Его обусловливало только удаление Крыма от Центральной России. Такое положение могло существовать некоторое время, но как только Россия подтянула бы туда армейские базы, союзникам неизбежно пришлось бы покинуть российские территории.
Но в этом и заключается принципиальное отличие крымской кампании от других войн… Союзники вели эту кампанию не столько для захвата русских территорий, не столько для разгрома ее армии, что было им не по силам, а в чисто пропагандистских целях, чтобы показать самим себе, что, объединившись, можно противостоять Российской империи.
Поэтому и выбирались не центральные направления, по которым в случае настоящей войны следовало бы наносить удары, а самые удаленные окраины (Петропавловск-на-Камчатке, Крым, Соловки), куда России перебросить свои силы было непросто и где можно было некоторое время изображать видимость победы.
И в этой пропагандистской войне Россия действительно потерпела серьезнейшее поражение.
В самом деле, почему так остро и болезненно была воспринята в России временная потеря Севастополя? Вообще-то России доводилось, еще на памяти живущих в 1854 году, терять и Смоленск, и Москву, а эти потери были пострашнее…
Да, Крымская война обнажила многочисленные слабые места в военном устройстве и особенно в вооружении армии и флота. Но так было всегда в любую войну и в любой стране.
Да, были неудачи. Но ведь были и Синопское сражение, и поражение турок в Закавказье, и Петропавловская оборона, и Карс…
Ну а главное – впервые Россия сражалась против объединившейся с Турцией Западной Европы, и сражалась на равных…
Уже одно это должно было служить доказательством мощи Российской империи, уже одно это способно было внушить любому россиянину гордость за свою страну.
События 1853–1854 годов следовало бы называть победой России, но – увы! – победу эту с самого начала было решено представить поражением.
Разумеется, одни только западные пропагандисты никогда не сумели бы добиться столь ошеломительного эффекта, если бы им не пришли на помощь русские рабовладельцы-космополиты.
Они не могли помочь союзникам выиграть войну у России, но они делали все, чтобы представить эту войну позорным поражением нашей страны!
Сколько соловьев крепостничества заливались трелями: дескать, поместное дворянство, несмотря на свой космополитизм, является верной и единственной опорой государству и престолу?
Николай I всегда различал фальшь в этих гимнах рабовладению, но все же такой подлости и такого предательства, какое проявилось во время крымской кампании, он от дворянства не ожидал…
Когда русские солдаты и матросы творили чудеса героизма, обороняя Севастополь[192], когда лучшие русские люди – назовем здесь инженера П.П. Мельникова, который, как мы рассказывали, в спешном порядке военного времени развернул изыскательские работы по постройке новой железной дороги Москва – Харьков – Феодосия с веткой на Севастополь и линиями на Донбасс и Ростов-на-Дону, пронивелировав 4000 километров трассы, – отдавали все свои силы и способности, чтобы выстоять в войне против всей Европы и Турции в придачу, «передовая» дворянская общественность ликовала по поводу неудач русской армии.
«Российская империя – это колосс на глиняных ногах!» – задыхаясь от радости, возопили тогда в лондонских и парижских кафе «передовые» русские рабовладельцы.
И наверное, это и было самым страшным для императора Николая I…
Но и это предательство дворян-крепостников не поколебало его решимости победить в этой войне.
У Николая I и мысли не возникало о прекращении ее.
Он прекрасно понимал, что хотя Россия и несла более тяжелые, чем союзники, потери, но время работало на нее и, преодолевая бюрократизм, России все-таки легче было нарастить преимущество, нежели Англии и Франции! И тут он, в этом нет никаких сомнений, был совершенно прав. Так бы и случилось, если бы император Николай I остался жив.
Его надо было убить, пока столь удачно выигрываемая в кофейнях война не стала для союзников подлинной катастрофой.
8
Первые симптомы болезни проявились 4 февраля 1855 года. Резко повысилась температура, появились насморк и кашель.
Надо сказать, что Николай I был физически очень крепким человек, привыкшим вести солдатский образ жизни. Он регулярно вставал на заре и проводил за работой восемнадцать часов в сутки. Болеть он не умел. Поэтому 9 февраля, решив, что он уже вполне отлежался, Николай отправился на смотр маршевых батальонов. На двадцатитрехградусном морозе поехал в Манеж в открытых санях.
– Ваше Величество! – сказал ему лейб-медик Ф.Я. Карель. – В вашей армии нет ни одного врача, который позволил бы солдату выписаться из госпиталя в таком положении, в каком Вы находитесь, и при морозе двадцать три градуса!
Николай I, однако, не придал его словам значения и на следующий день повторил поездку.
Вечером 10 февраля появилась резкая слабость, лихорадка и озноб. Император слег. Появилась раздражительность…
«Эти признаки, – пишет в своей книге “Читая смерти письмена” доктор медицинских наук Юрий Молев, – указывают еще на один характерный симптом вирусного респираторного заболевания – общую интоксикацию».
Утром 12 февраля, узнав о ничтожном проступке коменданта Инженерного училища генерала А.И. Фельдмана, Николай встал с постели и лично отправился расследовать инцидент. По возвращении в Зимний дворец больного императора поджидало известие о неудаче проведенной 5 февраля 1855 года рекогносцировки под Евпаторией…
Ночью Николая I мучила бессонница…
Лейб-медики М. Мандт и Ф. Карель продолжали лечить государя от простуды. Как записано в камер-фурьерском журнале, состояние императора к 16 февраля стабилизировалось и не внушало опасений, но 17 февраля наступило ухудшение.
В соответствии с записями в камер-фурьерском журнале ночью 18 февраля царь исповедался и причастился. По его желанию вся императорская семья собралась у его постели. Николай благословил детей и внуков, говорил отдельно с каждым из них. Страдания государя усиливались, но сознание оставалось ясным.
– Мне хотелось… оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое, – сказал он, прощаясь с сыном. – Провидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас…
К утру наступил паралич легких, дыхание становилось все более стесненным и хриплым.
– Долго ли еще продлится эта отвратительная музыка? – спросил Мандта император.
В десять часов утра Николай утратил сознание.
Незадолго перед кончиной к нему вернулась речь.
– Держи все-все! – тихо сказал умирающий император сыну Александру.
Это были его последние слова… Так умер император Николай I.
Умер на солдатском тюфяке, брошенном на железную кровать, прикрывшись старым военным плащом, который заменял ему халат.
«Император лежал поперек комнаты на простой железной кровати, – свидетельствует фрейлина А.Ф. Тютчева, которая побывала в покоях императора сразу после его кончины. – Голова покоилась на зеленой кожаной подушке, а вместо одеяла на нем лежала солдатская шинель. Казалось, смерть настигла его среди лишений военного лагеря, а не в роскоши пышного двора. Все, что окружало его, дышало самой строгой простотой…»
«Прошу всех, кого мог умышленно огорчить, меня простить, – написал Николай в своем завещании. – Я был человеком со всеми слабостями, коим люди подвержены, старался исправиться в том, что за собой худого знал… прошу искренне меня простить… Прошу всех меня любивших молиться об успокоении души моей, которую отдаю милосердному Богу, с твердой надеждой на его благость и придаваясь с покорностью его воле. Аминь!»
Николай I умер, как и положено православному человеку, простив своих врагов, испросив прощения у своих подданных, умер, исполнив последний долг христианина – исповедовавшись и приобщившись Святых Тайн.
Зато реакция на смерть государя, проявленная его окружением, была совсем не православной…
Злоба к мертвецу переполняла тогда многих царедворцев…
«Утром, когда Николай еще лежал в своем кабинете, я пошел взглянуть на него. Страшилище всех европейских народов покоилось на ложе своем, прикрытое одеялом и старым военным плащом, вместо халата долго служившим хозяину. Над кроватью висел портрет рано умершей дочери Александры Николаевны, которую усопший очень любил, облаченной в гусарский мундир. Николай даже женскую прелесть без мундира не воспринимал.
В глубине кабинета стоял стол, заваленный бумагами, рапортами, схемами. В углу стояло несколько карабинов, которыми в свободное время тешился император. На столах, этажерках, консолях стояли статуэтки из папье-маше, изображающие солдат разных полков, на стенах висели рисунки мундиров, введенных царем в армию. У кровати сидел ген. Сухозанет и вытирал платком свои сухие глаза. Заявил мне, что дни и часы неотступно находится у тела императора без еды и воды, хотя при жизни и не любил покойного.
На суровом лице усопшего выступили желтые, синие, фиолетовые пятна.
Уста были приоткрыты, видны были редкие зубы. Черты лица, сведенного судорогой, свидетельствовали, что император умирал в сильных мучениях».
Мы выделили слова Ивана Федоровича Савицкого, чтобы показать, сколь «объективно» относился этот человек из свиты цесаревича Александра Николаевича к умершему государю.
Чего стоят одни только гнусные намеки, что император повесил над своей постелью портрет своей рано умершей дочери, чтобы любоваться ее женскими прелестями. Но европеизированный Иван Федорович именно таким и желал представить перед публикой императора – редкозубым страшилищем всех европейских народов.
О, как радовался, как ликовал тогда аристократический Петербург!
Что же говорить об открытых врагах императора?
Говорят, что Александр Иванович Герцен, когда услышал от газетчиков о смерти русского царя, позабыв о солидном возрасте и аристократическом воспитании, тут же, на лондонской улочке, пустился в пляс.
Император Николай I на смертном одре. Рисунок В. Тимма. 1855 г.
9
А скоро поползли страшные слухи…
«Разнеслись слухи о том, что царь отравлен, – записал в своем дневнике Н.А. Добролюбов, – что оттого и не хотели бальзамировать по прежнему способу, при котором, взрезавши труп, нашли бы яд во внутренностях…»
Этим дело, однако, не ограничилось, и скоро появился слух, будто император отравился сам. Враги, которые трепетали перед живым императором, попытались теперь отнять у русского царя православную кончину.
«Тридцать лет это страшилище в огромных ботфортах, с оловянными пулями вместо глаз безумствовало на троне, сдерживая рвущуюся из-под кандалов жизнь, тормозя всякое движение, безжалостно расправляясь с любым проблеском свободной мысли, подавляя инициативу, срубая каждую голову, осмеливающую подняться выше уровня, начертанного рукой венценосного деспота. Окруженный лжецами, льстецами, не слыша правдивого слова, он очнулся только под гром орудий Севастополя и Евпатории. Гибель его армии — опоры трона – раскрыла царю глаза, обнаружив всю пагубность, ошибочность его политики».
Хотя автор этих воспоминаний Иван Федорович Савицкий и предпочитал придворную службу военной, но он был все-таки еще и полковником Генерального штаба…
Ему следовало бы знать, что и в сражении на реке Альма под Евпаторией 8 сентября 1854 года армии союзников (55 тысяч человек, 122 орудия) противостояла армия адмирала А.С. Меншикова (34 тысячи человек, 96 орудий). Потеряв 5700 человек убитыми, ранеными и пленными Меншиков отступил к Бахчисараю. Потери союзников составили 4000 человек. Сражение под Евпаторией действительно было проиграно, но говорить о том, что погибла его (не Меншикова даже, а Николая I) армия, было просто непрофессионально…
И при попытке наступления на Евпаторию, предпринятого 5 февраля 1855 года, потери были столь незначительными, что позволили главнокомандующему Меншикову перекрестить неудавшееся наступление в рекогносцировку.
И это Савицкий тоже должен был знать, однако злоба и ненависть к страшилищу в огромных ботфортах, с оловянными пулями вместо глаз, как он называет человека, которому присягал и которому служил, помутили разум полковника Генерального штаба.
Об этом можно было бы и не говорить, но именно Иван Федорович Савицкий и был одним из тех, кто распускал слух, что Николай I отравился.
В своих мемуарах, написанных за границей, он рассказал, что якобы гомеопат М. Мандт – любимый лейб-медик царя – поведал ему, будто император попросил у него (Мандта) яда и он дал ему этот яд. Название ядовитого вещества, данного государю, Мандт почему-то ему не назвал… Замечательно, что уже в 1859 году этот гипотетический рассказ появился в герценовском «Колоколе».
Никаких прямых свидетельств самого М. Мандта не сохранилось, и пересказ полковника Савицкого нужно, по-видимому, считать болезненным преувеличением, как и гибель русской армии у Евпатории. Тем более что в вымышленных И.Ф. Савицким откровениях гомеопата Мандта многое не сходится.
Нельзя серьезно относиться и к показаниям анатома Венцеля Грубера, который участвовал во вскрытии тела императора и якобы увидел некие признаки, указывавшие на возможность отравления.
Не будем останавливаться на бесчисленных нестыковках по времени, по ситуации, но о том, что сами эти ничтожные мысли, приписываемые Николаю I, не сходятся с великим характером русского императора, сказать надо.
Не мог благородный рыцарь закона и порядка воспринять мелкую неудачу генерала Хрулева под Евпаторией[193] как «предвестницу полного краха своего величия».
Подобная истерика более подходит уездному гимназисту или барышне, а не императору Николаю I, который бесстрашно выводил против бунтовщиков на площадь свой единственный, верный батальон, который и чумные бунты успокаивал единым своим словом!
Ну а главное, человек, призывавший умирающего Пушкина исполнить «последний долг христианина», просто не мог пойти на самоубийство, как бы трудно ему ни было.
Впрочем, для врагов Николая I подобные соображения не играли никакой роли.
Им надо было скрыть следы своего преступления.
Любопытную версию причин кончины Николая I излагает в своем исследовании «Двести лет вместе» А.И. Солженицын.
Он отмечает странное совпадение смерти императора с началом задуманной им реформы по уравнению евреев в правах с русскими.
Еще в 1840 году Николай I утвердил разработанный графом Павлом Дмитриевичем Киселевым проект, согласно которому, помимо всего прочего, евреев разбирали на два разряда: тех, кто имеет прочную оседлость и имущество, и тех, кто оседлости пока не имел. Им предоставлялся пятилетний срок, чтобы они стали ремесленниками или земледельцами. Тех, кто не укладывался в этот срок, велено было считать «бесполезными» и применить к ним особую военно-трудовую повинность: брать из них в рекруты по разнарядке втрое больше обычной.
Против этого «разбора» активно протестовал «полумилорд, полукупец, полуподлец» – генерал-губернатор Новороссии граф Михаил Семенович Воронцов, и в результате оглашение постановления произошло только в 1846 году, так что сам «разбор» должен был начаться лишь с января 1852 года, а карательно-принудительные меры вступили в действие именно в период Крымской войны.
Горе евреев было тогда велико.
Назначенные к набору рекруты скрывались из своих обществ. Пытаясь избежать рекрутчины, многие евреи бежали за границу или уходили в другие губернии.
Однако Николай I, по-видимому, всерьез решил уравнять евреев в правах с русскими, и его суровую бюрократию такой пустяк не смутил: за каждого не доставленного к сроку рекрута стали брать троих новых.
В результате в еврейских обществах появились наёмные «ловчики» или «хапуны», которые, как пишет А.И. Солженицын, и захватывали «пойманников», и кто действительно уклонился от призыва, или кто с просроченным паспортом, хотя бы даже и из другой губернии, или бессемейный подросток – и за них получали зачётную квитанцию в пользу нанявшего их общества.
Но всё это не восполняло недостачи рекрутов. И в 1852 году добавилось распоряжение о пресечении укрывательства евреев от воинской повинности. Вместо недостающих рекрут стали брать на службу их родственников или руководителей общин, ответственных за своевременную поставку рекрут.
Неизвестно, удалось ли бы таким образом наполнить евреями русскую армию, но в феврале 1855 года Николай I внезапно умер, и «разбор» навсегда прекратился.
«И вот, – меланхолически замечает А.И. Солженицын, – внезапная смерть Императора так же вызволила евреев в тяжёлую пору, как через столетие – смерть Сталина».
Если развивать мысль Александра Исаевича, то можно и дело врачей-отравителей сопоставить с делом об отравлении М. Мандтом Николая I.
Но и эта версия Александра Исаевича, хотя она психологически гораздо более обоснована, чем версия о самоубийстве государя, никакими фактами тоже не подкреплена…
* * *
Доктор исторических наук А.Ф. Смирнов попытался по воспоминаниям очевидцев восстановить картину похорон Николая I…
«Из Зимнего дворца после двухдневного обозрения тело покойного надлежало перевезти в Петропавловскую крепость в царскую усыпальницу. Войска шпалерами встали от Зимнего до Петропавловки, и между стройными рядами застывших гвардейских полков двинулась в путь траурная процессия.
Во главе процессии шел царский двор, за ним старший генералитет с ассистентами, неся на подушках короны и ордена, полученные едва ли не от всех европейских монархов, затем целая армия священников и катафалк, за которым сзади шествовал молодой император с братьями своими, герольды, солдаты, одетые в древние мундиры, и т. д.
Идущая во главе процессии раззолоченная толпа держалась в высшей степени неприлично, мало того что всю дорогу в ней не прекращался говор и смешки, но многие не могли даже и двух часов обойтись без вина и закуски, доставали припасенные заранее бутылки и яства, ели, пили, курили сигары и папироски, вызывая тем возмущение у сгрудившихся по обочинам улиц простолюдинов.
Процессия была столь же длинна, сколь и титул усопшего и ещё здравствующего Властелина:
– Мы, самодержец и император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский, Великия малая и белая Руси и прочая и прочая, а в этом “прочая” содержался перечень всех земель, рублем, мечом, сговором иль “волеизъявлением мужей знатных” присоединенных к империи, коих и числились повелителем и обладателем все Романовы (а точнее сказать, Гольштейн-Готторпы), с Петра III поочередно занимавшие трон, обагренный кровью пращуров. И каждому титулу: великий князь Киевский, Владимирский, Новгородский, Рязанский, Тверской, Смоленский, Ярославский и т. д., ханств: Казанского, Астраханского, Ногайского, Крымского, Сибирского, всех Кавказских, Закавказских и Закаспийских земель – соответствовала в процессии и корона иль иные символы как вещественное олицетворение царств, ханств, земель. Эта символика в золоте, алмазах, бриллиантах возлежала на атласных пурпурных подушечках, покоилась в немощных старческих руках, окольцованных золотом, усыпанным алмазом и прочей мишурой, а руки несущие соединялись с мундиром, золотом вытканным, осыпанным алмазами, бриллиантами и прочая и прочая бижутерия.
Медленно ползла, извиваясь змеею и вновь вытягиваясь, золотосверкающая, алмазоносная процессия от дворца к крепости, от последнего жилища царя до его вечной обители.
Но вот среди золототканых мундиров возникло какое-то движение, как от камня, брошенного в затянутую ряской воду, раздался всплеск, пошли и замерли круги; то старый генерал князь Шаховской, шествовавший в центре с короною Казанской в руках, задремав, начал поклевывать носом, сбиваясь с мерного шага; видя это, ассистент подвинулся ближе и протянул руку, чтоб предотвратить падение сокровища со старцем, но тут из среды гвардейцев, обрамлявших процессию, бросился бравый молодец, схватил ассистента за руку с громким криком “давно я за тобою, шельмец ты эдакий, слежу, ты не уйдешь, вор, от меня”. К счастию, очнулся Шаховской, поспешил на выручку ошеломленному от опасности внезапного нападения своему ассистенту…»
Злые воспоминания…
Авторам казалось, что они обличают великого русского императора, а они обличали лишь самих себя.
Говорят, что незадолго до смерти Николай I попросил пригласить старшего внука – Николая Александровича…
Этот мальчик должен был стать Николаем II, но не стал, вместо него, после его скоропостижной смерти, наследником стал его брат, будущий император Александр III, а Николаем II стал сын Александра III…
Этот единственный из царей Романовых святой царь-мученик мог бы быть Николаем III.
Точно так же, как Николай I мог бы тоже остаться Николаем III[194]…
– Учись умирать… – сказал император Николай I странные слова, прощаясь со своим внуком Николаем…
Глава шестая Освобождение
Как любили писать в старину, «в среду на святой неделе, внезапно, со своей недосягаемой высоты грянул Иван Великий, загудел над всем городом непрерывным радостным звоном. У Великого князя Николая Павловича и супруги его Александры Федоровны родился сын первенец, нареченный Александром».
Случилось это 17 апреля 1818 года… 1818 год не ознаменован в истории России громкими событиями – не было ни войн, ни мятежей, ни переворотов. И вместе с тем в этот год случилось несколько событий, которым, хотя они и совершались не громко, а отчасти и потаенно, суждено было на многие годы вперед определить весь ход русской истории.
В 1818 году было создано декабристское общество Союз благоденствия, в том же году был подготовлен для Александра I секретный проект конституции – «Государственная уставная грамота Российской империи», а Н.М. Карамзин преподнес императору первый экземпляр «Истории государства Российского»…
Таким был этот год – год рождения человека, которого назовут в народе Царем-Освободителем. Впрочем, никто тогда не думал, что Александр Николаевич взойдет когда-нибудь на русский престол…
Удивительно, но о семейной жизни русских царей в допавловские времена мы знаем гораздо больше, нежели о жизни последних русских императоров…
В XVIII веке, вероятно, с легкой – на самом деле тяжелой! – руки Петра I, публично казнившего камергера и любовника своей жены Екатерины Алексеевны – Виллима Монса, а потом публично возившего ее полюбоваться на отрубленную голову, скрывать любовные похождения и увлечения царствующей особы не считали нужным.
Личная жизнь императоров и императриц была открытой, почти публичной. Отчасти этой открытости способствовали и дворцовые перевороты, когда гвардейские полки стали непременными участниками семейных разборок…
Но после правления Павла все сразу переменилось.
И хотя о любовных похождениях и Александра I, и Николая I сложено немало легенд и судачили об этом тогда тоже достаточно много, но ни одно увлечение уже не способно было повлиять на ход истории. Времена служанки Марты и певчего Кирилла Разумовского ушли в прошлое. Да и сама семейная жизнь, сам быт Царской Семьи уходит на второй план, становится незаметным.
На виду у всех – облаченная в застегнутый мундир фигура императора, носителя верховной власти, человека гораздо менее свободного в своих поступках, чем любой из подданных…
1
Известно, что детские годы Александра II проходили вполне спокойно и счастливо. Никаких раздоров не было в семье, отец, тогда еще и не думавший об императорском титуле, по вечерам часто появлялся в детской, обучая сына игре в оловянных солдатиков.
– Бросайте жребий! – объявлял он детям. – У кого мне сегодня быть начальником штаба?
И далее начиналась игра.
Из ящиков доставались солдатики, пушки, палатки и прочие принадлежности лагерной и боевой жизни. Все это раскладывалось на столе, и здесь, на столе, по всем правилам полководческого искусства, проводились маневры, разыгрывались сражения.
Понятно, что для Александра II польза от этих совместных с отцом игр была не столько даже практическая, сколько нравственная. Впервые в истории русской императорской семьи отец уделял так много времени воспитанию сына.
Еще в 1818 году в стихах на рождение Александра В.А. Жуковский пророчески воскликнул:
Да встретит он обильный честью век, Да славного участник славный будет, Да на чреде высокой не забудет Святейшего из званий человек!Великий князь Николай Павлович помнил эти стихи и делал все, чтобы из благого пожелания они стали реальностью…
Семейная теплота окружала будущего императора, и проявлялась она не экзальтированно, не судорожно, а ровно и естественно.
«Проезжая мимо Аничкова дворца, – вспоминала его мать императрица Александра Федоровна, – я увидела в окне на руках у няни маленького Сашу, и глаза мои наполнились слезами»…
Любопытно упомянуть здесь, что это в Аничковом дворце была устроена Александрой Федоровной для Александра первая в России рождественская елка…
Нелегко было уходить из этого спокойного, наполненного любовью мира во взрослый мир, где должен жить наследник престола…
Рассказывают, что 12 декабря 1825 года, когда Александру Николаевичу объявили, что он стал наследником престола, он испугался и долго плакал.
Было ему тогда семь с половиной лет. Летние месяцы детства и отрочества Александра II прошли в Царском Селе. Связь с Лицеем, в котором учился А.С. Пушкин, не столько географическая, сколько духовная.
Словно бы развивая традиции лицейских педагогов, В.А. Жуковский в своей программе воспитания наследника подчеркивал, что «человек во всяком сане есть главное».
Императрица Александра Федоровна, супруга Николая I
Саму же учебу он сравнивал с путешествием. Годы с восьми до тринадцати лет отводились для «приготовления к путешествию» – в этом возрасте необходимо было развить ум и нравственное чувство. Следующие шесть лет занимало само «путешествие» – усвоение общеобразовательного курса, и еще два года – «завершение путешествия – учение применительное…»
Применительное уже к будущему сану. Обучали Александра вместе с двумя товарищами-сверстниками – графом Иосифом Вильегорским и Александром Паткулем.
Распорядок дня был строгим. Подъем в шесть часов утра. Утренняя молитва, завтрак. В семь часов начинались классы и кончались в полдень. После двухчасовой прогулки в два часа дня садились за обед. Затем до пяти часов дети гуляли, играли или отдыхали. С пяти до семи снова проводились занятия в классах. С семи до восьми занимались гимнастикой. Александр II очень любил прыгать на батуте, натянутом в гимнастической зале.
С восьми часов вечера время отводилось для писания дневника.
В десять дети ложились спать.
Для оценки знаний употреблялись шары. За хороший ответ ученик получал белый шар, за плохой – черный. Все шары опускались в специальные – у каждого ученика свой! – ящики и в конце недели подсчитывались. Тот, у кого набиралось белых шаров больше, получал право истратить определенную сумму денег на благотворительность…
Изучение наук и спортивные занятия следовало совмещать с прохождением воинской службы. Александру было десять лет, когда государь привез его в кадетский лагерь и, поставив в строй Первого корпуса, сказал:
– Вот вам новый товарищ!
Сохранился портрет Александра II в кадетском мундире…
Высокий кивер, простые погоны, ранец за плечами, на груди – скрещивающиеся широкие белые ремни…
Службу Александр Николаевич нес наравне со всеми и, если объявляли тревогу, должен был спешить из дворца в лагерь, чтобы успеть занять при построении свое место.
Часто устраивали маневры и учебные сражения – кадеты атаковали друг друга, защищались, обучались штурмовать укрепления.
Зачастую проводились и своеобразные игры-состязания. Каждое лето, например, устраивали «штурм» каскадов петергофских фонтанов. Вместе со всеми, под струями воды, вверх по уступам карабкался к статуе Самсона и наследник престола.
Рассказывая о детских годах Александра II, о его кадетской службе, невольно вспоминаешь о детстве Петра I. Параллель не столь очевидная, сколько внушаемая самой системой воспитания. Ну а коли так, то составители программы обучения не могли позабыть и о море.
«Царскосельский пруд… – писал В.А. Жуковский, – легко можно обратить в океан всемирный, на котором две яхты могут в один день совершить путешествие вокруг света».
Действительно, в верхнем пруду на Детском острове был выстроен небольшой красный домик. Там была гостиная и четыре комнаты, обставленные миниатюрной мебелью. Домик был окружен цветником. За цветами здесь ухаживали сестры Александра, а сам наследник престола ведал флотом – лодками и небольшими парусными судами, на которых и совершал «кругосветные» плавания, подражая В.М. Головину, Ф.Ф. Беллинсгаузену, М.П. Лазареву…
Тем не менее, как мы уже говорили, параллель воспитания Александра с воспитанием Петра I всего лишь внушаемая, скорее даже надуманная, нежели истинная. Отсутствовало самое главное сходство – детские увлечения Петра были искренними, своевольными, а для Александра они становились обязанностью…
И не случайно, хотя и сохранились гравюры, изображающие Детский остров, позабыты названия кораблей, на которых совершал свои плавания Александр II, нигде не найдете вы описаний тех плаваний[195]…
Детские игры Петра I формировали его личность, определяли всю будущую жизнь. У Александра II они служили только для приобретения определенных навыков, укрепления мускулов – решали куда более частные задачи…
Вот список подарков, полученных Александром на Рождество 1831 года…
Ящик с пистолетами… Ружье… Сабля… Бюст Петра Великого… Турецкая сабля… Вице-мундир Кавалергардского полка… 27 тарелок и 5 чашек с рисунками из жизни русского войска…
Подарки для тринадцатилетнего мальчика замечательные, дорогие, но ничего чрезмерного в них нет.
Таким было и все воспитание.
И результаты тоже достигались хотя и замечательные, но не чрезмерные.
Уже в двенадцать лет Александр II прекрасно ездил верхом. Со своими друзьями совершал он далекие прогулки верхом в Ораниенбаум и Павловск… В четырнадцать лет Александр без ошибок мог командовать взводом за офицера…
Успехи очевидные, но настолько скромные, что даже сопоставлять их с грандиозностью детских предприятий Петра I неловко.
Но ведь Александру и не нужно было быть похожим на Петра Великого, совсем другого ждал от него отец, другого ждала и страна, в которой он должен был править.
И принцип воспитания В.А. Жуковского – «в царских детях следует воспитывать детей людей, а уж затем перейти к воспитанию принцев и князей» – именно это и предполагал своим результатом…
В рукописном журнале «Муравейник», издаваемом царскими детьми под руководством В.А. Жуковского, было помещено сочинение наследника престола о своем небесном покровителе – святом князе Александре Невском[196]. Особых литературных достоинств в этой работе Александра Николаевича нет, но сам строй мысли замечателен…
«Александр… понял… таинственное знаменование, сложил руки, пал на колени и, решившись в глубине души быть для народа своего тем, что солнце сие для всего мира, смиренно произнес: “Да будет воля Твоя”»…
Поражает, насколько не сходятся эти мысли наследника Русского престола накануне принесения присяги на верность Отечеству с нетерпеливыми и своевольными устремлениями молодого Петра I…
2
В 1837 году достигший совершеннолетия и принявший присягу Александр Николаевич завершил курс задуманного Василием Андреевичем Жуковским «путешествия» уже самым настоящим путешествием по России…
«Я не жду от нашего путешествия большой жатвы практических сведений о состоянии России, – писал императрице Александре Федоровне В.А. Жуковский, – для этого мы слишком скоро едем, имеем слишком много предметов для обозрения, и путь нам слишком определен; не будет ни свободы, ни досуга, а от этого часто – и желания заняться, как следует, тем, что представится нашему любопытству. Мы соберем, конечно, много фактов отдельных, и это будет иметь свою пользу; но главная польза – вся нравственная, та именно, которую теперь только можно приобрести великому князю; польза глубокого, неизгладимого впечатления. В его лета, в первой свежей молодости, без всяких житейских забот, во всем первом счастии непорочной жизни, не испытав еще в ней ничего иного, кроме любви в недре своего семейства, он начинает деятельную жизнь свою путешествием по России, – и каким путешествием? На каждом шагу встречает его искреннее радушное доброжелательство, тем более для него трогательное, что никакое своекорыстие с ним не смешано; все смотрят на него, как на будущее, прекрасно выражающееся в его наружности; никто не думает о себе, все думают об отечестве, и, в то же время, все благословляют отсутствующего заботливого государя. Как могут такого рода впечатления не подействовать благотворно на свежую молодую душу, которую и сама природа образовала для добра и всего высокого?.. В продолжение предстоящих четырех месяцев, великий князь будет счастлив самым чистым счастьем, и это счастье будет плодотворно для его будущего и для будущего России».
За семь месяцев наследник престола объехал тридцать губерний.
В.А. Жуковский романтически назвал эти поездки наследника в Сибирь и по Волге «венчанием его с Россией».
А через два года состоялось путешествие будущего императора за границу, тоже завершившееся его венчанием, только теперь уже – с принцессой Марией Гессенской.
«В начале марта 1839 года, – вспоминал тайный советник И. Маркелов, состоявший тогда секретарем русского посольства во Франкфурте, – мы получили известие о прибытии наследника цесаревича в Штутгарт. Посол наш господин Убри был болен и не мог выехать навстречу его высочеству. По этой причине он поручил мне немедленно выехать как для получения приказаний от графа Орлова относительно маршрута его высочества, так и для сообщения ему, что при Гессен-Дармштадтском дворе все приготовлено к встрече августейшего путешественника.
Император Александр II
Первое, что сообщил мне граф Орлов, это то, что его высочество уже сильно утомился благодаря многочисленным визитам различным германским дворам и что он очень спешит, направляясь в Голландию и Англию. Затем граф просил меня указать, нет ли прямого пути из Штутгарта на Бибрих, мимо Дармштадта? Я взял на себя смелость заметить графу, что можно было бы от Мангейма проехать левым берегом Рейна, но тем самым была бы нанесена обида великогерцогскому гессенскому двору, и притом, что при этом дворе находится молодая принцесса, во всех отношениях достойная привлечь внимание августейшего путешественника. Тогда граф задал мне несколько вопросов, на которые я тотчас же ответил, так как прожил многие годы в этих местах и часто бывал в Дармштадте у моей свояченицы княгини Витгенштейн. Граф удалился в кабинет его высочества и, выйдя вскоре, обратился ко мне со словами:
– Хорошо, его высочество решил посетить Дармштадт, но только на самое короткое время; он поручает вам отклонить остановку во дворце и нанять для него частное помещение.
Я немедленно выехал в Дармштадт и занял отель “Траубе”.
Его высочество изволил приехать в Дармштадт в шесть часов вечера. Великий герцог Гессенский, наследный принц и принцы Карл и Эмиль тотчас же приехали приветствовать его высочество и пригласить его на оперный спектакль. На сцене шла “Весталка”. Здесь же в зале, предшествующей большой ложе, его высочество был встречен всей великогерцогской семьей. Здесь же впервые ему пришлось увидеть принцессу Марию Гессенскую, которой не было в то время еще и пятнадцати лет.
По окончании оперного представления в зале был сервирован роскошный ужин с музыкой. Великий князь, видимо, был всем доволен. Много разговаривали, много смеялись и после ужина все отправились осматривать некоторые внутренние апартаменты замка, в которых, как говорили, появлялось порой привидение в образе белой дамы. Все разъехались очень поздно, и великий князь вместо отъезда ранним утром, согласно своему первоначальному намерению, принял приглашение присутствовать на параде и на завтраке у наследного принца.
В момент отъезда из Дармштадта граф Орлов сообщил мне свое намерение отправить меня курьером в Петербург и назначил мне в тот же вечер быть в Бибрихе и ожидать там его распоряжений. В Бибрихском замке в час ночи его высочество изволили призвать меня к себе.
– Вот письмо к государю, – сказал он, – которое поручаю вам вручить в собственные руки. Немедленно берите дилижанс и постарайтесь прибыть в Светлое Христово Воскресение или накануне, в субботу. Это придется двадцать пятого числа в Благовещение и в тот самый день, когда мой отец предполагает переехать из Аничковского дворца в Зимний, только что отделанный (после пожара). Он будет весьма рад в тот же день получить от меня известие. Если его величество пожелает получить от вас какие-нибудь сведения и подробности относительно принцессы Марии, – передайте ему все то, что вам лично известно.
В то время в Германии еще не было железных дорог. Пути сообщения были отвратительны, а в России – в особенности, по случаю наступающей весны. Мне оставалось всего девять дней. Но, несмотря на все это, я имел счастье приехать в субботу 25 марта, в 7 часов утра, в Аничковский дворец и быть принятым государем.
– Вы мне приносите добрую весть, – сказал мне император Николай, – а так как сегодня Благовещение, то я вижу в этом хорошее предзнаменование.
Далее государь удостоил меня нескольких вопросов касательно принцессы Марии. Он спросил, который ей год? Каков ее рост, ее сложение? Кто вел наблюдение за ее воспитанием после кончины августейшей ее матери? Каковы вообще ее нравственные достоинства?
Милостиво отпуская меня, государь удостоил сказать, что он напишет великому князю, что не имеет ничего возразить против того, чтобы его высочество, по возвращении из Англии, снова проехал в Дармштадт и пробыл бы там более продолжительное время.
В следующем году (в 1840 г.) в то же время года, на Пасху, приехал в Петербург адъютант великого князя наследника – князь Барятинский и привез известие о помолвке его высочества с принцессой Марией Гессенской…»
3
Венчанием с Россией и венчанием с принцессой Марией Гессенской и завершается юность будущего императора. Но, упоминая об этом, нельзя не упомянуть еще об одной встрече, о которой биографы Александра II не вспоминают, но которая тоже имела чрезвычайно важное значение в его духовном возрастании…
1 декабря 1840 года император Николай I пригласил в Зимний дворец архимандрита Иннокентия (Вениаминова), прибывшего с Алеутских островов.
Прием планировался протокольный. Решено было образовать новую Камчатскую епархию и епископом туда поставить Иннокентия…
Но предоставим слово самому святителю…
«В начале 12 часа прибыли в церковь Государь Император и вся Высочайшая фамилия. И тотчас началась литургия, которую совершал протопресвитер Василий Борисович Бажанов. По пропетии “Отче наш”, мы отправились наверх, в собственную половину Его Величества, где я надел мантию и ожидал призыву. Ровно в 12 часов объявляют мне, что Государь просит меня. Я, взяв с собой образ Спасителя, пошел в кабинет Его Величества. Государь Император, перекрестившись, поцеловал икону, принял ее и положил на стол. В это время, я кое-как изъявил благодарность Его Величеству за все его Высочайшие милости. При первом взгляде моем на Государя и свидании, я не мог не сробеть. И кто не сробеет при Нем! Но после того, ободренный его благосклонностью, я оправился и говорил свободно»…
Но это потом, а вначале разговор шел, как и положено, соответствующе протоколу.
– Очень благодарю вас за то, что вы решаетесь отправиться в такую отдаленную страну, и за то, что вы там служили с такою пользою, – сказал государь, начиная разговор. – Много ли вы там прожили лет?
– Пятнадцать, Ваше Императорское Величество.
– Где вы получили образование?
– В Иркутске, оттуда отправился и в Америку.
– Как принимают веру нашу тамошние жители?
– Те жители, у которых я был в первое время, очень хорошие христиане… – ответил святитель Иннокентий. – Признаюсь откровенно Вашему Императорскому Величеству, что я только там и узнал, что есть духовные утешения; другие, у которых мне удалось положить начало…
Императрица Мария Александровна, супруга Александра II
Разговор, который мы приводим сейчас, был записан самим святителем Иннокентием, и именно на этой незаконченной фразе и обрывается он. И не понятно, то ли отвлекли святителя, когда он записывал памятный разговор, то ли не удавалось сформулировать на бумаге то, что было сказано тогда императору… Однако сохранилась замечательная работа святителя Иннокентия «Записки об Атхинских алеутах и калошах», опубликованная, кстати сказать, в том же 1840 году, читая которую можно понять, что ответил архимандрит Иннокентий или, по крайней мере, о чем он думал, отвечая на вопрос государя…
«Каждый народ не только в отдельных чертах характера, но даже и в главном имеет свои исключения, и часто очень заметные. Так надлежало бы заключить и об алеутах. Но в них почти совсем нет исключений и, особенно, в главных чертах (это есть особенно их черта), они совершенно все как будто отлиты в одну и ту же форму… – писал в своих записках святитель Иннокентий. – Самая резкая и сильная черта характера алеутов есть их терпеливость – и терпеливость почти до бесчувствия. Кажется, невозможно придумать такой трудности и такого невыносимого обстоятельства, которые бы поколебали алеута и заставили его роптать. В случае голода для него ничего не значит пробыть три-четыре дня совершенно без всякой пищи, и он никакими знаками не даст вам знать, что уже несколько дней не ел ничего, если вы не догадаетесь сами о том по бледности лица его… В болезненном состоянии не услышите от него ни стона, ни крика даже при самой жестокой боли… Алеуты почти во всех отношениях очень переимчивы. Это они доказывают тем, что очень скоро переняли от русских все рукоделия, какие только имели случай видеть. В числе всего, перенятого алеутами от русских, к ним перешла и шахматная игра, в которой многие из алеутов очень искусны, особенно из живших или живущих на островах Прибылова, где решительно все и каждый из мужчин знают эту игру… Алеуты в зрелом возрасте имеют большую охоту учиться грамоте, которую особенно они показали в последнее время, когда начали иметь книги на своем языке, так что там, где они имеют более свободного времени, например, на острове Св. Павла, почти все до одного умеют читать и, как заметно, скоро выучиваются… Почему алеуты так скоро и, так сказать, вдруг оставили свою веру, очень нестрогую, и приняли чуждую, строжайшую? И почему они к ней усерднее, чем их соседи? Общая причина того и другого, я думаю, находится в самом их характере: уналашкинцы имеют более добрых качеств, нежели худых (как это сказано выше), и, следовательно, семя Слова Божия удобнее и глубже может пасть на такое основание и скорее может принести плод. Других ближайших сильных причин, заставивших алеутов принять новую веру, я не вижу»…
Об этом, или примерно об этом, наверное, и говорил святитель Иннокентий, отвечая на вопрос государя.
А о чем думал государь, слушая Иннокентия?
Наверняка вспоминал он восторженные отзывы об этом человеке и митрополита Филарета (Дроздова), и адмирала Е.В. Путятина, и знаменитого географа и мореплавателя Ф.И. Литке…
Поразителен был этот человек, выросший в далеком сибирском селении Анга на Лене. Закончив иркутскую семинарию, он отправился на Алеутские острова и проповедал там православную веру… Создав алеутскую письменность – петербургские ученые восхищались его научными работами! – он продолжил дело святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, святителя Стефана Пермского…
Николай I видел, что этот человек принадлежит к тому Преображенскому батальону, который сохранит верность присяге в любые времена…
– Я утвердил проект Камчатской епархии… – сказал Николай I, когда архимандрит Иннокентий завершил свой рассказ. – Но кого назначить архиереем?
– Дух Святый вложит в сердце Вашего Величества святую мысль избрания, – отвечал архимандрит.
– Я хочу сделать Вас камчатским архиереем, – подумав, сказал государь.
– Я весь в повелениях Вашего Величества, – отвечал архимандрит. – Как Вам угодно, то и свято для меня…
Вопрос с назначением Иннокентия на Камчатскую епархию был решен, но аудиенция на этом не закончилась. Император попросил архимандрита навестить его детей и рассказать им о своем служении на Алеутских островах.
Теперь Иннокентий, до самого отъезда своего в Америку, регулярно ходил во дворец к малолетним великим князьям Михаилу Николаевичу и Николаю Николаевичу и рассказывал об уналашкинских алеутах, об островах, растянувшихся в Тихом океане, о китовом промысле, о путешествиях на байдарках по океану, о том, как преподавал он в Ситхе Закон Божий, как составил грамматику для алеутов, и научил их читать и писать…
– Люди не для того сотворены, чтобы жить только здесь, на земле, подобно животным, которые по смерти своей исчезают… – звучал в царских палатах голос святителя. – Но для того единственно, чтобы жить с Богом и в Боге, и жить не сто или тысячу лет, но жить вечно…
И как в нищем алеутском жилище обитатели его, внимали голосу святителя царские дети. По сути дела, здесь, в царском дворце, святитель Иннокентий проповедовал православную веру так же, как на далеких уналашкинских островах.
Вместе с младшими братьями приходил послушать святителя Иннокентия и наследник престола Александр Николаевич…
О том, как крепко рассказы апостола Сибири и Америки врезались в его память, свидетельствует тот факт, что в 1868 году, когда освободилась Московская кафедра, считавшаяся главенствующей в Русской Православной Церкви, император Александр II настоял, чтобы на эту кафедру был назначен именно святитель Иннокентий.
Еще один урок, преподанный святителем в царском дворце великим князьям и самому наследнику престола, – это урок смирения, кротости и величайшей скромности…
«Могу ли же после этого я, говоря по всей справедливости, вменить себе в заслугу или считать за какой-нибудь подвиг то, что я поехал в Америку? – спрашивал святитель Иннокентий, будучи уже митрополитом Московским. – Равным образом, могу ли я присвоить собственно себе что-либо из того, что при мне или чрез меня сделалось доброго и полезного в тех местах, где я служил? Конечно, нет, по крайней мере, не должен. Бог видит, как тяжело мне читать или слышать, когда меня за что-либо хвалят, и, особенно когда сделанное другими или, по крайней мере, не мною одним, приписывают мне одному. Признаюсь, я желал бы, если б это было только возможно, чтобы и нигде не упоминалось мое имя, кроме обыкновенных перечней и поминаньев или диптихов. Но как это желание мое неудобоисполнимо (как, например, при исчислении архиерейских кафедр, и самая краткая история Российской Церкви не может не упомянуть обо мне), то я искренно желал бы, чтобы в подобных случаях сказано было обо мне так же, как, например, в предисловии к Евангелию, переведенному на якутский язык, то есть что это сделано при таком-то Преосвященном: лучше, проще и справедливее этого, по-моему, быть не может. “А как же, – спросит меня автор статьи, по случаю которой я пишу это, – как же говорить или писать о ваших путешествиях? Тут никак не приходится при”. Как? Очень просто! Возили или перевезли – ну, много – переехал оттуда туда-то, и только; потому что, и в самом деле, все мои путевые подвиги состоят именно только в том, чтобы двинуться с места, то есть решиться сесть в повозку или на судно, а там – если бы и захотелось воротиться да уж нельзя; а кто ж не захочет решиться и в ком не достанет на то силы, когда того требует дело или долг?»
Эти слова святителя о подвигах, которые состоят именно только в том, чтобы двинуться с места, то есть решиться сесть в повозку или на судно, а там – если бы и захотелось воротиться да уж нельзя — можно считать благословением всему правлению Александра II.
Разумеется, и Александру II страшно было решиться на преобразование рабовладельческой империи в государство свободных людей, но, как говорил святитель, кто ж не захочет решиться и в ком не достанет на то силы, когда того требует дело или долг?
4
Александр II взошел на престол в год, когда задыхался в осаде Севастополь, а Россия терпела жесточайшее унижение. Двадцать лет царствования Александра II преобразили страну. Бурный рост промышленности, строительство железных дорог, блистательные военные и дипломатические победы, территориальные приобретения, уступающие разве что приобретениям, сделанным в эпоху землепроходчества при Алексее Михайловиче, но главное – крестьянская реформа, уничтожившая крепостное право.
19 февраля 1861 года государь подписал составленный святителем митрополитом Филаретом (Дроздовым) манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей, и об устройстве их быта». Ввиду приближающейся Масленицы событие это держалось в тайне, и обнародован был манифест только 5 марта на Прощеное воскресенье.
Хотя у крестьян и отрезали часть их прежних владений и вообще реформа была связана с выкупом, но трудно переоценить сделанное. Российская империя наконец-то переставала быть рабовладельческой страной…
Обе столицы, как утверждали газеты, ликовали.
Ликовали даже в Лондоне.
«Ты победил, галилеянин! – писал Герцен. – Мы имеем дело уже не с случайным преемником Николая, а с мощным деятелем, открывшим новую эру для России, он столь же наследник 13-го декабря, как Николая. Он работает с нами, для великого будущего».
Но вот что странно…
Понятно, что отмену крепостного права с негодованием встретили рабовладельцы. Как справедливо отметил в своем докладе за 1862 год шеф жандармов и начальник Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии генерал-адъютант Василий Андреевич Долгоруков, «помещики к устройству своего хозяйства на новых основаниях не подготовились и… не имея капиталов, они претерпевают чувствительные лишения».
Однако помещики как бы молчали.
«Неудовольствие дворян не произвело еще в большинстве сословия явных помыслов о каком-либо перевороте, – сообщал все в том же докладе императору В.А. Долгоруков. – Отдельные личности первенствующие в разряде дворянских либералов, выступили, однако ж, из сельского их уединения на политическое поприще, распространяя печатным и изустным словом мысли свои о свободе гораздо далее намерений самого правительства… Нет сомнения, что этот класс людей в России действует под влиянием заграничной русской революционной пропаганды посредством главных ее органов, но вместе с тем и по вдохновению либерально-мятежной эпохи в прочих европейских государствах».
Наблюдение это – не чета водевильным умозаключениям Бенкендорфа.
Точно отмечено тут, как рабовладельческая оппозиция государю начинает выступать под псевдонимами русской, красной, социальной республики.
Сразу же после обнародования Манифеста об отмене крепостного права в Петербурге стали распространять прокламации, в которых население призывалось к бунту и насилию по отношению к императору. Любопытно, что экземпляры этих воззваний были обнаружены и в Зимнем дворце.
«В городе разбрасывают новые произведения прессы “Молодая Россия”», – записал в своем дневнике в мае 1862 года министр внутренних дел П.А. Валуев. В ней прямое воззвание к цареубийству, к убиению всех членов царского дома и всех их приверженцев, провозглашение самых крайних социалистических начал и предвещание «Русской, красной, социальной республики».
Завершению сублимации свободы рабовладения в борьбу за свободу уже освобожденного народа немало способствовало движение шестидесятников…
Как известно, в 60-х годах сложилось два центра радикального направления. Один – вокруг редакции «Колокола», издаваемого А.И. Герценом в Лондоне. Второй возник в России вокруг редакции журнала «Современник». Его идеологом стал Н.Г. Чернышевский.
Обрабатываемые из этих центров «левые» радикалы: Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Г.Е. Благосветлов, Н.И. Утин – начали создавать тайные организации. В прокламациях «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», «К молодому поколению», «Молодая Россия», «Что нужно делать войску?» они обосновывали необходимость ликвидации самодержавия и демократического преобразования России.
Интересно, что к подпольной «Земле и воле» (первая редакция) примкнула и военно-революционная организация, созданная в Царстве Польском.
Угрозы, однако, не остановили Царя-Освободителя.
Говорят, что больше всего в редкие минуты свободного отдыха будущий император любил выстраивать карточные домики. Этаж за этажом возводил гигантские сооружения, разваливающиеся от малейшего неверного движения… У Александра эти домики не разваливались. Изобретательность и осторожность, проявляемые им, кажется, не знали границ…
Точно так же, как и в его государственной деятельности.
Этаж за этажом возводит император Александр II здание своих реформ, и постройка эта тоже могла развалиться при малейшей ошибке, как карточный домик, пока не обрела плоть, не материализовалась на гигантских пространствах России.
Вот несущие перекрытия этого здания…
17 апреля 1863 года. Отменены жестокие телесные наказания (плети, кошки, шпицрутены, клейма).
1 января 1864 года. Земская реформа. Вводятся земские учреждения самоуправления в уездах и выборные – в губерниях.
20 ноября 1864 года. Судебная реформа. Вводится независимый суд. Мировые судьи выбирались уездными земскими собраниями и городскими судами, но утверждались Сенатом: судьбы же высших судебных инстанций решал министр юстиции. Оплата судей была чрезвычайно высокой – от 2,2 до 9 тысяч рублей в год. Больше судьи получали тогда только в Англии. Следствие было отделено от полиции.
В том же духе проводилась и университетская реформа. Возросла автономия, административная и хозяйственная самостоятельность университетов.
Дмитрий Каракозов. Фото 1866 г.
Студенты и преподаватели получили право самостоятельно решать научные проблемы, объединяться в кружки и ассоциации; были отменены вступительные экзамены, но несколько повышена плата за обучение, стали обязательными занятия по богословию; были увеличены права министров и попечителей вмешиваться в университетскую жизнь.
6 апреля 1865 года. Реформа печати. Старая цензура, проверявшая все тексты до напечатания, облегчена. Цензоры читают перед выходом только массовые издания; значительная же часть книг и периодических изданий подвергается цензуре лишь после выхода.
А в ответ?
В ответ на эти реформы происходит нечто невероятное, до сих пор не бывалое – 4 апреля 1866 года у Летнего сада, во время прогулки Александра II, прогремел выстрел Д.В. Каракозова.
Однако стоявший неподалеку костромской крестьянин Осип Комиссаров успел ударить террориста по руке, и пуля пролетела мимо царя.
Чрезвычайно символичен тут уже сам расклад… Неудавшийся цареубийца Дмитрий Васильевич Каракозов был дворянином, а спаситель царя Осип Комиссаров – крестьянином.
Как известно, Д.В. Каракозов входил в знаменитый кружок Н.А. Ишутина, который активно помогал польским сепаратистам, а также организовывал школы и кружки, в которые набирали детей из беднейших слоев населения, чтобы вырастить из них пехоту предстоящей революции.
5
Вырвав террориста из рук разъяренной толпы, полицейские доставили его в Третье отделение.
На вопросы он отвечать отказался, но при личном досмотре у него были отобраны: «1) фунт пороха и пять пуль; 2) стеклянный пузырёк с синильной кислотой, порошок в два грана стрихнина и восемь порошков морфия; 3) две прокламации “Друзьям рабочим”; 4) письмо к неизвестному Николаю Андреевичу» – и установить личность террориста оказалось несложно.
Более того, выяснилось, что Д.В. Каракозов входит в подпольный кружок своего двоюродного брата Николая Андреевича Ишутина.
Ишутинцы активно боролись с царской властью, в частности, они помогли польским сепаратистам организовать выезд за границу бежавшего из московской пересыльной тюрьмы Ярослава Домбровского, а также устраивали кружки и школы, в которые набирали детей бедняков, чтобы вырастить из них пехоту предстоящей революции.
– Мы сделаем из этих малышей революционеров! – открыто заявлял Николай Андреевич…
К началу 1866 года он уже создал руководящий центр «Организация» и тайный отдел под названием «Ад», который должен был осуществлять надзор над членами «Организации» и подготовку терактов.
Название было выбрано Н.А. Ишутиным не случайно.
Без сил ада, по его представлению, невозможно было установить справедливость в России.
«Член “Ада”, – писал он, – должен жить под чужим именем и бросить семейные связи; не должен жениться, бросить прежних друзей и вообще вести жизнь только для одной исключительной цели. Эта цель – бесконечная любовь и преданность родине и её благо, для неё он должен потерять свои личные наслаждения и взамен получить и средоточить в себе ненависть и злобу ко злу и жить и наслаждаться этой стороной жизни».
Дмитрия Васильевича Каракозова после выстрела в Царя-Освободителя казнили, а создателя «Ада» только подержали на помосте под виселицей. В последний момент смертную казнь Николаю Андреевичу Ишутину заменили бессрочной каторгой.
До мая 1868 года Ишутин находился в одиночной камере Шлиссельбургской крепости в Секретном доме, получив прекрасную возможность среди шлиссельбургских камней «средоточить в себе ненависть и злобу ко злу и жить и наслаждаться этой стороной жизни».
Однако это слова.
Реальное пребывание в Секретном доме для создателя «Ада» оказалось настоящим адом, выдержать который он не смог.
Известно, что когда закованного в кандалы Н.А. Ишутина увезли в Сибирь на каторгу, он был уже не в себе, и в октябре 1874 года врачебная комиссия признала его страдающим умопомешательством.
В 1875 году Ишутина перевели в Нижнекарийскую каторжную тюрьму, где он и скончался в нижнекарийском лазарете.
Тем не менее дела «Ада» продолжались в России и без его создателя.
Через год, в Париже, 25 мая 1867 года, на императора было совершено второе покушение. Это был террорист А.И. Березовский…
– Я не знаю, что со мною произошло, но таким, как теперь, я не был никогда и чувствую, что изменился… – сказал тогда Александр II. – Ничто меня не радует.
В.И. Ленин говорил: дескать, декабристы разбудили Герцена…
«Катехизис революционера», который привез в Россию С.Г. Нечаев из Женевы, позволяет проследить этот процесс «пробуждения», так сказать, в динамике.
Безусловно, что сама мысль о способствовании развитию тех бед и зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения, прямо вытекает из надувательства декабристами Михаилом и Александром Бестужевыми солдат Московского полка, имевшего целью поднять их на бунт.
Мораль тут просто отбрасывалась. И не случайно 9 ноября 1869 года С.Г. Нечаев пошел в Петровском парке Москвы на убийства студента И.И. Иванова. «Цементируя кровью» участников своей группы, он еще и закрепляя сделанный передовым обществом выбор.
И все-таки Александр II не прервал реформ.
В 1874 году была проведена военная реформа. Многолетнюю рекрутчину заменили всеобщей воинской повинностью с краткими сроками службы…
И снова в ответ началось нечто непостижимое…
24 января 1878 года обедневшая дворянка Вера Засулич, чтобы отомстить за выпоротого заговорщика А.А. Емельянова (Боголюбова), явилась в приемную петербургского градоначальника генерал-адъютанта Ф.Ф. Трепова и выстрелила в него из револьвера.
Но страшнее было другое…
31 марта Петербургский окружной суд вердиктом присяжных заседателей оправдал террористку, и этот приговор был встречен публикой с ликованием.
Это уже не вмещалось в нормальное сознание, и об этом не мог не думать Александр II 17 апреля 1878 года, в день своего шестидесятилетия.
Вместо праздника он вынужден был провести совещание с министрами «о принятии решительных мер против проявлений революционных замыслов, все более и более принимающих дерзкий характер».
– Вот как приходится мне проводить день моего рождения, – сказал император, открывая собрание.
Поощряемые передовой общественностью, состоящей из вчерашних крепостников, террористы объявили сезон большой охоты на Александра II.
Императора, «заслужившего благодарность всех русских людей, любящих свое отечество, – писали тогда, – травили как дикого зверя»…
Но ведь потому и травили, что император Александр II действительно делал то, что было необходимо для России.
«Жизнь его была подвигом, угодным Богу!» – скажут потом про него.
Но мы не всегда отчетливо представляем себе, что совершалась эта жизнь-подвиг под треск выстрелов и грохот разрывов бомб…
И наверное, снова, уже в который раз, вспоминал Царь-Освободитель слова святителя Иннокентия о том, что подвиги состоят именно только в том, чтобы двинуться с места, то есть решиться сесть в повозку или на судно, а там – если бы и захотелось воротиться да уж нельзя…
Кто ж не захочет решиться воротиться и в ком недостанет на то силы, когда того требует дело или долг? – говорил святитель Иннокентий. Он так и жил, как говорил… Долгое время он проповедовал на Алеутских островах, на Камчатке. Написал книгу «Указание пути к Царству Небесному». Перевел на алеутский и якутский языки Евангелие, также составил «Грамматику алеутско-лисьевского языка», «Российско-колошский словарь», многочисленные книги по этнографии.
31 марта 1879 года он преставился, завершив свои земные дела.
А через день, 2 апреля, участник «хождения в народ», неудавшийся сельский учитель Александр Соловьев выстрелил близ Зимнего дворца в гулявшего без охраны по Дворцовой площади Александра II…
Он был почти рядом, но промахнулся. Прошло полгода, и в ноябре члены организации «Народная воля» взорвали железнодорожное полотно под Москвой, по которому должен был проследовать поезд с императором. И снова чудо спасло государя. Царский поезд прошел на полчаса раньше графика и избежал крушения.
Еще три месяца спустя народоволец С.Н. Халтурин организовал 5 февраля 1880 года взрыв в Зимнем дворце. Бомба была заложена в помещении гауптвахты под парадной столовой второго этажа в то время, когда там должны были находиться Александр II и его семья. Но опять произошла счастливая для императора и для всей России случайность. Принц Александр Гессенский, в честь которого давался праздничный обед, задержался, и когда прогремел взрыв, в столовой никого не было.
Во дворце погас свет, комнаты заполнились густым едким дымом. В помещении главного караула стонали раненые солдаты. Всего пострадало 67 человек, 11 из них – погибло.
На следующий день государь сказал, что Господь его спас еще раз, что необходимо искоренить зло и он надеется, что народ ему поможет сокрушить крамолу… Отменив все государственные мероприятия, Александр II отправился в лазарет лейб-гвардии Финляндского полка, а затем присутствовал на панихиде по погибшим…
6
Ф.М. Достоевский сказал тогда, что у нас гораздо легче бросить бомбу в государя, чем пойти в церковь и заказать молебен о его здравии. Для последнего поступка действительно требовалось мужество.
Каждого, кто осмеливался, подобно Н.С. Лескову, встать на пути набирающего силу нигилизма, в который сублимировалась свобода дворянского рабовладения, немедленно предавали общественному порицанию. Страх вчерашних рабовладельцев перед будущим и выплеснул подпольную волну терроризма.
Чтобы убедиться в том, что терроризм в России возник как реакция западнического сознания бывших крепостников на александровские реформы, лишавшие западничество привилегированного положения, ставящие его в равные условия с национальным самосознанием, достаточно просто внимательно проанализировать события тех лет…
Последние годы правления Александра II, особые в нашей истории, хотя мало кто обращает внимание на это. Странным, мистическим образом сходятся в них дела живущих, дела уходящих из земной жизни и дела, приходящих в историю России персонажей.
В 1879 году обнародовали указ о заключении мира с Оттоманской Портою, подытоживший важный этап борьбы России за освобождение славянских народов. Другое событие – решение немедленно убить Александра II, принятое на заседании исполкома партии «Земля и воля», – обнародовано не было, но события эти связаны, и взаимосвязь их можно понять и можно объяснить.
Эти события произошли в мире живущих.
А вот совпадение, объяснить которое, пользуясь лишь рациональной логикой, уже не получается…
В 1879 году умер выдающийся русский историк Сергей Михайлович Соловьев. Он оставил после себя «Историю России с древнейших времен»… А через полмесяца родился Лев Давидович Бронштейн, тот самый, что станет товарищем Троцким; а еще чуть позднее – Иосиф Виссарионович Джугашвили, товарищ Сталин. Оба они – ключевые персонажи нашей будущей истории, которая, к сожалению, будет иметь очень мало общего с историей, описанной в двадцати девяти томах С.М. Соловьева. Слишком далеко разведены эти истории, и только мы, живущие в начале третьего тысячелетия, знаем, как страшно сойдутся они и какой ценою придется заплатить за это стране.
8 июня 1880 года Ф.М. Достоевский произнес знаменитую Пушкинскую речь:
«Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом, – говорил он. – Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего… Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшийся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные».
Завершая свою речь, Ф.М. Достоевский сказал удивительные слова: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, меньше недоразумений и споров, чем видим теперь».
Эти слова чрезвычайно важны и для понимания роли А.С. Пушкина в русской истории, и для понимания того, что происходило тогда в России в 1880 году.
«Люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть вперед друг друга, а любить…» – писал в тот день Ф.М. Достоевский своей жене.
Скажем сразу, что бомбы и пули, которыми ответили дворяне-террористы на русские реформы Александра, недоразумением не назовешь. Это вполне осознанный ответ сословия, потерявшего возможности для дальнейшего паразитирования за счет народа.
Но была, была возможность, вопреки этой злобе и ненависти, быть лучшими, не ненавидеть вперед друг друга, а любить…
И лучший пример этому показывал император Александр II.
Вопреки сатанинской охоте, устроенной на него превратившимися в народовольцев крепостниками, вопреки сопротивлению сторонников крепостничества в своей бюрократии, государь одобрил проект реформы государственного управления и назначил на 4 марта 1881 года заседание Совета министров для окончательного утверждения этого проекта.
Это и была долгожданная конституция!
Но такая конституция, предназначенная для всего народа, вчерашним рабовладельцам была не нужна…
7
Говорят, что накануне цареубийства по окну царского кабинета в Зимнем дворце полилась кровь. Когда стали разбираться, выяснилось, что коршун убил голубя…
Еще говорили, что в ночь на 1 марта над столицей в небе на короткое время появилась необыкновенно яркая комета в виде двухвостой змеи.
Если это так, то, по-видимому, комета появилась, когда дочка и внучка помещиков-крепостников Вера Николаевна Фигнер[197] с лейтенантом флота дворянином Николаем Евгеньевичем Сухановым обрезывала купленные жестянки из-под керосина, служившие оболочками снарядов, и наполняла их гремучим студнем, как называли тогда нитроглицерин…
Утром 1 марта 1881 года, когда император стоял в дворцовой церкви у обедни – была Неделя Торжества православия, – Николай Иванович Кибальчич передал эти жестяные коробки с гремучим студнем четырем бомбометателям – Игнатию Иоахимовичу Гриневицкому, Тимофею Михайловичу Михайлову, Николаю Ивановичу Рысакову и Емельянову…
После обеда был назначен смотр войск в Манеже, но графу М.Т. Лорис-Меликову и княгине Юрьевской[198] удалось отговорить императора от этой поездки. Полиция располагала сведениями о предстоящем покушении на жизнь Александра II.
Однако тут во дворце появилась Александра Иосифовна – жена великого князя Константина Николаевича. Она рассказала, что на запланированном смотре ее младший сын Дмитрий должен быть представлен дяде-императору в качестве ординарца. Воспользовавшись просьбой великой княгини, император распорядился готовить развод войск.
В 12 часов 45 минут экипаж был подан к подъезду. В час дня государь въехал в Манеж. Многие запомнили, что он был несколько бледен. Произведя смотр и приняв рапорт ординарцев, император поехал в Михайловский дворец (здание Русского музея) к кузине, великой княгине Екатерине.
За чаем говорили о предстоящем утверждении Советом министров проекта реформ.
В четверть третьего государь снова был в карете.
Ему предстоял последний путь… Можно было проехать по Малой Садовой улице, а потом свернуть на Невский проспект и выехать к Зимнему дворцу. Можно было, проехав Инженерную улицу, повернуть на Екатерининский канал…
На углу Невского проспекта и Малой Садовой императора ожидала мина, составленная из черного динамита и бутыли с запалом из капсюля с гремучей ртутью и шашки пироксилина, пропитанных нитроглицерином…
Запал был соединен с проводами, которые в нужный момент должны были быть соединены с гальванической батареей. На первом этаже было арендовано помещение, откуда вели подкоп под проезжую часть.
– Тою же дорогою – домой! – сказал государь лейб-кучеру Ф. Сергееву, садясь в коляску.
Коляска, укрепленная изнутри стальными листами для защиты от пуль, окруженная шестью конными казаками лейб-гвардии Терского казачьего эскадрона, покатила по Инженерной улицы. Государь не поехал на мину, заложенную на Малой Садовой, но и на выбранном пути его поджидали бомбометатели.
Следом за царем ехал в санях полицмейстер полковник А.И. Дворжицкий, за ним – начальник стражи…
На углу Инженерной улицы император поздоровался с караулом от 8-го флотского экипажа, возвращавшегося с развода. Это видела стоящая на другой стороне канала Софья Львовна Перовская, дочка бывшего губернатора Петербурга, потомка графа Алексея Кирилловича Разумовского. Она взмахнула белым платочком, подавая сигнал бомбистам, вставшим вдоль набережной со смертоносными снарядами.
От угла Инженерной до Театрального моста всего пятьсот метров набережной – узкого, затрудняющего маневры кареты проезда…
Случайный прохожий, военфельдшер В. Горохов, показал на следствии, что неизвестный мужчина, маленького роста, в осеннем драповом пальто и шапке из меха выдры (это был восемнадцатилетний Николай Иванович Рысаков), который, не оборачиваясь по сторонам, медленно шел по набережной, едва только карета царя поравнялась с ним, швырнул вдогонку ей свой сверток.
Покушение на императора Александра II. Рисунок А. Бальдингера. 1881 г.
Раздался взрыв, карету приподняло над землей, и все заволокло густым облаком белого дыма.
Потом, когда осматривали место этого взрыва, оказалось, что на набережной образовалась воронка около метра в диаметре и двадцати сантиметров глубиной. В яме нашли золотой браслет с женским медальоном.
В момент взрыва погиб мальчик-разносчик Николай Захаров. Осколком мины ему пробило висок. Сильно пострадал и казак конвоя А. Малеичев, он получил шесть ран и скончался, как только его доставили в госпиталь.
Сам Рысаков попытался убежать, но рабочий, скалывавший лед на набережной, бросил ему свой лом под ноги, Рысаков споткнулся, и тут его настигли городовой В. Несговоров и военфельдшер В. Горохов.
– Скажите отцу, что меня схватили! – крикнул Рысаков, подавая сигнал подельникам.
8
То, что происходило далее, трудно поддается объяснению.
Государь, хотя в карете и были выбиты все стекла, а нижние части филенок кузова отделились, обнажив пружины сидений, почти не пострадал.
Перекрестившись, он подошел к восемнадцатилетнему Рысакову и внимательно оглянул его.
– Хорош! – сказал он. – Что тебе нужно от меня, безбожник?
Рысаков молчал.
– Ваше Величество, вы не ранены? – обеспокоено спросил начальник конвоя П.Т. Кулебякин.
– Слава Богу, нет… – ответил император.
– Слава Богу?! – зло улыбаясь, сказал Рысаков. – Смотрите, не ошиблись ли[199]… Царь, не слушая его, наклонился над лежавшим в огромной луже крови умиравшим Николаем Захаровым. Перекрестив мальчика, он медленно пошел вдоль ограды набережной в сторону Театрального мостика…
За ним двинулся обер-полицмейстер А.И. Дворжицкий.
В этот момент Игнатий Иоахимович Гриневицкий, что стоял, прислонясь к решетке, ограждавшей канал, бросил под ноги императора вторую бомбу. Вновь прогремел взрыв, на высоте человеческого роста образовался клубящийся шар дыма, вверх взметнулся столб из снега.
Когда дым рассеялся, по свидетельству очевидцев, «место происшествия напоминало собой поле боя: более двадцати человек, истекая кровью, лежали на мостовой. Некоторые пытались ползти, другие выкарабкивались из-под лежавших на них тел. На снегу краснели пятна крови, валялись куски человеческих тел. Слышались крики и стоны»…
Государь, полулежал, опираясь руками о землю, спиной – о решетку набережной. Ноги его были обнажены. Левая стопа была практически полностью отделена. Из многочисленных ран, заливая снег, струилась кровь. Напротив монарха лежал его убийца[200].
«Вдруг, среди дыма и снежного тумана, – вспоминал Дворжицкий, – я услышал слабый голос его величества: “Помоги!”. Его величество полусидел-полулежал, облокотившись на правую руку. Предполагая, что государь только тяжко ранен, я приподнял его с земли и тут с ужасом увидел, что обе ноги его величества совершенно раздроблены и кровь из них сильно струилась».
В этот момент к государю пробился брат Михаил и опустился возле него на колени.
Александра II положили в сани А.И. Дворжицкого…
Считается, что укладывать раненого императора в сани помогал Емельянов. Он зажимал под мышкой портфель, в котором находилась третья бомба.
– Жив ли наследник? – спросил император, когда пришел в сознание.
Получив утвердительный ответ, он хотел перекреститься, но не смог донести руку до лба.
– Холодно, холодно… – тихо проговорил он.
– Саша, узнаешь ли меня? – наклонившись над братом, спросил великий князь Михаил.
– Да… пожалуйста, скорее домой… отвезите во дворец… я хочу… там умереть… Прикройте меня платком.
Сани, окруженные конными казаками, помчались в Зимний.
Пока везли государя по Миллионной улице, в санях скопилось столько вылившейся из ран крови, что ее пришлось потом выливать из саней.
Когда к раненому подоспел дежурный врач Зимнего дворца Ф.Ф. Маркус, император был совсем плох. На бледном лице, обрызганном кровью, выделялось несколько повреждений, зрачки слабо реагировали на свет, челюсти были судорожно сжаты.
Страшно были обезображены ноги… Вскоре прибыли лейб-медики С.П. Боткин, взявший на себя руководство реанимацией, и Ф.С. Цыцурин, а также хирург профессор Е.И. Богдановский. Однако все было тщетно. Княгиня Е.М. Юрьевская растирала виски императора эфиром, давала вдыхать кислород и нашатырный спирт…
Была предпринята попытка ампутации левой голени.
С.П. Боткин констатировал отсутствие пульса и сказал наследнику, что надежды нет и смерть наступит через несколько минут.
Воспользовавшись минутным возвращением сознания, протоиереи Бажанов и Рождественский причастили умиравшего. Зазвучали слова молитвы на исход души.
Вскоре дыхание стало прерывистым, зрачки перестали реагировать на свет. Боткин, державший руку царя, медленно опустил ее.
– Государь император скончался… – сказал он.
Дворцовые часы показывали половину четвертого.
За происходившим тихо наблюдал мальчик в матросской курточке. Это был сын цесаревича Николай, которому предстояло стать последним императором России…
Государственный штандарт медленно опустился с флагштока Зимнего дворца в 15 часов 35 минут.
Над городом загудели колокола.
9
«Я вошла в комнату, где он лежал на низенькой железной кровати, – вспоминала А. Яковлева. – Она стояла посреди комнаты по диагонали изголовьем к окнам. Под головой у него были две подушки: верхняя была та, на которой он постоянно спал, – красного сафьяна, набитая сеном и покрытая белой наволочкой. Ноги были покрыты шинелью, руки сложены так, что левая лежала на правой. Такой же образок – складень, который был у покойной императрицы, лежал на его груди. Лицо, лоб, в особенности над глазом, кончик носа и щеки были изранены, т. е. покрыты мелкими подкожными кровяными пятнышками, а также руки, особенно правая. В ногах стояло духовенство в светлых ризах, читали Евангелие. Множество военных толпилось в стороне. Художник писал портрет с усопшего»…
На мундире императора в гробу не было наград.
Он сам просил об этом.
– Когда я появлюсь перед Всевышним, – говорил он, – я не хочу иметь вида цирковой обезьяны…
Говорят, что в юности рассказала цыганка по картам императору, как он умрет. Предсказание это и сбылось в точности 1 марта 1881 года.
Словно из XVIII века, был списан роман императора с юной княжной Екатериной Михайловной Долгоруковой…
Александр II на смертном одре
Легенда утверждает, что еще в середине XVII века была предсказана преждевременная смерть тем Романовым, которые женятся на представительницах княжеского рода Долгоруковых.
Петр II и Александр II попытались проверить это предсказание.
Петр II собирался жениться на Екатерине Алексеевне Долгоруковой.
Александр II женился на Екатерине Михайловне Долгоруковой.
Петр II простудился на водосвятии и умер в ночь на 19 января 1730 года, в тот самый день, на который и была назначена свадьба.
Александр II женился на Екатерине Михайловне Долгоруковой. После того как был оформлен морганатический брак, он прожил примерно столько, сколько прожил Петр II после обручения с княжной.
И еще одно совпадение…
Александр II был убит у Михайловского замка ровно через восемьдесят лет после гибели в Михайловском замке своего деда Павла I…
1 марта 1881 года солдат принес палец, который он нашел на месте взрыва… Доктора признали его сходство с мизинцем императора. Палец положили в уксус и отнесли княгине Юрьевской.
Увидев мизинец, княгиня упала без чувств…
Глава седьмая Последние императоры
Александр III – в этом история его жизни почти точно повторяет историю жизни Петра Великого – не должен был наследовать престол.
Он был вторым сыном Александра II.
Но старший брат умер 12 апреля 1865 года в Ницце, и 15 августа Александр был представлен народу как наследник.
Говорят, что, умирая, брат сказал Александру: «Оставляю тебе тяжелые обязанности, славный трон, отца, мать и невесту (выделено мной. – Н.К.), которая облегчит тебе это бремя».
И действительно, после смерти старшего брата Александра женился на девятнадцатилетней принцессе Дагмаре, дочери короля Христиана IX, ставшей в замужестве с ним императрицей Марией Федоровной[201]. 28 октября 1866 года в Петербурге состоялась брачная церемония…
1
Мы приводим эту подробность из жизни русского императорского дома, чтобы показать, насколько несвободным даже в личной жизни стал теперь наследник престола, он не мог уже жить сам для себя.
Вспомните, как поступил в подобной ситуации Петр Великий… Утвердившись на троне, он немедленно бросил жену, сосватанную ему матерью.
Император Александр III
Совсем другое дело – Александр III.
«Нет… – говорил он своему наставнику Н.П. Гроту. – Я уже вижу, что на излечение брата нет надежды… Все придворные странно переменили свое обращение со мною и начали за мной ухаживать…»
В этих словах при всем желании не услышать ни радости, ни восторга перед открывающимися возможностями абсолютного, не ограниченного ничем властителя гигантской страны.
Только печаль и скорбь.
Еще отчетливее эта печаль выражена в письме Александра к К.П. Победоносцеву: «Как завидуешь людям, которые могут жить в глуши и приносить истинную пользу и быть далеко от всех мерзостей городской жизни и в особенности Петербургской. Я уверен, что на Руси немало подобных людей, но об них не слышим, а работают они в глуши тихо, без фраз и хвастовства».
«Ваше Величество! – словно бы отвечая на то письмо, напишет К.П. Победоносцев императору в страшные мартовские дни 1881 года. – Один только и есть верный, прямой путь – встать на ноги и начать, не засыпая ни на минуту, борьбу, самую святую, какая только бывала в России».
Александр III услышал совет своего наставника.
Когда 12 марта 1881 года «Народная воля» предъявила Александру III ультиматум, новый император не дрогнул.
Предварительным его ответом народовольцам можно считать решение Государственного совета, отвергшего еще 8 марта конституцию, подготовленную М.Т. Лорис-Меликовым, а окончательный ответ прозвучал 30 марта при оглашении приговора Особого присутствия Правительствующего Сената по делу о злодейском покушении 1 марта.
Николай Иванович Рысаков, Андрей Иванович Желябов, Софья Львовна Перовская, Тимофей Михайлович Михайлов и Геся Мироновна Гельфман лишались всех прав состояния и должны были быть подвергнуты смертной казни через повешение.
Исполнение приговора над Гесей Гельфман отложили ввиду ее беременности, а остальных осужденных повесили 3 (15) апреля 1881 года на Семеновском плацу.
29 апреля Александр III подписал составленный К.К. Победоносцевым манифест «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России», которым и начиналось его правление, ставшее единственным в истории России царствованием, целиком прошедшим в мире, единственным правлением Романовых, когда Россия действительно жила прежде всего для самой себя…
2
Темные антирусские силы пытались отомстить этому императору, который решил вести самую русскую политику.
В конце 1886 года студент Петербургского университета, старший брат В.И. Ленина Александр Ильич Ульянов со своими товарищами П.Я. Шевыревым, В.Д. Генераловым, П.И. Андреюшкиным, В.С. Осипановым, О.М. Говорухиным начал готовить покушение на Александра III.
Несмотря на обилие литературы, посвященной семье В.И. Ленина, вопрос о том, как произошло превращение подающего большие надежды петербургского студента-естественника в теоретика и практика терроризма, остается открытым.
Как известно, первые два курса учебы в Петербургском университете Александр Ильич Ульянов достаточно напряженно работал на кафедрах у зоолога Н.П. Вагнера и химика А.М. Бутлерова. Результатом этой работы стала золотая медаль, которой 17 февраля (1 марта) 1886 года было удостоено его исследование «Об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata».
До второго 1 марта оставался ровно один год, и именно за этот год знаток зоологии кольчатых червей превратился в проповедника терроризма.
«Наша интеллигенция настолько слаба физически и неорганизована, что в настоящее время не может вступать в открытую борьбу, и только в террористической форме может защищать свое право на мысль и на интеллектуальное участие в общественной жизни, – поучал он. – Террор есть та форма борьбы, которая создана XIX столетием, есть та единственная форма защиты, к которой может прибегнуть меньшинство, сильное только духовной силой и сознанием своей правоты против сознания физической силы большинства».
Убивать, чтобы защитить право на интеллектуальное участие в общественной жизни… Такое ощущение, что мысль эта в глубинах зоологии кольчатых червей и зародилась!
Считается, что террористическая фракция «Народной воли», созданная Александром Ульяновым с товарищами, идейно была преемницей партии «Народная воля». Однако приняв ее методы борьбы, люди, задумавшие второе 1 марта, ни программы, ни организации «Народной воли» не приняли. Старая «Народная воля» была строго централизована, и без директив исполнительного комитета не предпринималось ничего. Александр Ульянов отверг централизацию, считая, что полезна террористическая борьба не только с царским правительством, но и местные террористические протесты против административного гнета. Сама жизнь – тут мы снова погружаемся в зоологию кольчатых червей! – должна была управлять ходом террора и ускорять или замедлять его по мере надобности.
Очень скоро от теории было решено перейти к практике.
В Парголове, на даче Кекина, Александр Ульянов приготовил нитроглицерин, а сами снаряды – два жестяных цилиндра – набил динамитом и отравленными стрихнином пулями уже в городе. Таланта и изобретательности в этой работе Ульяновым было проявлено не меньше, чем при изучении кольчатых червей.
И можно, конечно, рассуждать, что это преображение произошло в нем под влиянием изучения работ ученых-экономистов, что многие идеи терроризма были вынесены Ульяновым с занятий популярного среди студентов Научно-литературного общества, секретарем которого он стал, но это тоже только постановка новых вопросов, а не ответы на них.
Темная сила террора возникала неизвестно откуда и неизвестно как захватывала молодых людей.
4 марта 1887 года, сразу после попытки покушения, К.П. Победоносцев напишет Александру III письмо, в котором прорываются панические нотки:
«Бог знает еще, чья хитрая рука направляет, чьи деньги снабжают наших злодеев, людей без разума и совести, одержимых диким инстинктом разрушения, выродков лживой цивилизации…
Нельзя выследить их всех, – они эпидемически размножаются; нельзя вылечить всех обезумевших. Но надобно допросить себя: отчего у нас так много обезумевших юношей?»
Хотя К.П. Победоносцев и дает исчерпывающий ответ на поставленный им самим вопрос, но дается он: «Не оттого ли, что мы ввели у себя ложную, совсем несвойственную нашему быту систему образования, которая, отрывая каждого от родной среды, увлекает его в среду фантазии, мечтаний и несоответственных претензий и потом бросает его на большой рынок жизни, без уменья работать, без определенного дела, без живой связи с народным бытом, но с непомерным и уродливым самолюбием, которое требует всего от жизни, само ничего не внося в нее!» – тоже в форме вопроса.
Впрочем, по-другому и невозможно было ответить на вопрос о выродках лживой цивилизации, а главное, о возможности предотвращения появления их. Ответ в утвердительной форме на этот вопрос можно было дать только собственной жизнью.
И таким ответом и стали подчиненные исполнению своего монаршего служения жизни императора Александра III и его сына Николая II.
3
Романтический принцип В.А. Жуковского – в царских детях надобно воспитывать прежде детей людей, а затем уже принцев – мог завести династию императора Павла в такие дебри своеволия, из которых уже невозможно было бы выбраться.
Но этого не случилось…
Будучи образованными и чрезвычайно дисциплинированными, потомки императора Павла, восходя на престол, лично для себя не получали никаких дополнительных прав, а, наоборот, как бы даже и теряли их, принимая обязательство осуществлять монархическую власть, равно безличную и к окружающим, и к себе самому.
Последние русские императоры Александр III, Николай II были непохожими и друг на друга, и на всех предшествующих правителей России. Однако их индивидуальные особенности уже не имели такого определяющего значения, как в предшествовавшие правления.
Принимая присягу на верность Отечеству, они становились теми, кто нужен был на престоле Державе. Они умели подчинять и подчиняли свои личные желания тому высокому званию, которое несли на себе.
И воспитание, которое давалось им, как раз и делало их способными не только исполнять будущие обязанности, но и быть готовыми к самопожертвованию.
Среди учителей Александра III мы находим имена самых выдающихся ученых и мыслителей того времени. Например, русскую историю преподавал Александру III С.М. Соловьев, а законоведение – К.П. Победоносцев.
Профессор Московского университета А.И. Чивилев, занимавшийся воспитанием великого князя, любил повторять:
– Наука научает нас, как служить верой и правдой Отечеству и его отцу – царю.
Говоря о самоограничении, воспитываемом в процессе образования Александра III или Николая II, надо подчеркнуть, что здесь и речи не шло ни о каком стирании личности, нивелировке неповторимого, индивидуального облика…
Итогом этой предварительной подготовки должна была стать их готовность в момент принесения присяги на верность Отечеству принять ту единую, высшую силу, что осеняла будущих монархов.
И тогда-то – это уже не мистика, а объективная реальность! – личностные интересы и заботы, их собственные симпатии и увлечения становились несущественными по сравнению с теми заботами страны, что брали они на свои плечи.
Этот процесс был напрямую связан с переменой отношения к православию в семье потомков Павла.
Некоторые исследователи считают, что искренняя и неформальная вера императора Александра III определялась лишь его стремлением обрести в Церкви опору самодержавной власти. Поэтому, считают они, провиденциализм в идеологии самодержавия при Александре III получил преобладание. Божественное происхождение власти, Божественный Промысел противопоставлялись всем либеральным покушениям на неограниченную монархию…
Отчасти это верно, но, в отличие от Романовых XVIII века, у потомков императора Павла протестантское, зачастую чисто утилитарное отношение к Церкви как необходимому компоненту монархической власти сменяется глубокой личной религиозностью. Исполнение церковных обрядов перестало быть одной только формой, делается для Царской Семьи личной потребностью.
И мы видим, что снова, как в московские, допетровские времена, размывается граница между личным религиозным опытом монарха и событиями истории…
Еще при жизни старшего брата, будучи в Москве, Александр должен был заехать за благословением в монастырь. Так получилось, что в монастырь он приехал раньше своего старшего брата, и настоятель монастыря благословил его иконой, которой должен был благословить наследника престола.
Скоро приехал и старший брат Александра, монахи быстро отыскали другой Образ, но икона наследника престола досталась Александру, как через несколько лет и сам Престол…
Таких мистических совпадений в жизни «самого русского императора» немало…
Рассказывая о блаженной Ксении Петербургской, мы вспоминали истории, как по молитвам к ней исцелился цесаревич Александр в 1874 году. Ксения тогда являлась супруге Александра – великой княгине Марии Федоровне, предрекла, что Александр выздоровеет, а сама Мария Федоровна родит девочку.
– Назовите ее Ксенией, – сказала блаженная. – И она будет хранить вашу семью от всяких бед!
Предсказание сбылось…
Хотя и продолжались волнения студентов, хотя то тут, то там вспыхивали разжигаемые народовольцами погромы, хотя гремели выстрелы, хотя Александр Ульянов готовил специальный динамит для убийства Царской Семьи, но Божий Промысел защищал ее.
4
25 февраля 1887 года Александр Ильич Ульянов завершил свои приготовления, однако трагедию второго 1 марта удалось предотвратить.
И сыграла тут свою роль не только высокопрофессиональная агентурная работа полиции, но и прямая Божия помощь.
В конце января 1887 года в департаменте полиции агентурным путем была получена копия письма студенту Харьковского университета Ивану Никитину. В письме говорилось о значении террора и необходимости его в революционной деятельности. У Никитина было потребовано объяснение об авторе письма, и он назвал студента Санкт-Петербургского университета Пахомия Андреюшкина. За Андреюшкиным установили непрерывное наблюдение, в результате которого выяснилось, что он, вместе с пятью другими лицами, гулял 28 февраля пять часов по Невскому проспекту, причем сам Андреюшкин и другой неизвестный, по-видимому, несли под верхним платьем какие-то тяжести, а третий нес толстую книгу в переплете. 1 марта эти же лица были снова замечены на Невском проспекте. Их – а это были студенты Санкт-Петербургского университета: Пахомий Иванович Андреюшкин, Василий Денисович Генералов, Василий Степанович Осипанов, Михаил Никитич Канчер, Петр Степанович Горкун и мещанин Степан Александрович Волохов – арестовали. При обыске у студентов были обнаружены снаряженные метательные снаряды, заряженный револьвер и печатная программа исполнительного комитета.
Арест террористов произошел в одиннадцать часов, а между тем как раз на это время была назначена заупокойная обедня в соборе Петропавловской крепости, на которую император с императрицей и старшими сыновьями собирался ехать из Аничкова дворца в четырехместных санях, и вполне могло случиться, что метальщики успели бы опередить полицию, и второе 1 марта стало бы – сконструированные Александром Ульяновым снаряды способны были уничтожить всю Царскую Семью! – еще более страшным, чем первое.
Вот тут и произошло чудо, которое иначе, как Божией помощью, и не назовешь.
«Его величество заказал заупокойную обедню к 11 часам и накануне сказал камердинеру иметь экипаж готовым к 11 часам без четверти. Камердинер передал распоряжение ездовому, который, по опрометчивости, – чего никогда не случалось при дворе, – или потому, что не понял, не довел об этом до сведения унтер-шталмейстера, – записала в своем дневнике жена шталмейстера двора Арапова. – Государь спускается с лестницы – нет экипажа. Как ни торопились, он оказывается в досадном положении простых смертных, вынужденных ждать у швейцара, в шинели, в течение 25 минут.
Не припомнят, чтобы его видели в таком гневе из-за того, что по вине своего антуража он настолько опаздывает на службу по своем отце, и унтер-шталмейстер был им так резко обруган, что со слезами на глазах бросился к своим объяснять свою невиновность, говоря, что он в течение 12 лет находится на службе государя и решительно никогда не был замечен в провинности. Он был уверен в увольнении и не подозревал, что Провидение избрало его служить нижайшим орудием своих решений.
Государь покидает Аничков после того, как негодяи были отведены в участок, и, только прибыв к брату в Зимний дворец, он узнал об опасности, которой он чудом избежал… Если бы запоздание не имело места, государь проезжал бы в нескольких шагах от них».
Если бы не это промедление в Аничковом дворце, случившееся из-за небывалой неразберихи между прислугой, понять и объяснить которую не мог никто, императора Александра III к моменту ареста террористов уже не было бы в живых.
Но Божьей волею император был спасен.
«Все в России спокойно. Школа, слава Богу, оздоровлена путем введения нового университетского устава, революционная партия разбита, революционеры, поседевшие в боях, или изъяты из обращения, или скитаются по загранице бессильные и безвредные, – писали 5 марта 1887 года “Московские ведомости”. – С того времени, как возникло опасение, что Россия не захочет доле оставаться в распоряжении чужих держав и захочет иметь свою политику, соответствующую ее достоинству и ее собственным интересам, начали появляться у нас дурные признаки, стали замечаться так называемые самообразовательные кружки, в которые привлекаются молодые люди сначала для литературного препровождения времени, для чтения известных писателей, причем мало-помалу прочитываются и подпольные издания, которые, наконец, становятся главными предметами занятий, рассуждений и толков. Тут-то и улавливаются наиболее податливые птенцы и замыкаются в клетку, разобщаются туманом революционных идей с окружающим миром, подчиняются тайной команде, должным образом терроризуются и потом становятся слепыми орудиями для самых безумных дел, для самых гнусных злодеяний.
Кто их поджигает? …Самообразовательные кружки есть порождение темных сил, питающихся соками немецкой и антирусской политики. Ей-то особенно и полезны российские антиправительственные выступления, террористические замыслы».
Александр III считал, что желательно было бы не придавать слишком большого значения аресту террористов, готовивших покушение на него.
«По-моему, лучше было бы узнавши от них все, что только возможно, – сказал он, – отправить в Шлоссельбургскую крепость – это самое сильное и неприятное наказание».
Но пожелание императора почему-то оказалось неисполненным, и 15 апреля 1887 года 15 обвиняемых по делу «второго 1 марта» предстали перед судом.
Александр Ульянов отказался от защитника и сам произнес свою защитительную речь.
«Среди русского народа, – сказал он тогда, – всегда найдется десяток людей, которые настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь».
И слились эти слова со скрипом ключей, открывающих двери злу и мраку, скопившемуся в шлиссельбургских подземельях, и откликнулся на них гимназист в далеком Симбирске, сказавший: «Мы пойдем другим путем».
Бесконечным и кровавым для России оказался этот путь, и вот, кажется, и нет уже давно ни Российской империи, ни СССР, а всё еще не кончается эта мучительно долгая дорога.
5
Если рассуждать формально, Александр III по составу своей крови был менее русским, нежели все остальные русские императоры. И вместе с тем едва ли мы найдем среди его предшественников более русского царя…
Всю жизнь он вставал в семь часов утра, обливался ледяной водой и надевал крестьянскую рубаху. Он мог согнуть пальцами серебряный рубль, и однажды, во время обеда с австрийским послом, когда разговор зашел о положении на Балканах и посол угрожающе намекнул, что Австрия может мобилизовать два или три армейских корпуса, Александр III спокойно взял серебряную вилку, скрутил ее петлей и положил перед австрийским послом.
– Вот, – сказал он, – что я сделаю с вашими двумя или тремя мобилизованными корпусами.
Если свидетельство это отчасти и легендарное, все равно оно показывает, что воспринимался многими Александр III как некий былинный персонаж. Между прочим, считается, что это император Александр запечатлен в центральной фигуре знаменитой картины В.М. Васнецова «Богатыри»…
«Он любил забавлять нас, маленьких друзей своего сына Никки, тем, что разрывал руками колоду карт или же завязывал узлом железный прут», – вспоминал великий князь Александр Михайлович.
Богатырскими были подвиги Александра III.
Тут можно вспомнить и о железнодорожном крушении 17 октября 1888 года на перегоне между железнодорожными станциями Тарановка и Борки, в которое попал государь со всей семьей, когда возвращался из Севастополя.
Царская семья находилась в вагоне-ресторане. Когда крыша вагона начала падать, государь Александр Александрович в течение несколько секунд удерживал ее на своих мощных плечах.
Этого времени оказалось достаточно, чтобы спасти жизнь детей…
Богатырскими были и его свершения.
К концу его царствования бурно развивалась промышленность. Расходы, по сравнению с 1880 годом, возросли на 36 %, а доходы госбюджета одновременно увеличились на 60 %, фактическое превышение их над затратами выразилось гигантской по тем временам суммой в 98,8 миллиона рублей.
«Александр III имел стальную волю и характер, – вспоминал С.Ю. Витте, – он был человек своего слова, царски благородный и с царски возвышенными помыслами. У него не было ни личного самолюбия, ни личного тщеславия, его “я” было неразрывно связано с благами России так, как он их понимал. Он – обыкновенного ума и образования, он был мужественен и не на словах и театрально, а попросту.
Александра III могли не любить, критиковать, находить его меры вредными, но никто не мог его не уважать. И его уважал весь мир и вся Россия….
Александр III встал на престол, не только окровавленный мученической смертью своего отца, но и во время Смуты, когда практика убийств слева приняла серьезные размеры.
После тринадцатилетнего царствования он оставил Россию сильной, спокойной, верующей в себя. Он внушал к себе всеобщее уважение, ибо он был царь миролюбивый и высокочестный. Главная заслуга Александра III заключается в том, что своими прямыми и честными действиями он поставил политический престиж России так высоко, как до него он никогда не стоял. Россия была главною фигурой на шахматной доске мировой политики».
И когда, разложив на столе фотографии Александра III, видишь, как превращается мечтательный двенадцатилетний мальчик в бесшабашного, похожего на немецкого студента пятнадцатилетнего юнца, а потом, сразу, этот франтоватый юноша – в длиннобородого, одетого в русский кафтан и широкие шаровары русского царя, трудно не согласиться со словами его биографа В.В. Газаревского, что «Государь сразу дал понять и другим народам, и русским инородцами, и космополитам, что его заботой будет не весь земной шар, даже не Европа, а Россия, паче всего…», что «русские реальные жизненные интересы – вот начало и конец иностранной политики нашего Государя».
Александр III обладал огромной физической и духовной силой и вел себя, как и должен вести глава великой страны.
Как рассказывает великий князь Александр Михайлович, когда однажды чрезмерно честолюбивый министр вздумал пригрозить отставкой, царь взял его за шиворот и, приподняв, как щенка, посоветовал:
– Придержите-ка ваш язык! Когда я захочу вас выбросить, вы услышите от меня об этом в очень определенных выражениях.
– Когда Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать, – ответил в Гатчине Александр III другому своему министру, который настаивал, чтобы государь принял немедленно европейского посла.
Когда Вильгельм II предложил Александру III «поделить мир между Россией и Германией», царь ответил:
– Не веди себя, Вилли, как танцующий дервиш. Полюбуйся на себя в зеркало.
Воистину это трагедия России, что такому государю было суждено умереть в возрасте сорока девяти лет…
6
Первые симптомы болезни появились в 1894 году.
Император похудел и стал жаловаться на усталость. Лейб-медики связывали его недомогание с переутомлением и предписали отдых и свежий воздух.
Богатырское сложение императора виной или недобросовестность докторов, но врачи просмотрели тяжелую болезнь почек – нефрит и вместо соответствующего лечения предписали то, чем больному категорически нельзя было заниматься, – физический труд.
Только в сентябре, когда в охотничьем домике в Спаде, в Польше, император снова почувствовал себя нездоровыми, из Вены был вызван знаменитый терапевт профессор Лейден… Он и поставил правильный диагноз – нефрит.
По настоянию профессора Лейдена император уехал в Крым, но было уже поздно…
20 октября 1894 года в Ливадии жизнь императора оборвалась.
«20 октября 1894 г. Никки и я стояли на веранде чудесного Ливадийского дворца с мешками кислорода в руках: мы присутствовали при последних минутах Александра III… – вспоминал великий князь Александр Михайлович. – Даже соленое дыхание южного моря не могло вернуть к жизни человека, поставившего себе целью жизни предотвратить беспощадный ход революции. Кончина Александра III была подобна его жизни. Являясь убежденным врагом звучных фраз и мелодраматических эффектов, Царь при приближении последней минуты лишь пробормотал короткую молитву и простился с Императрицей.
Люди умирают ежеминутно, и мы не должны были бы придавать особого значения смерти тех, кого мы любим. Но тем не менее смерть Императора Александра III окончательно решила судьбу России. Каждый в толпе присутствовавших при кончине Александра III родственников, врачей, придворных и прислуги, собравшихся вокруг его бездыханного тела, сознавал, что наша страна потеряла в лице Государя ту опору, которая препятствовала России свалиться в пропасть.
Никто не понимал этого лучше самого Никки.
В эту минуту в первый и в последний раз в моей жизни я увидел слезы на его голубых глазах. Он взял меня под руку и повел вниз в свою комнату. Мы обнялись и плакали вместе. Он не мог собраться с мыслями. Он сознавал, что он сделался Императором, и это страшное бремя власти давило его».
«Боже мой, Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого, горячо любимого Папа. Голова кругом идет, верить не хочется – кажется до того неправдоподобной ужасная действительность. Все утро мы провели наверху около него! – записал в этот день в своем дневнике Николай II. – Дыхание было затруднено, требовалось все время давать ему вдыхать кислород. Около половины третьего он причастился Святых Тайн. Вскоре начались легкие судороги… и конец быстро настал! О. Иоанн больше часу стоял у его изголовья и держал его голову. Это была смерть святого! Господи, помоги нам в эти тяжелые дни!»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский тоже оставил в своем дневнике запись об этом дне…
«Он тихо скончался. Вся Семья Царская безмолвно с покорностью воле Всевышнего преклонила колени. Душа же Помазанника Божия тихо отошла ко Господу, и я снял руки свои с главы Его, на которой выступил холодный пот.
Не плачь и не сетуй, Россия! Хотя ты не вымолила у Бога исцеления своему царю, но вымолила зато тихую, христианскую кончину, и добрый конец увенчал славную Его жизнь, а это дороже всего!»
«Он умер как Он жил: просто и благочестиво; так умирают мои матросики, простой русский народ… – писала двоюродная сестра Александра III греческая королева Ольга. – В 10 часов утра, когда Он причащался, он повторял каждое слово молитв: “Верую Господи и исповедую” и “Вечери Твоей тайныя” и крестился. Всем нам он протягивал руку, и мы ее целовали… Никогда не забуду минут, когда Никки позвал меня под вечер посмотреть на выражение Его лица… Мы долго с Никки стояли на коленях и не могли оторваться, все смотрели на это чудное лицо».
Александр III на смертном одре. Ливадия. Октябрь 1894 г.
Вглядимся еще раз в картину происходившего 20 октября 1894 года в спальне Малого дворца в Ливадии…
Объятый волнением наследник престола, будущий царь – мученик Николай II…
На постели – умирающий император Александр III…
У изголовья – святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Его руки сжимают голову умирающего императора…
И это оттуда обращенные к нам звучат слова святого:
– Не плачь и не сетуй, Россия… Молитвой праведного отца Иоанна Кронштадтского совершается то, что дороже всего…
«Обладая чрезвычайной простотой и искренностью, отец Иоанн имел величайший дар молитвы, – говорил священномученик Серафим Чичагов. – Это его отличительная особенность. Он глубоко верил, от всего сердца, в благодать, данную ему как священнику от Бога, молиться за людей Божиих и что Господь настолько близок к верующему христианину, как собственное его тело и сердце, ибо тело наше есть храм живущего в нас Святого Духа, Которого мы имеем от Бога… Он веровал на молитве, что за словом, как тень за телом, следует и дело, так как у Господа слово и дело не разделены и, не допуская ни малейшего сомнения в исполнении Богом его прошений, просил совершенно просто, искренне, как дитя, с живою верою в Господа, представляя Его не только стоящим пред собою, но и как бы находящимся в Нем, в такой близости… Дорогой батюшка отец Иоанн поражал и иногда потрясал всех глубиною своей молитвы»…
Величественная, исполненная высокого значения картина…
7
В конце дня загремели пушки военных кораблей в Ялтинском заливе, возвещая о кончине императора Александра III, в это время перед дворцом был установлен алтарь, у которого Николай II принес присягу.
«Невеста нового Императора, принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, прибыла из Германии накануне кончины болезнью Государя, что забыл отдать распоряжение о высылке на границу императорского поезда, и будущая Императрица Всероссийская путешествовала по России, как простая смертная… – пишет великий князь Александр Михайлович. – В церкви Ливадийского дворца состоялось ее крещение по православному обряду. Бракосочетание молодого Царя состоялось менее чем через неделю после похорон Александра III.
Их медовый месяц протекал в атмосфере панихид и траурных визитов. Самая нарочитая драматизация не могла бы изобрести более подходящего пролога для исторической трагедии последнего русского Царя».
Драпированный пурпуром гроб императора перевезли из Ливадии в Севастополь, где ожидал траурный поезд. В Харькове, Курске, Орле и Туле поезд останавливался, и местное духовенство служило панихиды. В Москве гроб установили на катафалк и отвезли в Кремль, оставив там на всю ночь.
1 ноября гроб с телом императора привезли в Санкт-Петербург. Четыре часа кортеж под погребальный звон колоколов и приглушенную дробь барабанов медленно продвигался от вокзала к собору Петропавловской крепости.
Со 2 ноября 1894 года нескончаемые вереницы людей тянулись в Петропавловский собор, и только в ночь на 8 ноября останки Александра были опущены в могилу и накрыты саркофагом.
– Как спасти Россию? – спросил у С.Ю. Витте в 1907 году, накануне роспуска 2-й Государственной думы, министр двора барон В.Б. Фридерикс.
В ответ Витте обернулся к портрету Александра III.
– Воскресите его! – сказал он.
Александр III даже в манерах, даже в привычках своих был более русским, чем все остальные русские императоры.
Исключение составляет только его сын – император Николай II.
Но он – явление совсем уже необычное.
Это первый и единственный русский император, ставший Святым…
8
Последний русский император Николай II родился 6 (19) мая 1868 года в день памяти праведного Иова Многострадального…
В этот год русская армия нанесла поражение эмиру Бухары, и Бухара отныне вошла в состав империи. Инженер А.Р. Власенко сконструировал первый в мире зерноуборочный комбайн. В журнале «Русский вестник» напечатали роман Ф.М. Достоевского «Идиот».
Еще?
Еще в этом году в Риге зашел по мелководью в море литератор Писарев, и больше уже не видели его живым… Однако нигилистические идеи не утонули вместе с Писаревым. Уже на следующий год всю страну потрясет убийство Сергеем Нечаевым студента Иванова.
Будущему императору было восемь лет, когда на демонстрации рабочих и студентов у Казанского собора впервые подняли красное знамя с вышитыми на нем словами «Земля и воля»…
И еще не исполнилось Николаю II тринадцати лет, когда 1 марта 1881 года народовольцами, устроившими настоящую охоту на государя, был убит его дед – император Александр II.
Цесаревич Николай Александрович. 1884 г.
Десятилетиями вдалбливали нам в головы, какими высокими и светлыми идеалами руководствовались цареубийцы.
Смущали, правда, некоторые подробности их биографий, смущало то сочувствие, которое проявляла к народовольцам элита вчерашних крепостников, но только сейчас, когда снова власть в России оказалась в руках кучки привилегированного класса, стремящегося жить за счет остального населения, а свои «права человека» осуществляющего за счет подавления самых элементарных прав остального населения, по-настоящему становится ясно, кого представляли и народовольцы, и последующие революционеры, чьи права они защищали под видом борьбы с самодержавием…
Монархия устояла тогда, устояла еще на два правления…
И устояла не потому, что уже окрепло гражданское общество, способное поддерживать ее вопреки изощреннейшей, безжалостной подрывной работе, проводимой вчерашними крепостниками…
Нет… Сочувствуя монархической идее, уже угадывая в ней гарантию своих прав и свобод, русское общество еще не успело развиться и окрепнуть настолько, чтобы противостоять обрядившемуся в нигилизм крепостничеству. Слова классика русской литературы: у нас проще пойти и бросить бомбу в государя, нежели заказать молебен об его здравии – точное свидетельство отравления страны и всего русского общества впрыснутым в него еще неведомым ядом…
Последний русский император рос под грохот выстрелов и разрывов бомб, но готовили его для другой, созидательной на благо России деятельности…
«Огляделся: комната волшебная. Ничего подобного сроду не видывал. Во-первых, идет по полу железная дорога, маленькая, но настоящая, с рельсами, с сторожевыми будками, с тремя классами вагонов, стоят полки солдат с киверами, с касками, казаки в шапках, а вот лошади с гривами, верблюды с горбами, а вот барабан, ружья в козлах, труба с кисточкой, гора песку»…
Так описывали детскую, принадлежавшую будущему русскому императору.
Хозяин всех этих игрушечных сокровищ заводил ключиком свою дорогу, и вот уже «паровоз побежал, из будки вышла сторожиха, замахала флажком, на платформе появился пузатый начальник, зазвенел звонок»…
Железная дорога – не случайная игрушка. Железные дороги, строительство их – одно из важнейших занятий последнего русского императора.
Двадцати четырех лет от роду Николай Александрович стал председателем комитета самой большой в мире Сибирской железной дороги, с его именем связано и строительство Китайско-Восточной железной дороги – легендарной КВЖД…
А начинались эти гигантские транспортные артерии, как мы видим, в уютной детской, в учебных комнатах, куда приходили на уроки к наследнику престола историк Василий Ключевский, композитор Цезарь Кюи, другие выдающиеся деятели русской культуры.
Нравственный путь, пройденный Николаем Александровичем от его юношеского романа с Матильдой Кшесинской до заточения в Ипатьевском доме, кажется, и не мог бы вместиться в обычную жизнь.
Это подвиг, доступный только Святому.
Но вместе с тем нравственная основа будущего пути была заложена в Николае II с детства вместе с трогательной любовью отца, который, презрев придворный этикет, тайком пробирался в детскую, чтобы приласкать мальчика, вместе с уроками Ключевского и Цезаря Кюи, вместе с музыкой Глинки, Чайковского и Мусоргского.
Ни родители, ни наставники не могли знать о том, что назначено ему, и все же – вот он Промысел Божий! – именно в детстве получил Николай глубокое религиозное воспитание.
Многие удивлялись, как прекрасно знает ребенок чин церковных служб и, обладая музыкальностью, умеет тактично и корректно подтягивать хору дворцовой церкви…
С ранних лет будущий император отличался самообладанием, терпимостью и чувством долга.
Да… Его успешно готовили к созидательной, на благо России деятельности монарха, но – увы! – другой Путь предназначено было пройти ему.
Григорий Распутин. Фото 1910-х гг.
Ходынка…
Кровавое воскресенье…
Поражение в войне с Японией…
Тяжелые неудачи Первой мировой войны…
Наконец, отречение, обернувшееся для страны немыслимой кровью…
9
Николай II не раз слышал рассказы отца Александра III, как шести лет от роду, 1 августа в 1851 года, стоял тот в форме рядового лейб-гвардии Павловского полка на часах у памятника Павлу I в Гатчине при его открытии…
Александр III полюбил Гатчинской дворец, где в неприкосновенности сохранялся кабинет Павла, где хранился портрет императора в облачении гроссмейстера Мальтийского ордена, где на отдельном столике лежало принадлежавшее Павлу Священное Писание.
Дворцовые слуги рассказывали, что император приходил сюда молиться. Александр часто думал о послании, которое прадед повелел прочесть через сто лет, но прочесть то письмо суждено было его сыну, ибо это ему и суждено было завершить династию…
Династия подходила к концу…
Из далекой Сибири пришел во дворец человек, назвавшийся старцем Григорием.
Это уже второй Григорий в династии Романовых…
Первый – Григорий Отрепьев – возник в самом начале династии… Дворовый человек бояр Романовых, он опрокинул державу в кровь и пожарища Смуты…
На том Григории кровь царских детей, сына и дочери Годуновых.
Новый Григорий не пускать кровь явился, а останавливать… Сколько раз он останавливал кровотечения у наследника, когда у врачей опускались руки… Но убивали Григория Распутина так же, как Отрепьева… Страшно и долго…
Глава восьмая Отречение
Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазнам: но горе тому, через кого они приходят.
Евангелие от Луки, 17:1Ранним утром 28 февраля 1917 года вышли из Могилева с часовым интервалом литерные поезда.
В первом помещалась свита императора, во втором – следовал сам Николай II и его личная охрана.
Перед отбытием из Ставки император беседовал с генералом Николаем Иудовичем Ивановым, отправляющимся с восьмью сотнями георгиевских кавалеров наводить порядок в Петрограде.
Напомним, что радикальные настроения давно захлестывали Государственную думу, и Александр Федорович Керенский еще 14 февраля 1917 года призвал не только свергнуть монархию, но и при необходимости физически устранить правящую династию.
Ответ Николая II был быстрым и жестким.
В ночь с 26 на 27 февраля 1917 года указом Николая II сессия Государственной думы была прервана, но все тот же Александр Федорович Керенский на Совете старейшин Думы 27 февраля призвал не подчиняться царской воле. Керенский утверждал, что на этом этапе революции авторитет Думы достиг наивысшей точки и её отказ созвать официальное заседание был бы равносилен политическому самоубийству…
Кроме того, начались волнения, связанные с временными перебоями в снабжении Петрограда хлебом, и самое главное – революционная агитация проникла в расквартированные в Петрограде запасные батальоны гвардейских полков.
Об этом и говорил император с генералом Ивановым.
Следовало навести порядок, прежде всего, в запасных батальонах, не желающих покидать «теплые казармы», и выделять маршевые роты на фронт, надо было лишить революционных смутьянов военной поддержки! Для этого и назначался Николай Иудович главнокомандующим войсками Петроградского военного округа с чрезвычайными полномочиями и с подчинением ему всех министров.
Беседа с генералом затянулась до трех часов ночи, и утром 28 февраля император встал в своем поезде только в десять часов утра.
Погода была морозная, солнечная.
Днём благополучно миновали Вязьму и Ржев, но когда 1 марта в два часа ночи царский поезд прибыл в Малую Вишеру, там всё еще стоял свитский поезд. Императору доложили, что Любань и Тосно заняты восставшими запасными ротами лейб-гвардии Литовского полка и дальше дороги нет – на путях завалы.
Решено было вернуться в Бологое, а затем через Старую Руссу, Дно и Вырицу следовать в Царское Село. Император вызвал председателя Государственной думы Владимира Михайловича Родзянко на станцию Дно.
Однако в Старой Руссе поступило сообщение о повреждении моста на Виндавской дороге, и литерные поезда пошли на Псков, чтобы выйти к Царскому Селу по Варшавской дороге через Лугу и Гатчину.
Было ли сообщение о поврежденных мостах дезинформацией, неведомо.
Но совершенно определенно известно, что решение императора вернуться с фронта в «революционный» Петроград вызвало настоящую панику среди заговорщиков.
1 марта на имя командующего Северным фронтом генерала Н.В. Рузского в 17 часов 15 минут пришла из Ставки телеграмма за подписью генерал-квартирмейстера Александра Сергеевича Лукомского, в которой содержалась просьба доложить государю о беспорядках в Кронштадте, восстании в Москве и признании Балтийским флотом Временного комитета Госдумы, а еще через полчаса помощник начальника штаба Ставки генерал Владислав Наполеонович Клембовский передал Николаю Владимировичу Рузскому просьбу генерала Алексеева и великого князя Сергея Михайловича убедить государя в необходимости образования ответственного министерства во главе с В.М. Родзянко.
Генерал Рузский, который тоже уже давно состоял в заговоре, сразу переехал на железнодорожный вокзал и разместился в стоящем на запасном пути штабном вагоне. На вокзале было выставлено оцепление.
В 20 часов 00 минут, когда литерный поезд «А» прибыл в Псков, его сразу загнали в глухой тупик на неосвещенные пристанционные пути…
1
То, что он оказался в ловушке, император понял, когда в 21.00 к нему явился главнокомандующий Северным фронтом Николай Владимирович Рузский.
Рузский держался нехорошо.
Он рассказывал о волнениях в Петрограде, об эшелонах генерала Иванова, которые задерживаются на станциях, говорил, что Гатчина и Луга тоже заняты восставшими, и все время отчаянно трусил.
Потом он ушел, а в 23.00 вернулся с проектом манифеста о создания министерства, ответственного перед верховной властью, и все тянул время, убеждая государя, что сейчас нельзя принимать жесткие меры к наведению порядка в восставшем Петрограде, ибо это может плохо отразиться и на порядке на железных дорогах, а также на семье государя, которая сейчас, возможно, находится в руках восставших.
Николай Владимирович Рузский действительно не слишком-то и преувеличивал опасность, в которой находилась тогда Царская Семья.
«Никогда не забуду ночи, когда немногие верные полки (Конвой Его Величества, Гвардейский Экипаж и Артиллерия) окружили дворец, т. к. бунтующие солдаты с пулеметами, грозя все разнести, толпами шли по улицам ко Дворцу, – вспоминала эти дни фрейлина Анна Вырубова. – Императрица вечером сидела у моей постели. Тихонько завернувшись в белый платок, она вышла с Марией Николаевной к полкам, которые уже готовились покинуть дворец, и, может быть, и они ушли бы в эту ночь, если бы не Государыня и ее храбрая дочка, которые со спокойствием до 12 часов обходили солдат, ободряя их словами и лаской».
1 марта великий князь Кирилл Владимирович увел эти полки.
«Караулы ушли… – свидетельствует Вырубова. – По дворцу бродили кучки революционных солдат, которые с интересом все рассматривали, спрашивая у оставшихся слуг объяснения. Особенно их интересовал Алексей Николаевич. Они ворвались к нему в игральную, прося, чтобы им его показали».
Разумеется, Николай Владимирович Рузский не знал всех деталей, но в целом рисовал реальную картину происходящего в Царском Селе.
Государь не перебивал генерала. Молча, он слушал человека, которого еще вчера и заподозрить не мог в предательстве, и глаза его тускнели.
В ночь на 2 марта в 0 часов 20 минут в Царское Село ушла на имя генерала Н.И. Иванова телеграмма с приказом Николая II: «До моего приезда и доклада мне никаких мер не принимать».
Вырвав у императора эти гарантии безопасности[202], Рузский помчался докладывать о своем успехе председателю Государственной думы В.М. Родзянко.
Может быть, тогда, после его ухода, и записал император в «Дневнике»:
«Стыд и позор! Доехать до Царского не удалось. А мысли и чувства всё время там! Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события! Помоги нам Господь!»
А тем временем в 3 часа 30 минут начались переговоры, которые вели генерал Рузский и председатель Государственной думы Родзянко.
Лента переговоров сразу же передавалась в Ставку, и запись этих переговоров сохранилась.
Когда выяснилось, что верные государю георгиевские кавалеры не появятся в Петрограде, Владимир Михайлович Родзянко заявил, что ехать в Псков он не собирается.
Генерал Рузский попытался выяснить причину и сообщил о возможности создания министерства, ответственного перед верховной властью.
«Очевидно, что Его Величество и вы не отдаете себе отчета в том, что здесь происходит, – надменно ответил Родзянко. – Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так легко. Манифест запоздал, ночью 2 марта я вынужден был сам назначить Временное правительство».
На вопрос Рузского о судьбе династии Родзянко ответил:
«Грозные требования отречения в пользу сына, при регентстве Михаила Александровича, становятся определенным требованием!»
Изоляция государя в Пскове…
Остановка войск, которые могли пресечь мятеж…
Заговорщики переступили рубеж, за которым измену уже нельзя списать ни на обстоятельства, ни на растерянность. Они сбросили маски и открыто играли теперь на опережение.
Когда Николай II, примирившись с мыслью о даровании ответственного министерства, разрешил объявить манифест об образовании его, было уже поздно. Заговорщики требовали теперь отречения государя.
Около 10 часов утра Николай Владимирович Рузский сообщил Николаю II о результатах переговоров с В.М. Родзянко.
Император лично прочитал телеграфные ленты переговоров.
– Я считаю, Ваше Величество, – сказал Рузский, – что нужно идти на все уступки и сдаваться на милость победителя. Надо давать полную конституцию, иначе анархия будет расти и Россия погибнет!
2
Близкие к императору люди замечали, что под влиянием гнева или каких-то сильных переживаний задумчивые, серо-голубые глаза его выцветают, тускнеют, расширяются, становятся неподвижными. В такие минуты казалось, что, заглядывая в них, заглядываешь в леденящий, бесконечный холод вечности…
Еще невольному свидетелю казалось в эти мгновения, что сам император ничего не чувствует, ничего не замечает.
Именно таким увидел государя 2 марта 1917 года вошедший без доклада в его вагон дворцовый комендант Владимир Николаевич Воейков.
– Неужели верно то, что Ваше Величество подписали отречение? – спросил он.
Вместо ответа император протянул пачку телеграмм.
«Прошу вас доложить Государю Императору мою всеподданнейшую просьбу, основанную на моей преданности и любви к Родине и Царскому престолу, что в данную минуту единственный исход, могущий спасти положение и дать возможность дальше бороться с внешним врагом, без чего Россия пропадет, отказаться от Престола в пользу Государя Наследника цесаревича при регентстве Великого Князя Михаила Александровича. Другого исхода нет»…
Не дочитав телеграмму генерал-адъютанта Брусилова, Воейков перевернул ее. Следующая телеграмма была от генерал-адъютанта Эверта:
«Средств прекратить революцию в столицах нет никаких.
Необходимо немедленное решение, которое могло бы привести к прекращению беспорядков и сохранению армии для борьбы против врага.
При создавшейся обстановке, не находя иного исхода, безгранично преданный Вашему Величеству верноподданный умоляет Ваше Величество во имя спасения Родины и Династии принять решение, согласованное с заявлением председателя Государственной Думы, выраженным им генерал-адъютанту Рузскому, как единственно, видимо, способное прекратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии».
Телеграммы прислали командующие фронтами и флотами…
«Всеподданнейше присоединяюсь к ходатайствам Главнокомандующих фронтами о немедленном принятии решения, сформулированного председателем Государственной Думы. Если решение не будет принято в течение ближайших часов, то это повлечет катастрофу с неисчислимыми бедствиями для нашей Родины.
Вице-адмирал Непенин».
«Войну можно продолжать лишь при исполнении предъявленных требований относительно отречения от Престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича…
Генерал-адъютант Алексеев».
Тут же находилась телеграмма и от великого князя Николая Николаевича:
«Генерал-адъютант Алексеев сообщает мне создавшуюся небывало роковую обстановку и просит меня поддержать его мнение, что победоносный конец войны, столь необходимый для блага и будущности России и спасения Династии, вызывает принятие сверхмеры.
Я, как верноподданный, считаю по долгу присяги и по духу присяги необходимым коленопреклоненно молить Ваше Императорское Высочество спасти Россию и Вашего Наследника, зная чувство святой любви Вашей к России и к Нему.
Осеня Себя крестным знамением, передайте Ему – Ваше наследие. Другого выхода нет.
Как никогда в жизни, с особо горячей молитвой, молю Бога подкрепить и направить Вас.
Генерал-адъютант Николай».
– Даже он! – проговорил Николай II и впервые голос его дрогнул.
Отпустив Владимира Николаевича Воейкова, он пригласил к себе лейб-хирурга профессора Сергея Петровича Федорова и попросил откровенно рассказать о состоянии здоровья наследника.
– Боюсь, что он проживет лет до шестнадцати, не больше! – помявшись, ответил Федоров.
– До шестнадцати… – повторил Николай.
Потом он сказал, что хотел бы теперь пожить в России простым обывателем. Воспитывать сына…
– Едва ли малолетнему царю, Ваше Величество, разрешат остаться с отцом… – возразил Сергей Петрович.
– Да! – кивнул Николай II. – Наверное, вы правы…
Император произносил слова, которые запомнились его собеседникам, но слова эти ничего не значили, потому что государь, разговаривая с ними, думал о другом.
Можно предположить, что в эти томительные часы, проведенные в псковском тупике, вспоминал он, как шестнадцать лет назад ездил с императрицей Александрой Федоровной в Гатчинский дворец, где хранился пакет с пророчествами монаха Авеля, заточенного Екатериной II в Шлиссельбургской крепости…
Его пророческое предсказание «о судьбах державы Российской» и царской династии было вложено императором Павлом в конверт с наложением личной печати и собственноручной надписью.
Еще утром, собираясь в Царском Селе, царская чета относилась к предстоящей поездке в Гатчину как к праздничной прогулке, обещавшей доставить незаурядное развлечение.
И вот, отслужив панихиду, вошли в небольшую залу, посередине которой на пьедестале стоял узорчатый ларец с затейливыми украшениями. Вокруг ларца на четырех столбиках, на кольцах, был протянут толстый красный шелковый шнур, сам ларец был заперт на ключ и опечатан.
Николай II открыл ларец и вынул пакет…
«Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины»… – было написано на нем рукою императора Павла.
Веселым вошел император в Гатчинский дворец 11 марта 1901 года, а вышел удрученным.
Точного содержания предсказания никто так и не узнал, но после этой поездки Николай II стал поминать о 1918 годе как о роковом годе и для него лично, и для династии…
Конечно, это только наши предположения, о чем думал последний российский император в своем поезде, загнанном в псковский тупик.
Но ведь, с другой стороны, и не думать об этом он не мог!
3
Часто приходится слышать адресуемый государю упрек: дескать, если бы он был более решительным и смелым, он мог бы взять войска, сохранившие верность присяге, и разогнать смутьянов и бунтовщиков, как это сделали бы, к примеру, Наполеон или Николай I.
Нет, не мог!
И никто другой, даже и похожий на Наполеона или Николая I, не мог бы ничего сделать, находясь на его месте.
Сличая свидетельства участников мартовских событий, пробираясь сквозь пустоту умолчаний и нагромождения лжи, каждый раз приходишь к выводу, что императором Николаем II было сделано всё возможное и невозможное, чтобы спасти и страну, и династию, и самого себя.
Ложь, будто он был мягким и бездеятельным.
Да, страна не вполне оказалась готовой к войне, которую она должна была вести, и был момент, когда стало не хватать боеприпасов и оружия для этой небывалой прежде войны, но Николай II сумел сделать невероятное – в условиях войны он перестроил военную промышленность России, и к 1917 году у русской армии было довольно всего, чтобы воевать дальше.
При этом – такое редко случалось в российской истории! – за два с половиной года кровопролитнейшей войны, где победы чередовались с серьезными поражениями, война не коснулась непосредственно российских территорий. Фантастично, но Россия – это единственная страна, которая и во время войны не вводила продуктовых карточек и практически не ограничивала деятельность прессы и других демократических институтов.
В 1917 году Россия была обречена на победу.
Хорошо сказал об этом Павел Николаевич Милюков, один из главных заговорщиков. Вспоминая мартовские события сразу после Октябрьского переворота, он признался:
«Того, что случилось, мы не хотели. Вы знаете, что цель наша ограничивалась достижением республики или же монархии с императором, имеющим лишь номинальную власть; преобладающего в стране влияния интеллигенции и равные права евреев.
Полной разрухи мы не хотели, хотя и знали, что на войне переворот во всяком случае отразится неблагоприятно. Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета министров, что временную разруху в армии и стране мы остановим быстро и если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, заплатив за свержение царя некоторой отсрочкой этой победы…
Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля (имеется в виду апрель 1917 года. – Н.К.) или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования»[203].
Это поразительное признание.
Ради «преобладающего в стране влияния интеллигенции и равных прав евреев» – таких целей, кажется, не ставила больше ни одна революция в мире! – разрушается огромная страна вместе со всей ее интеллигенцией.
И конечно, об этом тоже нужно помнить, размышляя о том, что было сделано императором для спасения страны и что не было сделано.
Повторим, что никакого бездействия со стороны Николая II не наблюдалось. Он делал все, чтобы спасти и страну, и династию. Приостановил заседания Думы, послал войска на усмирение волнений.
Но все это ничего не давало.
Приказы императора искажались и не выполнялись.
Императора Николая II во второй половине февраля 1917 года можно было уподобить взрослому человеку, увидевшему детей, играющих со спичками возле бочек с порохом. И увещеваний этих до невменяемости расшалившиеся дети не слышат, и силой отбирать спички рискованно, дети грозятся зажечь их.
А те люди, которых он посылал, чтобы отобрать спички, сами начинали разводить костерки, требуя, чтобы он ушел.
Поезд, где Николай II подписал отречение. Фото 1917 г.
Конечно, это был заговор, конечно, это была измена, но это было еще и помрачение.
Ведь человек, вступивший в заговор и задумавший измену, всегда предполагает получить выгоду от своего предательства, но какую выгоду от «преобладающего в стране влияния интеллигенции и равных прав евреев» мог получить великий князь Николай Николаевич или генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев?
Ну, ладно великий князь…
Он не случайно заслужил прозвище Лукавый. Его честолюбие и жажда власти действительно не имели границ.
Но генералы!
Ведь все они – и генерал от инфантерии Владислав Наполеонович Клембовский, и главнокомандующий Северным фронтом генерал Николай Владимирович Рузский – считали себя – вот уж поразительная гибкость психики! – убежденными монархистами и, конечно же, только в полном помрачении могли делать то, что они делали.
Забегая вперед, скажем, что эти генералы ненамного переживут преданного ими императора.
Уже 25 марта 1917 года Николай Владимирович Рузский будет отставлен друзьями-заговорщиками с поста главнокомандующего фронтом и уедет в Кисловодск, где 1 ноября 1918 года его выведут на Пятигорское кладбище, а председатель Северо-Кавказской ЧК товарищ Георгий Александрович Атарбеков (Атарбекян), как простому барану, перережет ему кинжалом горло. А за три недели до этого, 8 октября 1918 года, задохнется в тифозном бреду другой борец за «преобладающее в стране влияние интеллигенции и равные права евреев», член масонской «Военной ложи» генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев…
Зато бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии Владислав Наполеонович Клембовский, инструктировавший генерала Рузского, как ему следует поступить с государем в Пскове, переживет их и умрет в московской тюрьме только в 1921 году.
Но 2 марта 1917 года ни Николай Владимирович Рузский, ни Михаил Васильевич Алексеев, ни Владислав Наполеонович Клембовский еще ничего не знали о судьбе, которую они выбрали для себя. В этот страшный для России вечер заговорщики не скрывали своего торжества.
4
Ничего не происходит в мире вопреки воле Божией, и гибель Романовской династии тоже должна иметь духовное объяснение.
В трехсотлетней темноте корней династии и самозванец Гришка Отрепьев, человек Дома Романовых, и патриарх Филарет, принявший в 1605 году из рук своего дворового человека митрополичий сан. Напомним, что после гибели Отрепьева митрополит Филарет сам участвовал в прославлении мощей подлинного царевича Дмитрия, но это не помешало ему через три года принять патриаршее достоинство из рук второго самозванца, еврея Богданко.
При внуке Филарета – царе Алексее Михайловиче произошел церковный раскол. Инициированные якобы политической целесообразностью – шло объединение России с Украиной – церковные Соборы второй половины XVII века унифицировали церковный обряд. Древний Студийский устав, по которому жила все предыдущие века Русская Православная Церковь, был признан порождением невежества и объявлен не вполне православным. И косвенным, и самым прямым образом обвинения в «неполной» православности коснулись и всего Собора русских святых, тоже живших якобы «не вполне православно».
Последствия тех церковных Соборов – а решения их были отменены только постановлением Собора 1971 года! – оказались катастрофическими для Святой Руси. Подобного вреда России не могло нанести никакое открытое чужеземное вторжение.
После расправы с соловецкими иноками Алексей Михайлович прожил шесть дней. Гонения на раскольников продолжил его сын Федор, который умер через две недели – он был вдвое моложе отца! – после сожжения пустозерских узников. Начатую реформу пришлось завершать другому сыну Алексея Михайловича – Петру I.
Разумеется, Петру I и его преемникам удалось достигнуть грандиозных успехов в военном и государственном строительстве. Весь вопрос в цене, которой были оплачены эти успехи. Русским трудом и русской кровью воздвигалась могущественнейшая империя, чтобы основная часть населения, сами русские, находились в рабстве в своей собственной стране.
И конечно же, именно тогда и был нанесен сокрушительный удар по национальному самосознанию. Порабощение и унижение Русской Православной Церкви; жесточайшие расправы над всеми, кто выказывал малейшее уважение к русской старине; упорное преследование русской одежды; окончательное закрепощение русских крестьян – это тоже Петр I. А в противовес – неумеренное, незаслуженное возвышение иноплеменников, хлынувших со всех сторон в Россию, обезьянье копирование заграничных манер и обычаев…
Все это привело к тому, что в общественном сознании укрепилась мысль о предпочтительности всего иностранного, о бесконечной и дремучей отсталости всего русского. Быть русским стало не только невыгодно, но как бы и не совсем культурно…
Текст отречения Николая II от престола. 1917 г.
Трудно назвать случайностью совпадение смертей Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича с казнями соловецких и пустозерских староверов, произведенных этими царями…
Но череда совпадений тут не заканчивается.
Введение Единоверия, снявшего запрет на употребление старых обрядов (этого и добивались соловецкие иноки), совпадает по времени (правление императора Павла) с прекращением вакханалии дворцовых переворотов…
Понимали ли сами Романовы мистическую, роковую зависимость династии от преступлений, совершенных против православия, Алексеем Михайловичем, Петром I и их преемниками?
Несомненно…
Императору Павлу, его сыну Николаю I, его внукам и правнукам пришлось употребить воистину героические усилия, чтобы вернуть страну на естественный путь развития, чтобы неограниченное своевольное самодержавие Петра I и его преемников ввести в рамки монаршего служения Богу и народу. Однако исправить просчеты имперского проекта Павловичи-императоры, хотя все они и заплатили своими жизнями за это, не успели. И не могли успеть, потому что и сами, и все ближайшее окружение, и дворянство, на которое они продолжали опираться, и были продуктами этих просчетов.
И кровью своей, и образованием, и привычками они были связаны с теми силами, которые мешали России вернуться на ее русский путь…
Только последние русские императоры Александр III и Николай II сумели, кажется, понять, что исправление ошибок государственного устройства империи следует начинать с самого себя, чтобы снова, как во времена Святой Руси, совпадали пути спасения и устроения русским человеком своей души с путями спасения и устроения государства.
За это вместе с патриотическими движениями и был предан Николай II и «передовой», либеральной интеллигенцией, и аристократией, и высшим командованием армии, за это и предстояло ему принять мученическую кончину.
Кажется, единственному из Романовых-императоров Николаю II удалось подчинить свою личную жизнь нормам православной морали, и вот оно чудо! – единственному предстояло ему войти в сонм благоверных князей.
У истока династии, прошедшей путь от Ипатьевского монастыря до подвала дома Ипатьева в Екатеринбурге, стоял патриарх Филарет – отец царя Михаила Федоровича.
Внуком патриарха Филарета был изгнан патриарх Никон.
Правнуком отменено патриаршество вообще.
Николай II думал о восстановлении патриаршества, но – такова видно была Господня воля – совершится это должно было после окончательного уничтожения династии, родоначальник которой принял патриарший чин из рук самозванца.
Так и случилось…
Святителя Тихона избрали уже после отречения Романовых от престола.
Николай II не мог знать этого 2 марта 1917 года, подписывая отречение, но похоже, что он знал всё, чему назначено случиться…
Да и не мог же Николай II не вспоминать в эти дни и о том, что династия Рюриков, более шестисот лет правившая Русью, завершилась убиением святого благоверного царевича Дмитрия…
Годуновы правили всего семь лет, но и их династия завершилась зверским убийством пятнадцатилетнего царя Федора II Борисовича Годунова, составившего первую карту русских земель.
А сами Романовы…
Ветвь царя Ивана Алексеевича, правившего вместе с Петром I, завершается убийством в Шлиссельбурге императора Иоанна Антоновича, всю свою жизнь с самого раннего младенчества безвинно просидевшего в тюрьмах…
5
Весь этот день в Пскове прошел в ожидании делегации Думы – Александра Ивановича Тучкова и Василия Витальевича Шульгина, – но они прибыли только в десятом часу вечера.
На Владимира Николаевича Воейкова, встречавшего гостей, делегаты произвели впечатление людей немытых и небритых. Крахмальное белье их было словно бы специально, чтобы понравиться сопровождавшим их рабочим и солдатам, испачкано.
Находящаяся на станции публика начала кричать делегатам «ура!».
– Какая неуместная выходка! – возмущенно сказал Воейков, но комендант Пскова генерал-лейтенант Ушаков произнес с самодовольной улыбкой:
– Нужно-с привыкать… Теперь другие времена настали-с.
Николай II принял делегатов в салоне.
Внимательно выслушав доклад А.И. Гучкова о положении в столице, он спросил, что Дума считает сейчас желательным.
– Отречение Вашего Императорского Величества от Престола в пользу Наследника цесаревича Алексея Николаевича! – ответил Гучков.
– Александр Иванович! – встрял тут в разговор Рузский. – Это уже сделано.
Николай II словно и не слушал их.
– Считаете ли вы, что своим отречением я внесу успокоение? – спросил он у делегатов.
Получив утвердительный ответ, государь сказал:
– В три часа дня я принял решение отречься от Престола в пользу моего сына, Алексея Николаевича, но теперь, подумав, пришел к заключению, что я с ним расстаться не могу, и передаю Престол брату моему – Михаилу Александровичу.
– Но мы к этому вопросу не подготовлены! – воскликнул Гучков. – Разрешите нам подумать.
– Думайте! – сказал император и вышел из салона…
Через полчаса он передал депутатам текст телеграммы, которую следовало отправить в Ставку, начальнику штаба генералу Алексееву.
«…В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственною думою признали Мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя Верховную власть.
Не желая расставаться с любимым Сыном Нашим, Мы даем Наследие Наше брату Нашему великому Князю Михаилу Александровичу, благословляя его на вступление на Престол Государства Российского.
Заповедаем брату нашему править делами государственными в полном и нерушимом единении с представителями в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую присягу горячо любимой Родине».
Ночью 3 марта царский поезд наконец-то выбрался из тупика, куда загнали его по приказу генерала Рузского.
Николай II прошел в кабинет и, усевшись за письменный стол, раскрыл свой дневник.
Поезд уже набрал скорость, и вагон чуть пошатывало.
В этом пошатывающемся вагоне и описал последний русский император события последнего дня царствования своего и всей династии Романовых…
«2 марта 1917 г. Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 21/2 ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста.
Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого.
Кругом измена и трусость и обман!»
Удивительно точно перекликаются эти слова с молитвой святого праведного Иоанна Кронштадтского, составленной Всероссийским батюшкой вскоре после совершенного на него покушения:
«Господи, спаси народ Русский, Церковь Православную, в России погибающую: всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие! Господи, спаси Самодержца и умудри его! Господи, все в Твоих руках, Ты – Вседержитель»…
Вот и в дневнике Николая II возникает это возносимое к Богу моление, но захлебывается в тяжком воздухе всеобщего предательства и измены, ибо моление это государю можно вознести только тем мученическим подвигом, который еще предстоит совершить ему.
Странное ощущение испытывает человек, взявшийся за чтение дневника последнего императора и обнаруживший, что в основном здесь – записи о внутрисемейных событиях, а о делах государственных говорится вскользь, сухо, только записываются для памяти лишь имена наиболее важных собеседников…
И лишь постепенно, иногда многие годы спустя, понимаешь, что государь и не мог вести свой дневник иначе. Ведь Николай II управлял страной не по собственному своеволию, а по Закону, так как было необходимо, так как и должен управлять настоящий государь!
Он и в дневнике своем являет нам пример величайшего самообладания и собранности. При всем старании не обнаружить тут никакой рефлексии, ничего суетного, ничего не достойного высокого царского служения.
Он таким и был.
И даже во время отречения он оставался великим государем великой державы и вел себя, как и должен вести государь. Кругом обнаружились измена и трусость и обман, но этим и ограничивалось возмущение, больше никакой рефлексии, почти никаких эмоций…
Путь царского поезда лежал через Двинск назад в Могилев.
Наступало 3 марта 1917 года.
В этот день – «вплоть до Всероссийского учредительного собрания» – отрекся от престола великий князь Михаил Романов.
«Миша отрекся, – записал в дневнике Николай II. – Его манифест кончается четыреххвосткой для выборов через шесть месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!»
Это, кажется, самое сильное выражение в дневнике императора.
Завершалось по глупости и своеволию великосветского общества правление династии Романовых в России, и впервые преданный государь не сумел справиться с эмоциями…
Николай Романов – так теперь звали бывшего государя! – не знал, что в этот день, 2 марта 1917 года, явилась в селе Коломенском под Москвой икона Божией Матери «Державная».
Икону эту – Царица Небесная была изображена на ней как Царица земная – увидела во сне крестьянка Евдокия Андрианова. Она разыскала церковь, в которой никогда не бывала раньше, и рассказала настоятелю отцу Николаю о своем сне. Так и была обретена эта икона. Ее нашли в подвале церкви, и была она совершенно черной, но когда икону внесли в церковь и промыли от многолетней пыли, все увидели Царицу Небесную, в Царской короне, Богоматерь держала в руках скипетр и державу, а Богомладенец благословлял народ…
Говорят, что в истории нет сослагательного наклонения…
Это, разумеется, верно, но верно только в узком смысле.
Если же историю рассматривать не только как цепь поступков и деяний, порождаемых своеволием и гордыней отдельных личностей, но попытаться прозреть духовный смысл ее, то окажется, что вся история – это история вразумления народов, не желающих слышать и видеть то, что открывает им Господь; что это история неизбежного возвращения народов к тем ситуациям и проблемам, от решения которых эти народы малодушно уклонились.
И не важно, сколько прошло лет или столетий.
Завершая династию, основатели которой непосредственно участвовали в раздувании Смуты, династии, многим обязанной самозванцам, Николай II пошел по пути страстотерпца Бориса, который, командуя дружиной своего отца, равноапостольного князя Владимира, несмотря на очевидное превосходство в силе, отказался от войны за великокняжеский престол с братом Святополком, пожертвовал собою ради предотвращения разорительной для страны междоусобной войны.
Предательству аристократии, военачальников, министров и интеллигенции Николай II мог противопоставить только народ, призвав его защитить своего самодержца. Но даже если бы и услышан был его призыв? Чем, кроме моря крови, могла обернуться эта война?
Конечно, как справедливо отмечал Иван Александрович Ильин, Николай II, стремясь избежать гражданской войны, согласился на отречение, и в результате народ вел гражданскую войну без государя и не за государя…
Понимал ли это последний русский император?
Как свидетельствуют записи в его дневнике и свидетельства близких, понимал.
Но ведь понимал он и то, что, хотя жертва страстотерпцев Бориса и Глеба не предотвратила междоусобной войны на Руси, эта жертва предотвратила нечто большее, чем война, – Божий Гнев!
Николай II понимал, что его ждет. И от этой страшной участи он не пытался скрыться.
Он только молился.
И за себя, и за свою семью, и за Россию.
Хладнокровие Николая II, проявленное им в дни отречения, так резко контрастирует с беснованием уличных митингов и думских совещаний, с помрачением штабов и министерств, что кажется, будто речь идет о событиях, разделенных целыми эпохами.
Это так и было…
Император жил как бы в другом измерении, и проникнуть туда не помогала ни знатность, ни богатство, ни интриги.
6
Надо сказать, что, в отличие от других деятелей революции, Александр Федорович Керенский своего членства в масонской ложе никогда не скрывал:
«Предложение о вступлении в масоны я получил в 1912 году, сразу же после избрания в IV Думу. После серьезных размышлений я пришел к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял это предложение. Следует подчеркнуть, что общество, в которое я вступил, было не совсем обычной масонской организацией… Не велись никакие письменные отчеты, не составлялись списки членов ложи. Такое поддержание секретности не приводило к утечке информации о целях и структуре общества…
Основу нашего общества составляла местная ложа. Высший совет ордена имел право создавать специальные ложи помимо территориальных. Так, была ложа в Думе, другая – для писателей и так далее. При создании каждая ложа получала полную автономию… На ежегодных съездах делегаты от лож обсуждали проделанную работу и проводили выборы в Высший совет. На этих же съездах генеральный секретарь от имени Высшего совета представлял на рассмотрение делегатов доклад о достигнутых успехах с оценкой политического положения и программой действий на предстоящий год. Порой на съездах между членами одной и той же партии происходили острые столкновения мнений по таким жизненно важным проблемам, как национальный вопрос, формирование правительства, аграрная реформа. Но мы никогда не допускали, чтобы эти разногласия наносили ущерб нашей солидарности.
Такой внепартийный подход позволил достичь замечательных результатов, наиболее важный из которых – создание программы будущей демократии в России, которая в значительной степени была воплощена в жизнь Временным правительством. Бытует миф, который всячески распространяли противники Временного правительства, о том, будто некая мистическая тройка масонов (имеются в виду А.Ф. Керенский, Н.В. Некрасов и М.И. Терещенко. – Н.К.) навязала правительству, вопреки общественному мнению, свою программу. В действительности же положение в России и насущные нужды нашей страны обсуждались на съездах масонов людьми, которые вовсе не пытались навязать друг другу свои политические программы, а руководились лишь своей совестью в стремлении найти наилучшие решения. Мы ощущали пульс национальной (какой нации? – Н.К.) жизни и всегда стремились воплотить в нашей работе чаяния народа (какого народа? – Н.К.)»[204].
В 1913 году, сразу же после вступления в масонскую ложу, Керенскому было предложено первое испытание.
В Киевском окружном суде рассматривалось тогда дело о ритуальном убийстве евреем хасидом Менделем Бейлисом ученика Киево-Софийского духовного училища Андрюши Ющинского. Все силы прогрессивно-либеральной общественности были брошены на оправдание Менделя Бейлиса, и Александр Федорович, нарушая мыслимые и немыслимые нравственные и юридические нормы и правила, сумел провести на коллегии адвокатов Санкт-Петербурга резолюцию, которая гласила:
«Пленарное заседание членов коллегии адвокатов Санкт-Петербурга считает своим профессиональным и гражданским долгом поднять голос протеста против нарушений основ правосудия, выразившихся в фабрикации процесса Бейлиса, против клеветнических нападок на еврейский народ, проводимых в рамках правопорядка и вызывающих осуждение всего цивилизованного общества, а также против возложения на суд чуждых ему задач, а именно сеять семена расовой ненависти и межнациональной вражды. Такое грубое попрание основ человеческого сообщества унижает и бесчестит Россию в глазах всего мира. И мы поднимаем наш голос в защиту чести и достоинства России».
Вердикт присяжных, вынесенный спустя пять дней после публикации этого демагогического заявления, гласил, что суду удалось доказать ритуальный характер убийства.
«12-го марта 1911 года в Киеве, на Лукьяновке, по Верхне-Юрковской улице, в одном из помещений кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице и находящегося в заведывании купца Марка Иоанова Зайцева, тринадцатилетнему мальчику Андрею Ющинскому при зажатом рте были нанесены колющим орудием… раны… а затем когда у Ющинского вытекла кровь в количестве 5-ти стаканов, ему вновь были причинены таким же орудием раны в туловище… каковые… вызвав мучительные страдания у Ющинского, повлекли за собой почти полное обезкровление тела и смерть его».
Но вот по второму вопросу: виновен ли в совершении этого преступления Менахиль Мендель Тевиев Бейлис, мнения разделились. Шестеро присяжных признали виновность Бейлиса, шестеро не были убеждены в ней, и в результате Бейлис оказался признанным невиновным.
Насколько подорвало решительность шестерых присяжных заявление петербургских адвокатов, судить трудно, но карьера Александра Федоровича Керенского после этого сразу круто пошла вверх. Тогда-то и взошла на общественно-политическом небосклоне России его звезда.
И вот теперь ему предстояло выдержать следующий экзамен.
Надо было по-масонски, то бишь по «своей совести», решить вопрос с Николаем II и его семьей…
Отметим, что у Александра Федоровича с Царской Семьей были свои счеты.
14 февраля 1917 года в своей речи в стенах Государственной думы А.Ф. Керенский открыто призвал не только свергнуть монархию, но и при необходимости физически устранить правящую династию. За всю историю парламентской монархии в России никто еще не позволял себе заявлять такое по отношению к правящей династии с думской трибуны, и императрица Александра Фёдоровна, со свойственной ей прямотой, пообещала повесить Керенского на самом высоком суку в царскосельском парке.
7
Сейчас написано великое множество работ, посвященных трагедии Царской Семьи, но по-прежнему основной акцент переносится на екатеринбургский финал. И как-то упускается при этом, что сама трагедия началась уже в первых числах марта 1917 года, как-то смазывается и ускользает та очевидная мысль, что без хлопот Александра Федоровича Керенского и не было бы екатеринбургского ужаса.
Как известно, 4 марта генерал М.В. Алексеев связался из Ставки по прямой линии с князем Георгием Евгеньевичем Львовым – А.Ф. Керенский сам пишет об этом в мемуарах «Россия на историческом повороте» – и сообщил, что Николай II передал ему листок бумаги с текстом своего послания. В нем изложена просьба: разрешить ему и его свите беспрепятственный проезд в Царское Село для воссоединения с больными членами семьи. Во-вторых, бывший император просил гарантировать безопасность временного пребывания в Царском Селе вплоть до выздоровления детей, а в-третьих, гарантировать беспрепятственный переезд в Романов (Мурманск). Четвертая просьба касалась разрешения вернуться после войны в Россию и поселиться в Крымской Ливадии для постоянного проживания, но ее по телефону генерал Алексеев озвучивать не стал.
Как писал сам Керенский, «документ этот открывал дорогу к разрешению нашей проблемы». Но так он писал в мемуарах, выпущенных в Лондоне много лет спустя, а в 1917 году им было сделано всё, чтобы не допустить мирного разрешения «проблемы».
В тот же день, когда бывший император обратился к князю Львову с письмом, отдававшим «Себя и Свою Семью под покровительство Временного правительства»[205], была учреждена Верховная чрезвычайная следственная комиссия, которая должна была обследовать также и деятельность Николая II и Александры Федоровны на предмет вреда, нанесенного интересам страны. Ну а для того, чтобы комиссия могла успешно выполнить свои обязанности, Керенский потребовал принять к императорской семье меры пресечения.
7 марта Николай II и Александра Федоровна были лишены свободы, и Царская Семья оказалась полностью в руках главного борца за права евреев.
И ведь как вовремя ухватил Александр Федорович царскую чету!
6 марта Павел Николаевич Милюков встречался с послом Великобритании сэром Джорджем Бьюкененом, чтобы выяснить позицию британского правительства, и 10 марта Бьюкенен сообщил, что британское правительство положительно относится к идее переезда Царской Семьи в Англию.
Но теперь – следствие началось! – с переездом в Англию следовало погодить.
А там – хотя в ходе работы комиссией был собран огромный материал, но никаких противозаконных действий со стороны Николая II и Александры Федоровны, как, впрочем, и других высших должностных лиц империи, обнаружить не удалось! – 10 апреля 1917 года король Георг V (кстати, он был двоюродным братом Николая II) дал указание своему секретарю лорду Станфордхэму предложить премьер-министру, «учитывая очевидное негативное отношение общественности, информировать русское правительство о том, что правительство Его Величества вынуждено взять обратно данное им ранее согласие».
Без хлопот астральных медведей тут явно не обошлось, и мы так уверенно говорим о масонской составляющей этого решения, потому что Николай II, будучи полковником Русской армии, носил еще чин английского фельдмаршала и за три года войны сделал так много для союзнических войск, что достаточно было нескольких статеек в газетах, чтобы простые англичане с цветами встретили его в Лондоне.
Но другое дело – «общественность».
Против «общественности» не попрешь! Хоть, наверное, и поглавнее, чем в «Малой медведице», имелись в Лондоне масоны, но хозяева-то у тех и других были одни, и их надобно было слушаться…
Забегая вперед, скажем, что и авторство плана отправить Царскую Семью в Сибирь тоже целиком принадлежит Александру Федоровичу Керенскому.
– Было решено изыскать для переселения Царской Семьи какое-либо другое место, и все разрешение этого вопроса целиком было поручено мне, – объяснял А.Ф. Керенский на допросе у Н.А. Соколова в Париже. – Я стал выяснять эту возможность. Предполагал я увезти их куда-нибудь в центр России, останавливаясь на имениях Михаила Александровича и Николая Михайловича. Выяснилась абсолютная невозможность сделать это. Просто немыслим был сам факт перевоза Царя в эти места через рабоче-крестьянскую Россию. Немыслимо было увезти Их и на юг. Там уже проживали некоторые из Великих Князей и Мария Федоровна и по этому поводу там уже шли недоразумения. В конце концов, я остановился на Тобольске. Отдаленность Тобольска и его особое географическое положение, ввиду его удаленности от центра, не позволяло думать, что там возможны будут какие-либо стихийные эксцессы. Я, кроме того, знал, что там удобный губернаторский дом. На нем я и остановился…
Эти показания Керенского относятся к 1920 году, когда многие эмигранты позабыли уже, что это они и предали государя, и начинали вновь ощущать себя монархистами. При таком настроении общественности суровая масонская правда 1917 года становилась опасной для здоровья, вот и приходилось Александру Федоровичу выкручиваться.
Но выкрутиться не удавалось…
Как-то очень дико звучали слова Керенского насчет удобного дома в Тобольске. Уж чего-чего, а подходящий дом – война пока никак не задела российские земли – можно было найти и в других русских городах.
Еще нелепее звучали объяснения насчет безопасности пути…
«Я не могу понять, почему везти Царя из Царского куда-либо, кроме Тобольска, означало везти его через рабоче-крестьянскую Россию, – резонно заметил по этому поводу следователь Н.А. Соколов, – а в Тобольск – не через рабоче-крестьянскую Россию»[206].
Император Николай II в Царском Селе после отречения. Фото 1917 г.
Это действительно понять невозможно, но можно понять, почему говорил так Александр Федорович. Увозили Царскую Семью в самую российскую глубь, конечно же, для того, чтобы им невозможно было выбраться оттуда, а во-вторых, для того, чтобы не нести никакой ответственности, если и случится там с ними что-то нехорошее. Ну, понятно, что наказали бы кого-нибудь из охраны, но с непосредственных министров Временного правительства какой спрос? Как доглядишь, как примешь спасительные меры, если такая даль отделяет Тобольск от Петрограда?!
Были, конечно, и другие причины, чтобы выбрать Тобольск, но об этом мы еще поговорим, а пока вернемся в Царское Село.
8
«В первый раз я посетил Царское через несколько дней после доставления туда Царя. Это было в конце первой половины марта месяца, пожалуй, 10–12 числа. Я видел тогда Царя, Александру Федоровну и Детей, познакомился с Ними. Я был принят в одной из комнат детской половины, – рассказал Керенский на допросе, а потом, день спустя, снова вернулся к сладким для него воспоминаниям: – Я вхожу впервые к ним. Вдали стоит, сбившись в кучу, как бы испуганная Семья. Ко мне идет нерешительно, как-то робко полковник. Скромная фигура, какая-то неловкая, одетая как будто бы в костюм с чужого плеча. Мы сошлись. Было смущение. Он не знал, подавать ли мне руку, подам ли руку я. Я протянул ему руку и назвался: “Керенский”. Он сразу вышел из неловкого положения, заулыбался приветливо, повел к Семье. Там рядом с Ним стояла передо мной женщина, в которой сразу же чувствовался человек, с колоссальным честолюбием, колоссальной волей, очень упрямый, совершенно Его подавлявший своим волевым аппаратом».
И хотя, как мы уже говорили, Александру Федоровичу Керенскому приходилось скрывать свои подлинные поступки и побуждения, но то ли по столь свойственной ему актерской горячности, то ли по какой-то особой масонской простоватости он то и дело раскрывался, рассказывая, как издевался над своими венценосными узниками.
«После обычных слов знакомства я спросил Их, не имеют ли Они сделать мне, как представителю власти, каких-либо заявлений, передал Им приветствие от английской королевской семьи и сказал несколько общих фраз успокоительного характера. В это же свидание я осмотрел помещение дворца, проверил караулы, дал некоторые указания руководящего характера.
Вторично я был в Царском вместе с полковником Коровиченко, которым я заменил коменданта дворца, кажется, Коцебу.
Согласно воле Временного правительства я выработал инструкцию, которая устанавливала самый режим в Царском, и передал ее для руководства Коровиченко. Инструкция, установленная мною, не касаясь подробностей, вводила:
а) полную изоляцию Царской Семьи и всех, кто пожелал остаться с Нею, от внешнего мира;
б) полное запрещение свиданий со всеми заключенными без моего согласия;
в) цензуру переписки.
Установлена была двойная охрана и наблюдение: внешняя, принадлежавшая начальнику гарнизона полковнику Кобылинскому, и внутренняя, лежавшая на полковнике Коровиченко. Коровиченко, как лицо, назначенное мною, который был уполномочен Временным правительством, являлся уполномоченным от меня. Ему там в мое отсутствие принадлежала полнота власти.
Вводя указанный режим, я установил в то же время, как руководящее начало полное невмешательство во внутренний уклад жизни Семьи. Они в этом отношении были совершенно свободны.
Я заявляю, что с того момента, когда Государь отдал Себя и Свою Семью под покровительство Временного правительства, я считал себя по долгу чести обязанным перед Временным правительством оградить неприкосновенность Семьи и гарантировать Ей проявление в обращении с Нею черт джентльменства».
«Государь отдал Себя и Свою Семью под покровительство Временного правительства…» Так Керенский называет арест императора и императрицы.
Ну и насчет «джентльменства» тоже надо сказать.
Николай II виделся джентльмену Керенскому человеком скрытным, ограниченным, неинтеллигентным, поражавшим полным равнодушием ко всему внешнему, претворившемуся в какой-то болезненный автоматизм.
«Когда я вгляделся больше в Его лицо, то оно мне стало казаться маской. Из-за этой улыбки, из-за этих чарующих глаз выглядывало что-то мертвящее, безнадежное, какое-то последнее одиночество, последняя опустошенность».
«А рядом, – это Керенский уже об Александре Федоровне говорит, – мучилась, страдала без власти, не могла оторваться от вчерашнего дня, не могла примириться с многим больная, истеричная, такая вся земная, сильная и гордая женщина. Она подавляла всех кругом своим томлением, тоской, ненавистью, непримиримостью. Такие, как она, никогда ничего не забывают, никогда ничего не прощают».
Такими раздавленными, ничтожными и видел, а вернее, хотел видеть Керенский своих пленников, это наполняло его собственным джентльменским величием, и он старался передать свое джентельменство и охране.
«Встав в позу, я обратился к ним с напутственной речью, в которой, между прочим, сказал: “Помните, солдаты: лежачего не бьют”».
Скоро все «черты джентльменства» были проявлены Александром Федоровичем по отношению к лежачим узникам не только на словах:
«Кроме этой меры, была принята еще вторая мера: лишение на некоторое время общения Николая II и Александры Федоровны, разделение их. Эта мера была принята лично мною, по моей инициативе, после одного из докладов, сделанного мне по их делу следственной комиссией. Имелся в виду возможный допрос их комиссией. В целях беспристрастного расследования я признал необходимым произвести это отделение. Николаю II об этом я объявил сам лично. Александре Федоровне объявлено было об этой мере Коровиченко по моему приказанию. Наблюдение за выполнением этой меры было поручено Коровиченко, причем о ней были предупреждены и другие лица, жившие с ними в Царском… Такой порядок был установлен мною, кажется, в первых числах июня и существовал приблизительно с месяц».
Конечно, можно говорить, что Александр Федорович не избивал своих узников, не морил их голодом… Принимаемые им по отношению к августейшим пленникам меры почти никак физически не ущемляли их, они только заставляли постоянно, ежеминутно ощущать его, Керенского, власть над ними.
Сам Керенский упивался своим могуществом, ну а как чувствовали себя люди, которые всего несколько недель назад правили гигантской империей, Керенского по свойственному ему джентльменству интересовало только, так сказать, с познавательной стороны.
«Всмотревшись в эту живую маску, – рассказывал он на допросе у Н.А. Соколова, – понял я, почему так легко выпала власть из его рук: он не хотел бороться за нее. В нем не было воли к власти. Он без всякой драмы в душе ушел в частную жизнь.
“Как я рад, – говорил Николай II старухе Нарышкиной, – что больше не надо подписывать этих скучных, противных бумаг. Буду читать, гулять, буду с детьми”. Эти слова не были рисовкой со стороны Николая II, ибо действительно в заключении Николай был большей частью в благодушном настроении, во всяком случае спокоен. Тяжелое бремя власти свалилось с плеч и стало свободнее, легче. Вот и все».
Только иронии достойно объяснение Александра Федоровича, почему так легко выпала власть из рук императора Николая II. Из рук самого Александра Федоровича, как известно, власть выпадет еще легче…
А вот насчет воли к власти интереснее.
Керенский, которого его родная масонская организация, словно ради забавы, обвесила таким множеством высших государственных должностей, относится к власти как к работе в адвокатской конторе: навел справки, разобрался, договорился, объяснил, уговорил, произнес блистательную речь – и можно идти получать заслуженный гонорар! Керенский даже не понимал, что для Николая II власть была не должностью, а тяжким царским служением и скинуть его с себя он не мог, поскольку, и лишенный власти, он оставался царем и государем.
Впрочем, хотя Александр Федорович, конечно, и не понимал этого, но все-таки некая адвокатская проницательность присутствовала в нем, и он отмечал нечто прорывающееся в Николае II сквозь «благодушное настроение».
«Он действительно мог быть и был мистиком, – доверительно рассказывал А.Ф. Керенский Н.А. Соколову в Париже. – Он искал общения с небом, так как на земле все ему опостылело, было безразлично».
Тут, сам того не понимая, Александр Федорович попадал почти в точку. Общения с небом Николай II искал. Вернее, и так-то подтянутый и собранный, он еще более духовно сосредоточивается в эти месяцы, предчувствуя, какие испытания предстоят ему.
«21-го марта. Сегодня днём внезапно приехал Керенский, нынешний министр юстиции, прошёл через все комнаты, пожелал нас видеть, поговорил со мною минут пять, представил нового коменданта дворца и затем вышел. Он приказал арестовать бедную Аню и увезти её в город вместе с Лили Ден. Это случилось между 3 и 4 часами, пока я гулял. Погода была отвратительная и соответствовала нашему настроению!
25-го марта. Благовещение. В небывалых условиях провели этот праздник – арестованные в своём доме и без малейшей возможности сообщаться с мама́ и со своими! В 11 часов пошёл к обедне с Ольгой и Татьяной. После завтрака гулял и работал с ними на островке. Погода была серая. В 6½ были у всенощной и вернулись с вербами. Анастасия встала и ходила наверху по комнатам.
27-го марта. Начали говеть, но, для начала, не к радости началось это говение. После обедни прибыл Керенский и просил ограничить наши встречи временем еды и с детьми сидеть раздельно; будто бы ему это нужно для того, чтобы держать в спокойствии знаменитый Совет Рабочих и Солдатских Депутатов! Пришлось подчиниться, во избежание какого-нибудь насилия»…
Мы приводим эти выдержки из дневника Николая II, чтобы снова поразиться величайшему самообладанию, пример которого явлен здесь. Ведь, казалось бы, тут так легко возмутиться, поскольку возмущает буквально все – и меры, связанные с изоляцией императрицы, и нелепые запреты, и мучительное неведение о судьбе и своей собственной, и своей семьи.
Но государь не один.
Его жизнь-подвиг проходит на глазах у детей. Он находился рядом с ними. И хотя он лишен государственной власти, но семейной ответственности никто не лишал его. Он остается в глазах детей государем и не имеет права показать им слабость и малодушие. Он обязан сохранять свой отцовский и императорский авторитет перед детьми еще и потому, что ему – Николай II уже чувствует это – предстоит провести по мученическому пути всю свою семью.
Дети тоже чувствовали это и так и вели себя, поддерживая своим поведением отца.
«31-го марта. Хороший солнечный день. Погулял с Татьяной до 11 часов. В 2 часа был вынос плащаницы. Гулял и работал у парома. В 6½ пошли к службе. Вечером исповедовались у о. Беляева».
Царевич Алексей болел в тот день, на службе сидел в креслах одетый в голубой халатик, обшитый по краям узорчатой тесьмой…
«Как шла исповедь, говорить не буду… – записал тогда в дневнике настоятель Феодоровского собора Афанасий Беляев. – Впечатление получилось такое: дай, Господь, чтобы и все дети нравственно были так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безусловная воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи – страстной и греховной, меня привело в изумление, и я решительно недоумевал: нужно ли напоминать мне, как духовнику, о грехах, может быть, им неведомым, и как расположить к раскаянию в неизвестных для них грехах…»
Обид на притеснения охраны Николай II в своих дневниковых записях не высказывает. Вернее, не позволяет себе высказывать.
Только 8 июня, когда солдаты отберут детскую винтовку Алексея, которой тот играл на острове, Николай II возмущенно запишет: «Хороши офицеры, которые не осмелились отказать нижним чинам».
И снова страницы дневника заполняют прогулки, тихие летние вечера, катание на лодке, работа в парке.
В мае, когда потеплело, начал работать в огороде, занимался с Алексеем географией, историей, катался на лодке и велосипеде, по вечерам читал детям вслух книги на английском и французском языках. 25 мая начал читать вслух «Графа Монте Кристо».
Чтение романа затянулось на целый месяц.
Счастливые семейные вечера в гостиной царскосельского дворца…
И никто из внимавших рассказу о приключениях заточенного на острове графа не знал, что уже скоро им всем предстоит отправиться в долгий и страшный путь.
Никто не знал, что всем им остается жить ровно один год…
«26-го июня. День стоял великолепный. Наш хороший комендант полковник Кобылинский попросил меня не давать руки офицерам при посторонних и не здороваться со стрелками. До этого было несколько случаев, что они не отвечали. Занимался с Алексеем географией. Спилили громадную ель недалеко от решётки за оранжереями. Стрелки сами пожелали помочь нам в работе. Вечером окончил чтение «Le Counte de Monte-Christo».
28-го июня. Вчера был взят нами Галич и 3000 пленных и около 30 орудий. Слава Богу! Погода стояла серая и тёплая, с ветром. После прогулки имел урок истории с Алексеем. Работали там же; спилили три ели. От чая до обеда читал.
Цесаревич Алексей. Фото 1914 г.
11-го июля. Утром погулял с Алексеем. По возвращении к себе узнал о приезде Керенского. В разговоре он упомянул о вероятном отъезде нашем на юг, ввиду близости Царского Села к неспокойной столице.
12-го июля. День был ветреный и холодный – 10° только. Погулял со всеми дочерьми. Днём работали там же. Распилили четыре дерева. Все мы думали и говорили о предстоящей поездке; странным кажется отъезд отсюда после 4-месячного затворничества!
13-го июля. За последние дни нехорошие сведения идут с Юго-Западного фронта. После нашего наступления у Галича, многие части, насквозь зараженные подлым пораженческим учением, не только отказались идти вперед, но в некоторых местах отошли в тыл даже не под давлением противника. Пользуясь этим благоприятным для себя обстоятельством, германцы и австрийцы даже небольшими силами произвели прорыв в южной Галиции, что может заставить весь Юго-Западный фронт отойти на восток.
Просто позор и отчаяние! Сегодня, наконец, объявление Временным Правительством, что на театре военных действий вводится смертная казнь против лиц, изобличенных в государственной измене. Лишь бы принятие этой меры не явилось запоздалым.
День простоял серый, тёплый. Работали там же по сторонам просеки. Срубили три и распилили два поваленных дерева. Потихоньку начинаю прибирать вещи и книги».
Что еще удивляет в этом дневнике? Железная самодисциплина, предельная строгость к себе, мужество и бесстрашие производили удивительные вещи.
В дневниках нет ни рефлексии, ни каких-либо сожалений.
Николай II живет каждый день, как и положено жить христианину, готовым, что этот день будет последним для него. Разумеется, он не думал об этом, вернее, не позволял себе думать. Каждый день встречал он с радостью и жил этот день с тем предельным наслаждением, которое не омрачается никакими пустыми и несущественными хлопотами о суетных проблемах…
«28-го июля. Чудесный день; погуляли с удовольствием. После завтрака узнали от гр. Бенкендорфа, что нас отправляют не в Крым, а в один из дальних губернских городов в трёх или четырёх днях пути на восток! Но куда именно, не говорят, даже комендант не знает. А мыто все так рассчитывали на долгое пребывание в Ливадии! Срубили и свалили огромную ель на просеке у дорожки. Прошёл короткий тёплый дождь…»
9
Нынешних исследователей не устраивают лживые и увертливые разъяснения А.Ф. Керенского по поводу выбора Тобольска, и многие из них склоняются к мысли, что первый русский город в Сибири был выбран Временным правительством в силу своей, так сказать, каторжной отмеченности. Три с лишним века шли в Сибирь через Тобольск ссыльные и каторжники.
И хотя всю глубину астрально-медвежьего замысла о судьбе Царской Семьи это объяснение, разумеется, не исчерпывает, однако несомненно, что оно ближе к истине, чем невнятное бормотание Александра Федоровича.
Говорят, что страна потеряла в лице Александр Федоровича Керенского великого актера.
Мы бы добавили, что и великого режиссера тоже.
Когда то ли в «Малой Медведице,» то ли в более вышестоящем органе решение о высылке Царской Семьи в Тобольск было утверждено, Александр Федорович, позабыв про все государственные дела, сразу же взялся за эту постановку.
«31-го июля. Последний день нашего пребывания в Царском Селе, – записал тогда в дневнике Николай II. – Погода стояла чудная. Днём работали на том же месте; срубили три дерева и распилили вчерашние. После обеда ждали назначения часа отъезда, который всё время откладывался. Неожиданно приехал Керенский и объявил, что Миша скоро явится. Действительно, около 10½ милый Миша вошёл в сопровождении Керенского и караульного начальника. Очень приятно было встретиться, но разговаривать при посторонних было неудобно»…
Ну, конечно, неудобно!
Но это так и было задумано Александром Федоровичем!!!
«Я присутствовал при последнем свидании Государя с Михаилом Александровичем в ночь отъезда из Царского, – вспоминал он. – Встреча братьев состоялась около полуночи в кабинете царя. Оба казались очень взволнованными. Тягостные воспоминания о недавнем прошлом, видимо, удручали обоих. Довольно долго они молчали, а затем возник какой-то случайный, малозначащий разговор, столь обычный для такого рода кратких встреч. “Как Алиса?” – спросил Великий князь. Они стояли друг перед другом, не в силах сосредоточиться на чем-либо, время от времени хватаясь за руку другого или за пуговицу мундира». Мизансцена замечательна и по выбору, и по расстановке фигур…
В одном помещении, на одной сценической площадке, сошлись и бывший император Николай II и его брат, который мог бы стать императором Михаилом II, и, конечно, сам Александр Федорович, ставший в результате главой России, человеком, которого почитатели называют Александром IV.
Так сказать, вот она, сама история…
И какое точное исполнение.
Братья императоры «не в силах сосредоточиться на чем-либо», время от времени бестолково хватают друг друга за руки или за пуговицы мундира, а он, Керенский, благородно отошел в сторону к окну и задумчиво смотрит на темный сад, размышляя о судьбе России…
Воистину мизансцена – это язык режиссера, действительно, это средство наиболее полного раскрытия образного содержания и способ достижения художественного впечатления…
– Могу ли я видеть детей? – несколько нарушая режиссерский замысел, обратился к Керенскому великий князь.
– К сожалению, я вынужден вам отказать, – хладнокровно ответил Керенский. – Не в моей власти продлить долее вашу встречу[207].
Учитывая, что несколько дней назад А.Ф. Керенский сменил князя Георгия Евгеньевича Львова на посту министра-председателя, сохранив при этом пост военного и морского министра, ответ его предполагал какие-то ответные реплики со стороны братьев Романовых, но они не стали ни упрашивать Александра Федоровича, ни негодовать.
«Они начали прощаться, – завершая описание этой мизансцены, напишет Керенский в мемуарах. – Кто мог подумать, что это была их последняя встреча».
Незадолго до этого у Александра Федоровича состоялся разговор с самим Николаем II.
Император Николай II. 1890-е гг.
«После определения даты отъезда я объяснил Николаю II создавшееся положение и сказал, чтобы он готовился к длительному путешествию. Я ему не сообщил, куда ему предстоит ехать, и лишь посоветовал, чтобы он и его семья взяли с собой как можно больше теплой одежды. Николай II выслушал меня очень внимательно, и когда я сказал, что все эти меры принимаются ради блага его семьи, и просто постарался приободрить его, он посмотрел мне в глаза и произнес: “Я ни в малейшей степени не обеспокоен. Мы верим вам. Если вы говорите, что это необходимо, значит, так оно и есть”. И повторил: “Мы верим вам”»[208].
Сам Керенский привел этот разговор как свидетельство доверительности своих отношений с императором. В его пересказе Николай II, которого он отправляет вместе с семьей на смерть, как бы и заискивает перед ним. Но это его, Керенского, пересказ.
Тут вообще не о доверительности со стороны государя идет речь и тем более не о заискивании, а о гораздо большем.
Слова Николая II звучат как отзвук евангельских слов Спасителя, обращенных к Иуде: «Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежащих не понял, к чему Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: “купи, что нам нужно к празднику”, или чтобы дал что-нибудь нищим»[209].
Было пять часов утра 14 августа, когда подали поезда.
Поезд бывшего царя – еще одна находка режиссера Керенского! – шел под японским флагом. На спальном вагоне, где четыре купе занимала семья, красовалась надпись: «Японская миссия Красного Креста».
Напомнить бывшему императору проигранную им Русско-японскую войну, это Александр Федорович неплохо придумал. Из-за этого и управление Россией можно было отложить почти на целые сутки.
Но и тут Керенский не покинул узников, обеспечивая свое «джентльменское» сопровождение до конца. Поезд подали не к перрону, а на переезд, на «пятый запасной путь», где подъем на ступеньки вагона был затруднен.
Первой в вагон по указанию Керенского отправили императрицу.
Александра Федоровна – никто не помогал ей! – с трудом влезла на неудобную подножку вагона и всей тяжестью тела повалилась на площадку, в тамбуре.
Вот тут-то Керенский, словно только и ждал этого, подскочил к упавшей женщине, помог ей подняться и повел в купе.
Там он поцеловал императрице руку и сказал:
Императрица Александра Федоровна. 1890-е гг.
– До свидания, Ваше Величество! Как видите, я предпочитаю придерживаться в обращении с вами старого титула.
Но увы, увы… Александра Федоровна вообще с трудом улавливала тонкости русского языка, а сейчас, когда она так унизительно упала животом на пол в грязном тамбуре, она и вообще не понимала, о чем говорит человек, которого ей так хотелось повесить на дереве в Царскосельском парке.
Керенский, видимо, понял, что его тонкая ирония не доходит до этой грубой женщины, и поспешил выйти из купе.
Он сделал здесь, кажется, все, что было поручено.
Пора было браться теперь за Россию.
Наконец, поезд тронулся в путь.
«Красив был восход солнца, при котором мы тронулись в путь на Петроград и по соединительной ветке вышли на Северную железнодорожную линию», – записал Николай II в дневнике.
Стучали колеса.
Оставив в стороне Шлиссельбург, поезд шел к городу, которому назначено было стать Голгофой Царской Семьи.
Глава девятая Екатеринбургский расстрел
К именам двух императоров из династии Романов делают приставку «великий».
Это Петр I и Екатерина II.
Петр I основал Санкт-Петербург и назвал его в честь своего небесного покровителя. В честь Екатерины II назван Екатеринбург.
И так получилось, что в царствование Екатерины II в Ропше под Санкт-Петербургом был убит император Петр III и оказалась обрублена петровская линия династии Романовых, а в Шлиссельбурге, где убили Иоанна Антоновича, иоанновская…
Теперь пришло время для расправы над династией Павловичей, исходящей непосредственно от Екатерины II, и произойти это должно было под Екатеринбургом…
1
Считается, что первые полтора месяца тобольского заключения были лучшими для Царской Семьи в ее заключении. Слово «лучшие» залетело в этот текст из 20-х годов, когда, зная о екатеринбургской трагедии, с нею и сравнивали тобольские месяцы.
Но если день за днем проследить скорбный путь, перехватывает дыхание от тех неисчислимых страданий, которые пришлось перенести государю и всей семье и в самом Тобольске, и на пути к нему.
Скорбен был этот путь.
Николая II отправили в ссылку не потому, что он совершил какое-то государственное преступление, а потому, что был помазанником Божиим и это в глазах Временного правительства или масонской ложи, в которой состояли члены его, и было самым тягчайшим преступлением. И не только сам император оказывался виновным тут, но и его жена, но и его дети. Все они должны были отвечать неведомо перед кем.
И угнетали не только тяготы дороги, не только строгий и унизительный присмотр, угнетала неизвестность.
Легко вообразить, что чувствовал государь, когда, забывая, что это не они едут, а из везут, дети невзначай обращались к нему с вопросами, касающимися дальнейшей дороги… Что он мог ответить, если сам не знал, что будет с ними дальше?
Трудно тут не затосковать, не захандрить, но у Николая II рядом была семья, на него смотрели дети, которых ему надо было вести за собою по еще неведомому, но такому немыслимо трудному пути, и он не позволял себе расслабиться.
Даже в дневнике ощущается эта удивительная собранность.
«Плавание по реке Type… – записывает он. – У Аликс, Алексея и у меня по одной каюте без удобств, все дочери вместе в пятиместной, свита рядом в коридоре; дальше к носу хорошая столовая и маленькая каюта с пианино. II класс под нами, а все стрелки 1-го полка, бывшие с нами в поезде, сзади внизу. Целый день ходили наверху, наслаждаясь воздухом. Погода была серая, но тихая и тёплая. Впереди идёт пароход министерства путей сообщения, а сзади другой пароход со стрелками 2-го и 4-го стрелковых полков и с остальным багажом. Останавливались два раза для нагрузки дровами. К ночи стало холодно»…
Но были на этом скорбном пути и утешения от Господа…
5 августа, перед обедом, навстречу «Руси» – так назывался пароход, на котором ехала Царская Семья, – выплыло село Покровское.
– Здесь жил наш дорогой Григорий Ефимович, – проговорила, комкая в руках носовой платок, Александра Федоровна. – Мир праху его, Божьего человека. Царство ему небесное!
Государь внимательно разглядывал выбежавшие на берег Туры избы.
Говорят, что император перед самым объявлением войны посылал Григорию Распутину в Тюмень телеграмму, спрашивая его совета.
Почти сразу же пришел ответ: «Крепись, войны не объявляй. Плохо будет тебе и Алеше»[210].
Что думал, что чувствовал Николай II, вспоминая об этом предостережении и вглядываясь в проплывающий мимо «Руси» дом старца?
– Здесь, в этой реке, он ловил рыбу, – все повторяла Александра Федоровна. – Вы помните, он присылал нам свежую рыбу в Царское Село?
Ночью государь спал плохо, проснулся, когда уже вышли в Тобол.
«Река шире, и берега выше. Утро было свежее, а днём стало совсем тепло, когда солнце показалось. Забыл упомянуть, что вчера перед обедом проходили мимо села Покровского, – родина Григория»…
Эта оговорка не о забывчивости Николая II свидетельствует, а о том, что мысль о предопределенности «встречи» со старцем Григорием на последнем пути была додумана и осознана государем.
Но, как и заведено в его «Дневнике», об этом, сокровенном, ни слова…
«Целый день ходили и сидели на палубе», – завершает ссыльный пассажир «Руси» запись за 6 августа 1917 года.
Как отметил Н.А. Соколов, в Тобольске «жизнь сразу вошла в спокойное, ровное русло»[211]. В 8 часов 45 минут подавался утренний чай. Государь пил его в своем кабинете с дочерью Ольгой. После чая занимался у себя, затем обыкновенно пилил дрова во дворе.
Та осень в Тобольске удалась на славу…
«16 августа. Отличный тёплый день. Теперь каждое утро я пью чай со всеми детьми. Провели час времени в так называемом садике и большую часть дня на балконе, который весь день согревается солнцем. До чая провозились в садике, два часа на качелях и с костром».
И 17 августа ночь была лунная, а утро – серое и холодное, и только около часа вышло солнце, и снова настал отличный день. И в воскресенье вечер был тёплый и лунный, а 23 августа хотя и прошёл тёплый ливень, но день простоял превосходный…
Все это из «Дневника».
Прекрасен Божий мир! Николай II принимал эти осенние радости, как Божие утешение, но приходящие из Петрограда новости жаркой волною стыда и позора смывали покой тобольской осени.
24 августа приехал Владимир Николаевич Деревенко и привез вести, что Рига оставлена и русская армия отступила далеко на северо-восток.
«Тёплая погода с сильным восточным ветром… – привычно записывает Николай II 25 августа, но тут уже срывается: – Прогулки в садике делаются невероятно скучными; здесь чувство сидения взаперти гораздо сильнее, нежели было в Царском Селе»…
2
1 сентября в Тобольске появилось новое начальство.
«Прибыл новый комиссар от Временного Правительства Панкратов и поселился в свитском доме с помощником своим, каким-то растрепанным прапорщиком, – записал в этот день Николай II. – На вид – рабочий или бедный учитель. Он будет цензором нашей переписки. День стоял холодный и дождливый».
«Бедный учитель», который будет осуществлять контроль за перепиской Царской Семьи… Николай II никак не оценивает этот факт, но уже в самой констатации его – боль и горечь очередного унижения.
Конечно же, царь знал о том, что Василий Семенович Панкратов сидел в Шлиссельбургской крепости, и, хотя он вышел по амнистии по случаю коронации Николая II, Шлиссельбург не мог не сказаться на их отношениях.
Разумеется, Николай II и не ждал от Керенского и его правительства какого-то снисхождения к себе, но была еще и семья, и она уж точно перед такими, как Панкратов, не виновата была ни в чем…
Начало комиссарства Василия Семеновича было ознаменовано тем, что 4 сентября залило ватерклозеты.
«Великолепный летний день. Много были на воздухе. Последние дни принесли большую неприятность в смысле отсутствия канализации. Нижний WC заливался мерзостями из верхних WC, поэтому пришлось прекратить посещение сих мест и воздерживаться от ванн; всё от того, что выгребные ямы малы и что никто не желал их чистить. Заставил Е.С. Боткина привлечь на это внимание комиссара Панкратова, который пришёл в некий ужас от здешних порядков».
Принято считать, что Панкратов был мягким и добрым человеком.
Об этом свидетельствовали почти все выжившие обитатели губернаторского дома в Тобольске, подчеркивая, что особенно хорошо добродушие Панкратова выглядело рядом с мелочной придирчивостью «похожего на растрепанного прапорщика» Александра Владимировича Никольского, который с первого дня – «Нас, бывало, заставляли сниматься и в профиль и в лицо»! – старался ужесточить режим. Грубый, совершенно невоспитанный Никольский отличался еще и редкостным упрямством.
Может быть, Панкратов действительно «был человек по душе хороший».
«То, что он таким молодым кончил свою бытие, возбуждало во мне сострадание и жалость, – вспоминала о нем Вера Николаевна Фигнер, которая оказалась его соседкой и вместе с ним училась искусству тюремного перестукивания. – Я была старше его на двенадцать лет, и мне казалось, что человеку со свежими силами должно быть значительно труднее, чем мне. Это определило мое нежное, без малого материнское касательство к его личности… Как зачастую случается при заочном знакомстве, он представлялся мне круглолицым юношей с чуть-чуть пробивающимся пушком на румяных щеках, шатеном с серыми, добрыми глазами и мягким славянским носом. На деле же он был смуглым брюнетом с черными, как смоль, волосами, с черными пронзительными глазами и крупным прямым носом – “истинный цыган”, как он сам отзывался о своей наружности».
Разумеется, не вина Панкратова, что он был дурно образован и воспитан и при этом сам совершенно искренне считал, что культуры и образованности как раз Царской Семье и не хватает.
«Не знаю, какое впечатление произвел я, но что касается меня, то первое впечатление, которое я вынес, было таково, что живи эта семья в другой обстановке, а не в дворцовой с бесконечными церемониями и этикетами, притупляющими разум и сковывающими все здоровое и свободное, из них могли бы выйти люди совсем иные, кроме, конечно, Александры Федоровны. Последняя произвела на меня впечатление совершенно особое. В ней сразу почувствовал я что-то чуждое русской женщине… – вспоминал он. – Бывший царь действительно знал русскую военную историю, но знание его вообще истории народа было очень слабо: он или забыл, или вообще плохо разбирался в периодах русской истории и их значении, все его рассуждения в этом отношении сводились к истории войн»[212]…
Конечно, можно только пожать плечами, удивляясь, до каких немыслимых пределов разросся в Василии Семеновиче апломб, но бывший народоволец был еще и по-шлиссельбургски энергичен и по простоте души пытался ликвидировать пробелы в образовании и воспитании как царских детей, так и самого государя, однако главные проблемы заключались даже не в отсутствии у Панкратова желания понимать людей, с которыми его свела воля Керенского, а в том, что от него действительно мало что зависело…
Вернее, это сам Панкратов делал все, чтобы от него ничего не зависело.
Представляя власть Временного правительства, он все время изображал ее такой, какой она, по его мнению, должна выглядеть: мудрой, великодушной, прозорливой. Но поскольку власть была совершенно другой, то Панкратову оставалось только надувать щеки, изображая знание неких тайных обстоятельств, которые мешают ему быть мудрым, великодушным и прозорливым.
Между прочим, это подробно описано в его воспоминаниях…
«Ко мне подходит князь Долгоруков.
– Господин комиссар, когда же будет разрешено сходить в церковь? Николай Александрович и Александра Федоровна просили меня узнать, – обратился он ко мне.
– Как только будет все приготовлено. У меня нет ни малейшего намерения лишать их посещения церкви, – ответил я.
– Какие же нужны приготовления?
– Устраняющие всякие неприятности и недоразумения.
– Не понимаю, – огорченно отвечает князь.
– Не думайте, что меня беспокоят неприятности, только касающиеся меня лично, возможны неприятности другого порядка, которых я не могу допустить, – пояснил я князю.
Но он опять не понял меня»…
«Через несколько дней бывший царь опять обратился ко мне с просьбой разрешить ему с семьею пойти за город и осмотреть город.
– Весьма охотно бы это сделал, если бы имел разрешение от Временного правительства. Кроме того, есть еще и другие мотивы.
– Вы боитесь, что я убегу? – перебивает меня Николай Александрович.
– Этого меньше всего, – возражаю ему: – Я уверен, что вы и попытки такой не сделаете. Есть нечто другое. Вы читаете газеты?
– Что же в них? Я ничего не заметил, – недоумевая, ответил Николай Александрович».
«Николай Александрович неоднократно под влиянием этих рассказов и разговоров (рассказы самого Панкратова о красоте и богатстве сибирской природы. – Н.К.) повторял свою просьбу о прогулке за город, и каждый раз приходилось отказывать ему в этом.
– Вам нечего бояться… Вы думаете, я решусь убежать. Назначьте конвой… – говорил он.
– Я уже вам объяснил, что с этой стороны менее всего препятствий…
– А если мы сами возбудим ходатайство перед правительством?
– Пожалуйста. Разве я вам делал какие-нибудь препятствия в этом отношении?
– Но мы обращаемся к вам как к представителю правительства. Теперь мы с Александрой Федоровной советовались и решили обратиться прямо. Но нам кажется, что вы могли бы и своей властью разрешить»…
Подчеркнем еще раз, что эти диалоги записаны самим В.С. Панкратовым.
Поразительно! Достаточно одаренный писатель, он даже не чувствует тут, насколько пародийно звучат его бюрократические увертки…
А объяснения: дескать, вдруг кому-либо из тобольцев «придет в голову во время прохода в церковь выкинуть какую-либо штуку? Бросить камнем, выкрикнуть нецензурную похабщину и т. п. Пришлось бы так или иначе реагировать. Лучше заблаговременно устранить возможность подобных историй»! – напоминают анекдот про исправника, который приказал убрать в парке все скамейки, чтобы хулиганы не могли царапать на них неприличные слова…
Как действовали эти объяснения Василия Семеновича на Царскую Семью, видно из дневника государя.
«На днях Е.С. Боткин получил от Керенского бумагу, из которой мы узнали, что прогулки за городом нам разрешены, – записал он 29 сентября. – На вопрос Боткина, когда они могут начаться, Панкратов, поганец, ответил, что теперь о них не может быть речи изза какой-то непонятной боязни за нашу безопасность. Все были этим ответом до крайности возмущены. Погода стала прохладнее»…
Государь дал Панкратову прозвище «маленький человек».
Панкратов и в самом деле был невысокого роста, но не это определило прозвище.
Панкратов и в сущности своей был «маленьким человеком». Он панически боялся ответственности и всячески уклонялся от самостоятельных решений…
3
Сам Николай II в эти дни начинает читать книги Николая Степановича Лескова.
«13 сентября. Полдня шёл дождь, но было тепло… Начал роман Лескова “Обойдённые”. В девять часов вечера у нас в зале была отслужена всенощная. Легли рано».
Чтение Лескова увлекает государя. И это не случайно… Невозможно найти писателя – Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский тут не исключение, – который мог бы сравниться с Лесковым тем глубинным знанием народной русской жизни, той красотой русского языка, тем обилием положительных народных характеров, которые мы находим на страницах лесковских произведений.
Наверное, Николая II ошеломила раскрывающаяся перед ним в произведениях писателя русская жизнь. В сентябре 1917 года в Тобольске он читает Лескова рассказ за рассказом, роман за романом, том за томом…
«16 сентября. Погода простояла совсем тёплая. Приятно было ходить и работать на дворе. Кончил рассказ “Обойдённые” и начал “Островитяне”…
18 сентября. Осень в этом году здесь замечательная; сегодня в тени было 15° и совсем южный тёплый воздух. Днём играл с Валей Д. в городки, чего не делал много-много лет. Нездоровье Ольги прошло; она сидела долго на балконе с Аликс. Кончил “Островитяне” Лескова. Написал маме письмо через цензуру Панкратова.
19 сентября. Полуясный, но такой же тёплый день. Около 12 часов прошёл короткий летний дождь. Анастасия пролежала в постели. Татищев поправился. Днём попилил дрова и поиграл в городки. Начал читать роман Лескова “Некуда”».
Чтение Лескова захватывало государя еще и потому, что он мог наглядно сравнить повадки нигилистов из лесковского романа с прихватами комиссара Панкратова.
«24 сентября. Вследствие вчерашней истории нас в церковь не пустили, опасаясь чьей-то возбуждённости. Обедницу отслужили у нас дома. День стоял превосходный; 11° в тени с тёплым ветром. Долго гуляли, поиграл с Ольгой в городки и пилил. Вечером начал читать вслух “Запечатлённый ангел”…»
В тишине губернаторского дома в Тобольске, прерываемой лишь свистками пароходов с реки, звучал голос бывшего российского императора, рассказывающего о той «преудивительной штуке», что совершилась с барином, который отправился «в жидовский город» расследовать творящиеся там по торговой части нарушения. Вместо взятки, полученной с еврейских торговцев, он еще и должен оказался им 25 тысяч рублей.
С этим полученным вместо награды долгом и возвращается домой барин, но супруга его, весьма богомольная барынька, объявила мужу, что за его «нерассудительность другие заплатят», и приказала стребовать деньги со староверов, которые работали на строительстве моста.
Денег таких у староверов, разумеется, не нашлось, и вот начинается дикая расправа, превосходящая по своей лютости жестокость любого иноплеменного нашествия.
Барин обозленный, что староверы не желают покрыть его долг перед евреями, «накоптивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!».
Кажется, ни один писатель до Лескова не сумел так ярко, открыто и правдиво рассказать о той глухоте русской жизни, пользуясь которой любой просвещенный мерзавец мог надругаться над нею.
И наверняка об этом тоже думал государь, читая вслух «Запечатленного ангела». Русским трудом и русской кровью была воздвигнута могущественнейшая империя, но в результате этого строительства основная часть населения, сами русские, оказались обращены в рабство в своей собственной стране.
Разумеется, начиная с правления императора Павла Петровича предпринимались попытки исправления общественного устройства, но, даже когда деду Николая II удалось отменить крепостное право вопреки ожесточенному сопротивлению дворянства, преодолеть раскол русского общества так и не удалось.
И не могло удастся.
Слишком разным стало все.
Язык… Культура…
Какая-то глухота появилась в русской жизни, и уже не докричаться было сквозь нее.
Только молитва и могла преодолеть эту глухоту…
«26 сентября. Окончил роман Лескова “Некуда”.
30 сентября. День простоял солнечный, хороший. Утром гуляли час, а днём два с половиною часа; играл в городки и пилил. Начал читать пятый том Лескова – длинные рассказы. В девять часов у нас была отслужена всенощная».
«На воле мне много приходилось слышать о том, что семья Николая II очень религиозна… – пишет В.С. Панкратов. – Но религиозность слишком различно понимается людьми, и в данном случае судить об этом более чем трудно. Эта духовно-нравственная потребность царственных пленников сначала удовлетворялась тем, что богослужение совершалось в зале губернаторского дома, то есть в том же доме, где жила семья бывшего царя. И в ближайшую субботу мне первый раз пришлось присутствовать на всенощной.
Всю работу по обстановке и приготовлению зала к богослужению брала на себя Александра Федоровна. В зале она устанавливала икону Спасителя, покрывала аналой, украшала их своим шитьем и пр. В восемь часов вечера приходил священник Благовещенской церкви и четыре монашенки из Ивановского монастыря. В зал собиралась свита, располагаясь по рангам в определенном порядке, сбоку выстраивались служащие, тоже по рангам. Когда бывший царь с семьей выходил из боковой двери, то и они располагались всегда в одном и том же порядке: справа Николай II, рядом Александра Федоровна, затем Алексей и далее княжны. Все присутствующие встречали их поясным поклоном. Священник и монашенки тоже. Вокруг аналоя зажигались свечи. Начиналось богослужение. Вся семья набожно крестилась, свита и служащие следовали движениям своих бывших повелителей. Помню, на меня вся эта обстановка произвела сильное первое впечатление. Священник в ризе, черные монашки, мерцающие свечи, жидкий хор монашенок, видимая религиозность молящихся, образ Спасителя. Вереница мыслей сменялась одна другою…
“О чем молится, о чем просит эта бывшая Царственная Семья? Что она чувствует?” – спрашивал я себя.
Монашки запели: “Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение…”
Вся семья Николая II становится на колени и усердно крестится, за нею падают на колени и все остальные. В то время мне казалось, что вся семья бывшего царя искренно отдается религиозному чувству и настроению»[213].
4
В книге Н.А. Соколова приведено свидетельство полковника Кобылинского, что «Панкратов сам лично не был способен причинить сознательно зло кому-либо из Царской Семьи, но тем не менее выходило, что эти люди ей его причиняли. Это они делали как партийные люди. Совершенно не зная жизни, они, самые подлинные эсеры, хотели, чтобы все были эсерами, и начали приводить в свою веру солдат»…
В этом свидетельстве очень важны слова о партийности.
То ли из любопытства, то ли из тщеславия Панкратов постоянно искал неформальных контактов с Царской Семьей, но и при этом, даже в задушевных разговорах, никогда не отступал он от своих партийных принципов и заученных схем.
Эти принципы и разрушали все хорошее, что хотел сделать Панкратов…
Не напрасно Николай II прозвал его «маленьким».
«Маленький» тут еще и тотемическое название некоей бесовской силы русской революции, сидевшей и в Василии Семеновиче…
– Какова подготовка детей? – обеспокоенно спросил однажды Панкратов у Клавдии Михайловны Битнер.
– Очень многого надо желать! – понимая, что хочет от нее услышать товарищ комиссар, ответила Клавдия Михайловна. – Я совершенно не ожидала того, что нашла. Такие взрослые дети и так мало знают русскую литературу, так мало развиты! Они мало читали Пушкина, Лермонтова еще меньше, а о Некрасове и не слыхали. О других я уже и не говорю. Алексей не проходил еще именованных чисел, у него смутное представление о русской географии. Что это значит? Как с ними занимались? Была полная возможность обставить детей лучшими профессорами, учителями – и этого не было сделано.
– Что же их больше всего интересует и интересует ли что; может быть, в них все убито дворцовой жизнью? – спросил Панкратов.
– Интересуются положительно всем. Они очень любят, когда им читаешь вслух. А вам, Василий Семенович, должна сказать комплимент: им очень нравятся ваши рассказы о ваших странствованиях…
– Вы прочитайте им вслух Некрасова «Русские женщины» и «Мороз, Красный нос», – предложил Панкратов.
На следующий день Клавдия Михайловна доложила, какое потрясающее впечатление произвели на всех детей поэмы Некрасова.
– Все слушали. Даже бывший царь и Александра Федоровна приходили. Дети в восторге. Странно… Как мало заботились об их развитии, образовании.
– Но что же вы скажете, Клавдия Михайловна, о ваших занятиях? Идут успешно?
– Алексей не без способностей, но привычку к усидчивой работе ему не привили. У него наблюдается какая-то порывистость, нервность в занятиях. Что же касается Марии и Анастасии, то метод, какой применялся в занятиях с ними, не в моем вкусе…
Панкратов кивал.
Слова учительницы подтверждали его наблюдение, что Царская Семья «задыхалась в однообразии дворцовой атмосферы, испытывала духовный голод, жажду встреч с другими людьми, но традиции, как гиря, тянули ее назад».
Удивительно, но эта очевидная заинтересованность Панкратова в перевоспитании царских детей каким-то образом перемешивалась с почти садистским попустительством притеснению их со стороны Александра Владимировича Никольского.
Что же делал «этот смелый и бескорыстный друг», как называл его сам Панкратов?
«Взрослый человек, – рассказывала Александра Александровна Теглева[214], – Никольский имел глупость и терпение долго из окна своей комнаты наблюдать за Алексеем Николаевичем и, увидев, что он выглянул через забор, поднял целую историю».
«Он, – подтверждает Е.С. Кобылинский, – прибежал на место, разнес солдата и в резкой форме сделал замечание Алексею Николаевичу. Мальчик обиделся на это и жаловался мне, что Никольский “кричал” на него.
Столь же невозмутимо относился Василий Семенович и к мерзким издевательствам над детьми солдат, которых сам и “образовал”. В своих воспоминаниях он говорит, что по отношению к узникам “поведение отряда было почти рыцарским”.
Каким-то удивительным образом в это рыцарство входила яма для отбросов, выкопанная солдатами прямо под окнами княжон и Александры Федоровны, и те отвратительные по цинизму надписи, которыми покрывали солдаты доску детских качелей.
Еще меньше щадили “обучаемые” Панкратовым солдаты чувства самого государя.
Они вдруг перестали отвечать на приветствия государя. Однажды государь поздоровался с солдатом: “Здорово, стрелок!” – и в ответ услышал: “Я не стрелок. Я – товарищ”.
Однажды государь надел черкеску, на которой у него был кинжал, и солдаты немедленно потребовали, чтобы государя обыскали.
– У них оружие! – кричали они. Потом солдаты вынесли решение, чтобы снял офицерские погоны и государь…»
И снова поражаешься мужественной сдержанности государя.
Какая мудрость требовалась ему, что успокоить детей, подвергающихся хамскому обращению, какая сила требовалась, чтобы не сорваться, когда его унижали на глазах детей! А ведь к этому и подталкивали его и солдаты, и Никольский, и сам Панкратов… Им хотелось, чтобы вчерашний император стал смешным и жалким в бессильной ярости.
Государь выстоял.
Поразительно, но и на фотографиях, сделанных уже в заключении, мы видим человека не только не потерявшего ничего из своего достоинства, но, более того, еще более укрупнившегося, человека, стоящего неизмеримо выше всех своих мучителей…
И чему он учил сына?
Истории…
Но что такое учить истории наследника престола, когда свой урок в это время дает сама история?
«17 ноября. Такая же неприятная погода с пронизывающим ветром. Тошно читать описания в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве!
Гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени.
18 ноября. Получилось невероятнейшее известие о том, что какие-то трое парламентеров нашей 5-й армии ездили к германцам впереди Двинска и подписали предварительные с ними условия перемирия!»
Мы знаем, что и для великих княжон, и для царевича Алексея жизнь в Тобольске, в этом отгороженном дворе с небольшим садом, в окружении всегда одних и тех же людей, была поразительно скучной.
Об этом и княжны, и царевич писали в письмах, но при этом никаких вспышек протеста, противоречия родителям, на которые, может быть, сам того не понимая, и подвигал их В.С. Панкратов, с их стороны не было.
«Живем тихо и дружно», – писал государь в письме великой княгине Ксении Александровне, и это, наверное, главное чудо, которое сумел сотворить Помазанник Божий в Тобольске. Он научил детей той силе и тому мужеству, которая может дать только истинная вера, он научил их смирению и жертвенности собою ради других. Не в мгновение высокого подвига, а ежедневно, ежечасно.
И царевич Алексей и великие княжны, как мы знаем, выдержали экзамен по отцовскому уроку.
Как выдержал его и сам государь.
5
20 октября 1917 года государь записал:
«Сегодня уже 23-я годовщина кончины дорогого папа́, и вот при каких обстоятельствах приходится её переживать!
Боже, как тяжело за бедную Россию! Вечером до обеда была отслужена заупокойная всенощная».
20 октября 1894 года в Ливадии оборвалась жизнь императора Александра III, и тогда в дневнике Николая тоже появилась запись:
«Боже мой, Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого, горячо любимого Папа. Голова кругом идет, верить не хочется – кажется до того неправдоподобной ужасная действительность. Все утро мы провели наверху около него! Дыхание было затруднено, требовалось все время давать ему вдыхать кислород. Около половины третьего он причастился Святых Тайн. Вскоре начались легкие судороги… и конец быстро настал! О. Иоанн больше часу стоял у его изголовья и держал его голову. Это была смерть святого! Господи, помоги нам в эти тяжелые дни!»
Две дневниковые записи…
Одна сделана будущим государем, другая – бывшим. Между ними – все правление последнего русского императора.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский тоже оставил в своем дневнике запись о 20 октября 1894 года…
«Он тихо скончался. Вся Семья Царская безмолвно с покорностью воле Всевышнего преклонила колени. Душа же Помазанника Божия тихо отошла ко Господу, и я снял руки свои с главы Его, на которой выступил холодный пот.
Не плачь и не сетуй, Россия! Хотя ты не вымолила у Бога исцеления своему царю, но вымолила зато тихую, христианскую кончину, и добрый конец увенчал славную Его жизнь, а это дороже всего!»
Теперь не было рядом с Николаем II такого молитвенника.
Теперь, чтобы зазвучала эта молитва о России, нужно было самому стать святым.
Свидетельство того, что эта молитва начала звучать в государе, слова из его дневниковой записи в этот день: «Боже, как тяжело за бедную Россию!» Слова эти перекликаются со словами Иоанна Кронштадтского и как бы продолжают их, вмещая в себя и будущий мученический путь государя.
Свидетельство того, что эта молитва царя-мученика нашла отзвук и в России, – присланное в эти октябрьские дни в Тобольск стихотворение Сергея Сергеевича Бехтеева «Молитва»:
Пошли нам, Господи, терпенье, В годину буйных, мрачных дней, Сносить народное гоненье И пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, Злодейства ближнего прощать И крест тяжелый и кровавый С Твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волненья, Когда ограбят нас враги, Терпеть позор и униженья Христос, Спаситель, помоги! Владыка мира, Бог вселенной! Благослови молитвой нас И дай покой душе смиренной, В невыносимый, смертный час… И, у преддверия могилы, Вдохни в уста Твоих рабов Нечеловеческие силы Молится кротко за врагов!Это стихотворение, посвященное великим княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне, Сергей Бехтеев написал в Ельце в октябре 1917 года, и через графиню Анастасию Васильевну Гендрикову передал в Тобольск.
Однако мистическая история «Молитвы» не ограничилась совпадением с теми переживаниями, которые владели государем в октябрьские дни 1917 года. Великая княжна Ольга Николаевна переписала стихотворение в свою тетрадку, подаренную – на книге сохранилась надпись: «В.К. Ольге. 1917. Мама. Тобольск» – императрицей Александрой Федоровной.
По этой причине долгое время авторство «Молитвы» приписывалось царевне Ольге, и даже публиковалась она под ее именем.
Но ведь так это и было.
Молитва, породившая «Молитву», звучала из уст государя и всей Царской Семьи, и тепло ее коснулось Сергея Сергеевича Бехтеева, сумевшего записать эту великую тобольскую молитву на бумаге…
6
26 января 1918 года государь, как он отметил это в своем дневнике, завершил чтение 12-томного собрания сочинений Н.С. Лескова…
Это событие совпало с решением отрядного комитета об отстранении В.С. Панкратова и его помощника А.В. Никольского от занимаемых должностей.
После их отъезда в Тобольске начались совсем уже странные дела.
В начале марта 1918 года прибыл сюда из Омска комиссар Запсибсовета В.Д. Дуцман, и вслед за ним появился отряд омских красногвардейцев во главе с А.Ф. Демьяновым.
Всю весну они спорили, кто заберет себе Царскую Семью…
«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое в России! Да будет воля Твоя в России! Ты насади в ней веру истинную, животворную! Да будет она царствующей и господствующей в России…»
Эта молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского свободно проникала в мартовские дни 1918 года в сердце последнего русского государя и продолжалась уже самой его мученической жизнью…
Дневниковые записи его неопровержимо свидетельствуют об этом.
«2 (15) марта 1918 года. Вспоминаются эти дни в прошлом году в Пскове и в поезде!
Сколько еще времени будет наша несчастная родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего желать?
А все-таки никто как Бог!
Да будет воля Его святая!..»
22 апреля приехал в Тобольск комиссар Константин Алексеевич Мячин, назвавшийся Василием Васильевичем Яковлевым.
Следователь Н.А. Соколов считал, что Яковлев повез государя в Ригу, но довез его Мячин-Яковлев почему-то только до Екатеринбурга…
Через десять лет по заказу наркома НКВД Александра Георгиевича Белобородова Владимир Николаевич Пчёлин нарисует для Уральского музея революции восьмиметровый холст «Передача семьи Романовых Уралсовету».
Если добавить в названии слово «палачам», то оно не только уточнит смысл произведения, но и углубит трагедийное содержание картины, начинающей последнюю, екатеринбургскую страницу жизни Царской Семьи…
7
Такого не может быть, все наше материалистическое воспитание восстает против этого, но, когда задумываешься над короткой жизнью последнего наследника Русского престола, кажется, что сама мистика обретает реальную плоть…
Царевич Алексей родился в 1904 году, после посещения Царской Семьей Саровской пустыни.
П. Жильяр пишет в своих воспоминаниях, что впервые он увидел цесаревича, когда тому было полтора года…
«Цесаревич был в то время самым дивным ребенком, о каком только можно мечтать, с своими чудными белокурыми кудрями и большими серо-голубыми глазами, оттененными длинными загнутыми ресницами. У него был свежий и розовый цвет лица здорового ребенка, и, когда он улыбался, на его круглых щечках вырисовывались две ямочки. Когда я подошел к нему, он посмотрел на меня серьезно и застенчиво и с большим трудом решился протянуть мне свою маленькую ручку.
Во время этой первой встречи я несколько раз видел, как Императрица прижимала Цесаревича к себе нежным жестом матери, которая как будто всегда дрожит за жизнь своего ребенка, но у нее эта ласка и сопровождающий ее взгляд обнаруживал: так ясно и так сильно скрытое беспокойство, что я был уже тогда поражен этим. Лишь много времени спустя мне пришлось понять его значение».
Долгожданный наследник престола – увы! – оказался больным гемофилией…
Можно понять многое…
И молитвы, которые возносили Императрица и Император о даровании им наследника, и само Чудо, произошедшее после посещения Царской Семьей Саровской пустыни…
Но вот в одном из номеров журнала «Новый мир» за 1890 год я наткнулся на очерк С. Пелевиной «День Царских Дочерей» и, прочитав его, задумался…
«Императрица Александра Федоровна – враг всякой лишней роскоши – старается возбудить в детях вкус к простоте… – написано за несколько лет до рождения Наследника. – Вот одна из причин, почему, например, роскошные куклы, подаренные Великим княжнам Их престарелой бабушкой, королевой Викторией, даются Детям только в торжественные дни; в остальное время Княжны играют цветами, мячиками»…
Задуматься над этой цитатой меня заставили слова: вот одна из причин…
Если стремление привить вкус к простоте – одна из причин, то должны быть и другие причины.
Что же все-таки заставляло императрицу задолго до рождения наследника приучать детей к хранению игрушек в закрытом шкафу?
Гемофилия – наследственная болезнь, передающаяся из поколения в поколение через женщин детям мужского пола. Малейшая царапина для больного гемофилией может оказаться смертельной. Кроме того, при ушибах или резких движениях у больных зачастую происходят внутренние кровоизлияния.
О характере болезни императрица знала.
Знала и о том, что гемофилия – болезнь ее семьи.
Через мать Алису Гессенскую гемофилия была передана брату императрицы Александры Федоровны – Фредерику Вильяму, а значит, и сама императрица могла быть носительницей этой страшной болезни, и была опасность передать ее своему сыну…
И не здесь ли следует искать ту главную причину, по которой императрица приучала своих здоровых дочерей играть только безопасными игрушками?
Когда великие княжны Ольга – ей шел пятый год – и Татьяна – три года – изъявили желание кататься верхом, «как взрослые», в одно прекрасное утро они увидели под своими окнами дрессированного ослика с очень удобным седлом – сиденьем для двоих…
Еще у любимых княжон были маленькие саночки, запряженные двумя деревянными лошадками, симфонион, собачка из папье-маше…
Императрица словно бы прозревала вперед будущую опасность. Начала бороться с болезнью сына задолго до самого рождения его…
Это и называется Роком…
Алексей Николаевич еще не родился, а его страшная болезнь уже незримо витала во дворце.
И разве объяснишь простым совпадением, что в тот год, когда родился наследник престола, его будущий убийца, пятнадцатилетний ученик аптекаря Янкель Свердлов первый раз угодил в тюрьму?
Рок… Судьба…
Наследник престола рос красивым и смелым мальчиком, хотя страшный Рок ежеминутно напоминал о себе.
«Он вполне наслаждался жизнью, когда мог, как резвый и жизнерадостный мальчик. Вкусы его были очень скромны. Он совсем не кичился тем, что был Наследником Престола… – пишет в своих воспоминаниях П. Жильяр. – Он об этом всего меньше помышлял. Его самым большим счастьем было играть с двумя сыновьями матроса Деревенко… У него была большая живость ума и суждения и много вдумчивости. Он поражал иногда вопросами выше своего возраста, которые свидетельствовали о деликатной и чуткой душе…»
«Наследник “будучи горячим патриотом” считал хорошим только все русское… Он был умен, благороден, добр, отзывчив, постоянен в своих симпатиях и чувствах. При полном отсутствии гордости, его существо наполняла мысль о том, что он – будущий царь, вследствие этого он держал себя с громадным достоинством. По мнению всех близко знавших цесаревича, он представлял по уму и характеру идеал Русского царя»… Однажды, задумавшись, цесаревич сказал своему наставнику:
– Нет… Когда я буду царем, в России не будет бедных и несчастных…
Словно в сказке о спящей принцессе, родители заботливо изымали из спальни все острые и колющие предметы. В детской Алексея не было корабельной мачты – этого непременного атрибута детской наследника престола… Родители окружали Алексея вещами, которые не могли поранить его…
Но никакие предосторожности не помогали.
Однажды Алексей влез на скамейку в классной комнате, поскользнулся и упал, стукнувшись коленкой об угол.
«На следующий день он уже не мог ходить. Еще через день подкожное кровоизлияние усилилось, опухоль, образовавшаяся под коленом, быстро охватила нижнюю часть ноги. Кожа натянулась до последней возможности, стала жесткой под давлением кровоизлияния, которое стало давить на нервы и причиняло страшную боль, увеличивающуюся с часу на час».
Странное ощущение охватывает сейчас, когда смотришь на сохранившиеся игрушки Алексея.
Вот заводной аист, вокруг которого хороводом бегают зайцы…
Вот огромное пасхальное яйцо. Яйцо открывается, в одной половинке – футляре – деревянная статуэтка гусара; в другой – лейб-гвардейца… Фигурки солдат можно вынуть, потом аккуратно уложить назад в яйцо-футляр, накинуть защелку и убрать яйцо в шкаф, где уже стоит грустный аист с неподвижно застывшими вокруг него зайцами.
На эти игрушки действительно можно было только смотреть…
Сохранилась фотография детской царевича Алексея…
Возле чума две корякские лодки, дальше на небольшом подиуме, как в хорошем музее, модель железной дороги и броненосца, пирамида с игрушечными винтовками, модели орудий… Под потолком – аэропланы с широкими крыльями.
Вот такая странная, больше похожая на музей, чем на комнату, в которой играет ребенок, детская…
Но, впрочем, странность рождалась и от другого.
Разглядывая невиданное пасхальное яйцо, я думал, что ведь не игрушки убили царевича Алексея…
Ведь как раз в те дни, когда «боли были еще нестерпимее, чем накануне», в те дни, когда «Цесаревич, лежа в кроватке, жалобно стонал, прижимаясь головой к руке матери», его будущий убийца Янкель Свердлов, развлекаясь в тюремной камере, топил в параше пойманную крысу…
Ловко орудуя палкой, он не давал ей выкарабкаться, сбрасывал назад в ведро. Крыса отчаянно верещала, и товарищи Янкеля с отвращением отворачивались, чтобы не видеть этой садистской забавы.
Но ученику аптекаря наплевать было на эмоции и переживания соседей по камере…
2 мая 1918 года император Николай II записал в дневнике: «Применение “тюремного режима” продолжалось и выразилось тем, что утром старый маляр закрасил все наши окна во всех комнатах известью. Стало похоже на туман, который смотрится в окна»…
8
Большинство исследователей склоняются к выводу, что окончательные решения о судьбе царственных узников были приняты, когда в первой половине июля большевики установили единоличную диктатуру и утвердили на съезде Советов свой проект конституции.
Все эти мероприятия были осуществлены к 7 июля.
В Кремле, на квартире Янкеля Мираимовича Свердлова, которого звали уже Яковом Михайловичем Свердловым, жил тогда член президиума Уралоблсовдепа, военный комиссар Шая Исаакович Голощекин, и это сюда и пришла телеграмма председателя Уральского областного совета Александра Георгиевича Белобородова: «Председателю ЦИК Свердлову для Голощекина. Авдеев сменен. Его помощник Мошкин арестован. Вместо Авдеева Юровский. Внутренний караул весь сменен»…
Считается, что Шая Исаакович и привез в Екатеринбург инструкции Янкеля Мираимовича Свердлова.
В Екатеринбург он приехал 14 июля.
В тот же день, в десять часов вечера, состоялось объединенное заседание Уральского областного комитета коммунистической партии и Военно-революционного комитета, на котором Шая Исаакович Голощекин доложил директивы Янкеля Мираимовича Свердлова, а начальник губчека Яков Хаимович Юровский, которого в Екатеринбурге знали просто как Янкеля-фельдшера, доложил свои соображения по ликвидации Царской Семьи.
План его был утвержден, и 16 июля вечером Яков Хаимович Юровский явился в дом Ипатьева и приказал начальнику охранного отряда Медведеву собрать все револьверы системы «наган».
Медведев выполнил приказ, и собранные наганы раздали членам команды особого назначения – чекистам с нерусскими именами, неведомо как возникшими в доме Ипатьева.
Ипатьевский дом в Екатеринбурге. Фото 1917 г.
По многим свидетельствам, они проходят как латыши, но, судя по именам, никакого отношения к латышам не имели.
Сохранился список их фамилий, отпечатанный на бланке Революционного штаба Уральского района: «Горват Лаонс, Фишер Анзелм (вероятно, в имени пропущен мягкий знак – Анзельм), Эдельштейн Изидор, Фекете Эмил (то же пропущен в имени мягкий знак – Эмиль), Над Имре, Гринфелд Виктор (Гринфельд), Вергази Андреас»…
Имена эти, помимо списка расстрельщиков Царской Семьи, больше не встретятся ни в каких чекистских документах. Получается, что семерку эту то ли набрали из военнопленных, то ли специально для расстрела Царской Семьи привезли в Екатеринбург…
Незадолго до полуночи в Ипатьевский дом приехали Шая Исаакович Голощекин и Петр Захарович Ермаков.
Можно было начинать.
Яков Хаимович Юровский разбудил лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина и велел поднимать Царскую Семью. Он сказал, что получил приказ увезти Семью в безопасное место.
Когда все оделись, Яков Хаимович приказал всем следовать за ним в полуподвальный этаж.
Впереди шли Юровский и Никулин (не сохранилось ни его имени, ни отчества), который держал в руке лампу, чтобы освещать темную узкую лестницу.
За ними следовал Государь.
Он нёс на руках царевича Алексея – мальчика, который должен был стать русским императором и который мечтал, чтобы не было в России бедных и несчастных. Нога у царевича была перевязана толстым бинтом, и при каждом шаге он тихо стонал.
За Государем шли Государыня и Великие Княжны. Анастасия Николаевна несла на руках свою любимую собачку Джимми.
Следом – лейб-медик Е.С. Боткин, комнатная девушка А.С. Демидова, лакей А.Е. Трупп и повар И.М. Харитонов.
Замыкал шествие Павел Спиридонович Медведев.
Спустившись вниз, прошли через нижний этаж до угловой комнаты – это была передняя с дверью на Вознесенский переулок.
Здесь Юровский указал на соседнюю комнату и объявил, что придется подождать, пока будут поданы автомобили.
Это была пустая полуподвальная комната длиною в 5,5 и шириной в 4,5 метра. Справа от двери виднелось небольшое, с толстой железной решеткой окно на уровне земли, выходящее тоже на Вознесенский переулок.
Дверь в противоположной от входа восточной стене была заперта. Все стояли лицом к передней, через которую вошли.
«Романовы, – как пишет в своей записке Яков Хаимович Юровский, – ни о чем не догадывались».
– Что же и стула нет? – спросила Александра Федоровна. – Разве и сесть нельзя?
Яков Хаимович – вот она чекистская гуманность! – приказал принести три стула.
Государь сел посреди комнаты и, посадив рядом царевича Алексея, обнял его правой рукой.
Сзади наследника встал доктор Боткин.
Государыня села по левую руку от Государя, ближе к окну.
С этой же стороны, ближе к окну, стояла Великая Княжна Анастасия Николаевна, а в углу за нею – Анна Демидова.
За стулом Государыни встала Великая Княжна Татьяна Николаевна, чуть сбоку – Ольга Николаевна и Мария Николаевна. Тут же стоял А. Трупп, державший плед для Наследника.
В дальнем левом от двери углу – повар Харитонов.
В 1 час 15 минут ночи за окном послышался шум мотора грузовика, присланного для перевозки тел, и тут же из соседней комнаты с наганами в руках вошли убийцы с нерусскими лицами…
В этой книге мы уже говорили, что от словосочетания «нерусский чекист» для нас за версту несет тавтологией. Однако эти чекисты даже и к народам, населяющим Российскую империю, не принадлежали.
Повторим еще раз эти имена…
Лаонс Горват, Анзельм Фишер, Изидор Эдельштейн, Эмиль Фекете, Имре Надь, Виктор Гринфельд, Андреас Вергази.
Семеро должны были расстрелять семь членов Царской Семьи.
Четверо местных палачей – Юровский включил в команду особого назначения еще Никулина, Павла Медведева, Степана Ваганова – должны были убивать доктора Е.С. Боткина, комнатную девушку А.С. Демидову, лакея А.Е. Труппа и повара И.М. Харитонова. Однако в последний момент Юровский изменил план и велел Горвату, который должен был стрелять в Николая II, стрелять в Боткина.
Государя Яков Хаимович взял себе. Послушал ли Лаонс Горват Юровского, неизвестно.
Возможно, что, как было ему приказано ранее, он стрелял в Православного Царя. Во всяком случае, получилось так, что император был убит сразу, а Боткина после первых выстрелов пришлось достреливать…
– Граждане цари! – войдя в комнату и надувая щеки, сказал Яков Хаимович. – Ввиду того что ваша родня в Европе продолжает наступление на Советскую Россию, Уралисполком постановил вас расстрелять!
Государь не сразу понял смысл сказанного. Он привстал со стула.
– Что? Что? – переспросил он.
Вместо ответа Яков Юровский в упор выстрелил в Государя.
Следом раздались еще десять выстрелов.
Сраженный пулей Алексей Николаевич застонал, и один из чекистов ударил его сапогом в висок, а Юровский, приставив револьвер к уху мальчика, выстрелил два раза подряд.
Пришлось достреливать Боткина и царевен.
Раненую Анастасию Николаевну добивали штыками.
Добивали штыками и горничную Демидову.
«Один из товарищей вонзил ей в грудь штык американской винтовки “винчестер”. Штык был тупой и грудь не пронзил».
Все оказалось залито кровью.
В крови были лица и одежда убитых, кровь стояла лужами на полу, брызгами и пятнами покрывала стены.
«Вся процедура, – как сказано в “Записке Юровского”, – считая проверку (щупанье пульса и т. д.) взяла минут двадцать. Потом стали выносить трупы и укладывать в автомобиль, выстланный сукном, чтоб не протекала кровь. Тут начались кражи: пришлось поставить трех надежных товарищей для охраны трупов».
Тем временем нерусские чекисты из расстрельной команды, то ли хулиганя, то ли исполняя обряд, выводили на стенах разные надписи[215]…
«…На южной стене надпись на немецком языке:
Belsatzar ward In selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht[216].Это 21-я строфа известного произведения немецкого поэта Гейне “Belsazar”. Она отличается от подлинной строфы у Гейне отсутствием очень маленького слова: “aber”, т. е. “но все-таки”.
Когда читаешь это произведение в подлиннике, становится ясным, почему выкинуто это слово. У Гейне 21-я строфа – противоположение предыдущей 20-й строфе. Следующая за ней и связана с предыдущей словом “aber”. Здесь надпись выражает самостоятельную мысль. Слово “aber” здесь неуместно.
Возможен только один вывод: тот, кто сделал эту надпись, знает произведение Гейне наизусть.
Снимок № 53 передает вид этой надписи.
На этой же южной стене я обнаружил обозначение из четырех знаков»[217].
9
Это обозначение из четырех знаков новейшие исследователи склонны трактовать как каббалистическую надпись и расшифровывают ее так: «Здесь по приказанию тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы».
Я не берусь судить, насколько разумно идентифицировать обозначение из четырех знаков с каббалистической записью, а тем более обсуждать верность перевода, но ритуальный характер убийства Царской Семьи очевиден…
Только самое страшное в этом убийстве – не каббалистические знаки, которые оставили словно бы из тьмы преисподней вынырнувшие чекисты с нерусскими именами…
Самые страшные в книге Н.А. Соколова, на мой взгляд, страницы, посвященные описанию следов, которые оставил возле Ганиной ямы главный убийца Яков Хаимович Юровский…
Следователь Н.А. Соколов приводит свидетельство послушницы Антонины, которая приносила провизию для Царской Семьи, о том, что незадолго до цареубийства Янкель Хаимович велел ей упаковать в корзину яйца…
«Для кого, – задается вопросом Н.А. Соколов, – Юровский приготовлял 15 июля эти яйца, прося упаковать их в корзину?
Вблизи открытой шахты, где уничтожались трупы, есть маленькая лесная полянка. Только на ней имеется единственный сосновый пень, весьма удобный для сидения.
Отсюда очень удобно наблюдать, что делается у шахты.
24 мая 1919 года вблизи этого пня под прошлогодними листьями и опавшей травой я нашел яичную скорлупу.
15 июля ранним утром Юровский уже собрался на рудник и заботился о своем питании…
На этой же самой полянке, вдали от кустов и деревьев, я нашел в тот же день 24 мая под прошлогодней травой несколько листиков. Они были вырваны из книжки и запачканы человеческим калом.
Книжка эта – врачебное пособие, малого формата, карманного. На одном из листиков сохранилось и название отдела книги, из которого листики были вырваны: “Алфавитный Указатель”.
Кто-то на этой полянке удовлетворял свои потребности. Под руками не было ничего подходящего. Он вынул из кармана свою книжечку и воспользовался страницами, наименее нужными.
Знакомый практически с медициной врач не станет носить у себя в кармане пособия. Это говорит о недоучке. Таким фельдшером-недоучкой был Юровский»[218].
Это свидетельство страшнее любой каббалистической записи…
Попробуем представить себе картину той страшной ночи…
Возле шахты чекисты обливают вначале серной кислотой, а потом керосином тела государя, царицы, царевен и цесаревича, втаскивают на костер и пытаются сжечь их…
А невдалеке, на полянке, с которой удобно наблюдать, что делается у шахты, сидит на пеньке Яков Хаимович Юровский и, не обращая внимания на сладковатый запах обугливающихся тел, расколупывает яичко.
Совершено страшнейшее преступление…
Безвинно убиты не только взрослые люди, но и дети…
Это они обгорают сейчас, превращаясь в гигантские черные головешки на разведенном чекистами костре…
Время от времени Юровский поглядывает туда, но оттуда на поляну тянет сладковатым дымом, хлопья пепла падают на руки Якова Хаимовича, на расколупанное яичко, и Юровский счищает их, но хлопья слишком жирные и не счищаются, липнут, размазываются серыми разводами по яичной скорлупе…
И Яков Хаимович выпивает яйцо вместе с хлопьями пепла, а потом достает из корзинки другое яйцо, не сводя глаз с жуткого костра. В свете костра видны хлопья пепла, прилипшие к толстым, жирным губам…
Совершено величайшее преступление – убиты Царь и его Семья, обрублена возможность для возвращения гигантской России к мирному пути развития во главе с конституционным монархом…
Яков Хаимович Юровский, кажется, и не думает об этом, так увлек его процесс поглощения яиц.
А потом, насытившись желтками и белками, смешанными с пеплом Царской Семьи, Яков Хаимович Юровский расстегивает штаны и, не отходя от пенька, не спеша, справляет свою нужду, подтираясь листочками, вырванными из «врачебного пособия малого формата»…
Так совпало, но 27 июля 1918 года, сразу после расстрела Царской Семьи, СНК издал особый закон об антисемитизме, согласно которому Совет Народных Комиссаров объявил «антисемитское движение опасностью для дела рабочей и крестьянской революции».
Как свидетельствовал А.В. Луначарский, дополнение, предписывающее всем Совдепам «принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения», а «погромщиков и ведущих погромную агитацию» «ставить вне закона», была сделана собственноручно В.И. Лениным[219].
Яков Хаимович Юровский об этом законе мог узнать разве только по телефону от своего непосредственного шефа Янкеля Мираимовича Свердлова, которому он и повез семь баулов с царскими драгоценностями после расстрела Царской Семьи[220].
Тем не менее этот глумливый убийца не побоялся бросить в Екатеринбурге свою мамашу – Эстер Юровскую…
И хотя белогвардейцы в Екатеринбурге тоже ничего не знали о подписанном В.И. Лениным декрете, мамашу Эстер, разумеется, не тронули. Она благополучно дождалась возвращения сына-цареубийцы…
Ну а тот день, когда туманом, стекающим из малярного ведра, затягивало окна дома Ипатьева, в Московском Кремле, брызгая слюной и посверкивая стеклышками пенсне, спорили о судьбе последнего русского императора новые властители России…
И одному из них, бывшему ученику аптекаря Янкелю Свердлову, вспомнилась вдруг, как там, в камере, завершив истязание крысы, он отвернулся лицом к стене и долго лежал с открытыми глазами, словно видел в каменном мраке подвал Ипатьевского дома, куда следом за императрицей и дочерьми спустится и сам государь, держа в руках мальчика, мечтавшего, чтобы не было в России бедных и несчастных.
А следом за ним спустились в подвал чекисты с нерусскими лицами…
И уже никто не увидел, как, ярко вспыхнув вблизи Марса, скатилась с небосклона последняя звезда русских императоров.
Примечания
1
Библейский пророк Даниил, толкуя сон вавилонского царя Навуходоносора, сказал о четырех царствах, предшествующих концу света. Отцы Церкви еще в начале первого тысячелетия нашей эры пришли к выводу, что Пророк говорил о Вавилонской, Персидской, Македонской и Римской империях, наиболее полно выражавших на момент своего существования всю мировую цивилизацию, воплощавших в себе мировой порядок, который способен сопротивляться мировому хаосу.
Христианская Римская империя была основой христианской европейской цивилизации, однако западная часть ее ушла в католическую ересь, и обязанность сопротивления мировому хаосу приняла на себя Византия (Второй Рим), но она пала под натиском турок-мусульман, пала и Византия, и обязанность продолжить существование Римской империи, а вместе с нею и вселенская ответственность в деле спасения к Царству Небесному перешла к Руси.
(обратно)2
Косма и Дамиан Асийские были персонажами множества народных примет и поговорок: «Кузьминки – от осени одни поминки», «Если на Козьмодемьяна лист остаётся на дереве, на другой год будет мороз», «Кузьма закуёт, а Михайло раскуёт» (Михайловские оттепели). Косма и Дамиан Асийские известны были также на Руси как хранители кур, отчего день памяти их (1/14 ноября) называли Куриными именинами, или Курятниками.
(обратно)3
На месте загородного княжеского дворца святых Петра и Февронии устроен Воскресенский монастырь.
(обратно)4
В иночестве Ермолай Прегрешный стал Еразмом.
(обратно)5
В этом руководстве была изложена программа общественного переустройства. Помещиков, по мнению автора «Повести о Петре и Февронии», следовало для удобства быстрейшей мобилизации переселить в города. Помещики должны были в результате превратиться в чиновничество, и размер земельных владений их должен был зависеть от занимаемой ими должности. Для предупреждения народных волнений следовало рядом законодательных актов улучшить положение народа.
(обратно)6
Этот Илья Муромец был канонизирован в 1643 году в числе шестидесяти девяти угодников Киево-Печерской лавры.
(обратно)7
Существует и другая версия, согласно которой родина Ильи Муромца – не село Карачарово, а посёлок Муровск в современной Черниговской области.
(обратно)8
В одном из вариантов былины это был Христос с двумя Апостолами.
(обратно)9
Государственная посольская дорога из Москвы в Золотую Орду и Астраханское ханство.
(обратно)10
Деревня Ардатка стала в дальнейшем уездным городом.
(обратно)11
Современное Сеченово.
(обратно)12
Нечто подобное происходило и в XV веке. Ересь жидовствующих получила столь широкое распространение отчасти из-за отсутствия доброкачественных переводов библейских текстов.
(обратно)13
Сам Иоанн IV Васильевич Грозный называл это – смотреть «беззаконныма очами».
(обратно)14
У Данилы Романовича Захарьина были причины торопиться с возвращением. Во время казанского похода в Москве умерла его супруга.
(обратно)15
Святитель Макарий, митрополит Московский, почил 31 декабря 1563 года. Когда погребали его в Успенском соборе, «было лицо его как свет сияющее». Прославлен святитель Макарий был на Соборе Русской Православной Церкви 1988 года, одновременно с преподобным Максимом Греком.
(обратно)16
Как утверждается в «Истории родов русского дворянства», составленной П.Н. Петровым, от Варвары Ивановны Ховриной имел Никита Романович дочерей – Анну и Евфимию и сына Федора, будущего патриарха Филарета. Однако, как доказывают изыскания Г.В. Мещеринова, Федор Никитич был рожден во втором браке.
(обратно)17
Лев Никитич, как и его сестра Иулиания Никитична, умер молодым.
(обратно)18
Мы, которые являемся такими же хорошими дворянами, как император и вы…
(обратно)19
Вы истинный член вашей семьи, все Романовы революционеры и уравнители.
(обратно)20
Вот репутация, которой мне недоставало…
(обратно)21
31 мая 1584 года, когда Федор Иоаннович венчался на царство, он, не дожидаясь конца церемонии, отдал Державу Борису Годунову.
(обратно)22
Он родился в седьмом браке Ивана Васильевича, а Церковь разрешала три.
(обратно)23
Княжна Феодосия умерла четырех лет от роду.
(обратно)24
Колокол этот вернется из ссылки только в 1892 году. Интересно, что возвращение его совпадет с «выходом» в историю второго связанного с Романовыми Григория. В 1892 году покидает дом и уходит на богомолье Григорий Распутин.
(обратно)25
Иов. Повесть о житии царя Федора Ивановича.
(обратно)26
Три столетия спустя слова эти повторит царевич Алексей, но ему и вообще не дадут царствовать на Руси.
(обратно)27
С 1582 по 1696 год русский трон занимали сразу два государя – Иван V Алексеевич и Петр I Алексеевич.
(обратно)28
О «подвигах» Жака Маржерета на службе у поляков подробно рассказывает в своей хронике Конрад Буссов.
(обратно)29
Варвара Отрепьева тоже узнала. Только не царевича, а своего, отданного в услужение боярам Романовым сына Григория.
(обратно)30
Заметим попутно, что летописцы, составлявшие повествования о Смутном времени, достаточно чутко улавливали эти тенденции и не фальсифицировали предыдущие свидетельства, а как бы переосмысляли их в свете происходящих событий. Тогда и возникли разночтения. Разночтения эти – продукт изменения отношения к самозванцу общества и самих летописцев… И безосновательны попытки, основываясь на них, ставить под сомнение сами эти свидетельства.
(обратно)31
Некоторые летописцы упоминают о посещении Отрепьевым царицы Марии Нагой в монастыре на Выксе, но это маловероятно.
(обратно)32
Пафнутий станет потом крутицким митрополитом.
(обратно)33
Дмитрий многим напоминает Генриха IV. Подобно ему – он храбр, великодушен и хвастлив, подобно ему – равнодушен к религии; оба они из соображений политических отрекаются от своей веры; оба любят удовольствия и войну; оба предаются несбыточным планам. Оба являются жертвами заговоров.
(обратно)34
Больше всего разночтений в летописях как раз в этом списке монастырей. Но, на наш взгляд, как раз отсутствие единообразия и доказывает, что свидетельства эти подлинные. Если бы они были фальсифицированы, авторы наверняка бы озаботились придать им единообразие. Ведь, в принципе, нетрудно было бы договориться и отработать единый, без малейших разночтений, текст биографии самозванца, но ни патриарх, ни бояре не придавали значения второстепенным подробностям пути Отрепьева. Они считали достаточным назвать те монастыри, которые были известны им из их собственных источников…
(обратно)35
Эти показания дают возможность говорить и о причастности Шуйских к изготовлению самозванца и объясняют нерешительность Василия Ивановича Шуйского, проявленную при расследовании убийства царевича.
(обратно)36
Родственник самозванца, тот самый дьяк, который обучал малолетнего Отрепьева каллиграфии.
(обратно)37
В первые же дни по вступлении своем на престол Лжедмитрий сделал всех русских архиереев сенаторами. Сохранилась подробная роспись всем членам нового русского сената. Из нее видно, что духовную раду составляли патриарх, сидевший особо по правую руку государя, потом сидели митрополиты – Новгородский, Казанский, Ростовский и Сарский, далее – архиепископы…
(обратно)38
Это тот самый герой, который несколько месяцев спустя предотвратил попытку тушинского патриарха Филарета Романова сбежать к полякам…
(обратно)39
Считается, что за три месяца своего правления Лжедмитрий Отрепьев издержал более 7 миллионов рублей.
(обратно)40
Он представляет в истории странную смесь смелости, изворотливости и силы характера… (А.С. Пушкин. Т. 6. С. 64)
(обратно)41
В грамоте царя Михаила к Морицу, принцу Оранскому второй самозванец назван жидом. Петр Петрей в «Истории о великом княжестве Московском, происхождении великих русских князей, недавних смутах, произведенных там тремя Лжедмитриями…» говорит, что он был белорусом из местечка Сокол.
(обратно)42
Крестник Михаила Скопина-Шуйского, князь Алексей Иванович Воротынский, женился на дочери И.Н. Романова Марфе, их сын был ближним боярином царя Алексея Михайловича. Но на нем и пресекся род Воротынских.
(обратно)43
В памятнике XVII века «Писание о преставлении и погребении князя Скопина-Шуйского» тоже говорится, что отравление произошло на крестильном пиру у Воротынского.
(обратно)44
Считается, что проклятие патриарха Гермогена очистило русскую жизнь от этого предателя. В октябре 1611 года совместно с князем Ю.Н. Трубецким М.Г. Салтыков руководил русским посольством в Польшу, просившим присылки новых польских войск и отпуска Владислава в Москву. После этого в Россию он уже не вернулся. От Сигизмунда III он получил в Смоленском воеводстве земельные пожалования, и отныне его потомство стало пользоваться гербом Солтык. Впрочем, на оставшихся в России Салтыковых, родственников матери царя Михаила Федоровича Романова, проклятие Гермогена не распространилось. Еще долго оставались они в силе.
(обратно)45
Когда ополчение Пожарского вступило в бой, казаки Трубецкого наблюдали за битвой и, посмеиваясь, говорили между собой: «Богаты пришли из Ярославля, отстоятся и одни от гетмана!»
(обратно)46
Вначале праздник был местным, и только в 1648 году, когда на праздник «чудотворныя иконы Казанския, во время всенощного пения» родился наследник престола царевич Дмитрий, царь Алексей Михайлович повелел праздновать 22 октября Казанской иконе «во всех городах по вся годы», как бы редактируя при этом и содержание самого праздника. Но первенец царя Алексея Михайловича вскоре умер, а праздник – осеннее почитание Казанской иконы Божией Матери – сделалось всенародным – остался в прежнем своем значении.
(обратно)47
Знаток Смутного времени С.Ф. Платонов резонно замечает по этому поводу, что даже казна государева тогда не могла сосредоточить у себя такой суммы, не говоря уже о частном лице.
(обратно)48
После кончины старца осталось праведных «трудов» его сто сорок два креста медных, семь пудов плечных, железная цепь в двадцать саженей, которую он надевал на шею, железные путы ножные, восемнадцать медных и железных оковцев, которые он носил на руках и на груди, связни, которые носил на поясе, весом в один пуд, палка железная, которою смирял свое тело и прогонял бесов… Как утверждают исследователи, преподобный Иринарх носил на себе, не снимая, 161 килограмм «праведных трудов».
(обратно)49
Этому уничтожению мы сопоставили бы Предсоборное присутствие и Собор 1917 года, уничтоживший Петровское устроение Русской Православной Церкви.
(обратно)50
После возвращения в Москву патриарха Филарета провели новый розыск по делу «царской невесты», и проделка Салтыковых обнаружилась. Михаил Михайлович и его брат Борис Михайлович за то, что они «государской радости и женитьбе учинили помешку», были разосланы по деревням; мать их заключили в монастырь; поместья и вотчины отобрали в казну. Однако после кончины патриарха Филарета Михаил Михайлович Салтыков вернулся в Москву, где ему были возвращены бывшие чины.
(обратно)51
Между прочим, шляхтич Белинский, находившийся в то время в Москве, попытался подменить «воренка» сыном погибшего шляхтича Дмитрия Лубы из Подляшья. Совершить подмену ему не удалось, но Белинский повез Дмитрия Лубу в Польшу и здесь объявил его сыном Марины Мнишек, внуком Иоанна Грозного. Король Сигизмунд отдал «царевича» на воспитание Льву Сапеге и назначил ему на содержание 6000 злотых. Однако по мере завершения русско-польской войны нужда во «внуке Иоанна Грозного» уменьшалась, содержание ему было уменьшено до 100 злотых, а потом прекращено совсем. И только в Москве интерес к самозванцу не угасал. В результате правительство Михаила Федоровича добилось выдачи Ивана Лубы. В Москву он был привезен как раз в те дни, когда умирал первых царь Дома Романовых – Михаил Федорович.
(обратно)52
Филарет жил в доме Льва Сапеги, и Сапега был его приставом.
(обратно)53
В 1850 году по этому пути пришел в Сибирь «начальствующий экспедицией для исследования Северного Урала» генерал Гофман. Он поднялся на лодке из Вишеры по реке Улсую, свернул в приток Кутим. «Господин Гофман с проводниками продолжал дальнейшее путешествие пешком по лесной и болотистой тропинке». Генерал-геолог пробрался через Уральский хребет между истоком Кутима и сибирской уже речушкой Еловой, впадающей в приток Южной Сосьвы – Шегультан.
(обратно)54
Как сообщается в предисловии изданного Никоном Служебника, по вступлении на патриаршую кафедру он «упразднися от всех и вложися в труд, еже бы Святое Писание разсмотрити, и, входя в книгохранильницу, со многим трудом многи дни в разсмотрении положи».
(обратно)55
По-нынешнему – девятого.
(обратно)56
Первого и второго.
(обратно)57
Афанасий три раза восходил на патриарший престол, но первый раз провел на нем 40 дней, второй раз – около года и в третий раз – только 15 дней. В последнее время Афанасий проживал в Волошской земле, в монастыре Святителя Николая. Скончался на Украине 5 апреля 1654 года в Лубенском монастыре.
(обратно)58
Киприан – святой, митрополит Московский. Монашество принял на Афоне.
(обратно)59
Был патриархом до 1646 года, его сменил Иоанникий II, Парфений сменил его в 1647 году и занимал престол до 1650 года.
(обратно)60
Иерусалимский патриарх Паисий I находился на престоле с 1645 по 1661 год.
(обратно)61
Мефодий III был константинопольским патриархом с 1669 по 1671 год.
(обратно)62
Нектарий был иерусалимским патриархом с 1661 по 1669 год.
(обратно)63
Парфений IV был константинопольским патриархом с 1657 по 1660, вторично с 1665 по 1668, в третий раз с 1671 по 1672 год.
(обратно)64
Досифей II был иерусалимским патриархом с 1669 по 1707 год.
(обратно)65
Дионисий III был константинопольским патриархом с 1660 по 1665 год.
(обратно)66
Хранитель церковных книг и документов. Посланец Лигарида.
(обратно)67
Макарий был антиохийским патриархом с 1648 по 1672 год.
(обратно)68
Паисий был александрийским патриархом с 1663 по 1665 год. Потом хлопотами царя Алексея Михайловича снова возвращен и был патриархом вторично с 1668 по 1676 год.
(обратно)69
В приложении к двухтомному исследованию Н.Ф. Каптерова «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович» приведены грамоты, которые с богатыми дарами рассылал турецкому султану и Восточным патриархам царь Алексей Михайлович, чтобы возвратить на престолы экс-патриархов…
(обратно)70
Петр Дамаскин, святой, живший в III–IV веках, выдающийся христианский проповедник, был казнен агарянами в Дамаске. Когда ему вырезали язык, он не утратил способности говорить, более того, по преданию, речь его стала еще яснее. После этого святому выкололи глаза, отрезали руку и ногу и пригвоздили к кресту.
(обратно)71
Пленники, захваченные в качестве добычи.
(обратно)72
По другой версии, предсказание это было сделано Дмитрием Ростовским – составителем свода «Жития Святых», переиздающегося вот уже триста лет.
(обратно)73
Новый год начинался 1 сентября.
(обратно)74
А.С. Матвеев был женат на шотландке Мэри Гамильтон, ставшей в замужестве Евдокией Григорьевной.
(обратно)75
Правила в делах судебных и духовных, введенные митрополитом Платоном в 1800 году. Раскольники, вступающие в единоверие, освобождались от возложенных на них клятв. Ряд служб разрешалось им совершать по старопечатным книгам, но подчинялись они епархии.
(обратно)76
31 мая попадало на постный день, пятницу, 1 июня, накануне воскресного дня, тоже не полагалось пировать, а 2 июня наступало уже заговенье перед Петровым постом.
(обратно)77
Богословский М.М. Петр I. Материала для биографии. М.: Центрполиграф, 2007. С. 14.
(обратно)78
Наталья Кирилловна родила тогда дочь Наталью Алексеевну.
(обратно)79
По преданию, из этих пушек всегда производился салют 6 августа (Преображение) и 6 декабря (день ротного праздника бомбардирской роты).
(обратно)80
«Ныне же у царя три сына, един приходит в возраст, а другие млады; и при своем животе похочет ли которого женить или отделить, – писал Гр. Котошихин. – Так же ежели случится по смерти его быти всем живым, или еще вновь прибудут, а единого из них оберут царем, а иным таким же ли отделением жити, как сперва началось или как об них вновь умыслят…»
(обратно)81
Учить Петра грамоте начали еще в 1675 году. Тогда подьячий Тайных дел Григорий Гаврилов написал для царевича азбуку. 27 ноября в соборе Николая Гостунского отслужили молебен, и 1 декабря начались занятия.
(обратно)82
От брака Алексея Михайловича с княжной Милославской было пять сыновей и восемь дочерей. Первенец Димитрий скончался в младенчестве. Второй сын Алексей умер в возрасте шестнадцати лет. За три месяца до него умер четырехлетний Симеон. Остались Федор и Иван. Были они, как считают некоторые историки, хилыми, страдали скорбутом…
(обратно)83
Сергей Леонидович Бухвостов умер в возрасте 86 лет в 1728 году в чине майора.
(обратно)84
Устрялов Н.П. История царствования Петра Великого. Т. II. Приложение I.
(обратно)85
Парик.
(обратно)86
Как отмечает в своем исследовании М.М. Богословский, «29 августа были отпразднованы именины царя Ивана Алексеевича. Петр приезжал из Преображенского поздравлять брата. За последние четыре месяца (сентябрь – декабрь) 1690 г. дворцовых разрядных записей не найдено». Возможно, этих записей и не было, поскольку все четыре месяца, утомившись выборами патриарха, восемнадцатилетнее дитя редко появляется в Кремле и занимается исключительно военными играми.
(обратно)87
Павленко Н.И. Петр Великий. М.: Мысль, 1990. С. 36.
(обратно)88
Некоторые историки склонны воспринимать «всепьянейший собор» просто как сатиру на Римско-католическую или Русскую Православную Церковь. Это, однако, маловероятно, хотя бы уже потому, что Петр тогда еще не воспринимал Церковь как единый институт, который должен быть подвергнут реорганизации. Те же священники, архиереи и патриархи, которые досаждали молодому Петру, едва ли заслуживали, по мнению Петра, сатирического очищения, Петр мог покарать их более простым и доступным ему способом.
(обратно)89
Во втором походе под Азов было собрано 70 тысяч человек.
(обратно)90
На допросах Петр I особенно интересовался родственниками жены. И хотя никаких показаний против родственников Петру I у заговорщиков вырвать не удалось, он сослал тестя, Федора Авраамовича Лопухина, в Тотьму, а шуринов – в Саранск и Вязьму.
(обратно)91
«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2: 19).
(обратно)92
Павленко Н.И. Петр Великий. М.: Мысль, 1990. С. 138.
(обратно)93
Указ Петра I об одежде от 4 января 1700 года.
(обратно)94
По другим сведениям, Г. Талицкий был сослан и там, в ссылке, и пропал.
(обратно)95
«Господь Бог нынешнюю кампанию так счастливо начати благоволил», «Завтра надеемся увидеть врага, милость Божия да будет с нами», «Всемогущий Господь соизволил почтить Россию», «Зело желаю, чтоб весь наш народ прямо узнал, что Господь Бог прошедшей войной и заключением мира нам сделал. Надлежит Бога всею крепостию благодарить», «Так воля Божия благоволила и грехи христианские допустили… Но мню, что праведный Бог может к лучшему сделать».
(обратно)96
Публичная свадьба Петра I состоялась в 1712 году.
(обратно)97
Через двести лет, в 1918 году, большевики будут ликовать по поводу убийства друга царевича – Алексея Николаевича.
(обратно)98
Дачниками при Петре звали тех, кто давал взятки.
(обратно)99
Отметим тут, что Романовы и в дальнейшем покровительствовали иезуитам. Считается, что после первого раздела Речи Посполитой под власть России перешли около 20 иезуитских организаций: 4 коллегии (коллегиума) – в Динабурге (Витебская губ.), Витебске, Полоцке и Орше; 2 резиденции – в Могилеве и Мстиславле и 14 миссий. И даже когда в 1773 году иезуитский орден был уничтожен папой Климентом XIV, императрица Екатерина II отказалась признать буллу папы и разрешила иезуитам сохранить свою организацию и владения на территории России. Россия стала единственным государством, где иезуиты еще не были запрещены.
(обратно)100
Нечто похожее, между прочим, происходило в колхозах во времена Сталина и Хрущева, когда колхозники были лишены паспортов и не могли вследствие этого самовольно переезжать из одной местности в другую…
(обратно)101
В результате петровских реформ народонаселение некоторых губерний убыло на 25–40 %.
(обратно)102
160 тысяч из этой суммы пошли на выкуп заложенных имений герцога…
(обратно)103
По другому известию, челобитную прочитал Татищев.
(обратно)104
Die wilde Нerzogin.
(обратно)105
Это отношение к русскому народу чрезвычайно роднило Петра I с Лениным и Троцким. Возможно, поэтому памятники Петру I и не уничтожались большевиками.
(обратно)106
Одно время Бирон был студентом Кёнигсбергского университета, но учебу бросил.
(обратно)107
Фрэнсис Дэшвуд был весьма образованный человек, в дальнейшем он стал в Англии бароном Ле Деспенсером и занял пост соминистра почт.
(обратно)108
Об огромных потерях среди строителей Петербурга упоминают лишь иностранцы. Отечественные источники говорят об этом вскользь.
(обратно)109
Отметим здесь, что в отношении к евреям при Анне Иоанновне тоже прослеживается определенная преемственность политики Петра I. Хотя и издавались строгие указы, воспрещающие сдачу земли в Малороссии в аренду евреям и ограничивающие еврейскую торговлю спиртным, но в силу они не вступали. Более того… Жесточайшая эксплуатация еврейскими арендаторами крестьян была разрешена Бироном теперь еще и в Слободской Украине, и на Смоленщине, а торговля польской водкой – по всей Великороссии.
(обратно)110
Cчитается, что 19 января 1730 года верховники рассматривали и кандидатуру Екатерины Иоанновны в качестве будущей императрицы, но отказались от нее, памятуя о сумасбродстве ее супруга…
(обратно)111
Бирону было нанесено при аресте около двадцати ран, от которых он излечился только спустя два года.
(обратно)112
Нынешний Чаплыгин.
(обратно)113
Нетрудно заметить тут стремление уподобить законного государя-императора самозванцу Григорию Отрепьеву.
(обратно)114
Это тот самый ребенок, которого родила Анна Леопольдовна, когда ее беременную обливали ледяной водой в Раненбурге.
(обратно)115
Он происходил из знатного украинского рода, имения которого в свое время были конфискованы за участие в измене гетмана Мазепы в 1709 году.
(обратно)116
Екатерина II в своих «Записках» достаточно определенно пишет о том, что Павел был рожден ею от Сергея Салтыкова.
(обратно)117
Брикнер А. История Екатерины Второй. В 2-х т. Т. 1. М.: Современник; Товарищество Русских Художников, 1991. С. 176.
(обратно)118
Недавно во время строительных работах в Холмогорах был отрыт скелет, который, по мнению местных краеведов, является скелетом Иоанна VI Антоновича.
(обратно)119
Маркиз де Кюстин в своих воспоминаниях о посещении 2 августа 1839 года крепости, «где несчастный наследник русского престола умер, лишившись рассудка, – оттого, что кто-то решил, что удобнее сделать из него идиота, чем императора», пишет, что ему пришлось проявить немалую настойчивость, чтобы попасть на могилу Иоанна Антоновича.
«Когда мы покинули гостиную коменданта, мне для начала стали показывать великолепное убранство церкви! Если верить тому, что удосужился сообщить мне комендант, четыре церковные мантии, торжественно развернутые передо мною, обошлись в триста тысяч рублей. Устав от всего этого кривлянья, я напрямую заговорил о могиле Ивана VI; в ответ мне показали пролом, сделанный в стенах крепости пушкой Петра Великого, когда он лично вел осаду этого шведского укрепления, ключа к Балтике.
– Но где же могила Ивана? – повторил я, не давая себя сбить. На сей раз меня отвели за церковь, к бенгальскому розовому кусту, и сказали:
– Она здесь».
(обратно)120
Это строение Екатерины II оказалось непрочным, храм пришлось перестраивать, и заново его освятили уже в правление Николая I в 1828 году.
(обратно)121
Современный исследователь Я. Гордин считает, что монастыри пугали и раздражали царя не потому, разумеется, что туда могли сбежаться все поселяне, оставив государство без работников, – вместимость монастырей была вполне ограничена, а прежде всего как очаги грамотности, из коих могли выходить «подметные письма», враждебные ему сочинения, где могла создаваться летопись его деяний.
(обратно)122
О том, насколько уродливым было украинское засилье, например, в церковной жизни свидетельствует история, опубликованная в «Русском архиве» в 1866 году…
…Одно время в Троице-Сергиевой лавре была половина монашествующих великороссы, москали; другая – малороссияне. Они образовали две партии, не сочувствовавшие друг другу. Однажды эта неприязнь малороссиян обнаружилась и перед императрицей.
Архимандриту, который был малоросс, дали знать, что императрица будет в лавре. Собрав своих земляков, он сказал:
– Ее императорское величество изволит прибыть в нашу лавру, а как ей известно, что молитвами преподобного Сергия Господь взыскал лавру богатством и как Ее императорское величество любит велелепие, то постарайтесь явиться пред лицом Ее величества в лучших одеждах.
А великороссам он присоветовал одеться как можно хуже, чтоб показать себя во всем монашеском смирении. И те и другие исполнили распоряжение архимандрита. Императрица заметила это резкое различие в одеянии братии и спросила: «Лавра всем изобилует. Отчего же одни одеты хорошо, а другие бедно и худо?»
– Потому, Ваше Величество, – ответил архимандрит, – что братия из малороссов трезвы и благоприличны, а великороссы невоздержанны и нерадивы.
(обратно)123
Может быть, этим и объясняется такое пристрастие Елизаветы к Украине. При ее дворе и до Разумовского было немало малороссов. Это – священники отец Констанций и Федор Дубянский, камер-лакей Котляревский, секретарь Мирович, бандурист Григорий Михайлов…
(обратно)124
Между прочим, тайное венчание Петра I с Мартой Скавронской произошло только в 1711 году, когда так несчастливо овдовела юная герцогиня Курляндская Анна Иоанновна.
(обратно)125
По другой версии, надпись под картиной гласила: «Сего же вечера одно или завтра другое».
(обратно)126
Эта жадность дорого обошлась маркизу. Принц Конти весьма порицал его, что «революция произошла без нашего участия».
(обратно)127
Екатерина II называет его почему-то бароном Черкасовым.
(обратно)128
Ирина Семенова. Поэма о святой Ксении.
(обратно)129
Преподобный Феодор Санаксарский, в миру Иван Игнатьевич Ушаков, родной дядя святого праведного адмирала Феодора Ушакова.
(обратно)130
Если учесть, что после скорбного происшествия на офицерской пирушке Иван Игнатьевич Ушаков шесть лет скитался по лесным пустыням, а потом был отыскан и доставлен к Елизавете Петровне, которая повелела поместить его в Александро-Невскую лавру, и он еще три года пробыл здесь в послушании, то получается, что от той пирушки до пострижения преподобного Феодора в монахи 13 августа 1748 года прошло девять лет.
(обратно)131
Прасковья Антонова.
(обратно)132
Уже XIV класс Табели (фендрик, с 1730 года – прапорщик) давал право на потомственное дворянство (в гражданской службе потомственное дворянство приобреталось чином VIII класса – коллежский асессор, а чин коллежского регистратора – XIV класс, давал право на личное дворянство). По Манифесту от 11 июня 1845 года потомственное дворянство приобреталось с производством в штаб-офицерский чин (VIII класс).
(обратно)133
Существует предание, что церковь евангелиста Матфея, прихожанами которой были супруги Петровы, была построена еще при основании Санкт-Петербурга, а потом перенесена на окраину.
(обратно)134
Нынешний Чкаловский проспект Петроградской стороны был в те годы пустырем, на котором кончался город.
(обратно)135
Баллада И.И. Дмитриева «Отставной вахмистр».
(обратно)136
Схожее предание связывают и с именем Евдокии Денисьевны Гайдуковой. Однажды блаженная Ксения зашла к ней в предобеденное время. Евдокия Денисьевна тотчас же поспешила накрыть на стол, усадила за стол Ксению и стала угощать ее.
«Не взыщи, – говорила она, – голубчик Андрей Григорьевич, больше мне угостить тебя нечем, ничего сегодня не готовила».
«Спасибо, матушка, спасибо за твое угощение, – отвечала Ксения, – только ведь побоялась же ты дать мне уточки!»
Сильно сконфузилась Евдокия Денисьевна: в печи у ней действительно была жареная утка, которую она приберегала для отсутствующего мужа.
Евдокия Денисьевна Гайдукова вполне реальный человек, она скончалась в 1827 году и погребена на Смоленском кладбище недалеко от часовни блаженной Ксении.
(обратно)137
Результат этой метаморфозы отметил А.С. Пушкин в «Заметках к “Истории Пугачевского бунта”», которые он «не решился напечатать». «Показание некоторых историков, – писал Пушкин, – утверждавших, что ни один из дворян не был замешан в Пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему. Замечательна разность, которую правительство полагало между дворянством личным и дворянством родовым. Прапорщик Минеев и несколько других офицеров были прогнаны сквозь строй, наказаны батогами и проч. А Шванвич только ошельмован преломлением над головою шпаги. Екатерина уже готовилась освободить дворянство от телесного наказания. Шванвич был сын кронштадтского коменданта, разрубившего некогда палашом в трактирной ссоре, щеку Алексея Орлова (Чесменского).
(обратно)138
Будучи удаленным от двора, Петр Афанасьевич Бекетов участвовал в Семилетней войне. В 1762 году был произведен в генерал-майоры и на следующий год назначен астраханским губернатором.
(обратно)139
Адольф-Фридрих, епископ Любекский, герцог Голштинский, впоследствии избранный на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елизаветы шведским королем. Он приходился двоюродным братом Карлу-Петру-Ульриху.
(обратно)140
Русско-шведская война 1741–1743 годов. Одной из официально объявленных шведами претензий к России перед началом этой войны как раз и было лишение потомства Петра I русского престола.
(обратно)141
Мария Симоновна Чоглокова – статсдама, двоюродная (по матери) сестра императрицы Елизаветы Петровны.
(обратно)142
А.Г. Брикнер в «Истории Екатерины Второй», должно быть, для пиетета называет его губернатором.
(обратно)143
Они были троюродными братом и сестрой.
(обратно)144
Екатерина II писала свои «Записки» по-французски.
(обратно)145
Впервые копия с записок Екатерины II была сделана князем А.Б. Куракиным еще при императоре Павле, и хотя Николай I и распорядился изъять все списки, а подлинник укрыть в императорском архиве, А.И. Герцен в 1858 году издал эти записки в Лондоне. В России записки Екатерины II были опубликованы только в 1906 году, и поэтому оказались практически вне поля зрения русских историков ХIХ века.
(обратно)146
После кончины мужа Мария Симоновна Чоглокова вышла замуж за коллежского асессора Александра Ивановича Глебова, который по такому случаю был назначен обер-прокурором Сената.
(обратно)147
Станислав II Август Понятовский, последний король польский и Великий князь Литовский в 1764–1795 годах.
(обратно)148
Екатерина с большой любовью описала Брокдорфа в своих записках: «Он был высок, с длинной шеей и тупой плоской головой; притом он был рыжий и носил парик на проволоке; глаза у него были маленькие и впалые, почти без ресниц и без бровей; углы рта спускались к подбородку, что придавало ему всегда жалобный и недовольный вид. Относительно его внутренних качеств я сошлюсь на то, что уже сказала, но прибавлю еще, что он был так порочен, что он брал деньги со всех, кто хотел ему давать, и чтобы его августейший государь со временем ничего не нашел сказать по поводу его взяток, видя, что тот постоянно нуждается, он убедил его делать то же самое и доставлял ему таким образом столько денег, сколько мог, продавая голштинские ордена и титулы тем, кто хотел за них платить, или заставляя великого князя просить и хлопотать в разных присутственных местах империи и в Сенате о всевозможных делах, часто несправедливых, иногда даже тягостных для империи, как монополии, и другие привилегии, которые никогда не прошли бы иначе, потому что они противоречили законам Петра I».
(обратно)149
Лучшая квартира в Петербурге стоила тогда около 20 рублей в месяц. Теленок – 2 рубля, курица – 5 копеек, пуд коровьего масла – 2 рубля, десяток лимонов – 3 копейки.
(обратно)150
Удержать полк от измены пытался Л.А. Пушкин, дед поэта, за что и просидел два года в крепости.
(обратно)151
Как потерянную манжету (фр.).
(обратно)152
Е.Р. Дашкова, бывшая якобы свидетельницей сцены встречи ее дяди с императрицей, утверждает, что только он отказался присягать, однако и Воронцов уверил Екатерину, что ничего не предпримет против нее, но вместе с тем не изменит присяге, данной им Петру III. Он попросил императрицу приставить к нему офицера, чтобы тот был свидетелем всего, что происходит у него в доме, и вернулся в Воронцовский дворец, как пишет его племянница, «с спокойствием, неразлучным с величием души».
(обратно)153
«У масонства, – пишет В. Острецов, – своя метафизика и своя аскеза. Эта метафизика – каббалистическая натурфилософия с магией и языческими обрядами, напоминающими кровавые таинства подземных богов – послужила основанием как сентиментализма, через раскрытие масонской формулы – “познай себя”, так и романтизма… Романтизм – это всегда разорванность и несводимость, это сплошные апории, и среди них главная – герой и толпа, просвещенные и профаны (цадики и невежи хасидизма из этого же ряда). И еще: с одной стороны искусственная и, следовательно, неполноценная культура, которой противостоит стихийная, “органическая”, бессознательная, народная. Эта натурфилософская концепция, идущая еще от стоиков и киников, легла в основу романтических построений славянофилов.
Именно в масонстве формируется русский интеллигент.
Здесь он впервые изучает всерьез западную философию, осваивает сам философский метод проблематики смысла жизни. Но здесь же он и заходит в капитальный тупик романтизма. Религия заменяется в его сердце на религиозность, которая сама есть не более как чувствительное настроение, мечтательность и томление неопределенностью.
В масонстве формируется и высокий престиж интеллекта, и деление человечества на профанов, темную толпу, способную удовлетворяться внешними обрядами Церкви, и на просвещенных, “братьев сияния”, которые ведут человечество к свободе и счастью…
В масонстве много говорится о духовном, о борьбе с грехом, с себялюбием, с дьяволом. Этот психологизм, внимание к своим переживаниям, сердечному трепету, лег в основу беллетристики. Но еще в прошлом веке исследователь масонства заметил точно, что все оно есть утонченный материализм. Это духовная прелесть, обольщение своим “Я”, которое нечувствительно заменяет Бога, как в мистических переживаниях, так и в искусственном мире художественной литературы.
Символический искус, проповедуемый масонством, становится тем пленом, в котором лукавый дух захватывает человека, и он начинает творить ряды символов и аналогий, заменяя ими реальность подлинного мира. Чувственность, сентиментальный морализм масонства лишь усиливают ощущение подлинности иллюзорного мира. В известной мере это – автаркия стоиков, но очень комфортная и расслабляющая.
Романтизм вышел из недр масонских доктрин вместе с мистицизмом, который придал ему увлекательность и мечтательность. В недрах сентиментального романтизма рождается “лишний человек” нашей литературы. Напрасно пытаются найти социальные предпосылки этого человека в самой ткани русской жизни. В той жизни люди служили, а “лишние” отсиживались. Но и то правда, что, разорвав с живыми истинами Церкви, человек чувствовал себя лишним везде и всегда. Безверие двигало человека по пути отрицания ценности того, во что он верил, что психологически понятно, и неизбежно он попадал в ложу, где строили храм Соломона на месте разрушенного храма Христа. Мир нарочитости, выдуманности, призрачности и сухого рационализма прикрывался себялюбивым мистицизмом и чувством власти, достигаемым в магии».
(обратно)154
Отметим попутно, что за ведение записей в дневнике полковник гвардии Семен Прошин был отставлен от обязанностей воспитателя великого князя Павла Петровича.
(обратно)155
Супруга Павла, Гессен-Дармштадтская принцесса Вильгельмина, принявшая при переходе в православие имя Наталья Алексеевна.
(обратно)156
Много ли их? (укр.)
(обратно)157
Здесь надо сказать о необычно милостивом отношении Павла к оставшимся в живых пугачевцам. Пушкин объясняет это тем, что «Пугачев был уже пятый самозванец, принявший на себя имя императора Петра III. Не только в простом народе, но и высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил, или желал верить этому слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: жив ли мой отец?»
(обратно)158
В дальнейшем для жалоб и прошений был устроен знаменитый «желтый ящик» у ворот Зимнего дворца.
(обратно)159
В 1772 году после первого раздела Польши Россия приобрела себе 100-тысячное еврейское население. С этого момента и надо датировать, как пишет А.И. Солженицын, «первое значительное историческое скрещение еврейской и русской судьбы».
(обратно)160
«Павел I был 72-м Великим Магистром Державного ордена Святого Иоанна Иерусалимского, хотя официально его не признали римские папы, ни Пий VI, ни Пий VII. Поэтому сейчас в официальных орденских документах Павла I именуют Великим Магистром де-факто».
(обратно)161
Александр Сергеевич Свечин как-то очень странно и неясно связан с событиями 11 марта. Во-первых, не очень понятно, как он исполнял обязанности петербургского военного губернатора в сентябре – октябре 1800 года, если вышел в отставку еще 30 мая 1800 года. Во-вторых, очень странно, что, зная о заговоре, он «не изменил доверию». Все-таки речь шла не о любовной интрижке, а о государственной измене. Ну а в-третьих, очень любопытно, что Александр Сергеевич Свечин всего на неделю пережил императора Павла и умер сорока двух лет от роду 18 марта 1801 года.
(обратно)162
Никита Петрович Панин был сыном генерал-аншефа, сенатора Петра Ивановича Панина, а также – племянником графа Никиты Ивановича Панина, министра и воспитателя великого князя Павла Петровича. При Екатерине II Никита Петрович Панин был посланником в Гааге и Берлине. При Павле – вице-канцлером и министром иностранных дел.
«Он (Панин. – Н.К.) сообщал графу Палену все, что мог узнать о мнениях и недовольстве столицы (Москвы. – Н.К.), на которую можно было смотреть как на орган всей нации… Убежденный, что нельзя терять ни минуты, чтобы спасти государство и предупредить несчастные последствия общей революции, граф Пален опять явился к великому князю Александру, прося у него разрешения выполнить задуманный план, уже не терпящий отлагательства. Он прибавил, что последние выходки императора привели в величайшее волнение все население Петербурга различных слоев и что можно опасаться самого худшего».
(обратно)163
Дон Хосе де Рибас, Жузеп де Рибас, испанский дворянин по происхождению, приглашен графом Алексеем Орловым во время пребывания в Ливорно на русскую службу. Отличился в Русско-турецкой войне 1787–1792 годов. Основатель одесского порта и города Одессы.
(обратно)164
Женитьба эта состоялась, похоже, не без хлопот императрицы Екатерины II, не мало старавшейся, чтобы получше устроить братьев своего любовника в высшем свете.
Наталья Александровна Суворова, или, как ее называл в письмах отец, Суворочка, после окончания Смольного института была пожалована 3 марта 1791 года во фрейлины и жила при дворце. Здесь ее и познакомили, по-видимому, с красавцем Николаем Александровичем Зубовым.
Сам Суворов был огорчен выбором дочери, тем более что у него на примете был совершенно другой жених. Свое огорчение великий полководец излил в стихах, написанных из Варшавы, после подавления польского мятежа.
Уведомляю сим тебя, моя Наташа, Костюшка злой в руках; взяла вот так-то наша! Я ж весел и здоров, но лишь немного лих, Тобою что презрен мной избранный жених… (обратно)165
Участвовал в войнах с турками (в 1768–1774 и 1787–1792 годов) и поляками (в 1783, 1784, 1794 годах), награждён золотыми Очаковским и Пражским крестами. При штурме Варшавского предместья Праги в 1794 году Депрерадович атаковал батарею и был тяжело ранен картечью. 13 августа 1799 года Депрерадович был произведён в генерал-майоры и назначен командиром лейб-гвардии Семёновского полка.
(обратно)166
Это Беннигсену удалось как нельзя лучше, и за это он был щедро вознагражден императором Александром. Конечно, на какое-то время ему пришлось удалиться от двора – он был назначен виленским военным губернатором, но уже в 1805 году возвращен в Петербург и назначен командующим 70-тысячным корпусом, а после незначительной победы под Пултуском 14 декабря 1806 года над отрядом Ланна, которую Беннигсен в донесении государю выдал за победу над армией самого Наполеона, назначен главнокомандующим всей русской армией…
Несмотря на многочисленные неудачи, Александр продолжал осыпать наградами организатора убийства своего отца… Орден Андрея Первозванного – всего лишь одна из этих наград… Только когда началось вторжение Наполеона в Россию, Александр был вынужден отстранить плохо говорящего по-русски Беннигсена от главнокомандования.
(обратно)167
«Потому что у меня нет ничего общего с этими господами» (фр.).
(обратно)168
«Правление в России есть деспотизм, ограниченный удавкою».
(обратно)169
В последний год правления Павла Пален активно распускал при дворе слух, что император намерен выдать дочь Екатерину замуж за принца Евгения Вюртембергского и передать ему русский престол, а сына Александра устранить, точно так же, как устранить и императрицу Марию Федоровну, заточив ее в монастырь.
(обратно)170
Такие мысли, как утверждал вюртембергский племянник Марии Федоровны, императрица связывала со своим регентством при Николае.
(обратно)171
Существует и другое объяснение стремительного падения фон Палена. Говорили, что Александру было доложено о его двусмысленном поведении во время убийства Павла, о его готовности в случае малейшей неудачи прийти с войсками на помощь императору и представить его, Александра, как главного злоумышленника. Но если это и так, то все равно это нисколько не умаляет значения молитв раскольников и гнева императрицы в свержении адского гения.
(обратно)172
Лагарп Фридрих-Цезарь с 1798 по 1800 год встанет во главе Директории Швейцарской (Гельветической) республики. После неудавшейся попытки уничтожения Совета республики Лагарп вынужден был в 1802 году вернуться в Россию. Александр возвел Лагарпа в генерал-лейтенанты и наградил орденом Андрея Первозванного.
(обратно)173
Характерна в этом отношении биография Павла Александровича Строганова. Отец его владел имением, в котором числилось 23 тысячи крепостных, но это не помешало ему воспитывать сына в республиканско-монтаньяровском духе. В пятнадцать лет, успев уже послужить год поручиком в Преображенском полку, Павел Александрович уезжает за границу, где вначале учился в Женеве у пастора Вернета богословию, а затем перебрался в Париж, где становится непременным участником революционного клуба «Друзей закона», а затем и членом якобинского клуба…
(обратно)174
Это какая-то родовая черта российских конституций. Конституция, по которой живем сейчас мы, тоже была разработана подручными Б.Н. Ельцина тайно, а принята, можно сказать, обманом…
(обратно)175
Как совершенно справедливо отмечал А.Е. Пресняков, «идеал Карамзина – дворянская монархия… она для него национальная святыня. Самодержавная власть – сила охранительная для дворянского государства. Государь должен быть главою дворянства, в нем и только в нем видеть опору своего престола».
(обратно)176
Правда, сам генерал Раевский всячески отпирался потом от этой истории, но возможно, что он делал это из скромности, из-за того, что надоели ему тыловые патриоты, радующиеся, что его несовершеннолетние дети оказались в самом пекле войны.
(обратно)177
Любопытен случай, о котором рассказывает в своих записках А.С. Шишков. Чиновный человек, войдя в церковь, посматривал то на тот, то на другой образ в лорнет. Простой народ, подумав, что это какой-нибудь француз, схватил его и потащил на съезжую.
(обратно)178
Святой праведный Феодор Томский, Сибирский. Преставился 20 января 1864 года. Канонизирован Русской Православной Церковью.
(обратно)179
Разумеется, речь тут идет не о добровольном освобождении помещиками крестьян – такие случаи были единичными! – а о выкупе крестьянами самих себя. Выкупали себя сумевшие как-то разбогатеть крестьяне. Известна чрезвычайно трогательная история, когда унтер-офицер Иванов из гвардейского кирасирского полка за время своей службы выкупил из крепостной неволи двенадцать своих родственников.
(обратно)180
Иоганн Карл Фридрих Антон фон Дибич.
(обратно)181
В 1799 году вернувшийся из Итальянского похода великий князь Константин был переведен в Конную гвардию.
(обратно)182
Стандартные размеры фигурок: пехотинцы высотой 32 мм, конники – 44 мм.
(обратно)183
Кстати сказать, интерес к оловянным солдатикам сохранился у императора Николая I на всю жизнь, и собранная им коллекция нюрнбергских фигурок считалась наиболее крупной и значительной. Поставщики императора, зная его дотошность в вопросах униформы, особое внимание уделяли точности всех деталей формы, и сейчас по этим оловянным фигуркам можно смело изучать историю военного костюма.
(обратно)184
Декабристы. М.: Правда, 1987. Т. 2. С. 152–153.
(обратно)185
Был освобожден из-под следствия и даже получил «очистительный аттестат» и великий русский драматург А.С. Грибоедов.
(обратно)186
В двадцать три года Николай I был назначен генерал-инспектором по инженерной части, а через полгода вступил в управление Инженерным корпусом.
(обратно)187
Те заговорщики, которые вышли на Сенатскую площадь, тоже планировали «уничтожение права собственности, распространяющейся на людей».
(обратно)188
21 марта 1833 года, при вступлении в должность министра народного просвещения, Уваров писал в своём циркуляре, разосланном попечителям учебных округов: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего Монарха, совершалось в соединённом духе Православия, Самодержавия и народности».
(обратно)189
Церковь сейчас восстановлена, но досок с фамилиями строителей там нет.
(обратно)190
Правление Николая I тоже в чем-то напоминало этот инженерный шедевр. Точно так же и Николай I воздвигает без наружных лесов революций купол новой России…
(обратно)191
Граф А.Х. Бенкендорф о России в 1827–1830 гг. // Красный архив. Т.1 (38). 1930. С. 144–145.
(обратно)192
Между прочим, император Николай I направил в оборонявшийся Севастополь и своих младших сыновей: Николая и Михаила.
(обратно)193
Войсками, участвующими в рекогносцировке, проведенной 5 февраля 1855 года, командовал герой обороны Севастополя генерал-лейтенант Степан Александрович Хрулев.
(обратно)194
Напомним, что он так и подписывал в детстве свои рисунки монограммой, которая объединяла буквы «Р», «Н» и римскую цифру III. Обозначала она – Николай, третий, Романов.
(обратно)195
Исключение представляют, кажется, только воспоминания воспитателя К.К. Мердера, описывающие праздник, устроенный по случаю возвращения Александра Николаевича из-за границы 25 июня 1829 года. «В 6 часов, вместе с созванными гостями, Александр приглашен был к чаю на Детский остров. Нежная заботливость сестриц доставить ему удовольствие, растрогала его до глубины сердца, он не находил слов к изъяснению чувств своих и, растроганный до слез, рассматривал в молчании гирлянды, коими был увешан стол, деревья, дом и пристань…»
(обратно)196
Александр Невский был небесным покровителем Александра II. В честь его рождения Николаем I был сооружен в церкви Нового Иерусалима придел во имя святого благоверного князя.
(обратно)197
В своей автобиографии, написанной в 1926 году, В.Н. Фигнер с негодованием опровергает предположение о родстве ее отца помещика Николая Александровича Фигнера с известным партизаном войны 1812 года Александром Самойловичем Фигнером.
(обратно)198
После смерти императрицы Александр II оформил морганатический брак с Екатериной Михайловной Долгорукой, получившей титул княгини Юрьевской.
(обратно)199
В дальнейшем Рысаков не только даст исчерпывающие признательные показания, но и предложит полиции свои услуги в качестве провокатора.
(обратно)200
Игнатий Иоахимович Гриневицкий умер в госпитале в десять с половиной часов вечера 1 марта.
(обратно)201
Брак этот оказался очень удачным. Александр прожил в счастливом супружестве с Марией Федоровной двадцать восемь лет. В семье родились шестеро детей: Николай (1868–1918), Александр (1869–1971), Георгий (1871–1899), Ксения (1875–1960), Михаил (1878–1918), Ольга (1882–1960).
(обратно)202
В ночь на 2 марта навстречу генералу Н.И. Иванову, движущемуся с эшелоном Георгиевского батальона, выехал командированный начальником Генерального штаба генерал-майором Занкевичем полковник Доманевский. Встреча произошла на станции Вырица. Полковник Доманевский доложивший ему обстановку в Петрограде. Узнав о ситуации в Петрограде и руководствуясь полученным от Николая II распоряжением, Иванов остановился на станции Выра, а 3 марта, когда стало известно об отречении императора, отправился назад в Могилёв.
(обратно)203
Архив ФСБ, Санкт-Петербург. Дело «Каморры народной расправы», т. 3, конверт с изъятыми у И.В. Ревенко письмами. Полностью письмо опубликовано в моей книге «Гибель красных Моисеев». М.: Вече, 2004.
(обратно)204
Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. Пер. с англ. М.: Республика, 1993. С. 62–63.
(обратно)205
Из протокола допроса А.Ф. Керенского судебным следователем по особо важным делам при Омском окружном суде Н.А. Соколовым в Париже 1920 года 14–20 августа 1920 года.
(обратно)206
Соколов Н.А. Убийство Царской Семьи. СПб.: Сирин, 1990. С. 38.
(обратно)207
Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. С. 236.
(обратно)208
Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. С. 235.
(обратно)209
Ин. 13: 27–29.
(обратно)210
Об этой телеграмме, как о «факте положительно известном» ему, «как бывшему главе власти», Керенский говорил следователю Н.А. Соколову на допросе 14–20 августа в Париже.
(обратно)211
Соколов Н.А. Убийство Царской Семьи. С. 42.
(обратно)212
С царем в Тобольске. Из воспоминания. «Слово», М.: Издание книжной редакции советско-британского совместного предприятия, 1990.
(обратно)213
С царем в Тобольске. С. 18–19.
(обратно)214
Няня царских детей, находилась с Царской Семьей в Тобольске.
(обратно)215
Об этом не принято говорить, но ради объективности отметим, что надписи могли появиться и позже, когда Ипатьевский дом несколько недель стоял без присмотра и в него совершались многочисленные экскурсии.
(обратно)216
В эту самую ночь Валтасар был убит своими холопами.
(обратно)217
Соколов Н.А. Убийство Царской Семьи. М.: Сирин; Сов. писатель, 1990. С. 218.
(обратно)218
Соколов Н.А. Убийство Царской Семьи. М.: Сирин; Сов. писатель, 1990. С. 301–302.
(обратно)219
Известия. 1918. 27 июня. С. 4.
(обратно)220
Из Тобольска в Екатеринбург было вывезено 2700 пудов вещей Царской Семьи, из которых после бегства большевиков осталось всего 150 пудов.
(обратно)


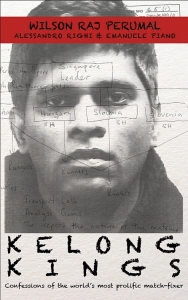
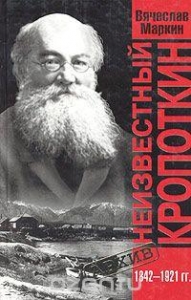


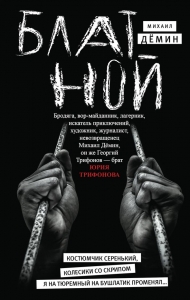
Комментарии к книге «Подлинная история Дома Романовых. Путь к святости», Николай Михайлович Коняев
Всего 0 комментариев