«Этот ребенок должен жить…» Записки Хелене Хольцман 1941–1944
ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ
Vitam non mortern recognita[1].
Трижды волны поднимались, Трижды выплывала ты, Трижды мог тебя спасти, Но как будто я ослеп, опустились руки. Ты беззвучно утонула, Я беззвучно за тобой, По воде круги беззвучно, Ты и я — нас больше нет[2]. Эдвин Гайст. РеквиемПоследние часы радости. Вермахт входит в Литву. Макс Хольцман пропал. Погромы. Начало каунасского гетто. Что случилось с Мари. Город и его гетто. Эдвин и Лида Гайст. Супруги Гайст отправляются в гетто. «Еврейские законы» и их исполнение. Убежище в доме двух Наташ. Рабочие бригады. «Акция интеллектуалов». Спекуляция и черный рынок. Что потом произошло с Мари. Семейство Робашенскис. Массовые убийства в провинции. «Акция отменена!» Строительство аэродрома. Три «Акции». Елена Куторга.
Июнь 1941. После долгих поисков мы, наконец, нашли в Вильнюсе квартиру, наняли повозку, чтобы перевезти туда все наши чемоданы и кое-какие пожитки, и вечерним поездом отправились обратно в Каунас.
В новом нашем жилище недалеко от вокзала была только одна единственная комната, не чета, конечно, нашей большой светлой каунасской квартире. Но мы довольны были и этой и уже придумывали, как поделить пространство комнаты, так чтобы у каждого было свое место. Летом можно расположиться на большой каменной террасе, примыкавшей к комнате. Оттуда открывался вид на тихую улицу и обширный сад поодаль, со старыми мощными деревьями. А зимой все вместе усядемся поближе к кафельной печке, и будет нам тепло и уютно.
Так мы и ехали два часа из Вильнюса в Каунас, все фантазировали, строили планы, радовались. После того, как национализировали наш книжный магазинчик в Каунасе[3], — он стоил нам почти двадцати лет жизни — мы оба нашли работу в Вильнюсе: муж — место директора государственного антикварного салона, я — преподавателя немецкого языка в педагогическом институте.
В купе вместе с нами ехал высокопоставленный полицейский чиновник. Мы спросили его, стоит ли верить слухам, будто к литовской границе стягиваются германские войска? Он нас высмеял: ни немцы, ни русские не готовы воевать друг против друга. Он сам только что взял отпуск и собирается на Куршскую Косу. Ну, слава богу, совершенно успокоились мы, можно выбросить из головы эти тревожные мысли.
Несколько месяцев кряду мы чуть ли не каждый день ездили из Каунаса в Вильнюс и обратно. Когда же у наших девочек закончился очередной учебный год в школе, мы смогли, наконец, обосноваться в Вильнюсе.
Дома у нас царило приподнятое настроение[4]. Мари выдержала выпускные экзамены — совсем не мелочь, ведь она училась в вечерней школе, а днем работала в конторе. И у Гретхен отметки были хороши. Девчонкам не терпелось переехать в новую столицу[5], и мы были счастливы, что снова будем жить все вместе, вчетвером. Прежде чем упаковать мебель, мы собрали наших каунасских друзей и близких на прощальный ужин. Если бы мы только знали, что это будет последний наш счастливый семейный вечер.
А на другое утро город уже лихорадило: Германия объявила Советскому Союзу войну! К нам пришли друзья — доктор Цингхаус с женой. Мы, естественно, были совершенно растеряны и не готовы к такому повороту событий. Доктор Цингхаус, три года назад вместе с родителями бежавший из Берлина, говорил, что спасаться нужно в Советском Союзе, и чем дальше уехать, тем лучше. Ведь русские к войне не готовы и, скорее всего, линию фронта в Литве не удержат.
Уже первые бомбы разорвались на наших улицах. Жители спешно заклеивали окна полосками бумаги. Наши друзья поспешили забрать родителей к себе: те жили рядом с радиостанцией, их, как и предполагал доктор, стали бомбить в первую очередь.
Я вышла купить хоть какой-нибудь еды. У магазинов — длинные очереди. Расхватывали все, что попадется под руку. Люди жались к стенам: кругом тучи пыли и дыма, некоторые улицы уже изрыты воронками. По улице Хеересштрассе на запад тянулись войска, все новые и новые, шли и шли, ехали на лошадях, с ними двигалась артиллерия[6]. Мой взгляд задержался на совсем еще молоденьком ездовом, почти мальчике, с безмятежным лицом смотрящем куда-то прямо перед собой. Неужели вы выстоите против натиска врага? Да знаете ли вы, какое озлобление, какое кровопролитие вас ждет?
Поползли слухи, самые разные: немцы взяли Мемель [Клайпеду]. Да нет, наоборот, немцы уже в Мариямполе. Дома — полная неразбериха. Прибежал из информационного бюро доктор Цингхаус: да, враг наступает!
Вот он, значит, настал, тот момент, о котором мы последнее время только и думали, сотни раз обсуждали с друзьями и так ни разу и не поверили всерьез, что эта беда и вправду стрясется. Уже восемь лет национал-социализм, как привидение, преследует всех по пятам. Мы бывали в Германии не раз и неизменно замечали, как гибнут одни, тупеют и озлобляются другие, как ложный, призрачный социализм дурит людям головы, как оголтелый антисемитизм без тени милосердия перемалывает тысячи немцев, да, таких же немцев, как и все остальные жители Германии! Как их уничтожают только за то, что они по этой новой бредовой идее не «арийцы».
Немцы-граждане других стран[7] подхватили эту заразу. Мне довелось пережить, как мои коллеги из каунасской немецкой гимназии, ранее ретиво провозглашавшие себя демократами, тоже заразились этим вирусом массового психоза. Я проработала там десять лет, и все это время немецкие, еврейские, литовские, русские, польские дети сидели за одними партами, учились в едином школьном сообществе. Да и учителя были самых разных национальностей, и никому в голову не приходило, что может быть по-иному.
И что только случилось в 33-м году? Немцы, которые благоденствовали в государстве литовском, в одночасье стали вдруг недовольны. Ни с того, ни с сего они вдруг заявили, что их, якобы, кто-то притесняет, их не признают, их ущемляют в правах! После первых погромов[8] в Берлине еврейские школьники ушли из гимназии. Вот уж подарок-то немцам-антисемитам! Вот порадовали! В нашем магазинчике раньше покупали книги и немцы, и литовцы, и евреи, теперь же немецкие покупатели заходить перестали. Мой муж, который до сих по для всех был немец как немец, тут же почему-то немцем быть перестал и стал евреем[9].
Литовскую интеллигенцию проблема эта особо не заботила. Наши литовские друзья и покупатели остались прежними. Нам даже удалось получить литовское гражданство, которое нам весьма пригодилось во время поездок в Германию[10]. Когда же в 1940 г. Литва стала Советской Республикой и немцы всем скопом подались «домой в Рейх»[11], преследования, которыми донимали нас и наших детей, прекратились. И мы стали просто людьми среди людей[12].
Вечером мы собрались в нашей уютной милой гостиной, Мари и Гретхен с нами, две сестрички. Все планы рушились. Что теперь делать? Куда бежать? Дальше на восток, в Россию? Но мы не говорим по-русски. Нет, нет, мы остаемся здесь, и главное — вместе! Ни в коем случае не расставаться! Вместе переживем тяжкие времена.
После обеда с помощью нашего домоправителя стали рыть защитные рвы перед домом, а командовал Макс — старый солдат прошлой мировой войны. Пришел наш друг, композитор Эдвин Гайст[13], с женой: у вас можно переночевать? Простите, но у нас уже все семейство Цингхаус, их четверо, места больше нет.
Цингхаусы решили бежать в Минск, на вокзал подали поезд для беженцев. Они пошли к себе — собрать в дорогу самое необходимое. Может, все-таки и вы с нами? Нет, мы остаемся. Ну, тогда пока. Счастливо. Попрощались в спешке.
Через пару часов старшие Цингхаусы вернулись: поезд был и так набит до отказа, а люди все еще пытались залезть в вагон, залезали на крышу, висли на подножках. Старики до смерти испугались: куда их понесет с этой толпой, в какую неизвестность! И они выбрались из поезда. А сын и невестка решили не отступать и остались в вагоне. Отец доктора Цингхауса, семидесятилетний старик с взъерошенной седой шевелюрой, плакал как ребенок, его жена в тревоге пыталась успокоить его, сама расплакалась. И тут уже мы кинулись их утешать.
Безутешные старики собрались спустя некоторое время снова на вокзал: может, поезд еще не уехал, может, удастся еще раз увидеть детей и хоть передать им немного денег с собой. Они ушли и вечером уже не возвратились, значит, все-таки уехали все вместе. Ну, и слава богу. И мы тоже вместе, самое главное, и будь что будет.
А потом настал вторник[14]. На улице творилось бог знает что, настоящая революция. Откуда ни возьмись появились какие-то вооруженные группы: одежда гражданская, повязка на рукаве — партизаны[15]. Дома уже нечего было есть, я отправилась за продуктами. И снова бесконечные очереди в каждой лавке, снова шум и крик. Войска Красной Армии заполонили улицы — отступают. Кажется, среди всадников я снова узнала того молодого человека. Тогда, в первый раз, он с остальными шел на запад. Теперь все, немцы пришли. Их нападение удалось. Три года впереди, три тяжелейших, страшных года, прежде чем снова пойдут на запад по этим улицам войска Красной Армии, уже победителями.
Бомба рванула совсем близко. Скорей, к стене… Прижаться вместе с остальными. Вдруг вижу — Макс, мой муж, пришел за мной. Нельзя сейчас ходить по улицам, слишком опасно!
Немецкие войска наступали, а впереди неслась, как черная стая стервятников, отвратительная зараза — юдофобия. Еще не успели немцы войти в страну, а партизанам уже было приказано: с евреев глаз не спускать. Многие пытались спастись, уехать подальше в Россию, но партизаны их задерживали и заставляли остаться. Кошмарная картина: евреи толпами осаждают поезда, пытаются бежать из города! Самые смелые готовы были хоть на велосипеде уехать в Россию. Более робкие надеялись осесть в деревне, в провинции, здесь в Литве: надеялись на защиту, на доброту литовцев-крестьян. Ведь именно в сельской местности литовцы и евреи были всегда особенно дружны.
В тот день ближе к вечеру Мари отправилась навестить мать одного своего друга. Тот успел бежать и просил ее передать своей матери пару слов[16]. Я пошла с ней: не надо ей ходить по улицам одной. На нашей улице — ни души. Только выстрелы грохочут по городу. Свернули на широкую улицу, что из нашего квартала Зеленая гора ведет в город. Нас окликает партизан: что вы тут забыли? Нам надо, мы по важному делу! Пропустил. И вдруг узнал мою дочь: а ты, случаем, не коммунистка? Ну, погоди, попляшешь теперь![17] Но задерживать не стал. Спустились по лестнице в город, внизу — еще один партизан. Этот нас дальше не пустил, пришлось вернуться.
Муж уже забеспокоился, куда мы пропали. Слава богу, мы все же вместе! Решено было пару дней вообще не выходить из дому, переждать. Вечером над крышами поднялся белый светящийся шар: немцы объявляли, что город взят.
В среду (25 июня)[18] муж, наконец, не выдержал, не усидел дома: надо бежать в государственную типографию, где он служил. Поговаривают о том, что в Германии смешанные браки имеют некоторые привилегии, а муж пользовался большим уважением в Лейпциге в бытность свою членом Объединения книжных бирж. В Голландии, говорят, некоторые евреи остались на своих рабочих местах. В конце концов, если Максу не разрешат работать, то пусть хоть меня пустят обратно преподавать.
Он ушел вместе с Мари. Так, надо что-то приготовить на обед. В саду нарвала крапивы, опустошила грядку со шпинатом, из подвала достала картошки. Вернулась в дом, стук в дверь — старики Цингхаусы.
Измученные, в отчаянии. Когда в понедельник они пришли на вокзал, поезда уже не было. Собрались уже уйти с вокзала, тут началась бомбежка. Они вместе с другими кинулись в ближайший подвал и просидели там, бедные, два дня и ночь. Привокзальные улицы перекрыли, гражданским было не пройти. В убежище им дали немного воды и продали пару булочек. Утром хотели вернуться в свою квартиру, их управдом долго не хотел пускать. Решил, что старики уехали, и их жилье конфисковал какой-то немецкий офицер. Наконец, уговорили, взятку дали немалую, вошли в квартиру, а там — пусто, украли все, что могли, только в кухонном шкафу завалялась пара тарелок и столовых приборов. А управдом их все равно скоро выгнал и вслед бросил что-то вроде «грязные еврейские свиньи». Они вернулись к нам. «Вчера еще горя не знали, жили безбедно, — пожаловались несчастные, — в один день стали нищими, ничего не осталось».
Я отправила их привести себя в порядок, пусть умоются и придут в себя, а сама начала готовить обед. Куда же это запропастились Макс и Мари? Я выбежала на улицу, дошла до самой Хауптштрассе. Стояла там и ждала их, ждала, злилась — да где же вас носит?! — а потом мне стало страшно, тоскливо. Первые немецкие части уже в городе. Один немецкий солдат собрал вокруг себя толпу: хвастается, как обнаружил в укрытии русских и всех на месте расстрелял. А евреев? Да он их и не встретил до сих пор. Видать, попрятались по темным своим углам, а может, сбежали все давно. Хохот, грубый, развязный. У солдата длинная голая шея прикрыта платочком. Никогда раньше такого не видела.
Три часа. Я — домой, накормила обедом гостей, сама заставила себя проглотить пару кусков, чтобы они не заметили моего страха и смятения. От Гретхен-то все равно ничего не утаить. А этих двоих все нет и нет. Я бросилась в город. С горы увидела, как флаги со свастикой развеваются над Военным музеем. На Аллее Свободы[19] не протолкнуться, немецких солдат величают «освободителями», радуются, ликуют. Куда ни глянь — кажется, по большей части, все происходящим довольны.
Встретила адвоката Станкевича с дочерью. Мужа моего не видали? Он тут же забеспокоился: сейчас евреев хватают прямо на улице.
Я металась по улицам и у всех знакомых спрашивала, не встречал ли кто моих. Никто их не видел. Помчалась снова домой: вдруг они уже вернулись. Нет их дома. Стариков накормить ужином, перекинуться с ними парой слов, и снова в город.
На другой день со всех сторон только и разговоров — евреев арестовывают. Тут и там выкрикивают: евреи стреляют в немецких солдат! За каждого убитого немца расстреляют десять евреев! Газеты запестрели антисемитскими статьями, листовки полетели по городу — и в них тоже поносят евреев.
Я побежала в литовскую полицию. У дверей наткнулась на детектива, который хорошо знал моего мужа. Обещал разузнать, что с моими, где их искать. И — ни звука. Пропал. Мы еще часто потом встречались, и он всякий раз меня избегал.
Три дня я так металась. Дома еще и стариков надо было утешать. Гретхен помогала мне как могла, мы с ней понимали друг друга и без слов. На третий день телефон: «Мама!» — «Мари!» — «Это я! Отец дома? Я сейчас буду!»
Старики бросились меня обнимать на радостях. Однако Мари возвращается одна — это дурной знак. Вот она! Пришла! Щеки горят, вся как огонь, глаза сверкают! Одежда грязная, растрепанная. Скорей в душ! Сначала вымыться, переодеться, поесть как следует, а за едой можно уже и поговорить.
«Идем мы по Аллее Свободы и вдруг натыкаемся на одного партизана, а он раньше работал со мной вместе в „Содыбе“[20]. Он меня увидел и кричит: „Попалась, коммунистка, теперь держись! А это кто с тобой? Отец? Пусть и он идет с нами!“ Отвел нас в полицию, там нас разлучили. Отец успел крикнуть: „Кто первый окажется дома, пусть постарается освободить другого!“ И его увели. Меня отвели в тюрьму, заперли в большую камеру вместе с другими женщинами. Мне особенно запомнилась одна пожилая дама, коммунистка. От нее таким веяло спокойствием, надежностью, уверенностью, что другие успокаивались рядом с ней. На полу постелили солому. Кормили супом на обед, утром кофе с хлебом приносили. Мне кусок в горло не лез, я все о вас думала, как вы там, как вы за меня переживаете. Через два дня пришел чиновник с проверкой, я ему говорю: „Послушайте, я немка, меня по ошибке арестовали. Выпустите меня немедленно!“ Позвали немецкого инспектора, я ему по-немецки, фразу за фразой, на одном дыхании. Он убедился и обещал меня выпустить наутро. Утром они меня еще раз спросили, точно ли немка, и отпустили».
Вернулась, вернулась, девочка моя, моя тревога, моя забота. Сидит передо мной на кухне и ест с большим аппетитом. Уплетает бутерброды за обе щеки. Ну, теперь надо вызволять отца.
В тот же день я побежала в полицию. «Упирай на то, что ты немка», — научила меня Мари. Я долго ждала в приемной, потом вышел инспектор и как следует все у меня выспросил. «Немцы на восточных территориях всегда вызывают подозрение, ведь их всех по возможности постарались репатриировать в Рейх. Ага, муж, значит, еврей. Ага, понимаю. Так-так. Из-за него, значит, остались здесь? Угу. Ладно, принесите завтра письменное заявление, чтобы мужа освободили».
На другой день уже новый чиновник, опять все вопросы по второму кругу. Заявление оставить тут, он справится, в какую тюрьму поместили Макса. «Послезавтра приходите».
Послезавтра ни одна живая душа о моем заявлении ничего не слышала. Кругом одни эсэсовцы. И опять расспросы.
Я принесла послужной список мужа, показываю им: вот, Первая мировая, с 1914-го и до самого окончания военных действий был немецким солдатом. Вот, награды. Эсэсовец бросил взгляд на бумаги, вернул их мне: спрячьте обратно. Никому не интересно. Еврей есть еврей, им и останется. Приходите дня через два.
Ну, нет, хватит, так не пойдет!
Адвокат Станкевич хорошо знал и очень уважал моего мужа. Он обещал мне со своей стороны предпринять поиски. Вместе с профессором П. и адвокатом Т. (все трое — люди в городе известные, уважаемые) составили официальное прошение об освобождении Макса: достойнейший человек, политически благонадежный, его все любят и превозносят, его арест — сущая нелепость, ошибка! Станкевич лично отнес это прошение в отделение охранной полиции. Ответа не последовало. Никогда.
В другой раз я встретила в полиции моего бывшего ученика из немецкой гимназии, теперь он здесь служил. Он подал мне руку. Удивительно, обычно полицейские чиновники этого избегают. Никто ничего не слышал ни о моих заявлении, ни о прошении трех «корифеев». «Приходите на той неделе, — посоветовал он, — если ваш муж здесь, мы его отпустим домой».
Так я и металась от одного чиновника к другому. А в городе, между тем, началась планомерная травля евреев. Партизаны врывались в квартиры к евреям, стреляли из окон на улицу, хватали или расстреливали на месте всю семью, под тем предлогом, что они, якобы, сами стреляли в немцев. Квартиры разворовывали, требовали сдать деньги, часы, украшения, тащили себе все, что нравилось.
По улицам конвоировали арестованных евреев, большими группами и поменьше, сперва в тюрьму, а оттуда часто прямиком в VII форт. По проспекту Саванориу непрерывно гнали в VII форт целые еврейские семьи, мужчин, женщин, детей. По этому же самому широкому проспекту на восток отступала Красная Армия, потом бежали беззащитные, застигнутые врасплох семьи российских солдат, а вслед за ними спасались сотнями еврейские семьи, еще не успевшие уехать в глубь страны. Теперь по этой улице гнали арестованных евреев. Они шли молча, подавленные, как будто в отчаянии от своей немыслимой беды, что на них обрушилась. Женщины иногда проходили в одних только летних платьях, без пальто. Мужчины с непокрытыми головами. У других на плечах наброшено пальто, в руках — узелок. Вокруг них — партизаны, в руках — оружие, лица каменные, шаг уверенный, наглый, как все равно воины какие с алтаря страстей Христовых какого-нибудь Мульчера[21]. Ох, теперь этот путь страстей стал явью, самой настоящей реальностью. Нет слов, чтобы описать эту звериную жестокость и это великое страдание из самой глубины существа человеческого.
Я стояла на тротуаре и искала мужа в толпе арестованных. Мне потерянно улыбались знакомые лица. Кого искала, не видела. Мари и Гретхен тоже не отрывали взгляда от процессии. Молчали. Никто из нас не произносил вслух того, о чем думал.
Я снова кинулась в полицию, заново сформированные учреждения, дошла до самого генерала Растикиса[22], долго ждала в его приемной. Самые высокопоставленные литовские чиновники обнимались и поздравляли друг друга с новым назначениями, которыми их одарил оккупационный режим. Я, остолбенев, взирала на их безмозглую радость. До многих из этих корифеев скоро дойдет, что за «освобождение» на них свалилось.
К генералу меня так и не пустили. Только к его заместителю. Сразу видно: эти ничего не решают, они — марионетки оккупантов. Заместитель прилежно записал все, что я ему рассказала, а мне уже было ясно — ничем не поможет. Но кто знает, ведь и евреев иногда отпускают на свободу, если за них кто-нибудь заступится. Я слышала, так бывает.
На Аллее Свободы мне встретился молодой архитектор Мошинскис, я спешно рассказала ему о своей беде, и он тут же вызвался помочь. Мы вместе пришли в тюрьму, он лично знал коменданта. Тюрьма вот уже два дня под командованием гестапо, объявил тот, больше ничем помочь не может.
Мы в криминальную полицию. Там Мошинскис тоже знал одного литовца. Архитектор описал моего мужа как человека высококультурного, чуждого всякой политики и прочее и прочее. «Уже две недели в тюрьме, — чиновник задумался, — от тех мало кто еще остался в городе». Он позвонил в тюрьму. Да, Макс Хольцман. Спасибо. Да, он еще здесь. И прибавил: «Не беспокойтесь, гражданочка, завтра муж ваш будет дома. Ближе к обеду».
Я горячо пожала полицейскому руку, Мошинскиса позвала к нам на обед через час. И побежала домой, обрадовать своих. И вот мы уже сидим на балконе с девчонками. Только бы снова оказаться всем вместе, тогда придумаем, как жить дальше. Вдруг повезет, ведь делают же в Германии исключения для смешанных браков[23].
На другой день рано утром я побежала на рынок, там — пусто, ни овощей, ни фруктов. Наконец на окраине города у крестьян с тележки купила свежей земляники. И скорей домой: может, уже муж пришел! Нет, не пришел. Взяла девочек, вышли на улицу. Стреляют по всему городу, то тут, то там, как в первые дни оккупации. Охота идет, отстрел, добивают отставших русских, расстреливают евреев. Мы слонялись по улице, долго стояли на перекрестке, где я и прежде ждала часами.
Электрический подъемник, что соединяет Зеленую гору с городом, каждые пять минут извергает людской поток. Вот, кажется, и наш папа! Нет? Разве не он? Вон тот, торопливый, в белой панаме? Да нет же, не он, чужой. И снова не он, и опять посторонний! Сколько можно! Сил больше не было стоять и ждать. Домой, пошли домой.
И весь следующий день — то же самое. Через два дня я снова была в литовской полиции. Дружелюбие исчезло, расположения как не бывало, цедят сквозь зубы, слова не вытянешь. Ничего не знаем! Ничего не можем обещать! Мошинскиса бы сюда, его все знают, его уважают, его слушают. А уж он-то умеет уговаривать. Я за ним. Альгис жил в Панемуне, добрых полтора часа от города. Иду, улица пыльная, жара невыносимая, иду, иду, иду. Немцы толпами, песни распевают, дерут горло, орут свою «Малютку Урсулу». И эти отвратные орды — мои земляки?
Апьгиса дома не оказалось. Его красивая жена, крупная, спокойная женщина, была одна среди своих цветущих, жизнерадостных детей. Что им до моих печалей? Ан нет, внешнее благополучие обманчиво. Супруга Мошинскиса стала жаловаться, что ее младшего брата-комсомольца расстреляли партизаны. Ее родители вынуждены скрываться в доме зятя, потому что отец, провинциальный врач, поговаривают, водил дружбу с советскими чиновниками, и теперь боится возвращаться к своим больным.
Тут появился Альгис, по пояс голый, загорелый, косил поляну. Обещал назавтра приехать в город и пойти со мной вместе еще раз в полицию. Не сдаваться, утешал он, надо все испробовать, пока не получится.
Обедать не осталась, хотя звали. Скорей обратно, к детям. Дорога домой еще тяжелее, солнце еще злее, и кругом — солдаты. У дороги колонка, я к ней — и холодную воду большими глотками, еще, еще! Голова пошла кругом, зашатало, ухватилась за забор. Как сквозь ткань вижу: немцы, сквозь вату слышу немецкую речь, лица мелькают, такие чужие, чуждые…
На другой день мы бегали, уговаривали, просили, умоляли, никакого ясного ответа. В городе происходило, между тем, что-то ужасное. На Вокзальной улице партизаны превратили один из гаражей в место регулярной бойни и убивали там {…} безоружных евреев[24]. Собралась толпа народу: стоят, глазеют, свистят и убийц подзуживают. Были и такие, кто пытался противиться: «Позор для Литвы!» Но им тут же заткнули рот. И такой кошмар — со всех сторон.
Мы с детьми даже не решались заговорить обо всем об этом. Земляника в стеклянной чаше испортилась. Ее никто не убирал со стола.
Я снова в полиции. Мне дали список заключенных евреев: найдете его, тут же отпустим. Его имени в списке не было.
Побрела домой по душной жаре. Его нет, его больше нет здесь. Как я скажу детям? Им ничего говорить не пришлось, поняли без слов.
И сами не произнесли ни слова. Земляника полетела в помойку, на столе, как всякий день, в положенный час появился обед…
Может быть, его увезли в VII форт? Там находился архив ценных исторических документов и старинных книг. Что если мне повезет — удастся поговорить с тамошним руководством. И вот я уже стою перед решеткой VII форта, упрашивают охрану, сулю богатое вознаграждение. Ладно, он поищет. Уходит. Я жду, жду, жду. Наконец возвращается: нет, никакого Макса Хольцмана здесь нет.
Близ форта была лавочка. Владелица ее, Ванда, молоденькая прехорошенькая барышня, считалась достопримечательностью квартала. В ее заведении всегда было полно народу, и она не только умело торговала, но и умела найти к каждому покупателю ловкий подход, у нее было доброе сердце и светлая голова. К ней захаживали и партизаны с VII форта — разжиться сигаретами и отпустить пару шуток вместе с хозяйкой. Ванда мгновенно поняла мою беду, тут же шепнула партизанам, и они пообещали поискать Макса среди заключенных и отпустить его. Поискали, да не нашли. Сказали бы раньше, многих уже и в городе-то нет, сообщил мне один из них. Нет в городе? Где же они? Не ответил.
Я еще много раз заходила к Ванде в ее магазинчик на Папельалее, по которой гнали арестованных евреев. Некоторых «уже и в городе-то не было». И среди этих, уже исчезнувших из города, был один, Макс Хольцман, мой муж.
А может, его и не было вовсе никогда в форте. Может, он оказался среди тех, кого отправили на принудительные работы в провинцию. Вдруг он жив и еще вернется! Скорей бы! Вернулся бы живым и невредимым! Были бы мы снова все вместе, а вместе нам ничего не страшно…
Что ни день, то новая беда, новая мерзость. По всему городу расклеены огромные плакаты: всем евреям надлежит с сего дня носить слева на груди желтую звезду. По тротуару им ходить отныне запрещено, только рядом, по правой стороне улицы, строго один за другим. Для евреев — особые продуктовые карточки и специальные магазины. Им полагается меньше хлеба и мясных продуктов, чем прочим гражданам, и совсем не положено сахара.
Старики Цингхаусы, оставшиеся теперь совсем без жилья и имущества, жили некоторое время с нами. «Стали нищими в один день» — матушка Цингхаус вздыхала так спокойно, покорно, словно махнув на все рукой. Что ж, мол, поделаешь, видать, судьба, ничего не попишешь. Эта покорность судьбе, кажется, всегда делала евреев почти неуязвимыми, способными вынести любые страдания. И эта сила духа непостижима для остальных, ее пугаются, ей не доверяют.
Потом наши старые добрые друзья с достоинством перебрались к родственникам в старый город. Мы к ним заходили еще несколько раз, приносили хлеба, овощей из нашего сада. Они же попытались вернуть себе хотя бы что-нибудь из одежды. Им разрешили заглянуть на сборный пункт, куда свозили конфискованное имущество еврейских семей. Там они кое-что из своего и нашли. С ледяной вежливостью комендант разрешил забрать пару старых пальто и немного постельного белья, уже сильно попорченного. Нижнего белья не дали.
В середине июля снова удар: всем евреям в течение месяца прибыть в Вилиямполе, где для них организовано гетто: там им надлежит поселиться всем вместе и проживать отдельно от остального населения[25]. Вилиямполе лежит за городом, на том берегу реки Вилии, предместье бедное, домишки деревянные, косые, старые, ни канализации, ни водопровода. Евреям было разрешено обменять свои дома и квартиры на жилье в Вилиямполе. Продавать недвижимость, мебель и ценности категорически запретили.
В Каунасе жили примерно 45 000 евреев. Около 7000, должно быть, успели бежать на восток еще до начала оккупации. Тридцати восьми тысячам, т. е. около четверти городского населения, предписано было в один месяц перебраться в другой район[26]. Тесно было невообразимо: на каждого не больше двух квадратных метров жилья. А имущество по большей части оставалось в городской квартире. Некоторые в последний момент пытались продать, что можно было, и, конечно, тут же попали в лапы мерзавцев спекулянтов, которые ловко наживались на чужой беде, скупая дорогие вещи за бесценок. Многие же передавали право собственности на свое имущество прислуге за обещание не оставить хозяев в беде, помогать продуктами.
Городской пейзаж следующих недель сплошь состоял из грузовиков, заказанных для переезда и перевозки. Шоферы заламывали неслыханные цены. Кузова машин были доверху нагружены домашним скарбом, углем, дровами, а порой сверху еще умудрялось пристроиться и само несчастное семейство. Перевозили всех — и больных, и грудных младенцев. Здоровые иногда шли рядом с грузовиком своим ходом. И над этим всем — яркое солнце, погода — превосходная! Один солнечный день за другим, с тех пор как немцы пришли в город. Что за срам, что за отчаяние греется сейчас под этим летним солнцем!
Организовали специальную жилищную комиссию, чтобы надзирать за справедливым распределением конфискованного жилья. В городе рядом с ветхими убогенькими домиками вырастали новые светлые постройки с замечательными квартирами. Желающих поселиться в таких была тьма, и счастливчикам новоселам особенно завидовали. И тут выяснилось, что невелико счастье жить в новенькой отделанной квартирке, больше повезло тем, кто ютился в старых и обшарпанных. Еще не остыли недавно только заселенные хоромы после прежних хозяев, отправленных в гетто, а там уже во всю хозяйничали новые жильцы — немецкие солдаты и литовские партизаны.
В воскресенье мы отправились в лес за ягодами. «Не уходите далеко, не вздумайте забрести в чащу, — хором пугали местные жители, — в лесу прячется полно русских. Застрелят всякого, кто близко подойдет!» Что нам до русских, нечего нам их бояться. Земляники несметно уже у обочины, под каждой сосной сине от черники. Никто, кажется, еще сюда не заходил, русских, что ли, пугаются? Гретхен не отходила от меня ни на шаг, Мари тут же скрылась за деревьями, так что ее постоянно приходилось окликать.
Она набрела на густой малинник посреди болотца, и мы, в кровь царапая руки и ноги, набрали малины, а потом долго отдыхали на опушке под густой сосной, как бывало в прежние времена. А вокруг птицы щебечут, трава сочная благоухает, июль, солнце, красота! А вот придем домой, а там пусто, отца нет. И ничего мы о нем не знаем, ничего. Тюрьмы переполнены евреями, а он где же? Почему не дает знать о себе?
День спустя у Ванды, я слышала, партизаны рассказывали, будто на VII форте почти что ни души больше не осталось, почти ни одного еврея. «Перестреляли мы их всех, — похвастался один партизан и в шутку протянул свой автомат одному мальчику, так, поиграть, для забавы. — будешь евреев стрелять?» А ребенок оттолкнул оружие и отвечал только: «Нет». «Малыш не вам чета, — заметила Ванда, — знает, что людей убивать грех». «Евреи не люди», — безучастно отвечал партизан.
Мари нашла работу: устроилась переводчицей в один трест. Немцы теперь везде были нужны. Директор был ею весьма доволен: плевать, что комсомолка, главное — служит исправно.
Она работала каждый день до четырех, приходила обедать, и мы снова были вместе дома. Как-то встретила старого приятеля, молодого врача[27], очень образованного, талантливого, увлеченного идеями Толстого. Их подхватила и моя дочь: не противься злу насилием, воюй не оружием, но любовью. Она вошла в небольшой круг молодых людей, проповедовавших толстовство. И загорелась новой миссией. Бросилась объяснять всем, особенно солдатам, что война приносит лишь горе, пусть уверуют в идею всеобщей любви, пусть уйдут из армии, пусть сложат оружие!
Мари загорелась и отдалась новой идее всем своим восторженным сердцем: мир, примирение, любовь! По вечерам она рассказывала нам об этом, когда мы сидели на веранде. Она знала уже много немецких солдат и не побоялась с каждым поделиться своим мировоззрением. То ли ее миротворческий пыл был так велик, то ли очарование ее девичьей юности, бог знает, но только ее слушали, ей внимали всей душой, ей верили и вторили.
Я ее предупреждала, что она занялась опасным делом, что ее пламенного увлечения некоторые не одобрят, но она назвала меня мрачной занудной реалисткой, неспособной на беззаветный восторг. Кто знает, порой и я сомневалась: зря я, наверное, постоянно ее одергиваю и пытаюсь охладить ее пыл.
Как же я за нее тревожилась! Стоило ей только где-нибудь задержаться, не прийти домой во время, как я уже места себе не находила, выбегала на улицу ее ждать. Да где же она, господи! А, вот, идет! Слава богу, идет! Где ты была? Извиняется, просит прощения, не буду, говорит, больше опаздывать, не придется матери больше сходить с ума от страха. Посидела бы дома, куда тебя вечно несет! Но нет, ее постоянно подзуживает юношеская жажда деятельности, все ей неймется, все ее тянет прочь, идеалистку, жить торопится и жизни радуется. Бегает к своим еврейским подружкам, печется о них, достает им хлеб, тащит овощи, картошку.
Новый друг появился, на лету где-то познакомились, солдат из Берлина, музыкант. Ему интересны литовские народные песни, которые многоголосны, семейные хоры заводят их по вечерам в садах и палисадниках, несмотря на военное положение. Мари провела с ним несколько дней, переводила ему на немецкий литовские напевы, импровизируя, перелагая литовские стихи. Она хорошо знает литовскую поэзию и вот уже несколько лет старательно переводит стихи и новеллы на немецкий, чтобы потом еще и проиллюстрировать переводы собственными рисунками.
Он был совершенно очарован юной литовкой (Мари хранила свое происхождение в тайне). Спустя пару недель его снова призвали на фронт, и он оставил ей прощальное письмо, каких тогда было написано без числа, письмо, полное печали о несбывшейся любви и покинувшем его счастье.
Был у нее талант — привлекать людские сердца. И во всем, за что бы она ни бралась, все для нее было творчеством. Вечно фантазия подхлестывала ее — созидать, создавать. Жизнь для нее была чередой восхитительных сенсаций, каждый день сулил сюрприз! Она жила с верой, с глубокой верой в добро, храбрая моя, бесстрашная, самоотверженная девочка.
Берегись, пугала я, не вздумай проповедовать перед каждым чужаком. Сторонись особенно немецких солдат! Обещала. Слава богу, можно теперь не бояться. Моя дочь не заставит меня понапрасну умирать со страха. Не переживай, не вздыхай, утешала она меня в то время. Улыбнемся, бывало, друг другу, а самое главное и тяжкое друг другу напоминать не станем: отца ведь по-прежнему нет, и где его искать — неизвестно.
С Гретхен Мари была более откровенна. Сестре она могла доверить что угодно, потому что наша младшенькая со своим глубоким, не по-детски уже зрелым пониманием жизни человеческой, пожалуй, превосходила с ее критическим разумом старшую. Ее недоверчивое отношение к посторонним, настороженность и умение адекватно и ясно разбираться в людях превосходно дополнили миропонимание экзальтированной Мари с ее интуицией. Все светлые долгие вечера наполнены были их доверительными разговорами о сокровенном, пока, наконец, Гретхен ребячески резко заявляла: «Сейчас усну».
Но Мари не слушала, слишком была увлечена происходящим, слишком предана своей идее и проповедовать ее считала своей миссией.
Младшая уже спала, а Мари, исповедавшись уже в самом личном своей сестре, со своей подушкой приходила ко мне в комнату, устраивалась на софе и заводила философскую беседу о великой любви к ближнему своему и о безоружной, ничем не вооруженной терпимости. Она мечтала внушить эти чувства солдатам всех воюющих стран, и тогда, ей казалось, ни один злобный хищный тиран никогда не сможет больше пойти войной на соседей.
И чего я вечно боюсь и ее пугаю! Ведь так ничего значительного никогда в жизни не добьешься, если от всех шарахаться! Ничего великого эдак не совершить! Бороться надо! Мягко, с любовью, не огнем и мечом, а пониманием! Разве великая спасительная мысль не рассеет узколобое человеческое мракобесие?
«Виктор меня познакомил с двумя немецкими солдатами в лазарете. Мы уже ходили к ним и говорили с ними. Они совершенно уже с нами согласны. Ты не представляешь, до чего их легко убедить!»
И такие разговоры — всякий вечер. Лишь бы заглушить боль — ведь отца-то все нет!
Мир вокруг нас погружался во мрак, тонул в ненависти и жестокости. Стало очевидно: оккупационный режим работает, как часовой механизм, как отлаженная, заведенная система. Все шло по схеме, бесперебойно, отточено: конфисковали продовольствие на селе, город снабжали скудно, гражданских стали забирать на службу в немецкую армию. Литовцам эти ограничения и лишения даже нравились, они добровольно склонялись перед новым жестким законом, который шаг за шагом лишал их свободы и самостоятельности. «Немцы наведут порядок», — звучало со всех сторон. Глупые, да ведь этот порядок — ваше рабство.
Продуктов страшно не хватало. Приходилось выстаивать часовые очереди, чтобы отоварить продовольственные карточки. В Германии за несколько лет военных лишений, должно быть, уже успели привыкнуть к этому. А нам пришлось туго, больно уж резко все поменялось: рынки еще вчера ломились от дешевой деревенской снеди, а теперь пусты. Свободная торговля — запрещена, стоит крестьянскому возу появиться в городе, немцы его останавливают и тут же все добро конфискуют.
Деньги, конечно, тоже тут же обесценились, 10 рублей стали стоить 1 марку. Немецкие солдаты, как саранча, налетели на магазины и смели все, что можно было купить не по карточкам. Кондитерские, особенно шоколадные, и парфюмерные магазины моментально опустели. Закрылись текстильные лавки, обувные магазины, галантереи и хозяйственные. У каждого на дверях кидалась в глаза надпись: «Конфисковано», а новые хозяева между тем обчищали богатый склад на заднем дворе.
Некоторые литовцы, что порасторопней да пошустрей, дело просекли и вслед за оккупантами кинулись по магазинам ухватить последнее, урвать, до чего дотянутся. До того обнаглели, до того увлеклись доставанием бесплатного добра, что совсем не поняли главного — того, что происходит с третью городского населения, с 45 000 евреев.
А город по-прежнему заполоняли грузовики и телеги. Вереницами тянулись они через мост над Вилией, люди переселялись в гетто. Тем, кто победнее, помогали перебираться на новое место те, кто побогаче. Некоторые по несколько раз мотались туда и обратно, чтобы собрать, наконец, все свои пожитки. А между тем переходить через реку становилось все опаснее: на мосту немцы каждый день стали забирать евреев на разного рода работы — завалы расчищать, канализацию чистить, трупы издохших животных закапывать, да мало ли еще в городе грязи и мерзости.
Восточноевропейские евреи совершенно, видимо, не совпадали с представлениями немцев: это были крепкие, здоровые, жизнерадостные, спортивные с самого детства, не пьяницы, не развратники. Оккупанты сами то и дело удивлялись их силе и выносливости: совсем не то, что внушала о евреях пропаганда.
У евреев не осталось никаких прав, их вышвырнули из общества, они стали изгоями, людьми вне закона. Одних безо всяких оснований хватали и бросали в тюрьму, пока они перебирались в гетто, других похищали из дома, прежнего или уже нового, мучали, пытали, убивали. Немецким солдатам руководство предписывало: евреи не люди, обращаться с ними не по-людски, а как с рабочей скотиной. Однако нашлись среди немцев и такие, что не следовали приказам от начала до конца и по возможности, по-своему, как могли, пытались евреям участь облегчить.
Один офицер вступился как-то за молодую беременную еврейку, которую чернь выпихивала из очереди за продуктами. Немец потребовал, чтобы продавец отпустил женщине товар вперед всех, без очереди. Она собиралась, было, поблагодарить его, но он лишь коротко кивнул и исчез. Толпа пялилась на них, разинув рты.
Неясным пока оставалось положение «наполовину евреев» и евреев-граждан других стран. Мы же особенно тревожились за наших добрых друзей, молодую чету музыкантов, моложе нас, немного постарше наших детей. Эдвин Гайст родился и вырос в Берлине, пианист, композитор, дирижер. В первые годы режима национал-социалистов он мог сойти за «наполовину еврея». Он был членом немецкого Союза композиторов, его хвалили и ценили, в 1934-м в Берлине даже состоялась премьера его оперы. Но с годами вступили в силу антисемитские законы, и молодому человеку больше не были рады. Как-то раз он гостил у друзей в Каунасе, познакомился с барышней, год спустя приехал снова, женился на ней и поселился в Каунасе насовсем. Его состоятельный тесть был весьма недоволен выбором дочери — видали, за бедного музыканта выскочила! — приданого не дал, деньгами не помог. Литовский закон не позволял иностранцам зарабатывать на жизнь, так что они жили скудно, бедно, перебивались уроками музыки.
Германский национал-социализм перебросился и на соседние страны, кругом стали мерещиться шпионы, и первыми под удар попали иностранцы. Им запретили селиться в Каунасе, так что наш бедный, ни в чем не повинный Эдвин вынужден был перебраться в маленький городишко. Туго им обоим приходилось, ой, нелегко им доставался хлеб насущный! Эдвин писал необычную, самобытную музыку, от которой воротили нос здешние музыканты. В нем видели только чужака и чудного малого. В довершение всех несчастий ему пришлось еще и прятаться от полиции, потому что, в нарушение правил, он часто оставался в Каунасе у жены или у нас.
В 1940 году советская власть отменила особые законы для иностранцев в Литве. Людей теперь можно было оценивать не по их национальности, но по их достоинствам. Музыка Эдвина зазвучала на радио, его песни исполняла одна талантливая певица, потом он дирижировал на концерте в Вильнюсе, и ему готовы были предложить постоянную работу в Каунасе или в Вильнюсе, пусть только овладеет одним из национальных языков, — литовским, польским или русским. Он же говорил только на своем крепком берлинском диалекте, нашпигованном грубо сбитыми, неуклюжими словечками. Будучи по натуре художником, эстетом и сибаритом, Эдвин несказанно радовался доброму к себе отношению и душевной компании, от хорошего вина и доброй трапезы он так начинал веселиться, что всех вокруг заражал своим весельем. Но беда, если общество ему не понравится, если заденет кто-нибудь его тонкое возвышенное существо эстета. О, тогда он весь вечер будет мрачно глядеть перед собой, не откликнется на радость других, не пойдет танцевать с гостеприимной хозяйкой и против всяких правил галантности повернется к даме спиной.
Они с Лидой жили в некрасивой комнатенке, казалось, целиком занятой роялем. Когда Эдвин бывал в хорошем настроении, он наигрывал партитуры из своей оперы, мог спеть любую арию, между ними — играл, изображал действие, что-нибудь объяснял, Лида должна была участвовать в этом вместе с ним. Она тоже играла на рояле и была, как бог потребовал от первой женщины, истинной верной помощницей своему супругу.
Так прошел один год, который, вроде бы, и не исполнил все желания, однако принес новые планы, надежды, мечты. Год кончился. В первые же дни оккупации был арестован и пропал отец Лиды. Дочь не могла оставить в одиночестве и отчаянии свою мать и много времени проводила с ней. Что теперь с ними будет? Может быть, Эдвина минует закон о переселении в гетто, он все-таки имперский немец[28], еврей только наполовину. Он решил остаться в Каунасе, Лида согласилась. Что бы с ним ни случилось, она все примет, все вынесет, одна или вместе с ним. Вскоре она пришла к нам с желтой звездой на груди. Мари обняла ее порывисто, с нежностью, желая утешить. Мы не оставим ни ее, ни Эдвина, позаботимся. Мы часто у них бывали.
3 августа, воскресенье, мы снова втроем отправились в наш лес — набрать ягод для Эдвина и Лиды. Туман, как перед дождем, ни ветерка, дышать нечем. И так до вечера.
Наши туески быстро наполнились до краев, все три. Упало несколько капель. Снова засияло солнце. «Доброе предзнаменование», — сообщила Мари, и на обратном пути мы снова отдались нашему любимому занятию: стали фантазировать, каким был бы мир, если бы им правили по «законам добра»? В таком мире всякий нашел бы себе достойное место без малейшего принуждения, и ни к чему были бы никакие наказания.
Вечером Мари зашла к Гайстам с корзинкой черники, малины и земляники. Ну и аромат стоял! Домой она вернулась опять поздно, за что получила от меня очередной нагоняй, и пообещала, что впредь будет всякий раз дома до девяти. Не надо, мамуля, так беспокоиться.
«Скучно мне в бюро», — жаловалась дочь всякий раз, возвращаясь с работы. Найти бы другую! Стать бы медсестрой или, может, поступить в университет! Успеется еще, утешала ее я, не то нынче время. Надо затаиться, стать незаметными. А вы еще обе молоды, придет иная пора, лучшие дни. Вся жизнь впереди. В тот день мы еще долго беседовали на балконе о самом сокровенном.
На другой день после обеда Мари снова ушла, якобы у нее встреча с коллегой ее, Ниной, той, которую она учила немецкому. Вечер. Мари нет. Уже девять. Уже больше. Все нет. Я за ворота, туда-сюда по улице. Гретхен — со мной. Да сколько же можно! Где она? Что с ней? Ведь обещала же, ведь поклялась по вечерам быть дома! Стемнело. Ага, вот, кто-то показался! Чей-то светлый силуэт! Нет, опять не она. Улица опустела. Никого, ничего, темно, тихо. Только собственные нервные шаги по мостовой. Пробило десять. Комендантский час! Еще несколько минут, четверть часа! Нет, все домой. Молча вернулись.
Ночь без сна. Утро без радости. Я в ее контору. Никто ничего не знает. Нина мою дочь вчера вечером не видела. Прошу директора: позвоните в полицию! Нет, не станет звонить, не его дело, не хочет ввязываться. Холоден, как лед. Я к ее подругам. Ни одна не слышала ничего.
На другое утро — в полицию. Долго ждала в приемной. Наконец пустили. Молодой чиновник листает списки. Да, позавчера, 4 августа, Мари Хольцман арестовали и препроводили в тюрьму. Не волнуйтесь, сейчас многих хватают на улице, а потом отпускают, если за человеком ничего не водится. Она, правда, комсомолка, это уже хуже. Но в любом случае принесите ей завтра, в четверг, что-нибудь поесть в камеру.
Как ни ужасны были вести, любезный тон полицейского меня немного успокоил. Теперь я, по крайней мере, знала, куда дальше идти. Я побежала домой: там Гретхен тоже не находит себе места. Утром собрали корзинку с едой: масло, четыре яйца вкрутую, колбасы, сахара, хлеба, смородины. Тюремный двор уже был полон: почти все женщины, стоят с передачами для заключенных. Мы встали в очередь.
Многие уже хорошо друг друга знали — они встречались здесь каждый четверг, и у них было предостаточно времени излить друг другу душу. Нас тоже тут же спросили, кто у нас сидит. У каждой из них болело сердце за кого-то там, за решеткой, и беду ближнего понять могли с полуслова. Но у нас беда была особая, и мы о ней рассказывать не стали.
У большинства в тюрьме сидел муж, у некоторых — сын, у других — отец. Женщины приезжали из деревни, издалека, некоторым километров сорок пришлось проехать на своей телеге. Их лошади стояли тут же во дворе, привязанные к дереву. Солнце палило нещадно, а спрятаться негде. Наконец и мы придвинулись к окошку. Хольцман? Еврейское имя. Евреям передачи принимают в другой день. Нет, нет, она немка! Чиновник полистал толстый фолиант, нашел что нужно, пометил, выдал номер. С ним надо было встать в очередь к другому окошку. Корзинку нашу взвесили (больше двух килограммов не положено), хлеб и масло искромсали на кусочки — не спрятано ли внутри чего-нибудь недозволенного. Потом вместе с молодым человеком, носильщиком, перешли улицу и стали ждать у тюремных ворот.
Много нас набралось, ожидающих. Некоторые уже много раз тут ждали. Господи, как долго! Только бы ее не записали еврейкой! Тогда ведь посылку не примут! Мы с Гретхен держались за руки и стискивали друг другу ладони от волнения. Страх, снова этот мерзкий страх подкатывал! И все о том же, все за одно и то же: не дай бог кто узнает о нашей еврейской тайне! Наконец, вернулся носильщик и протянул нам пустую корзинку и записку. Мари написала на листке бумаги только свое имя. «Она так обрадовалась вашей передаче, — сообщил он, — хотела написать что-нибудь, но это строжайше запрещено». Она передала нам привет, как смогла! Ну, слава богу! Ох, отлегло! И успокоенные мы вернулись домой.
С того дня мы жили от четверга до четверга. Всю неделю мы наполняли нашу лыковую корзинку съестными припасами, чего-нибудь вкусненького, всего понемногу. Масло и сало раздобыть было невероятно трудно, мы как-то выкручивались. Ухитрялись даже достать сладостей. И всякий раз снова и снова — часовые очереди в тюремном дворе, где негде укрыться от солнца, грубые тюремщики, от которых не дождешься доброго слова, вечно «тыкают», обращаются с запуганными, затравленными родственниками заключенных, словно с преступниками. Тягостное, надрывное ожидание утешительного знака, поданного из-за каменных стен и решеток. Марите Хольцманайте, я уже выучила, как звать мою девочку по-литовски. Всякий раз я изучала ее записку: как она там сейчас? Как там держится моя храбрая дочка? Не сломила ли тюрьма ее твердого духа? Вынесет ли она это испытание?
Между тем друг ее Виктор выяснил, что в тот треклятый день она пришла в военный госпиталь к тем самым своим знакомым немецким солдатам и завела уже известный разговор: мир любой ценой! Услышал один из штабных врачей, вмешался в разговор, принял юную пацифистку за вражеского агента и велел арестовать.
Услышав такое, я снова кинулась в полицию. Зря пришли, заявили мне, не наша компетенция, идите к немцам. От тех, понятное дело, добра не жди. Вычислили, что я уже приходила к ним много раз просить за мужа. Так, так, ладно, выясним, так ли уж ваша дочь невинна, как вы утверждаете. Когда придти? Не надо больше приходить, ни к чему. У меня тоскливо заныла сердце. Быть беде, по всему видать. Чего еще ждать от одержимого фанатика. Тон — ледяной, скажет, как все равно ножом полоснет. И эта ненавистная партийная униформа, и свастика, мерзкий крест с закорючками. Говорят, вроде бы, на одном со мной языке, но до них не достучаться. От них хочется лишь бежать, скрыться, спрятаться, исчезнуть. И у них теперь моя Мари.
К тому времени власть в городе перешла в руки немецких гражданских чиновников со всей их свитой. Въехали они, конечно, в бывшие еврейские дома. Еврейские семьи, еще не успевшие перебраться в гетто, были из квартир выкинуты. И при этом все, что новым владельцам понравилось из хозяйства, пришлось оставить, так что многим несчастным и взять-то с собой в гетто было почти нечего. В новом городском правительстве ответственным по всем еврейским вопросам назначили человека, который по иронии судьбы носил имя священной реки земли обетованной — Йордан[29].
К нему шли все, кто еще не выяснил, насколько он еврей, кто до сих пор не носил еще желтой звезды на груди и не переселился в гетто — «наполовину евреи», граждане нейтральных государств, супруги, состоящие в смешанном браке. Йордан всех принимал, коротко выслушивал и орал: «Марш в гетто! Немедленно!»
К кому я только ни обращалась за помощью, всякий как огня боялся гестапо, боялся засветиться даже при малейшей попытке помочь. Литовцы, конечно, не были в восторге от новых немецких порядков, но кое-что им весьма импонировало, хотя и пугало. Меня многие с участием выслушали и сожалением отослали прочь. Мужа моего знали немало образованных интеллигентных литовцев, и все его уважали. У Мари тоже было множество друзей и добрых знакомых, и так уж они ее любили! Но помочь никто не рискнул, даже на службе, в конторе, отказались.
Я рассказала о нашей беде Эдвину и Лиде. Лида тут же откликнулась своей недоброй вестью: ее мать вышла из дому, совсем забыв нацепить желтую звезду. Пожилую даму тут же арестовали и бросили в тюрьму. Один раз дочь приносила ей передачу. На вторую неделю для евреев посылки больше не принимали.
У Эдвина истек срок действия немецкого паспорта, и молодой человек не осмеливался больше выходить на улицу и боялся запросить новый документ или продлить недействительный. Наконец, он собрался с духом и пришел к Йордану. Тот был как раз занят и не принимал. Дружелюбная секретарша пообещала представить шефу дело Гайста в наиболее выгодном свете. Пусть Эдвин придет через пару дней. Мы уже стали надеяться на лучшее, да рано радовались. Йордан принял Гайста лично: «Вы родились от смешанного брака? Отпрыск смешанного брака первой степени? Женаты на еврейке? Значит, вы еврей. Марш в гетто! И чтобы без звезды на улице больше не появлялся!»
Вот тебе и надежда! Лида стала подыскивать квартиру в гетто. Лучшие места были уже, конечно, расхватаны. Она надеялась, что и мать будет жить с ними. Наконец, нашла комнатушку. Я помогала им как могла собрать небольшой запас продуктов и наладить убогое хозяйство: свечки, сигареты, электрическую плитку. Часть своих вещей они оставили у знакомых — у горничной хозяина их городской квартиры.
Путь до гетто был не близок, Гайсты жили на другом конце города. Невыносимо тяжело было шагать по кривой булыжной мостовой, разбитой, ухабистой[30]. Однажды Лида вернулась домой в отчаянии. Ее хорошенькое, светлое, одухотворенное личико посерело от горя. У нее не достало сил дойти пешком до гетто по жаре, и она попросила одного извозчика подвезти ее. Он взял ее, а потом, проезжая мимо тюрьмы, заявил: «Вылазь, ты, жидовка. Распяли Иисуса Христа, евреи поганые, вас бы за это!..» Что тут поделаешь? Мы обе только расплакались — что творится с людьми, будто их кто-то ослепил. И откуда только такая злоба?
Переселение евреев в гетто, кажется, подходило к концу. Переполненные улицы постепенно пустели, гетто закрывали, его территорию урезали. Узников самих заставили протягивать колючую проволоку, от постройки стены отказались.
Накануне закрытия[31] мы пришли в гетто навестить Цингхаусов. С тех пор как пришли немцы, стояла превосходная погода. Каждый день был солнечный. И солнце теперь освещало весь этот стыд, этот позор, эту муку. Берега Вилии тонули в мягком мареве. По мосту двигались люди, спокойно, равнодушно, судьба тех, кого согнали за колючую проволоку, их не волновала.
Территория гетто еще не была целиком обнесена забором из колючек. Мы шли берегом реки, где заграждений пока не было. Дорожные работы: крепкие, веселые парни ремонтируют улицу, не заботясь о том, что будет там, за забором. Мы, скрепя сердце, вошли в гетто. Там, в деревянном домишке жил один скрипач с семьей[32]. Он стоял перед домом. Мы вошли в палисадник, приветствуя хозяина. Свекла, капуста, помидоры на грядках, цветы. «Не про нашу честь, — объяснил хозяин, — прежний владелец дома забирает себе весь урожай».
В домишке жила еще одна семья. Теснота была страшная. Дедушка в одной из семей спал чуть ли не на кухонном столе. По крайней мере, у каждой семьи было собственное пространство, и то хорошо. Подошли еще знакомые. Господи, что же теперь будет? Чего ждать? Никто не знал, только умирали от страха.
Цингхаусов мы нашли в бывшем рабочем поселке, в каменном домике без канализации и водопровода, но, к счастью, еще довольно новом и чистеньком. Старичков дома не оказалось. Нас приняла сестра фрау Цингхаус. В кухне умещался только крошечный столик. Сидеть приходилось на чемоданах. «Оставили бы нас хоть теперь в покое, — вздохнула пожилая дама, — мы бы уж и привыкли к этому убогому существованию». Но ничего доброго никто не ждал.
На обратном пути встретили Цингхаусов: «Кажется, вам тоже придется переселиться в гетто. Новое распоряжение. Почитайте, объявление на воротах вон того большого жилого блока». Читаем: «Не-евреи, состоящие с евреями в браке, а также наполовину евреи подчиняются общему указу и должны переселиться в гетто. Невыполнение приказа строжайше карается».
Это было уже чересчур. Все, хватит, сил больше нет это выносить! Сердце колотилось, в горле комок, вокруг внезапно резко потемнело и потянуло липким холодом. Прочь отсюда! Нас приветствовали с разных сторон старые знакомые, мы почти ничего вокруг себя не замечали, бежали через центральную широкую площадь гетто. Над нами кружили вороны и усаживались на деревья, обрамлявшие площадь.
Значит, и мы теперь изгои! Вот оно что! Ни убежать, ни скрыться! Завтра же, наверняка, уже развесят этот указ по всему городу. Держась за руки, мы спешили домой и на каждом шагу ждали новых объявлений. В одном из переулков столкнулись со знакомым[33]. «Вам тоже придется отправляться в гетто, — объявил он, — моя семья уже там. Я-то сам под указ не подпадаю, я, когда вся эта история еще и не началась, загодя для проформы с моей еврейской женой развелся». Ага, об указе уже знают в городе.
Домой вернулись уже в темноте, включили свет, прошлись по дому, по нашей милой квартирке, которую вскоре придется покинуть. Распределили наши запасы — с чего начинаем, что и как пакуем, кто что берет, кто за чем следит, и главное — кто позаботится о Мари.
Но на другой день мы так и не собрались ни упаковаться, ни подыскать жилье в гетто. Гайсты, до последнего дня остававшиеся еще в городе, при всем сочувствии не могли скрыть радости: им в гетто вместе с нами придется не так тяжко! Но о злополучном указе еще не сообщали в газетах, не расклеили по городу плакатов, и мы с дочерью, как парализованные, ни за что не могли взяться.
14-го, за день до закрытия гетто, я пришла в мэрию к высокопоставленному чиновнику, одному знакомому. Что мне делать? Молчание. Ладно, я у самого Йордана попытаю счастья. В новеньком, только что отделанном городском комиссариате служили вместе литовцы и немцы. Я долго выспрашивала дорогу, пробиралась длинными коридорами, чтобы сначала все-таки поговорить с литовским служащим. Никто не мог дать совет, больно сложная ситуация. Йордан один властен принимать решения по такому поводу.
В приемной Йордана наткнулась на адвоката Станкевича. Не ходите к нему, не надо! Он пытался меня удержать. Там на любой вопрос дают отрицательный ответ. Пока на весь город не раструбили о нововведении, мне следует вернуться домой, затаиться и ждать.
Тут дверь распахнулась: хрупкий, субтильный мужчина с необычно маленькой головкой, бледный, с водянистыми глазами и сморщенным ротиком прошел мимо нас, не заметив. Это и был Йордан.
Уберег бог от беды, прошла стороной. Мы с Гретхен решили во что бы то ни стало остаться в городе, и будь что будет. Здесь наша Мари, и мы будем рядом.
Виктор Куторга был знаком с одной из тюремщиц и через нее втайне держал связь с моей дочерью. Мы снова и снова посылали ей масло, яблоки, сладости, пару бутербродов, и назад приходил всякий раз маленький привет от Мари, коротенькое письмецо. За служащими в тюрьме тоже строго следили, так что мы старались быть осторожны, как могли. Эти записки стали на некоторое время смыслом нашего существования. Две из них, написанных мелким-мелким почерком, сохранились[34].
Родные мои!
С ума схожу от нетерпения, знать бы только, когда это все закончится и чем! Администрация тюрьмы понятия не имеет, что я здесь делаю. Я — и того меньше. Да и моему следователю, который, кстати, уже четыре недели как обо мне забыл, это тоже, разумеется, не ведомо. Ему вообще наплевать, виновна я или нет, он уверен, что виновна. Однако мне до сих пор не сообщили, в чем именно, и не вынесли никакого приговора. Постараюсь разузнать, потрясу людей как следует. Если вы ничем не можете мне помочь, пожалуйста, не огорчайтесь, я тут справляюсь, только зимы очень боюсь. Слава богу, существуют четверги! Чтобы я без них делала! Ваша еженедельная забота помогает мне, по крайней мере, выглядеть бодрой и сильной. Жаль только, что вы так из-за меня убиваетесь. Расскажите мне, как вы там? Тяжко вам, герои вы мои? Есть ли у вас работа? Не голодаете ли? Ни в коем случае не лишайте себя последнего куска, чтобы мне отправить, я же тут не работаю! Спасибо вам за яблоки, хлеб и масло! Очень порадовали. Колбаса тоже жутко вкусная, но вы лучше приберегите ее для себя. Хлеба, я смотрю, вам удается мне передать с каждым разом все меньше, он сырой и все больше состоит из картофельного порошка, видно, и вам там не сладко. Сахара больше не присылайте, ни к чему. Этот серый, чуть теплый бульон, который по утрам нам раздают под видом кофе, никакого сахара не достоин. А вот супы на обед и ужин подают очень даже ничего, теплые и вполне съедобные, особенно если картошка плавает. Спасибо вам за шитье и вязание, что вы мне передали. Думаю, на той неделе сошью Гретель передник. Как это здорово, что есть чем занять руки, а то здесь нужны недели, чтобы заказать и получить ткань и нитки. Портниха из меня, прямо скажем, никакая, так что уж будьте снисходительны, ежели что выйдет криво. Вязание меня особенно успокаивает и радует — я теперь смогу вам передать что-нибудь, чтобы вы всегда знали, как я вас люблю и как по вас скучаю. Попытайтесь все-таки через Виктора найти способ почаще давать о себе знать. В этом месяце или в начале того выйдет на свободу одна моя сокамерница, она непременно к вам зайдет. Если получили и прочли мою записку, нашейте маленький красный крестик на какой-нибудь кусочек ткани и пришлите его мне. Люблю вас бесконечно.
Мари
Пришлите зеркальце.
Второе послание — для Виктора. Написано на литовском.
Дорогой Виктор,
Пожалуйста, будьте добры, передайте моей сестре подарок ко дню рождения. Скажите им с мамой, что я ужасно по ним тоскую, но держусь и стараюсь быть сильной. Утешьте ее, чтобы не убивалась уж так из-за меня. Каждый четверг благодаря ее передачам стал для меня Рождеством. Постарайтесь, пожалуйста, передать мне через тюремное руководство хотя бы марок десять, я бы хоть самое необходимое себе купила. Я часто о вас думаю. Как же здорово, когда есть друзья по ту сторону решетки!
Ваша Марите.
Письмо на оборотной стороне — для моей сестренки.
Родная, милая моя Гретхен,
Блузочка и лифчик — что-то вроде подарка для тебя к Рождеству и к предстоящему дню рождения. Знала бы ты, с каким трудом мне удалось этот подарок тебе преподнести, многие лишения показались бы тебе пустяком. За это пообещай мне, что мама не будет больше посылать мне ни сахара, ни винограда, а если и передаст немного, то только если вам самим при этом останется вдоволь. Мне плакать хочется, когда подумаю, что вы там дома для меня стараетесь, не доедаете, недопиваете, как пеликаны[35], а я тут ем ваши продукты и бездельничаю! А потому пришлите мне пожалуйста немного ткани (лучше, уже выкроенной под ночную рубашку, передник или блузку) или пестрой пряжи для вязания, если найдете, в общем, что-нибудь занять руки работой. А еще, если удастся, перешлите мне колоду карт — пасьянс разложить. Если их пропустит начальство, они мне пригодятся. Маме скажи, что последний допрос, совершенно бессмысленный, был семь недель назад. С тех пор я сижу без приговора, и все обо мне забыли. Может, у нее получится что-нибудь разузнать. Проверяй внимательно все чулки и серые носки, которые я присылаю из тюрьмы.
Люблю вас несказанно.
Мари.
А еще она написала, как добилась, чтобы ее допросили, как ее отвели в отделение гестапо. Там перед ней выложили фотографии тех, кого подозревают в коммунистическом заговоре. Мари заверила, что никого из них не знает, что за один единственный год советской власти она не успела заинтересоваться политикой, что она работала, посещала вечернюю школу и сдавала выпускные экзамены. Как комсомолка она раз в неделю по вечерам занималась с детской группой: учила их мастерить, петь, читать, ставила пьески. Шпионкой она никогда не была. Тюремщица сообщила Виктору, что Мари вернулась с допроса подавленная: ей не верят, она это чувствует, слова ее не воспринимают всерьез, считают ее лгуньей и притворщицей.
Я в отчаянии бросилась искать человека, который мог бы подтвердить ее слова и рассеять недоразумение. Я обошла множество немцев и литовцев, которые состояли в хороших отношениях с немецкой полицией, но никто не пожелал вмешаться и рискнуть ей помочь.
Тут слышу: вернулся адвокат Баумгертель — когда-то он жил в Каунасе — и теперь служит в гражданской администрации генерального комиссариата города. Он, я помню, человек был неплохой, добрый, но страшный антисемит. Не пойти ли к нему? Он теперь национал-социалист, член партии, чиновник Третьего рейха, как-то он теперь себя поведет со мной?
При входе в здание администрации у меня потребовали паспорт, а заодно спросили, зачем мне понадобился Баумгертель, выдали талон с точным временем приема, после чего вооруженная охрана сопроводила меня до его приемной. Я долго пыталась унять сердцебиение, прежде чем постучала. Адвокат вскочил мне навстречу, приветствовал меня очень сердечно, участливо выслушал меня и обещал лично пойти в гестапо и заявить, что знает наше семейство уже давно, и всякое обвинение в политических заговорах абсурдно. Он попросит закончить дело побыстрей, а наказание смягчить, как только можно.
Мы разговорились. Он весьма критически выражался о «национал-социалистском режиме». «Мы, старики, думаем одинаково, — объяснил он, — но ведь террор, вы же понимаете, и ни одна живая душа не смеет рот открыть. Все-таки мы немцы трусливый народец».
Последние его слова я потом часто вспоминала. Мы по-дружески попрощались, он велел мне зайти дня через два-три за новостями. Когда я сдавала свой талон охраннику на выходе, он недовольно заметил, что я задержалась почти на целый час.
Домой я вернулась уже с другим настроением, с новой надеждой: нашу девочку выпустят из тюрьмы, мы втроем станем еще ближе, еще роднее друг другу, а взаимная любовь поможет нам вынести тоску по нашему пропавшему отцу. Я едва дождалась Гретхен, чтобы скорее порадовать и ее добрыми вестями.
Моя младшенькая между тем устроилась в бюро переводов. В школу она больше ходить не будет, заявила она, а денежки нужны — и в хозяйстве, и о сестре позаботиться. Гретхен очень изменилась за последнее время — из ребячливого подростка едва-едва пятнадцати лет превратилась в серьезного, делового человека, в соратника.
Выглядела она, правда, еще моложе своих лет, так что всерьез от нее на службе никто ничего не ожидал, и приняли ее пока только на испытательный срок. Но она быстро втянулась в работу, по вечерам училась печатать на машинке, и поскольку как немецкий, так и литовский она знала одинаково превосходно, скоро стала лучшей сотрудницей.
Спустя три дня я снова оказалась на пропускном пункте в генеральный комиссариат города. У входа столкнулась с бароном фон Гроттусом, в коричневой униформе со свастикой. Не поздоровался. Баумгертель принял меня совершенно по-иному: торопился, нервничал, раздражался.
«Я уж испугался, что вас арестовали, вы же вчера не пришли. Я тут навел справки через посредников, вы в черном списке. Вашей дочери, к сожалению, совершенно ничем сейчас помочь невозможно. Вы сами теперь в большой опасности. Мой вам совет: берите младшую и бегите в Германию. Там вас искать не станут, у вас там родственники, вам помогут. Попробуйте нелегально, с почтовым фургоном, пересечь границу. Или пешком, как крестьянка. Вот вам денег на дорогу. Предупреждаю вас — бегите из Каунаса, немедленно!»
Он всучил мне восемьдесят рейхсмарок и выпроводил за дверь. Я поняла, что ему опасно разговаривать со мной дольше. Медленно спустилась по лестнице. Дежурный на пропускном пункте на этот раз не имел оснований придраться к моему слишком долгому визиту.
Значит, меня уже ищут. У входа остановился автомобиль. Человек в униформе выскочил из него и подбежал ко мне. Ну, все, сейчас арестует. «Вы понимаете немецкий? Скажите, как мне пройти в военную комендатуру?»
Я забрала Гретхен из конторы, и мы вместе побрели домой. Я была спокойна и старалась только, чтобы и дочь не слишком переживала. Вопреки предостережениям мы остались у себя в доме на ночь. На утро я поговорила с нашей домохозяйкой, которая с самого начала наших несчастий была неизменно добра к нам, всячески сочувствовала и готова была помочь. Мы на время укроемся в городе, некоторые ценные вещи я отдала ей на хранение. Станут нас искать, пусть говорит, что не знает, где мы. Грете ушла на службу, там ее точно искать не станут. «Придумай, где нам спрятаться», — попросила она уходя. Я осталась стоять на улице, глядя ей вслед, и понятия не имела, что мне теперь делать, как быть.
Они уничтожат нас, сотрут с лица земли. Они запрут нас в гетто, как предписывает новый указ. За то, что мы не переехали туда сами до сих пор, нас теперь «строжайше покарают».
Где мне теперь искать того, кто не побоится иметь с нами дело и рискнет нам помочь? Да их много, уважаемых достойных литовцев или немцев, недавно вернувшихся снова в Каунас, но много-то много, а пойти не к кому! Альгирдас! К нему! Снова полтора часа дороги, снова его нет дома. Жена обещает, что назавтра он приедет в город. Опять тяжкий, выматывающий путь обратно. Снова ночь без сна.
Мы договорились с Альгирдасом встретиться у Наталии Ивановны, русской женщины, недавно овдовевшей. Она извинилась: у нее уже дом полон людей, а то бы она с радостью приняла нас с дочерью. Альгирдас тогда предложил другую русскую даму. Ей позвонили, через час появилась худенькая хрупкая женщина и тут же согласилась взять меня и Гретхен с собой, в дом своей подруги, где они жили втроем — все русские. Она не говорила ни на литовском, ни на немецком. Тогда я попыталась заговорить с ней по-английски: она, я слышала, выросла в Манчжурии и там, кажется, выучила английский. Но она почти не разговаривала со мной по дороге, держалась холодно и отчужденно. Глаза темные, цвет лица желтоватый, эдакая миленькая китаяночка. Она была мне чужой, и весь город с его улицами, где все хожено-перехожено, тоже был мне совсем чужим.
Нас привели в старомодный деревянный домик, который оказался недалеко от нашего, но не на самой улице, а в глубине, среди больших старых деревьев. Там было еще несколько таких же древних жилищ, о которых, казалось, не вспоминали со времен Российской Империи. Внутри просторное помещение разделено было на несколько отдельных светелок дощатыми перегородками, не доходившими до потолка. Окна выходили на юг и запад и, несмотря на треснувшие стекла и непрезентабельную мебель, комнаты были уютным и светлыми.
Наташа-китаянка поговорила со своей подругой, владелицей дома. Та точно так же сразу согласилась нас принять. По-литовски она говорила чуть лучше остальных, но мы все-таки понимали друг друга с трудом. Я себя ощущала в этом интимном, тесном мирке совсем инородным телом, и именно потому, что мне оказали гостеприимство, совершенно не зная, кто я такая, как будто им это безразлично.
Мы договорились, что Гретхен и я быстренько захватим из дома все необходимое и некоторое время не будем у себя появляться. Когда я забрала с работы дочь и рассказала ей о нашем новом жилище, она вспомнила этот домик: там жила, оказывается, наша старая знакомая Людмила!
С Людмилой мы несколько лет подряд проводили каникулы в России, в одной деревне. Наши дома стояли по соседству, на отшибе, в лесу. Она жила там круглый год, лечила крестьян, они ходили к ней за советом и помощью, учила детей, ставила с ними театральные представления. Людмила была больна уже несколько лет, больна тяжело, врачи сказали, что неизлечимо, и отступились от нее, тогда она стала, как могла, выкарабкиваться сама. Перед самым началом войны перебралась в город к подругам, болезнь снова скрутила ее с новой силой, и женщина уже некоторое время не вставала с постели. Лежала она в особой светелке, я в первый раз тогда больную не заметила.
Между Людмилой и Гретхен немедленно возобновились прежние сердечные отношения. Они вместе печалились об общей своей подруге, которую вместе с семьей отправили далеко в Россию[36]. Беке повезло, говорили они, что она оказалась так далеко от войны. Там она сможет остаться свободной и не будет мучиться в гетто.
На ночь нам выделили софу. Дочка сразу уснула. Видимо, ее успокоила новая встреча с Людмилой, и от присутствия доброго друга рядом в нашем убежище Гретхен почувствовала себя как бы в безопасности, дышала ровно и спокойно у меня под боком. А я все глядела в темноту: как нам теперь быть? Лучше всего, наверное, затаиться на несколько дней. Здесь нас никто искать не станет.
Много дней пробежало, а мы так ни на что и не решились. Обе Наташи были добры к нам, помогали, как могли, но оставались все такими же замкнутыми, отстраненными. Лишь со временем я догадалась, что одна из них портниха, работает в тресте, другая ведет хозяйство и ухаживает за Людмилой. Обед в доме готовили нерегулярно, питались как придется, вставали иногда ни свет, ни заря, другой раз — к полудню, и спать ложились тоже, как когда получалось. Весь их образ жизни шел вразрез с тем, к которому привыкли мы с дочкой.
Мы принесли с собой свою электрическую плитку и продукты и готовили отдельно. Старались по возможности не мешать. Гретхен, как и прежде, ходила на работу, и там никто не подозревал о переменах в нашем существовании. Она шла вместе с коллегами домой, прощалась на нашей улице, выжидала в нашем подъезде, пока другие ни скроются из виду, и со всех ног мчалась в наше укрытие.
С нашей домохозяйкой я условилась звонить всякий раз, когда мне нужно было попасть к нам в квартиру. Мы изобрели специальный условный знак, который она должна была подать мне, если нас искали. Каждый день я звонила ей из почтового отделения на Зеленой горе. Ничего тревожного пока не стряслось, мы понемногу успокоились и стали заходить все чаще, прежде всего для того, чтобы собрать наши посылки для каждого следующего четверга. Пекли для нашей Мари пироги, а сами все время выглядывали в окно. Чуть только позвонят в подъезд, мы тс-с-с-с — замирали, как мышки.
Альгирдас постоянно заклинал нас бежать из города. Помочь предлагал, только бы уехали. Он знал нужных людей, которые могли бы выправить фальшивые документы и вывезти нас в Германию. Или, может, нам лучше податься в Вильнюс: в большом городе, где нас никто не знает, нетрудно спрятаться. Я на все была согласна, ни с чем не спорила, пусть предпринимает, что считает нужным, но сама ни на что решиться не могла. Не можем мы уехать, пока наша Мари не с нами![37]
Не лучше ли было найти жилье за городом, в деревне? В семи километрах от Каунаса голландец Штоффель держит садоводство. Мы не слишком близко были знакомы, но его спокойствие и сдержанность вызывали доверие, так что мы тут же выложили ему, что у нас за беда, и попросили помочь. Он сам нас приютить не мог, но обещал поспрашивать соседей.
Спустя пару дней мы обошли несколько крестьянских дворов в округе. За скромную плату нас готовы были поселить. Дрова и продукты в деревне было раздобыть легче, чем в городе. Нам особенно приглянулся новенький, только что отстроенный домик на одном из хуторов. Хозяин обещал привезти сюда на своей телеге нашу мебель. Его жена вскоре должна была родить, и он был даже рад, что кто-нибудь поможет присмотреть за домом. Все, казалось, так удачно складывалось, но и на этот раз ничего не вышло.
Через пару дней зашел садовник Штоффель, мы рассказали ему о нашем укрытии у двух Наташ. По его словам, адвокат Баумгертель был вне себя, узнав, что мы все еще в городе. Опасность возрастает, давно пора бежать!
Но чем больше обстоятельства выдавливали нас из Каунаса, тем больше мне казалось, что я не могу никуда бежать. Но и оставаться дольше у милых, добрых Наташ тоже не годилось: соседи уже стали коситься на задержавшихся гостей. Как только кто-нибудь заходил к хозяйкам, мы запирались в нашем закутке и сидели, не шелохнувшись и затаив дыхание. На оживленные улицы не выходили, держались Зеленой горы. Но и здесь стало неспокойно. То и дело кого-то по соседству бросали за решетку. Людей определяли в какие-то рабочие бригады, хватали коммунистов, карали спекулянтов.
Продуктов по карточкам не хватало. Свободная торговля была запрещена, но литовцы не давали себя так просто запугать: черный рынок процветал, цены росли. Время от времени полиция устраивала облаву, хватала одних и разгоняла других, но пяти минут не проходило, а они уже снова тут как тут, и торговля продолжается, как ни в чем не бывало.
Оказалось, граждан Литвы судьба весьма удачно одарила талантом ростовщиков, умением проворачивать темные аферы, обходить закон, безбожно спекулировать самым необходимым. Надо же, а ведь литовцы за прожженных спекулянтов и ростовщиков держали евреев. А зря, честное слово, зря: последний еврейский торгаш держится правила «живешь сам — дай жить другим» и среди любых своих делишек ухитрится одно с другим совместить, о себе не забыть и других не обидеть. Но даже сейчас, когда евреев напрочь вышвырнули из торговой среды, их по-прежнему нелепо, упорно, тупо обвиняли в дефиците. Народ с готовностью западал на каждое слово немецкой пропаганды, а немцы под прикрытием этой юдофобской лихорадки варварски выжимали соки из оккупированной страны и ее жителей.
Этот грабеж, начавшийся сразу после того, как немцы вошли в Литву, был, очевидно, подготовлен заранее. Маленькая богатая, благополучная, устроенная аграрная страна была лакомым куском, который во что бы то ни стало хотелось удержать в зубах. Все, что давала литовская земля, было конфисковано и отправлялось частью в Германию, частью — в армию. Солдаты надувались от гордости: «Покоренная страна нас прокормит». Они в ту пору самозабвенно упивались славой победителей, и до любви народной им дела не было. Однако уже тогда среди офицеров нашлись такие, которых коробило от подобного безмозглого скотского обращения с гражданским населением. Почуяли, видно, уже тогда: не век им воевать, не жить им долго среди врагов своих.
По проспекту Саванориу тянулись длинные вереницы пленных, вместо лошадей запряженных в телеги: тащили древесные балки. Шли пешком из одного города в другой, босиком. Сапоги забрали. Тощие, высохшие, измученные. Передавать что-либо заключенным было строго-настрого запрещено, но окружающие то и дело всовывали им то поесть, то сигарету. Особенно русские старались, чем могли, помочь. Мы постоянно прихватывали из дома пару яблок, сухарей, папирос — нет, нет, да и порадуем несчастных чем-нибудь. Дерзость наша настолько ошеломляла немецких конвоиров, что им духа не хватало вмешаться. Иные даже специально делали вид, будто не замечают. Но случались порой и драки, и аресты.
Однажды в такой колонне заключенных один от истощения не смог больше идти и упал на землю. Охранник, парень дюжий, здоровый, грубый, стал орать, чтоб тот встал. Пленный не шелохнулся, должно быть, без сознания. Немец взбесился, как с цепи сорвался, стал пинать беднягу сапожищами, топтал его и все орал: «Встать, сволочь! Кто здесь победитель? Кто войну выиграл? Это мы вас победили, мы, а не вы нас! Вот кто победил! Вот кто!»
Мочи не было смотреть на эту мерзость. Тут же слетелась толпа. Одна женщина попыталась солдата отпихнуть. Вмешалась полиция: ваши документы. Она дерзко сунула ему под нос паспорт: на, любуйся, вот я кто! Арестуй, если надо, но не стану я такое скотство терпеть! Не дождетесь! Ее увели и чуть погодя отпустили, я видела. Видимо, и сами полицейские были с ней одного мнения. Русские пленные подняли своего измученного товарища на руки и молча двинулись дальше.
В то время стали брать русских пленных из лагерей в деревенские усадьбы помощниками по хозяйству, кормили неплохо, особо не мучили. Но случалось порой, что пленные сбегали. Оттого стало очень непросто получить разрешение взять себе в дом заключенного.
Иногда и горожане выпрашивали себе такого помощника. Наши обе Наташи решили, что в доме нужен сторож и садовник, и познакомились с одним пленным, он тогда лежал в лазарете. В комендатуре лазарета надо было разговаривать по-немецки, и меня позвали переводить.
Долго ждали во дворе перед входом. Привели очередную партию пленных — раненых, больных. Мы раздали им поровну всего, что принесли с собой. Они тут же спрятали папиросы и впились зубами в ломти черствого хлеба. Громко ломать засохшие корки им показалось неуместным, они старались жевать тихо, не хрустеть. Наташа заговорила с ними, постоянно опасливо оглядываясь по сторонам: с заключенными говорить строжайше запрещено! Но здесь, в госпитале, кажется, бояться не стоило: и врачи, и санитары молчали и на недозволенное смотрели сквозь пальцы, больные же, по всей видимости, были довольны, как с ними тут обращаются.
В канцелярии перед нами неожиданно предстала весьма любезная дама, яркая молодая элегантная блондинка, очень привлекательная. В ее присутствии как будто стало светлей. Персонал и пациенты сияли, когда это солнце озаряло их своими лучами, да и мы тоже сразу подпали под ее обаяние. Красавица обещала позаботиться о том, чтобы тот больной, за которым мы пришли, попал к ним в дом. А пока мы можем его увидеть и сами обо всем с ним договориться.
Послали за больным, и вскоре он появился во дворе. Наташа присела с ним на скамейку у входа. Ее строгий профиль, освещенный солнцем, показался мне теперь не китайским, как прежде, а совсем-совсем славянским. Настоящая маленькая русская женщина беседует с большим, немного неповоротливым, неуклюжим мужчиной. У того одна рука в гипсе, забинтована и закреплена на неудобном, слишком высоком каркасе.
Довольные успешным визитом мы с миром отправились домой. «Как же его так скоро отпускают на работу, он ведь, кажется, тяжело ранен?» — спрашивала я. «Да что ты, — отвечала Наташа, — не волнуйся, Иван вообще не ранен, у него болят глаза, оттого доктор и оставил его еще в госпитале. А перебинтованная рука с помпезным каркасом — для отвода глаз немцам, если заявятся с проверкой. У них в лазарете много таких. Литовские врачи из сострадания им помогают, пусть бедняги в лазарете хоть дух переведут».
В первый раз я столкнулась с таким продуманным и организованным саботажем. Позже я еще много раз встречала подобное в разных местах и всякий раз не уставала удивляться с некоторым даже восхищением.
В назначенный день Иван не пришел. Мы с Наташей снова пошли за ним в госпиталь. Картина совершенно поменялась. Еще на входе часовой не хотел нас пустить. В канцелярии новые лица. Красавица, столь виртуозно управлявшая делами, исчезла. Впоследствии от одного врача я узнала, что она оказалась полькой, немцы разоблачили ее и отправили обратно в Германию. На ее месте сидел теперь хам ефрейтор, четко и безапелляционно заявивший нам, что частным лицам в городе пленные в качестве помощников в доме больше не выдаются. Пока Наташа понапрасну пыталась добиться еще одного свидания с Иваном, я ждала во дворе. Из корпуса напротив вынесли на носилках два трупа, накрытых тканью. Из-под нее торчали мертвые, восковые ноги. Тела погрузили на телегу и увезли прочь.
Вот и у адвоката Баумгертеля так же было, подумалось мне, первое посещение — столько надежды, столько упований, а потом приходишь снова — а тут уже все по-другому.
Гетто заперли 15 августа. У ворот поставили часовых, чтобы не пускать желающих войти. Евреев выпускали в город только под конвоем. Каждый день по мосту через Вилию шли из гетто группы людей — «рабочие бригады» — то числом побольше, то — поменьше. Их отправляли на работы в немецкие военные и гражданские учреждения. Эти конторы заранее заявляли в администрацию гетто, сколько им на днях понадобиться рабочих.
На военных объектах работа была порой тяжелее, физически труднее, чем на гражданских, однако там узникам гетто работалось лучше. Среди офицеров и солдат много было таких, которым по внутреннему их складу претило унижение человеческого достоинства, отчего они пытались лично евреев поддержать, как-то слегка загладить свою вину даже. Идиш настолько родствен немецкому, что общению ничто не препятствовало. Солдатики, которые в первый раз в жизни своей имели дело с евреями, поражались, до чего же немецкая пропаганда оболгала этих людей, какими монстрами выставила. Евреи, которых пригнали работать под их присмотром, оказались приличными, одаренными мастерами, знатоками своего ремесла, те, которые таскали тяжести, выказывали неординарную физическую силу и выносливость, инженеры удивляли своей интеллигентностью, образованностью, компетентностью. Так, порой немцы и евреи становились приятелями, изливали друг другу душу, делались даже настоящими друзьями.
А еврейки! Сколько среди них хорошеньких барышень, какие красавицы, какие умницы. И здесь не так уж редко находилось место для человеческих отношений, для глубоких чувств. Порой даже вспыхивала надежда на счастье «после войны», чему, конечно, не суждено было сбыться уже никогда. Офицеры брали молодых евреек в домработницы, из прислуги женщины становились домохозяйками, доходило дело до интимной близости — вот была злая издевка над расистской пропагандой, ведь немцам пытались внушить физическое отвращение к людям «низшей расы». Не дай бог станет известно об этой любви руководству, и офицеров тут же отправляли на фронт.
Были, разумеется, и такие, которые, со всем своим арсеналом юдофобских предрассудков, встретив еврея, не в состоянии были расстаться ни с одним мерзостным предубеждением. Но таких, сказать по чести, среди немцев военных было гораздо меньше, нежели среди гражданских. На военных, должно быть, повлиял безмерно достойный пример одного из верховных командующих, генерал-майора Йуста[38], а с гражданских властей спросить было нечего — скоты скотами. Заносчивые скоты, зазнавшиеся и зарвавшиеся вконец, так что им евреев одних терзать показалось мало, и за три года оккупации они и литовцев замучили без числа.
Одну женскую бригаду определили вычистить служебные клозеты в здании администрации. А швабры и тряпки? Где же они? Как же без них? Шмотье свое на тряпки и пустите, был ответ. А чем натирать полы в коридорах? Чем мыть окна? Ответ тот же. Евреев-интеллигентов с высшим образованием заставили мести улицы, разгребать завалы, убирать грязь, мостить дороги.
Поначалу евреям доставалась самая тяжкая и грязная работа, но повсюду не хватало компетентных сотрудников, так что стали нанимать узников гетто на другие рабочие места — переводчиками, машинистками, инженерами, бухгалтерами, даже врачами.
Врачей-евреев звали на помощь в самых трудных и безнадежных случаях, когда другие уже опускали руки. То и дело вооруженные партизаны конвоировали по городу известного еврея-хирурга или интерна. Партизан — по мостовой, с автоматом в руках, доктор — по сточной канаве, с желтой звездой на одежде. Один гинеколог из гетто однажды благополучно принял близнецов у жены высокопоставленного чиновника, ярого антисемита.
Но врачи из гетто вскоре были запрещены. Немцы скорее готовы были отказаться вовсе от высококвалифицированной медицинской помощи, нежели признать ее необходимость. Исключение было сделано лишь для доктора Квитцнера, дантиста, который сначала один, а потом вместе с женой-ассистенткой лечил зубы гестаповцам. Ему предоставили полностью оборудованный кабинет, где он убийцам тысяч евреев вставлял пломбы, ставил коронки и новые челюсти. Каждое утро его забирал из гетто специальный автомобиль, вечером привозил обратно.
18 августа около 500 образованных, хорошо одетых узников гетто направили на спецработу в один архив. С собой велели взять немного вещей, так как архив находился за городом, а работы было не на один день. Вызвалось множество добровольцев, обрадованных такой неожиданной приятной возможностью. С легким сердцем они простились с родными. До нужного количества человек немного не дотягивало, недостающих выбрал совет старейшин гетто. Утром 534 человека, в основном молодые мужчины, с чемоданчиками и узелками покинули гетто. Больше их никто не видел. Позже пьяные гестаповцы рассказывали, что этих несчастных расстреляли в одном из фортов. Зачем? Почему? За что? В ответ цинично прозвучало: нужны были добротные мужские костюмы и хорошее белье. Это была первая масштабная акция по уничтожению населения каунасского гетто[39]. Там долго еще надеялись на возвращение пропавших, пока, наконец, постепенно не стало ясно, что надеяться больше не на что.
Террор на время утих. В конце августа вышел указ: сдать все наличные деньги, разрешается оставить не более 10 имперских марок на человека, а также все ценности, украшения, ювелирные изделия, золото, серебро, электрические приборы и меха. Многие, конечно же, попытались спрятать хотя бы часть своего имущества. Новое распоряжение нагнало столько страху, тем более, что человек двадцать за сокрытие ценностей расстреляли на месте. Немецкая полиция и литовские партизаны вместе обыскивали дом за домом, один двор за другим, каждую каморку, всякий закуток. Вламывались по несколько раз в одно и то же жилище, переворачивали все вверх дном и тащили при этом все, что приглянется. Некоторым, правда, удалось все-таки уберечь от бандитов кое-что, спрятали, как смогли, но большинство безропотно отдали все, чего бы ни потребовали, и оставались совершенно разоренными.
Продукты теперь выдавались только в государственных магазинах, но пайки стали гораздо скуднее. За 200 граммов хлеба — часовые очереди. Масло, сало и мясо и вовсе исчезли. Из города в деревню приходилось везти овощи, картошку. По дороге на работу и с работы иногда удавалось прикупить чего-нибудь на черном рынке. А он распространился уже повсюду: по дворам фабрик, по стройкам, по конторам. Везде торговали из-под полы и меняли, как одержимые. После конфискаций в городе особенно вырос спрос на обычную одежду, на самые элементарные предметы обихода. Узники гетто умудрялись обменивать оставшееся у них тряпье на продовольствие и тем жить. Всякие гешефты с евреями были, понятно, под запретом. Но часовые, особенно немецкие, часто смотрели на это дело сквозь пальцы. И все же обе меняющие стороны сильно рисковали. Литовцев за это хватали частенько, те неделями сидели в тюрьме. Один как-то раз обнаглел до того, что прилюдно на улице пожал еврею руку, за что был сурово наказан одной неделей тюрьмы, а его имя растрезвонили по городу газеты, чтобы другим неповадно было.
Йордан застукал как-то на рынке в старом городе еврея, который что-то такое сменял на четыре повозки овощей, чтобы потихоньку, в обход часовых, перекидать все это добро через колючую проволоку своим в гетто. Йордан застрелил беднягу из собственного пистолета на глазах у публики, овощи раздал бабам, а те в полном восторге, что такой куш свалился на них даром, быстренько побежали по домам, нагруженные капустой и свеклой. Спустя пару недель я слышала, как одна хвасталась, сколько добра ей тогда удалось урвать.
Торговля шла прямо у колючей проволоки. Крестьяне прямо по улице Ландштрассе подъезжали к гетто. Часовым давали взятку, а частенько они сами участвовали в обмене. Мебель и швейные машинки обменивались на мясо и масло. К гетто примыкало кладбище, там то и дело появлялась шустрая бабенка с детской коляской, она, словно молитву на четках, повторяла вполголоса: масло, стоит столько-то, сало, стоит столько-то, гуси по такой-то цене, куры, цыплята. Евреи несли ей белье, ткань, и продукты без задержки из детской коляски перебирались за колючую проволоку.
Литовцы-спекулянты бессовестно пользовались бедой евреев и цены на черном рынке накручивали от души. Забыв всякий стыд и наплевав на немецкие правила, затирались в рабочие бригады среди узников гетто, зная наверняка, что здесь-то уж сбудут свой товар за отменное вознаграждение! Поймают немцы одного-другого, запрут ненадолго в тюрьму, а им и то не беда: через пару недель выйдет на волю и снова — у проволоки вертится тут как тут, как ни в чем не бывало. А вот еврей пусть попробует только закон преступить — жизнью заплатить может. Евреи, однако, даже в своем отчаянном положении оставались оптимистами и настолько верили в жизнь, что и за колючей проволокой не прекращали сражаться за маленькие свои радости и удовольствия, с завидной изобретательностью изыскивая все новые возможности жизни порадоваться. В первые месяцы в гетто они, правда, еще надеялись, что им не придется привыкать к лишениям так надолго. Но пришлось, и было это тягостно и горько, не теряя себя в новом своем существовании, день и ночь терпеть, выносить, выживать изо всех сил.
Мы уже вторую неделю скрывались у Наташ, а что делать дальше — так и не знали. Каждый день мы появлялись в нашей квартире, непременно заранее созвонившись с хозяйкой и удостоверившись, что все в порядке. Всю неделю собирали посылку к четвергу: пекли белый хлеб, варили мармелад, в деревне доставали яйца и молоко. И всякий раз — тягостное тревожное ожидание и, — ох, слава богу! — ее записка в руке.
Вместе с продуктами передавали еще и белье, и носовые платки и еще всего разного по мелочи: карандаши, настольную игру, шитье, вязание. Но на контроле то и дело что-нибудь считали «излишним» и возвращали обратно. На улицу выходили из дома — тряслись от страха, как бы не схватили, но в тюремном дворе, среди товарищей по несчастью, успокаивались. Здесь, думалось мне, ничего со мной не случится. Вместе с нами молодая женщина приносила передачи своей сестре, сокамернице нашей Мари, и обе наши девочки, мы знали, по-сестрински делят все, что мы им посылаем.
Однажды в дверь квартиры резко позвонили. Мы не открыли, замерли как мышки. Через четверть часа прибежал наш управдом[40] и рассказал, что нас разыскивал полицейский чиновник — вычитал наши имена в домовой книге, расспросил управдома о том, о сем, записал кое-что с его слов и строго-настрого велел нам ничего не рассказывать. Управдом, разумеется, первым делом пришел и запрет нарушил: прячьтесь, говорит, и некоторое время на квартире больше не появляйтесь. И мы снова ускользнули в наше укрытие.
Перед нами лежал проспект Саванориу, далеко, широко. Народ идет спокойный, равнодушный. Оглядываемся с опаской. Никто за нами не следит. Отряды солдат движутся посередине улицы. И поют лязгающими свинцовыми голосами про крошку Урсулу и еще какие-то бессмысленные военные марши. Ни радости в песнях, ни чувства.
Наши милые Наташи заверили нас, что мы можем оставаться у них сколько понадобится. Добрые женщины. Делают вид, что, укрывая нас, ничем не рискуют. К ним пришли люди, не хватало места и сесть было не на что. Мы отдали нашу софу, а сами спали на овечьей шкуре прямо на полу. Гретхен устала, работы в конторе было много, уснула сразу и крепко проспала всю ночь. Я рядом с ней глядела в темноту и все ломала голову, как нам дальше быть. Только бы вызволить Мари, тогда сбежали бы втроем куда-нибудь подальше!
К нам в квартиру никто подозрительный больше не захаживал. Мы вернулись к себе и остались пока. Иногда по вечерам от страха, что вот именно сегодня ночью за нами придут, мы сбегали к Наташам, а те неизменно были нам рады. Людмила по-прежнему лежала больная. Ее обследовали в клинике, и ничем не порадовали. Нужны были лекарства, а на что их купить? Три подруги выносили это тяжкое испытание, свалившееся на их голову в такое суровое время, терпеливо, с достоинством, как люди, сильные духом. Мы между тем, преодолевая трудности чужого языка, успели подружиться и успокоиться благодаря их постоянной помощи и добросердечию. Уходя всякий раз к себе, мы чувствовали, что в любой момент можем вернуться сюда, если будет нужно.
Настала осень. Как там наша девочка — не замерзла бы в камере, бедная наша. Передали ей курточку на вате, теплые чулки и ботинки, а в чулки каждая из нас вложили по записке. Спустя неделю чулки вернулись к нам уже поношенными и с новыми записками в каждом. Слова утешения, нежности, осторожные намеки, ничего опасного, на случай, если тайные послания не дай бог обнаружит тюремщик. Мы в ответ передали кусок льняного холста и пестрых ниток для вышивания, пусть развлечется рукоделием.
По четвергам мы не топтались больше толпой в тюремном дворе, а выстраивались в упорядоченную очередь перед воротами. Вечера стали холодны и коротки. Выпустили на свободу сокамерницу Мари, и она первым делом зашла к нам, как и обещала моей дочери. В тюрьме, рассказала она, топят прилично, кормят сносно, особенно если добавить к тюремному рациону то, что приносят от родных, но вот на волю тянет невыносимо! Мари передала нам платок с ее вышивкой — тоненькой черной ниткой вывела: «Помогите! Вытащите меня отсюда! Сил больше нет терпеть! Тоска смертная!» Мы с Гретхен, разобрав буквы, тоже расплакались от тоски.
Я снова пошла в генеральный комиссариат, последний раз попытать счастья у Баумгертеля. «Он здесь больше не работает, — заявили мне, — и вообще его опять переводят в Германию». Тогда я через общих знакомых попросила адвоката принять меня у него на квартире. Отказ. Тогда я к директору немецкой гимназии, где преподавала. Не принял. Трусы же мы немцы, какие же трусы.
Пошла домой к одному литовскому полицейскому чиновнику, безо всякой предварительной договоренности, прямо так: помогите, мол, у вас связи в гестапо. Пришла, дом заперт. «Зря стучите, — сообщил сосед, — его уже неделю как арестовали».
Тогда, ну вас всех! Пойду сама в этот немецкий дом ужасов — в гестапо. Не впервой, когда немцы только пришли, я туда через день бегала. В коридоре вижу — мой ученик. Руки не протянул, едва поздоровался, только произнес быстро вполголоса: «Знаем, все знаем. Ничем не поможешь. Уходите скорей!» Я ушла.
Я набрала побольше частных уроков, опрятно и сознательно спланировала каждый день. Никто не замечал, как я измучилась. Дни проходили в заботах: где взять дров, где достать картошки? Прошел слух: в предместье привезли целый вагон картофеля, я туда. Добралась уже в сумерках, стоят открытые вагоны, люди выгружают набитые мешки, складывают в детские коляски и повозки. Договариваюсь с одним человеком, чтобы отвез в город и мой мешок тоже. Но тут дежурный путеец перехватывает мой мешок: все, дамочка, время вышло, на сегодня закрываемся. Дверь вагона захлопнули.
Вдоль железной дороги медленно шагала группа заключенных, несли мертвого своего товарища к могиле. Пошел дождь. И у меня по щекам побежали слезы. Я плакала, плакала, плакала — стало вдруг жаль чужого мертвого русского, стало жутко от человеческой злобы и мерзости, стало невыносимо тоскливо, от отчаяния захотелось завыть.
Конец октября. Вечер. Сидим одни, без движения, без сил, в тревоге и тоске. Вдруг заходят две девушки: «Вам привет от Мари!» На несколько дней их арестовали за танцы в неположенное время. Они оказались с моей дочкой в одной камере. Быстро сдружились, вместе пытались развлечься, играли, шутили. Им было весело вместе. Мари тоже скоро собирается на волю. Тогда они снова будут дружить.
А пока она там не унывает, старается держаться. Вы мои красавицы, девочки вы мои родные! Как я была им благодарна, как они нас порадовали, как успокоили!
Только они ушли, смотрю, моя Гретхен несет китайскую игру — бирюльки в коробочке. Тоненькие палочки из слоновой кости горсткой высыпались на стол, а мы миниатюрным крючочком стали по одной вытаскивать одни, стараясь при этом не задевать другие палочки. И все говорили, говорили. И конечно, все только о Мари, о нашей любимой кровиночке, которая тоскует без нас в тюрьме, без которой мы здесь не находим себе места.
В следующий четверг я снова стояла в тюремной очереди, успокоенная. Девушки рассказывали о тюремщицах, тех, которых заключенные зовут добрыми и доверяют им, и о других, злых, от которых узницы таят свои мысли и занятия. По пути я купила яблок, в каждый чулок снова вложила по записке — два трогательных, утешительных письмеца. Подошла моя очередь.
Марите Хольцманайте? Так, «X», «X», Хольцманайте. Нет у нас такой, говорят. Посмотрите, говорю, может, неправильно записана фамилия. Вы посмотрите на «К» или на «Г»[41]. Нет, отвечают, не числится. И смотрят на меня в четыре глаза. Спросите у инспектора. Ступайте в гестапо, проворчал инспектор.
Опять, опять в это ненавистное, вездесущее заведение! Сообщаю на входе мое имя, тут же пропустили. Молодой человек, брюнет, в черной униформе, на рукаве — опрятная черная повязка из шелка со свастикой. Сидит у стола. Я стою. «Ваша дочь, да, ее увезли.» — «Как это увезли? Куда? Они жива?» — «Подождите, я позвоню».
Его соединили с другим отделением. Он долго говорил о каких-то совершенно посторонних вещах, сыпал непонятными выражениями. Я потянула его за рукав, стала умолять: «Ну не мучайте меня, скажите, наконец, что с ней?!» Он отмахнулся, закончил разговор, положил трубку, посмотрел на меня: «Ваша дочь мертва… Коммунистка, очень опасная, к тому же еще и отец еврей. От евреев скоро здесь вообще даже духу не останется, все вычистим. Сами, конечно, руки о них марать не станем, на это литовцы есть. Мы и у нас в Рейхе старались в дело не вмешиваться, и там тоже ни одного не останется. Полуевреям везет чуть больше, но наиболее опасных — вон из страны».
В кабинете появились еще какие-то люди. Толстяк в коричневой униформе качал головой: «Бедная, бедная немецкая женщина!» Я взглянула на сборище передо мной: «Убийцы! Вот вы кто!» Главный — Штютц — взял со стола револьвер и запихнул в кобуру на поясе: «Не советую вам повторять эти слова. Ваш адрес? Я зайду к вам на днях, с утра, около половины десятого».
Я вернулась домой, в руках — тюремная корзинка, так и осталась наполненной, как была. Поставила ее на стол в кухне. Глаза сухие. Через час вернулась Гретхен. Обе не пролили ни одной слезы, не произнесли ни слова.
Дни шли один за другим, Гретхен ходила на службу, я — к моим ученикам. Ни с кем ни слова о нашей беде. Знали только Людмила и обе Наташи. Мы просыпались по утрам, съедали свой кусок хлеба, на обед варили картошку на электрической плитке, ложились спать по вечерам в нашем закутке. Пусть приходит, этот гестаповец, этот Штютц. Черт с ним, прятаться больше не станем. Пусть забирает. Ее-то нет, она мертва, не вернешь. Вот бы и нам вслед за ней! Штютц не приходил.
Дни стали короткими и холодными. В ноябре пришлось идти в городской комиссариат: Крамер пригрозил женам евреев, что отправит в гетто, если немедленно не оформят развод. Неважно, где муж — в гетто, в бегах, на том свете. До сих пор я не могла решиться на эту унизительную процедуру, но тут все-таки пошла. Секретарь записала данные, на другой день мне выдали машинописный листочек, поставили штамп в паспорте, взяли пять марок. На этом «развод» считался оформленным.
В бюро к Гретхен пришла ее прежняя одноклассница, барышня Робашенски, чтобы составить прошение на имя Йордана: отец Робашенски и его две дочери просили позволения остаться жить в городе. Его жена, еврейка по происхождению, но крещеная протестантка, не пошла в гетто, кто-то выдал ее на допросе, и теперь им было приказано в три дня убраться в гетто всей семьей, и матери-еврейке, и отцу-«арийцу», поскольку они не развелись, и обеим дочерям «от смешанного брака». Прошение Йордан, конечно, отклонил.
«Ну, пошли, давайте, все в гетто!» — с горькой издевкой выкрикнула старшая дочь. Они уже собрали вещи и готовы были съехать с квартиры, но ночью накануне приняли иное решение. Утром в доме нашли четыре трупа: отец застрелил младшую, потом застрелился сам. Старшая дочь, сильная, волевая, отчаянная, выстрелила в мать, потом покончила с собой. Эта трагедия поразила глубоко многих, не только нас. Нам же эта еврейско-немецкая семья с двумя дочерьми-подростками, воспитанными в немецких традициях, казалась очень похожей на нашу, особенно из-за необыкновенной взаимной привязанности этих людей. О них заговорил весь город. Мерзкую политику и произвол Йордана перестали хором нахваливать.
Ночи без сна. За нами в любой момент могут придти. Снова мерещатся их силуэты, мрачные, зловещие. Чудятся эти люди, одновременно жестокие и коварно снисходительные, слышатся их голоса, громкие, жесткие, четкие. Придут, заберут, замучают и все, конец. Смерть.
Гретхен спит рядом со мной, дышит глубоко, ровно. Дышит, значит, жива. Жива моя младшенькая, жива, здесь, со мной, цела и невредима.
Одна из наших хозяек, Наталья Феодосьевна, через Людмилу однажды напомнила мне, что у меня еще осталась одна дочь! Мне необыкновенно повезло! Наташа будто через стенку уловила мои ночные тревоги и кошмары, хотя ни словом ни обмолвилась, сочувствовала мне, переживала и мучилась вместе со мной. Днем все казалось проще: Гретхен отправится в Германию, одна. Без труда можно найти солдата, который согласится в грузовике переправить ее через плохо охраняемую границу. Начали, было даже готовиться к ее отъезду, но всерьез так и не собрались, так что, и говорить об этом перестали.
А немецкая армия между тем победоносно шагала вглубь страны. Вот еще пара дней, и возьмут Ленинград, а до того, может быть, уже и Москву. Победители, черт их возьми, вечные победители! Мир глазел на них, застыв от изумления и восхищения. Немцы ликовали. Страны одна за другой падали под ноги немецких солдат. Покорители отбирали урожай у крестьян, грабили магазины в городах, вырубали леса, превращали население в рабов. Оккупанты умели поразить захваченный народ своей готовой, отлаженной, до мелочей продуманной системой управления, которую тут же пускали в ход. О да, они были для большинства завоеванных наций неотразимы, ослепительно неотразимы, и все же, все же, да, да, как ни крути, все же в этой блистательной машине угадывалась скрытая ошибка. Чего-то не доставало ей с самого начала, что-то вызывало опасение и недоверие, как будто фундамент дал трещину. Фанатичная вера в непогрешимость режима, чувство безмерного превосходства над другими, высокомерный снобизм по отношению к прочим нациям, и в огромной степени этот их оголтелый безмозглый антисемитизм — ничего хорошего, в конце концов, из этого всего выйти не могло, нет, не могло. А нам оставалось только ждать, ждать, когда всем это станет ясно.
Старшая медсестра из лазарета хотела, было, купить у меня шубу, но потом отказалась: Германия выиграет войну еще этой осенью, а у нее дом в Баварии, на юге, ей меховое манто ни к чему. Никто в тот момент еще не подозревал, что уже этой зимой немцам нанесут первый удар, да такой, что они от него до конца не оправятся. Но мы-то, мы уже предчувствовали: победа не вечна, война не навсегда. И в Германии наши братья и сестры по несчастью жили тем же. Оттуда доходили осторожные, скупые вести от затравленных, перепуганных людей — сообщения о смерти и некрологи, некрологи. Погибали друзья, страдали близкие. Один из сыновей моей сестры пал под Ленинградом, другой попал в лазарет обмороженный, в тяжелом состоянии.
Зима пришла так рано и внезапно, что крестьяне не успели ни собрать урожай, ни спасти его. Большая его часть померзла и сгнила на полях. Снова нас ждали часовые очереди перед государственными магазинами, где капуста и свекла шла по низким, приемлемым ценам. Сменяли друг друга в очереди, потому что на проспекте Саванориу, как по коридору, гулял ледяной ветер. В этих очередях я вдоволь наслушалась бессмысленного трепа глупых бабенок, которые время коротали в бесконечных самозабвенных пересудах: то перемоют кости покойным Робашенски, мол, конец у семьи вышел неправедный, то о гетто засудачат, там, говорят, такие страсти творятся!
Еще в начале сентября началось полное целенаправленное истребление евреев в литовской провинции. Убивали по заранее составленному плану, четкому, до мелочей просчитанному, так что во всех городах литовской периферии все проходило одинаково.
Немецкая полиция завербовала из горожан-литовцев нужное число партизан и карателей и отдала им на расправу их беззащитных еврейских соседей. В провинции литовцы и евреи, вопреки мелким разногласиям, искони жили тесней и дружней, чем где-либо еще. Евреи были ремесленниками, коммерсантами, предпринимателями, держали гостиницы, лечили людей. Хозяйство городское и уклад жизни литовской провинции без них были немыслимы. Литовские чиновники водили дружбу с евреями-врачами, адвокатами, инженерами. Литовцы сами же любили похвастаться: мол, никогда в Литве не знали погромов, не то, что в Польше и России.
Национал-социалисты годами упорно, целенаправленно подтачивали корни, готовили почву. На евреев повесили все, свалили на них все грехи: кто виноват, что накануне войны в стране было неспокойно, чья вина, что жизнь стала так трудна, что цены подскочили в несколько раз, что в стране безработица и инфляция? Евреи! Все они! И вот настал он — час расплаты! Вот теперь мы им отомстим! Пропаганда подхлестнула и раздразнила в обывателях самое низкое, самое гнусное, и объявила им, тем, что всегда с тайной завистью глядели на имущество и благополучие трудолюбивых евреев: идите, берите, отнимайте, теперь это ваше! И они, понятное дело, пошли. Пошло последнее отребье и быдло, ленивое, тупое, ничего не умеющее и не желающее делать, избегающее всякой работы и жадное до дармовой наживы. Немцы обещали партизанам богатые трофеи, для вдохновения щедро налили шнапса, и началось.
Врывались к евреям в квартиры, сгоняли их семьями, вместе с больными и грудными детьми, на рыночную площадь или в синагогу. Заявили арестованным, что они понадобятся на работах. Что их сейчас переселят на другое место, пусть возьмут с собой немного вещей. Бойня началась уже на улицах и в синагогах: их били прикладами, мучали, пытали, отнимали детей у матерей, грабили. Потом заперли в грузовики и увезли из города.
Накануне вызвали несколько евреев-инженеров с группой помощников и под предлогом проектировки колодцев заставили вырыть в лесу за городом несколько широких котлованов. По окончании работы там же их всех и расстреляли.
К этим ямам и свезли евреев. Велели бросить рядом узелки, всякие пожитки, снять верхнюю одежду. Полуголых партиями расставили на краю рва и расстреляли из автоматов. Сначала больных, стариков, потом женщин и детей, мужчин последними. Убитые падали в котлован метра два глубиной, раненых добивали прикладами, докалывали штыками.
Бойня продолжалась целый день в нескольких местах. Несчастные, пока до них доходила очередь, становились сначала свидетелями смерти близких. Когда рвы наполнились трупами, сваленными один на другой слоями, их из «гигиенических соображений» засыпали негашеной известью, оставшимся еще в живых евреям приказано было ямы закопать. Маленьких детей бросали в ямы живьем и так и закапывали. Среди мужчин были такие, что пытались оказать палачам сопротивление, кидались на палачей, хватали их за горло и увлекали вместе с собой в свои чудовищные братские могилы.
Исполнителями были везде литовские «партизаны-добровольцы». Немцы, полиция и военные, наблюдали и руководили. Если у литовцев сдавали нервы и воля, тогда в дело вступал алкоголь. Немецкая кинохроника тут как тут, все снимали на пленку, причем так, что в кадре оставались только литовские исполнители, а немецкие руководители — за кадром. После войны немцы старались представить дело так, будто они здесь вообще ни при чем, будто это «литовский народ сам в праведном гневе поднялся на еврейских паразитов» и устроил бойню.
Расстреливали среди бела дня, на глазах у тысяч литовцев. Литовское духовенство, высокопоставленные чиновники и офицеры пытались вмешаться и прекратить злодейство, особо активным это стоило жизни. Чернь алкала крови и ни перед чем уже не останавливалась. Молоденьких евреек, прежде чем убить, злодеи тащили в кусты, чтобы обесчестить, надругаться. Один такой убийца впоследствии свихнулся: ему стали мерещиться его жертвы — как они молча раздеваются, снимают обувь, выстраиваются рядом одна подле другой, какие они чистые, невинные. В конце концов, преступник не вынес своих видений и покончил с собой.
Когда до Каунаса донеслись первые вести, никто не хотел верить. Позже я встретила немало свидетелей, все они рассказывали об одном и том же: экзекуции повсюду были схожи и кончались полным уничтожением еврейского населения в городе. Лишь в четырех городах жизнь евреям отчасти спасли гетто, хотя организованы были совсем не для этого: это были Вильнюс, Каунас, Шяуляй и Семелишкес[42]. Гетто, разумеется, тоже должны были стать всего лишь очередным этапом в процессе уничтожения евреев в стране, однако, оккупантам понадобилась рабочая сила, и тех, кого определили на убой, решено было еще немного использовать перед смертью.
Друзья из гетто окольными путями слали нам письма — крик души, изнывающей от тоски и отчаяния. Лида Гайст писала о «безымянном страдании». Есть нечего, дом не отапливается, но это еще наименьшая из их бед.
Через лидиного брата, который работал в городе в одной из бригад, мы послали им узелок. Через эту и другие рабочие бригады мы и поддерживали постоянную связь с гетто и скорбели вместе с ними о несчастьях и испытаниях, свалившихся на наши ни в чем не повинные головы. Не хватает слов и духу осознать и описать всю череду мерзостей и ужасов, которые пришлось пережить. Такой рассказ может многим показаться совершенно невероятным, неправдоподобным, и, тем не менее, долг всякого немца — не прятаться от действительности, но набраться мужества и взять на себя вину за то, что было, и тем самым вину эту можно искупить.
Оккупационное руководство держало связь с гетто через совет старейшин[43]. На переговоры вызывали в город доктора Элькеса или кого-нибудь другого. Во время таких выездов с представителем еврейской стороны обращались подчеркнуто вежливо и корректно. Благосклонно выслушивались просьбы, жалобы, прошения, и посланнику гетто порой удавалось выторговать у немцев пару поблажек. Узники гетто пытались по-человечески договориться с бесчеловечным режимом, в этом-то и заключался весь дьявольский цинизм и ужас происходящего.
В середине сентября администрация города распределила около 5000 «удостоверений рабочего»[44]. В первую очередь их раздали специалистам, и мужчинам, и женщинам, а потом и другим работоспособным узникам гетто, в том числе нескольким врачам. Из тех, кто получил такое удостоверение, потом собрали рабочие бригады. Из провинции евреи спасались бегством и укрывались в каунасском гетто. От них стало известно во всех подробностях о массовых расстрелах, и в гетто с тоской ожидали того самого. Поэтому удостоверения восприняли как определенную гарантию безопасности. Немцы дали понять, что обладателям этого документа и их близким предоставляется шанс выжить, поэтому получить его стремился всякий.
17 сентября, спустя несколько дней после распределения удостоверений, партизаны окружили так называемое Малое гетто и расставили по его периметру автоматчиков. Малое гетто занимало территорию на другой стороне улицы Панериу, главной дороги, ведущей в область. Движение транспорта по улице было слишком оживленное, поэтому от трассы не стали отказываться, выстроили над ней переход, уходивший одним концом в Большое гетто, другим — в малое. Так соединили между собой две части каунасского гетто. В малом жителей было около 3000, там же находились сиротский дом, больница и другие социальные учреждения.
Партизаны пошли по домам, вытаскивали людей из постели и собирали на центральную площадь. Не давали время даже толком одеться. Поднимали всех, даже больных велели нести на площадь. Там немецкие солдаты под командованием штурмбаннфюрера Торнбаума разделили евреев на группы и погнали к IX форту, до того было около получаса ходу. Днем раньше по городу поползли слухи, будто у форта русские пленные выкопали глубокий длинный ров. Что это означало, после вестей из провинции, уже никто не сомневался. Было ясно, что обратно никто из арестованных не вернется, да и палачи не оставляли несчастным никаких надежд. На площади беспрестанно трещали кинокамеры.
Вдруг близ площади остановилась машина, вышел офицер званием повыше штурмбаннфюрера с бумагой в руке, коротко переговорил с Торнбаумом и обратился к узникам со словами: «Данная акция отменена! Можете быть благодарны германской армии, которая дарит вам жизнь!» по толпе понеслось одно слово: «Отменили! Отменили! Отменили!» В идише такого слова нет, поняли его не все и не сразу, но ясно стало лишь одно — оно обладает колдовской силой. Вернули группы, уже ушедшие вперед по направлению к форту, кинооператоры остановили свои камеры, и всем было велено разойтись по домом, как будто отменили запланированную прогулку, потому что пошел дождь.
После этой «акции» Йордан заверил евреев, что других больше уже не будет, и они, наивные, поверили. Поверили, что это и вправду вермахт за них вступился, что теперь с ними будут обращаться совершенно по-иному, а именно — по-человечески. На самом же деле акцию отменили, скорее всего, из чисто практических соображений: нужна была рабочая сила, и рабов решено было пока не истреблять.
Большую часть трудоспособных узников гетто определили на строительство аэродрома, около 1200 мужчин и 500 женщин. От гетто до стройки путь лежал не близкий. Их поднимали затемно, часов в шесть, а то и раньше, и в темноте, на утреннем холоде они час с лишним ждали, пока дадут команду трогаться в путь. Дорога шла через мост над Вилией, по самым оживленным улицам старого города, через обе рыночные площади, по большому мосту над Неманом и, наконец, на гору, где и строился новый аэродром. За порядок отвечала специальная еврейская полиция, узнать их можно было по повязке на рукаве. У каждого рабочего на груди и спине — желтая звезда. Эти звезды светились в осенних предрассветных сумерках, когда мрачное шествие двигалось по городу.
Горько об этом говорить, но горожане удивительно быстро привыкли к процессии из гетто и встречали ее всякий раз с полнейшим равнодушием. Почему никого не коробило, когда на их глазах втаптывали в грязь человеческое достоинство? Как могли каунассцы терпеть такой позор, такую низость, такую мерзость? А вот терпели, никто и не шелохнулся. А немцы умело спекулировали на скотстве: мол, для них последний литовский слюнтяй, быдло и ничтожество, во сто крат лучше любого еврея, а потому немецкая администрация может себе позволить пару жестких мер в отношении литовского населения, и оно понятно, оно простительно. Посмотрите, вон, что с евреями делают, да по сравнению с ними, вы, литовцы, живете припеваючи!
Однако нашлись все-таки среди горожан те, кто старался несчастным обитателям гетто хоть чем-нибудь помочь. Больше всего для узников сделала часть городской интеллигенции, но и не только они. Вечерами на мосту через Неман мы всякий раз встречали женщин с сумками, вместе с ними, опасливо оглядываясь, выжидали, когда погонят строителей обратно. Мы многих среди них знали, они незаметно кивали нам в знак приветствия. Наконец подходили и наши друзья. Еврейских часовых бояться было нечего, а вот немецких приходилось остерегаться. Впрочем, многие согласны были не замечать, как мы нарушаем запрет и умудряемся на ходу передать нашим свертки с продуктами и письмецо. Поговорить не получалось, некогда. О том, что происходило на стройплощадке на горе, мы узнали лишь спустя время.
Там работали в три смены, день и ночь, без перерыва. Вели строительство аэродрома две немецкие строительные фирмы. Евреям доставалась вся самая тяжелая и грязная работа: таскать камни, стирать белье, разгружать вагоны с материалами, выравнивать грунт. Директора обеих фирм оказались людьми жестокими, бессердечными и с рабочими обращались как с рабами. За день работы выплачивали 50 пфеннигов, полмарки — вознаграждение совершенно издевательское, на такие деньги по тем временам ничего не купишь (килограмм масла или сала стоил 20–25 имперских марок!). Первые пару месяцев их там даже не кормили, потом, когда пришла зима, все-таки стали завозить продовольствие, завели кухни.
В одной такой кухне работала наша Лида, слава богу, хоть пару часов в день в тепле. Эдвин тоже работал на стройке — санитаром. «Кухней» звался ангар с железной печью. Женщины, человек тридцать, готовили еду в большом котле на полторы тысячи рабочих. Котлы стояли снаружи, под дощатым навесом, где глинистая почва чавкала под ногами от сырости. И после рабочего дня строители, распределенные по бригадам, месили грязь перед ангаром, чтобы получить половник супа в принесенную с собой миску.
До костей продрогшие, полумертвые от усталости и все равно находившие силы поспорить, поднять шум: то одному слишком мало плеснули в миску, то другому достался один бульон, без единого кусочка мяса или картошки. Немецкие часовые, тоже уставшие и злые, вовсе выходили из себя, пускали в ход приклады и торопили: «Быстрей! Быстрей!» Хотя порой их грубость была притворной. Часто они сами звали рабочих под навес ангара укрыться от ветра во время еды, или к огню — согреться. И рабочих до смерти не гоняли, чтобы побольше успеть. А вот строительные компании, напротив, готовы были выжимать из строителей все соки, только бы производительность поднялась максимально, только бы строительство шло быстрей. Они набрасывались с побоями на отстающих, словно надсмотрщики на строительстве египетских пирамид.
Аэродром строили еще и русские пленные, тощие, обессилевшие и онемевшие от голода. Евреи, почти все понимавшие и русский, и немецкий, служили нередко переводчиками. Как ни тягостно и убого было их собственное существование, русские, казалось, пребывают в еще большем ничтожестве, так что евреи, бывало, тайком несли собратьям по несчастью последний кусок хлеба.
Ночная смена в утренних сумерках спускалась с горы домой, а утренняя уже приступала к работе. Цемент, бетон, щебень, лопаты — изо дня в день ненавистная работа, гни спину на мучителей. Сколько еще, спрашивают себя каждый день люди из гетто. Снова поползли по городу слухи: мол, снова роют рвы у фортов, часовые по ночам палят в воздух, и так уже затравленные узники в отчаянии. Поговаривают о каких-то новых расчетах, назначениях, указаниях. Якобы совет старейшин ездил к Йордану на очередные переговоры, и что теперь — кто его знает? Солдаты на стройке успокаивают рабочих: пусть вас здесь лучше в три погибели гнут, чем дольше гнут, тем дольше жить. Аэропорт еще строить и строить, года три-четыре. Не меньше. До тех пор не тронут.
Недолго отдыхали в гетто после «отмененной акции». 17 сентября опять поднялась стрельба, и узники приготовились — все, конец. Новые репрессии продлились до 26 сентября[45]. По утрам штурмовики и партизаны врывались в дома в одном из кварталов гетто и выгоняли на площадь всех подряд, и больных, и стариков, и детей. На крышах прилегающих домов расставили пулеметы для острастки. Потом отпустили тех, у кого было удостоверение рабочего, а остальных разбили на группы и под строжайшим конвоем повели к IX форту. Тех, кто не мог идти сам, везли на грузовике. Им сказали, что просто переводят в другое гетто.
А в IX форте арестованных ожидала та же чудовищная процедура, что и евреев в провинции: тысячи три расстреляли из пулеметов и закопали во рву. Одежду отвезли в грузовике на дезинфекцию. И снова одни должны были смотреть, как погибают другие, и не могли помочь ни своим близким, ни самим себе, бежать было некуда, сопротивляться невозможно. Паника и отчаяние. Йордан, руководивший операцией, обещал, что уж это точно последняя, что больше экзекуций не будет. Гибнущие люди цеплялись за его слова, в глубине души уже ничему не веря.
2 октября Йордан со свитой снова появился в совете старейшин. Прошелся по разного рода социальным учреждениям в малом гетто, особенно пристально оглядел больницу и велел копать рвы.
В ночь на 4 октября опять стали палить чаще и громче обычного, узники снова приготовились к худшему. Когда с аэродрома вернулась ночная смена, проживавшая в малом гетто, виадук между малым и большим гетто оказался заперт. Малое гетто окружено было по периметру пулеметами и переполнено военными. Выгнали из дома всех жителей, отобрали еще работоспособных, остальных поволокли к IX форту, в том числе всех обитателей сиротского дома — и детей (человек 150), и учителей, и прочий персонал. Куда и зачем их уводят, было ясно без слов. Дети плакали и отказывались идти. Взрослые пытались даже спастись бегством. Их колотили прикладами и резиновыми дубинками, отчего многие гибли на месте.
В полдень больницу облили горючим и запалили с нескольких концов. Врачи бросились было выносить больных на носилках, им не дали. Огонь быстро побежал по зданию, вся больница сгорела вместе с пациентами. Двух сестер и врача (доктора Давидовича) застрелили во дворе, когда они пытались спасти хоть кого-нибудь из пылающего лазарета. 45 пациентов инфекционного блока сгорели заживо. Командовал операцией штурмбаннфюрер Торнбаум. Комиссар Крамер явился под занавес этого дьявольского представления и заявил: пришлось, понимаете ли, спалить лазарет по «гигиеническим соображениям», а то проказа, вы же понимаете. Никаких прокаженных, конечно, в инфекционном блоке не было. Там лежали со скарлатиной, дифтерией, в тифу, с туберкулезом. Вместе с больницей сгорело бесценное медицинское оборудование, рентгеновский аппарат, десять электрокардиографов.
С того конца виадука, из большого гетто, пытались прорваться через кордон, чтобы помочь. Их отшвырнули назад и пригрозили отвезти в IX форт. С той стороны улицы Панериу было видно, как часовые, немцы и литовцы, с побоями гонят в гору группу обреченных на смерть, тысячи две человек. И эти, вернувшиеся со стройки, узнавали в толпе идущих на расстрел своих детей, жен, родителей. Преступники тогда вволю поиздевались над их отчаянием.
Тем, кого из малого гетто пока что еще попридержали для подневольного непосильного труда, велено было перебраться в Большое гетто и ничего с собой не брать. Дома по ту сторону улицы Панериу стояли пустые. Партизаны и немецкие солдаты тащили все, что понравится. Жители соседнего квартала вслед за ними протиснулись через колючую проволоку и пошли грабить. Спустя два дня разрешили бывшим жителям малого гетто вернуться и забрать оставшееся добро, сколько унесут. Среди них были и наши друзья. Эдвин как санитар лично пережил пожар в больнице. Лида забрала из разоренного жилища, что еще уцелело. Гайсты поселились в большом гетто у Лидиного брата.
Евреи начинали порой роптать: как же это — обещали никаких больше акций, а сами! Йордан отвечал всякий раз, что это была «экстренная мера» и уж теперь-то, поверьте, самая последняя. Оставшимся в живых опасаться больше нечего, если они, конечно, хорошо себя будут вести. И снова отчаявшиеся люди цеплялись за его бесстыжее вранье, потому что ни на какое иное спасение надежды больше не было.
Скоро изощренные умы немецких господ придумали новый предлог для очередной бойни: в гетто, близ ворот прозвучал выстрел. Тут же оговорили молодого человека, который, якобы, покушался на жизнь коменданта гетто Козловски. Квартал тут же оцепили и в IX форте вместе с мнимым виновником расстреляли еще человек тысячу за соучастие[46].
В гетто каждый день готовились к смерти. Стояла промозглая, холодная осень. 26 октября Йордан вызвал совет старейшин на переговоры, после чего в гетто появилось объявление: 28 октября в шесть утра все жители без исключения должны собраться на площади. Пусть позаботятся о теплой одежде и продовольствии на целый день. Операция готовится исключительно мирная, бояться нечего.
Стали тайком перешептываться, что нетрудоспособных, может, собираются переселить в Малое гетто. После того, как сожгли больницу, квартал стоял пустой. Наверное, в малом гетто будут выдавать карточки на меньший паек, чем в большом, где останутся работающие.
Гетто кишело солдатами. Никому не позволили остаться дома, больных расстреляли на месте. Ровно в шесть утра ни в домах, ни на улицах не осталось ни одной живой души. На пустой, голой площади собрали 28 000 человек. За порядком следила еврейская полиция с опознавательными повязками на рукавах.
Построили узников в колонны, одну подле другой, лицом на северо-запад. В первой — совет старейшин с семьями, во второй — полиция, потом — администрация и служащие, наконец, следом — рабочие бригады, каждый на своем месте, каждый с семьей. Так они два часа мерзли в то пасмурное, холодное утро, пока в восемь не заявилась немецкая комиссия: Йордан, уполномоченный по гражданским вопросам еврейского населения Каунаса, Торнбаум, Штютц, Раука, гестаповец, другие немцы, один литовский офицер авиации. Расселись, и колоннам было приказано пройти перед ними по площади.
Из первой выбрали немногих и отвели их в сторону. Остальных отправили налево. Но из следующей отобрали уже больше. Поначалу никто не понимал смысла этого деления на коз и овец, но постепенно стало очевидно: налево идут сильные, работоспособные, хорошо одетые, направо — старики, больные, бедняки, а еще люди с ярко выраженной еврейской внешностью.
Более других старался Раука: велел своим солдатам шерстить каждую колонну, с особенным удовольствием разлучал большие семьи. Время от времени впивался зубами в бутерброд, гонял своего пса, который рыскал по площади в поисках съестного куска, оброненного кем-нибудь из узников. Казалось, этот отбор приводил Рауку в превосходное расположение духа, как, впрочем, и остальных визитеров. Узники почуяли, что от этого «направо» веет недобрым, стали пытаться ускользнуть налево прежде, чем до них дойдет очередь. Другие даже протестовали, если их отправляли направо, размахивали перед носом у немцев удостоверениями рабочего или призывали в свидетели кого-нибудь из еврейской полиции, те все-таки в известной степени на оккупантов могли оказать влияние.
В толпе шептались: не к добру все это! Комиссия как всегда успокаивала: не надо тревожиться, нужны крепкие руки для работы в городе. Но отобранные, по всему было видно, для тяжелой физической работы не подходили. Среди «спасенных налево» обнимались родные и близкие, что остались вместе, рыдали в голос те, кого оторвали от семьи. Так прошел день. Наконец, уже и стервятники в комиссии были сыты, так что под конец уже не глядя отправляли целые колонны направо или налево. Тем, кто стоял слева, Раука в утешение заявил: «Вы мне еще спасибо скажете, что я вас от этой гадости избавил!»
Тех, кто был отправлен «направо», под строгим конвоем перевели через виадук в Малое гетто. Но ночью некоторым удалось перебежать обратно: подкупили охрану: «Быстрей беги, блондиночка!» — в изумлении покрикивали часовые в спину уходящим людям, мало похожим на евреев из «Штурмовика»[47].
На другое утро узников малого гетто повели к IX форту. Русские пленные накануне по приказу немцев вырыли там яму, ее уже до половины успел залить осенний дождь. Сначала отобрали детей и на глазах у матерей швырнули в ров, женщин расстреляли и отправили следом. В последнюю очередь расправились с мужчинами. Зачем? Снова гигиеническая операция. Прежде чем закопать, тела щедро посыпали хлорной известью.
В тот день они уничтожили 10 000 ни в чем не повинных человек, вместе с другими арестованными, вместе с теми евреями, что еще содержались в форте. И там, среди расстрелянных, была и моя дочь, моя Мари[48].
Вести об этом злодействе быстро пролетела по городу. Любые мирные переговоры с оккупантами, по-человечески, вежливо и интеллигентно, стали невозможны. Стоило кому-нибудь вступиться перед немцами за друга или знакомого, человека тут же записывали в «коммунисты» и угрожали расправой. От солдат и партизан о расстреле в форте стало известно в большом гетто. Ужас и отчаяние узников не описать. Убийцы снова стали уверять, что это точно была последняя «акция» и что пережившим ее бояться больше нечего, но им никто уже не верил. Тогда-то некоторые из заключенных решили бежать из гетто и стали готовить побег.
Надо сказать, в Каунасе[49] тогда было немало тех, кому были отвратительны поступки немцев, но далеко не все были готовы принять беглецов из гетто и спрятать их у себя. Да уж, гестапо свое дело сделало — страх был парализующим. Была под Каунасом одна деревня, крестьяне, все больше русские, укрывали у себя беглых евреев. Так вот, немцы спалили все село, а жителей кого расстреляли, кого угнали на принудительные работы. Хватали, не глядя, людей из рабочих бригад, вешали на шею табличку «еврейский холоп» и водили по городу. Если найдут еврея в городе у кого-нибудь в доме, расстреляют и беглеца, и хозяев дома.
Но были, были все-таки и те, кто не побоялся помочь. У Елены Куторги, глазного врача, матери Виктора, друга моей Мари, несколько недель скрывалась в доме одна еврейка, пока, наконец, муж Елены, немец, не справил ей фальшивый паспорт и не отправил в Германию с помощью одного путейского чиновника, жениного пациента. В Германии беглянка и жила себе дальше, никем не узнанная. Доктор Куторга постоянно держала связь со своими еврейскими коллегами в гетто, носила им в бригады продукты, привезенные пациентами из деревни, хранила их ценности, помогала их сбывать. И в своих больных она не переставала и подспудно, и открыто воспитывать и поддерживать отвращение к оккупантским зверствам. В каждом своем слове, в каждом поступке она являла собой воплощенную человечность.
Долго такое скрывать не удалось. Подлые ее соседи донесли на нее. Начались ночные обыски, вызовы в полицию, допросы. К счастью, Елена прекрасно говорила по-немецки и удачно играла роль невинной жертвы коварного поклепа. Ей поверили и отпустили после того, как она письменно пообещала не заниматься более никогда антинемецкой деятельностью и избегать любых сношений с евреями. Она подписалась под этими клятвами и бесстрашно продолжала втайне свои прежние опасные занятия. Я приходила к ней, и мы вместе слушали иностранные радиостанции, естественно, запрещенные. Вермахт тогда шагал еще победоносно на восток, шагал по-прежнему. А мы по-прежнему верили, что придет, придет конец этой череде побед, что не вечен этот поток преступлений против других народов, что эта жестокость, это скотство, это зверство — не навсегда.
ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ
Этот ребёнок должен жить. Разбой и унижения. Под покровом тьмы. Последняя весть от Мари. Подарки на рождество. Гости из гетто. Эмми Вагнер и Дора Каплан. Рассказ Сони и Бебы. В укрытии. Эдвин Гайст уходит из гетто. Опасное поведение. Народ-повелитель и его рабы. Таня. Лида выходит на свободу. Дора Каплан ищет приключений. Кругом друзья, кругом враги. Посетитель. Эдвин болен.
Никогда еще не было такой холодной, мрачной, безысходной осени, как в этом году. Жили механически, как будто по инерции. У Гретхен в конторе никто не подозревал, что на душе у этого ребенка: она привыкла молчать, не выдавала себя ни единым звуком, ни одним жестом. Только я замечала, как с каждым днем от тоски и лишений моя дочка становится совсем бледненькая, будто тает. Я всякий день с тревогой ждала ее со службы. Стоило ей задержаться, я бросалась на улицу и бежала ей навстречу, задыхаясь от страха. И точно так же терзалась она, если случалось опоздать мне. В этих постоянных тревогах, в страхе друг за друга тянулись наши дни. Более же всего мы страшились, что нас отнимут друг у друга. Страх, ужас, тоска пронизывали все наше существование, наше сознание, наше дыхание, определяли наши поступки и ход мыслей.
В какой-то момент было решено, что Грете лучше перейти из частного переводческого бюро в государственное, к одному генеральному советнику, которому я доверяла. Этот человек, несмотря на свое высокое положение в городе, жгуче ненавидел нацистов[50]. Он взял мою дочь к себе в аппарат личным секретарем и обещал покровительство и защиту.
Некоторое время мы с облегчением перевели дух, но потом коллеги Гретхен стали перешептываться у нее за спиной и нахально выспрашивать, кто ее отец и где он теперь. «Уж не в гетто ли?» — пристала как-то наглая девица с платиновыми кудрями, а переводчик Букаускас разразился антисемитскими проклятиями, ставшими уже банальными. Тайну нашу выдала не Грета, тайну выдал сам советник, который все последнее время пил горькую и из запоя выйти не мог.
Спустя неделю дочь пришла с работы еще бледнее обычного: «Мы пропали, обо мне все всё узнали, все разговоры только о нашей семье. Советник хочет тебя видеть». Мы так разволновались, что не стали обедать — кусок в горло не полез. Бросили на столе недоеденный суп, побежали к советнику домой. Он жил в том же здании, где располагалось его ведомство. Он нас ждал.
«Плохи ваши дела, — объявил чиновник, — вас полиция ищет. Нельзя вам больше здесь оставаться, бегите. Пока оставайтесь у меня, тут вас искать не станут». Советник написал письмо родным, которые жили в своей усадьбе в глухом лесу близ реки Мемель[51]. Там нам надлежало скрываться. Родня — простые крестьяне, объяснил советник и тут же добавил: без денег не примут, придется прилично заплатить.
Но у нас нет денег. Только вот от мужа остались золотые часы. Ну, еще пару украшений найду.
«Несите все, что есть, мне, я пристрою и выручу денег», — обещал он.
Мы остались на ночь, улеглись вдвоем на широкой кровати. Гретхен мирно заснула у меня под боком глубоким, детским своим сном. Советник прикорнул в кресле.
Ночью, слышу, встал, ключ заскрипел в замке, отпирает шкаф. Всполошилась Гретхен: уж не хочет ли он нас отравить, чтобы долго не мучились? Но нет, в шкафчике был бар: бутылки, фляги, коньяк, ром. Он стал пить, одну за другой, пил, пил, пил. Налил мне, я незаметно выплеснула рюмку в горшок с жалким, корявым растением, что стоял у хозяина на письменном столе. А советник завел рассказ о себе: был священником, потом женился. И тут вдруг его понесло: выложил нам историю о всех зверствах в провинции, о еврейских расстрелах. Поглядел на Гретхен: «А этот ребенок должен жить!»
Перебрал советник, хватил лишнего, совсем перестал соображать, что вокруг происходит. На каком языке я говорю? Один и тот же вопрос снова и снова. Заговорил вдруг почему-то со мной по-английски и все повторял, как одержимый: «Этот ребенок должен жить! Этот ребенок должен жить!» Повесил на шею моей дочери амулет на серебряной цепочке и умолял ее, если выживет, чтобы стала католичкой!
Утром он уснул в кресле. Я бросилась домой за ценностями. Возвращаюсь, а его подчиненные уже собираются в конторе, беспечные, довольные, выспались, жизни радуются. Советник стал планировать наш побег, позвонил директору продовольственного треста и договорился, что назавтра грузовик из треста заберет нас в Кроттинген. Выдал нам документ, что, якобы, по служебным делам едем. Из Кроттингена нам предстоит бежать дальше самим, там он бессилен.
И снова мы засобирались в дорогу, уже, можно сказать, сидели на чемоданах. Но при свете дня мне вдруг все представилось совсем в ином свете: может, в пьяном угаре советнику положение наше показалось опаснее, чем на самом деле? Тогда зачем бежать? Да и куда? Что мы будем всю зиму делать в глухом лесу среди чужих людей? А вдруг они нас еще и не примут, тогда куда деваться? Нет, стоп, никуда не едем, остаемся здесь!
Успокоились, утихли. Бледное ноябрьское солнце на короткое время осветило кухню. Ох, есть-то как хочется, со вчерашнего дня не ели. Разогрели суп, пообедали, и прошедший день показался ночным кошмаром. Сил не было куда-либо бежать. Нам стало вдруг несказанно спокойно, светло, откуда-то, неведомо откуда, пришло тихое утешение.
На другое утро я пришла к советнику и заявила, что мы никуда не едем, поэтому будьте добры назад наши ценности. Он, на этот раз трезвый, тоже, кажется, теперь не видел причин для паники, и давешний его план нашего спасения представился и ему довольно нелепым. Пусть так, но Гретхен в контору больше ни ногой, велел он, злые языки здешних служащих — вот уж чего точно следует опасаться. А драгоценности — вот они, пожалуйста. Он только позволил себе удержать одну брошку, так сказать, «плата за молчание». Украшение он подарил одной актрисе, жене важного чиновника. А я так любила эту брошку, маленький цветок из золота и жемчужин, старомодная вещица, реликвия из семейства моего мужа.
Для временного укрытия советник предложил свою квартиру, в случае чего — к его родне в леса. Спустя короткое время его неожиданно сняли с должности, арестовали и депортировали в Германию, в один из концлагерей. Больше никто о нем ничего не слышал.
Ко мне зачастил один чиновник из городского издательства: срочно понадобился опытный бухгалтер-учетчик разобрать склад с антиквариатом. Я долго отказывалась, потом все-таки согласилась. Необходимо было только согласие немецкого поручителя, горе-графомана, который сочинил преубогий романишко. Книжонку его, конечно, тут же напечатали и в каждом книжном киоске и канцелярском магазине норовили всучить любому покупателю. Господин Херберт Айзентраут, чистенький, аккуратный, с безукоризненно пришитым крестом на рукаве, снисходительно меня приветствовал. По-немецки говорите? Проклятущий вопрос, который первым делом задают в гестапо. Осточертело! Так, так, значит, муж у нас кто? Угу, муж у нас еврей. Хм, был еврей. Ну, тогда придется запросить генеральный комиссариат: вы же понимаете, необходимо знать, считают ли там вас лицом благонадежным.
Ответ пришел быстро: о разрешении на работу велено было забыть.
Более всего нас заботила судьба наших друзей в гетто. Мы знали многих из тех, что работали в бригадах, со многими познакомились. Нас просили помочь продуктами или найти в городе литовскую семью, которая в свое время взяла на хранение то, что удалось спасти от конфискации.
Мы искали и находили этих людей. Господи, какой стыд, какая гадость: одни нагло врут в глаза, что никаких вещей на хранение не получали, другие утверждают, будто еврейское имущество у них украли, третьи — что все сдали, когда потребовали оккупационные власти. Да как же это можно? А они в ответ: проваливай подобру-поздорову, не то донесем, что ты с жидами дружбу водишь! Вот так вот: раньше с евреями дружили, в гости друг к другу ходили, а теперь вот у этих несчастных, у этих изгоев, последнее воруют! И ничего, совесть не гложет, даже наоборот — у них теперь есть моральное право обкрадывать тех, кто и так уже всего лишен! Сопрут — и на черный рынок. Там полно было такого товара: одежда, мебель, украшения.
Но нашлись, к счастью, и такие, кто бережно хранил доверенное им добро и пытался помочь, чем только можно было. Они передавали через нас в гетто мясо, муку, хлеб и сами шли встречать бригады. Порой нас поначалу принимали за немецких провокаторов, ведь любые сношения с евреями были строжайше запрещены. Что бы тебе ни досталось от нынешних узников гетто, даже если было куплено, ты обязан был заявить об этом куда следует, а потом оттуда, понятное дело, появлялась компания с автоматами и еврейское добро конфисковала. Соседи самозабвенно, с небывалым энтузиазмом доносили друг на друга. Многие литовцы оказались хапугами не хуже оккупантов. И те, и другие вели себя, как последние бандиты с большой дороги, обкрадывали друг друга, подставляли и ненавидели друг друга. И всякий раз при обысках в гетто хапали все, до чего только могли дотянуться.
В Германию уходили целые эшелоны с конфискованной одеждой, больше всего — с мужскими костюмами. Евреев заставляли самих собственные вещи дезинфицировать, очищать от вшей и блох, чистить и перешивать в швейных мастерских. То же самое — с одеждой убитых. Матерям возвращали вещи их расстрелянных детей, чтобы детские вещички они привели в порядок и отдали обратно убийцам.
Чиновники гражданской администрации города пользовались сомнительным преимуществом по дешевке скупать меха и дорогие костюмы. Их привилегированные женушки укутывались в элегантные меховые манто и накидки и дефилировали по Аллее Свободы без малейшего смущения. Те, которым не выпало счастья стать женой городского чиновника, умирали от зависти, ни минуты не сомневаясь в том, откуда взялись меха у этих подлых мерзавок. Куда там, в угаре победы любой гнусности и гадости нашлось оправдание и даже моральное обоснование.
У Йордана в распоряжении была особая бригада, которая гнула спину на него лично. Прекрасно было известно, что он отложил для себя «кое-что на черный день»: ювелирные украшения, дорогие часы, изделия из благородных металлов, бриллиантов горстку, так, всего по мелочи. В ателье в гетто для него шили новые костюмы из лучших английских тканей, десятки самых элегантных сорочек и пижам. Прочие бонзы не отставали от Йордана, особенно комендант города Крамер[52]. Вызывали на дом портных из гетто, чтобы снять мерку, время от времени наезжали сами, заявлялись на примерку в элегантных авто. Супруги, разумеется, туг как тут: еврейки — мастерицы, руки золотые, вкус отменный — насчет платье пошить, шляпку там, шубку. Придет, бывало, такая вот портниха из гетто к заказчице, та, может быть, этой модистке ни по уму, ни по образованности, ни по воспитанию в подметки не годится, но пару яблок и кусок хлеба с собой даст, пусть дети хоть порадуются, а часовой у ворот гетто у женщины все, конечно, и отнимет.
И кроме этих убогих милостей хоть бы тень какого-то женского сочувствия, сострадания! Хоть бы одна попыталась помочь, успокоить. А самое жуткое, самое непостижимое — ведь ни одну из чиновничьих жен ни разу не покоробило, не передернуло даже оттого, как по-скотски втаптывают в грязь ни в чем не повинных людей, как их уничтожают морально и физически. Кто им делает прически? Еврейки-парикмахеры из гетто! Кто наводит маникюр? Еврейки-маникюрши из гетто! Кто делает массаж? Евреи-массажисты из гетто! И эти тетки потом, облизанные, ухоженные, как куклы, отправляются на парадный ужин, а их рабы — обратно в свое серое, грязное гетто. Неужели ни у одной ничего не шевельнулось? Ведь женщины обычно легко находят общий язык!
Никогда еще права человека не были так мерзко нарушены, смешаны с грязью. Хотелось кричать, когда навстречу по выщербленной мостовой, шатаясь от усталости, со стройки брела в гетто колонна с желтыми звездами. Кричать, выть, вопить хотелось не своим голосом, невыносимо было на это смотреть, невыносимо мучительно. Но никто не кричал, потому что прохожие чудовищно скоро привыкли к своему позору и отупели. Ни единого сострадательного взгляда, ни одного доброго жеста по отношению к себе подобным, страждущим, к людям, которых вооруженная охрана гонит по улице, как стадо домашней скотины.
Евреям никакого резона не было горбатиться в поте лица на немцев, однако профессиональное достоинство и интеллигентность не позволяли халтурить никому. Их мастерство и образованность хвалили, их практические навыки и изобретательность ценили, их подло использовали, из них выжимали все соки, а потом еще и обращались хуже, чем когда-либо один человек позволял себе обращаться с другим.
За ратушей располагались склады, переполненные конфискованным еврейским добром. Помещения обслуживала личная бригада Йордана. Однажды я случайно туда забрела в поисках чиновника, отвечавшего за распределение дров и угля для отопления. Отопительная контора находилась рядом со складами. Складская дверь была открыта. Я заглянула внутрь и сначала ничего не поняла: длинные ряды свежеотполированной мебели — буфеты, шкафы, кровати, диваны. Высокие трельяжи, трюмо, настенные зеркала, столы и книжные полки — все в наилучшем состоянии, но все-таки уже, по всему видно, не новое. Горы матрасов, ткани — гардины, занавески, шторы — аккуратно сложены высокими стопками, в кухонных сервантах — посуда, сервизы из тонкого фарфора, винные бокалы, фаянсовые чайники и вазы. Что здесь за выставка красивой мебели, ей-богу?
В соседнем помещении послышались голоса. Заглядываю в дверь, вижу: немецкий партийный функционер высокого ранга, павлин павлином, и с ним — молодая дама. Ага, меблишку себе подыскивают. Вокруг них вертелся немец в униформе с блокнотом в руках, что-то записывал.
Вышла незаметно на улицу. Там — люди с желтыми звездами.
Йордан обожал наказывать евреев, готов был пороть их своими руками за малейшую провинность, заставлял себя обслуживать, как паша. Однако спустя полгода его сняли с должности и отправили на фронт. Говорят, даже коллег-партийцев в конце концов затошнило от его кровопролитий и в армию его отправили в наказание. Через несколько месяцев после отставки уже стало известно о его смерти — погиб где-то в России. Жаль, хором спели литовцы, пал как герой, а ведь этому гаду место на виселице!
Когда мы с Гретхен тогда ушли со склада, через улицу напротив ратуши молоденькая еврейка в спешке тащила тяжелый узел, который внезапно развязался, и на мостовую посыпалась картошка и морковь. Мы кинулись ей помочь, со страхом оглядываясь по сторонам, подхватили, что успели, отдали девушке. И мне тогда подумалось: до чего же мерзкое время! В двух шагах отсюда на складе штабелями сложено их добро, которое они честно нажили, их обворовали, а теперь эти обездоленные вынуждены тайком доставать пропитание, и не дай бог застукают — ведь забьют до смерти за пару картофелин!
Мы с дочкой остались без работы. Перебивались переводами, я давала уроки немецкого. По вечерам вместе пытались учить французский, читали Доде и Мопассана, но сил не было совсем, и мы уже в шесть вечера клевали носом на диване, а потом и вовсе отправлялись спать.
Гретхен с тех пор, как осталась без работы, стала еще печальней и подавленней, чем прежде. Я записала ее на гимнастику, один раз она сходила и заявила что с этими безмозглыми дурехами больше встречаться не желает. Только у Людмилы и двух Наташ мы отдыхали душой, и чем больше мы их узнавали, тем больше любили. Все три были бедны, как церковные мыши, в доме не хватало самого необходимого, надеть иногда было нечего, но они этой нищеты, кажется, и не замечали и думали больше о том, чем бы помочь другим. Они опекали евреев в гетто и русских пленных. Мы звали их ангелами, нам становилось тепло от их добросердечности и самоотверженности.
Между тем нам пришлось привыкать к темноте: город больше не освещался по ночам[53]. В Германии, говорят, к такому привыкли уже давно. Но и нам темнота была только на руку. Чем темнее, тем сохраннее. Туманная мгла давила как черная вода, но она обволакивала, и там, внутри, было спокойней. Помогала темнота и евреям: часовые во мраке не замечали, как узники отставали от бригады, срывали с одежды звезду и вместо гетто бежали на ночь к друзьям в городе. Лучше бы вообще солнце больше не всходило, говаривала моя дочь. Мы боялись солнца, прятались от света, со страхом думали о лете: снова не спрятаться, снова светло, и снова воспоминания о недавнем прошлом. Пусть теперь всегда будет темно, сыро и холодно, пусть чередой тянутся одинаковые серые пасмурные дни, и мы застынем в нашей тоске, с нашей болью, только чтобы никто и ничто нас больше не тревожило.
Я стала засыпать по ночам, перестала воспаленным слухом ловить каждый шорох, больше не вздрагивала от малейшего шороха. Мне перестало мерещиться, что за нами пришли и сейчас арестуют. Мое истерзанное сознание устало всякую ночь проходить один и тот же тягостный путь, и я падала на кровать, как кусок свинца, безразличная, отупевшая — наплевать, что будет, то будет, сил нет больше. И вот как раз тут-то они и пришли.
Ночью внизу стук в дверь, домоправитель отпер подъезд. Громкие голоса. Я вскочила, мгновенно оделась в темноте. Незваные гости уже барабанили в дверь. Никакого гестапо — литовский полицейский, тяжелый, угловатый, неповоротливый, как бревно, и с ним некто в гражданском. Кто такая, национальность, вероисповедание, кто муж, кто дочь? Вошли в комнату. Гретхен на кровати не пошевельнулась. Документы! Паспорт! Свидетельство о крещении! Залезли в шкаф, стали шарить по ящикам стола. Тот в гражданском долго и обстоятельно выводил: муж еврей, дочь коммунистка. На мою младшую, спящую тут же, ни один из них даже не взглянул. Все вопросы, опять вопросы, одни и те же, обо всем, вопросы, вопросы, вопросы, и все пишут, пишут, пишут. Потом встали и ушли.
Что это было? Зачем? Домоправитель говорит, нас уже спрашивали из криминальной полиции. Зачем опять одни и те же вопросы? Почему ночью? Ничего не понять. Но я почему-то не волновалась. Гретхен не спала, она все это время лежала лицом к стене и слышала каждое слово.
Однажды приходит к нам одна женщина: вы мать Мари Хольцман? Я, проходите. Она дрожит от волнения: не найдется ли сигаретки? Пожалуйста, вот, курите. Закурила, немного успокоилась. Она сидела в тюрьме вместе с Мари: в Германии ушла от мужа-немца к еврею, уехала с ним в Каунас и была бесконечно с ним счастлива. Ее камера была рядом с камерой моей дочери. Виделись каждый день, подружились, излили друг другу душу, поведали каждая о своей беде, стали посылать одна другой письма из камеры в камеру.
28 октября обеих заперли в отдельную камеру, и с ними — еще одну еврейку. Не к добру это, забеспокоились. Тюремщица подошла, говорит: «Бедные вы, бедные, теперь уже и я вам ничем помочь не могу». Не спали всю ночь, старались поддержать друг друга, шутить. Наутро их выгнали во двор, а там — полно народу, в основном — евреи. Ну все, конец!
Тут наша гостья, сокамерница моей Мари, увидела знакомого переводчика, что работал в гестапо. Кинулась к нему: помогите! Он вступился, женщину отвели обратно в тюрьму. Моей дочери никто уже не мог помочь. Она лишь просила соседку передать последний поклон матери и сестре, просила сказать, что любит нас всем сердцем[54].
Женщину выпустили неделю спустя. Теперь ей снова придется вернуться в Германию. Она долго собиралась с духом, прежде чем зайти к нам.
Жизнь превратилась в сплошную пытку. Дни и ночи напролет мы не могли унять слезы, по ночам рыдали в подушку, горько, надрывно. Утешиться было нечем, облегчения ждать неоткуда. Хотелось умереть, чтобы, наконец, все уже прекратилось раз и навсегда. Я заболела, поднялась температура, началась лихорадка, бред, тягостный, ужасный. С этими бредовыми фантазиями и видениями приходилось сражаться снова и снова. Когда температура подскакивала, становилось уже все равно, и оттого как будто лучше. Еще, еще выше, пусть совсем высоко, пусть я сгорю уже, и все, тогда совсем, совсем будет хорошо, тогда совсем отпустит! Но температура начала спадать, и меня охватила отвратительная усталость, упадок сил, какая-то вялая дурнота, пошлая, тупая хворь. Одеяло давило, будто свинцовое, и каждая складка мешала, мучила, терзала.
Однажды снится мне сон: пещера или грот, темно, между камней бурлит родник. Ищу туфлю, что свалилась с ноги в воду. Одна на мне, а второй нет, видно, смыло, унесло. Наклоняюсь к воде все ниже, ниже, и вдруг падаю, лечу вниз и оказываюсь в яме, будто в окопе. И со всех сторон вокруг меня — слоями уложены человеческие тела. Мертвые. Мертвецы куда ни глянь, до горизонта. Просыпаюсь в холодном поту и тут же понимаю, что за видение мне пригрезилось. В ужасе ворочаюсь, не дай бог снова заснуть на том же боку — опять приснится этот кошмар!
Мертвые вообще часто встречались мне в моих снах, и ночью, и днем. Постепенно я осознала: в тяжкие времена в людях иногда просыпается вера в жизнь после смерти и в то, что там, в ином мире ждут те, кого человек потерял в этом. Вот и славно, вот и отлично: значит, еще пара лет, а, может, пара дней, не имеет значения, и муки наши прекратятся.
Болезнь отступила, я смогла встать с постели и ходила по дому как привидение. Моя Гретхен между тем стала совсем прозрачной, под глазами — синие тени. Сдали кровь на анализ — у дочери констатировали малокровие, врач прописал молоко, масло и манную кашу. С рецептом я пошла в продовольственное управление — пусть заверят. Посмотрели, вычеркнули молоко и масло. Нет у нас столько, говорят, чтобы на малокровных изводить, молоко с маслом только для туберкулезников. Разрешили только килограмм манки.
Гретхен, Гретхен, моя младшенькая, крошка моя, а ведь тебе уже скоро семнадцать. «Этот ребенок должен жить!» — говорил старый советник, и поклялась себе самой: я окружу дочку заботой, я уберегу ее в лихолетье от беды, пусть растет, а потом станет лучше, придет иное время. Ни минуты не сомневалась, что придет! Пусть кому-нибудь другому захватчики пускают пыль в глаза своими победами, нас-то не обманешь! Уже само это восхищение победителей самими собой, это самолюбование подозрительны: нечисто здесь, ой, нечисто! Стоит только взглянуть на этих коричневых: грубые, топорные физиономии, и в каждом что-то ненадежное, гниловатость какая-то, что-то мелкое и гадкое. В их чеканном шаге, тяжелом, жестком, угадывалась какая-то вялость, дряблость. Тупые затылки на толстых шеях — неподвижные, выстроились четко в ряд, в твердом, угрюмом взгляде просвечивает неуверенность. Пьяницы, почти все пьют. И фанатики, злобные, жестокие. Страшно, жутко. Убийцы, как есть убийцы!
Близился конец года. Мы передали в гетто рождественский сверток для Лиды и Эдвина — немного теплой одежды, кое-какие вещи, а еще четыре толстых свечки: мол, темные дни позади, выстояли, пережили, теперь не сдавайтесь, новый год — новые надежды, держитесь!
В самом начале января к нам пришел один чиновник с товарищем и представил своего спутника заместителем директора металлургического комбината «Нерис». На фабрике, говорят, нужна стенографистка и переводчик, так не желает ли «Маргарита» пойти к ним на службу? Да, знаем, знаем, есть проблемы, не все в порядке с происхождением, но это преодолимо. За девушку готовы вступиться сам директор лично и его заместитель.
На другой же день Гретхен уже заступила на должность и проработала в «Нерисе» до самого конца оккупации — два с половиной года.
Заявление, обязательное для всех сотрудников, подтверждающее их «арийское» происхождение, директор собственными руками швырнул в корзину для бумаг и ни словом не обмолвился ни с одним из работников о том, что у моей дочери отец еврей.
Моя младшенькая каждый день по восемь-девять часов работала в маленькой деревянной конторе посреди широкого фабричного двора. С ней вместе на службу приходили мелкие буржуа-обыватели, все как один, конечно, антисемиты. Крошка бедная мучилась, но молчала и не подавала виду. Два с половиной года она выдержала.
В конце декабря ударил мороз, и бедным евреям в гетто и на работах пришлось еще хуже, чем дождливой промозглой осенью. Эдвин написал из гетто, что на стройке обморозил ноги. Тогда мы послали ему пару шерстяных носков, а его приятель поэт Бенедиктас Руткунас, верный наш друг, добрый помощник, раздобыл на черном рынке пару стоптанных башмаков. В городе мы часто встречали Лидиного брата, через него и держали связь с гетто. Через него передавали друг другу письма, такие теплые, такие трогательные и личные, какие близкие люди пишут друг другу лишь в лихие времена, когда нечего больше стесняться и незачем церемониться. И всякий день собирали, что могли. Экономили на мелочах, чтобы по-братски поделиться с несчастными за колючей проволокой.
К рождеству из своей усадьбы в Кулаутуве на санках приехала сестра одной из Наташ Лида Голубова, привезла большие крестьянские караваи, белого сыра и корзину яблок. На кухне у «ангелов» нарезали гору бутербродов, уложили в короб, и обе сестры Наташа и Лида, понесли тяжелую поклажу в лагерь к русским пленным на улицу Майронис, одна — яблоки, другая — бутерброды.
К лагерю не только строжайше запрещено было приближаться, разрешалось ходить только по другой стороне улицы. Часовой, потрясенный дерзостью двух женщин, даже не преградил им путь, а вместо того доложил дежурному офицеру, что две в высшей степени необыкновенные посетительницы зашли в лагерь и просят позволения поговорить лично с руководством. Через переводчика они объяснили, что принесли с собой две корзины с бутербродами и яблоками для заключенных, в качестве подарка к рождеству, чтобы таким образом отметить святой праздник любви к ближнему. Женщины просят принять их подношение и раздать заключенным.
Офицер был тронут и вызвал нескольких узников, чтобы забрали корзины в лагерь. Пленные расплакались от счастья, увидев нежданные дары и русских женщин, с которыми им даже позволено было переброситься парой слов по-русски. Наташа и Лида хотели было отблагодарить офицера, но он отказался принять яблоки и сигареты и велел передать все без остатка заключенным. Так же поступили и часовые.
Сестры, обрадованные неожиданным успехом, кинулись домой, нагрузили еще две корзины яблоками и отправились в лазарет, где лечились немецкие солдаты.
Изумленная охрана снова впустила их, персонал, открыв рты глазел, как женщины, едва знающие по-немецки пару слов, переходят от кровати к кровати и собственными руками раздают больным рождественские подарки. Случайно в госпиталь заглянул и тот офицер из лагеря, встретил снова двух благотворительниц, увидел, как они, не разбирая национальности, поздравляют с рождеством окружающих, и, тронутый до глубины души, долго жал им руки, не в силах словами выразить свое восхищение и признательность.
Вскоре после рождества в доме двух Наташ появились новые постояльцы: из гетто бежал брат Лиды Гайст с женой и подругой жены. Побег готовили долго и тщательно: среди своих нашли одного талантливого графика, заказали фальшивые паспорта и появились за колючей проволокой под новыми именами и, якобы, католиками («разрешенная» религия). Скинули с себя это непосильное ярмо и рискнули зажить новой жизнью.
Павла, брата Лиды, слишком многие в городе знали, и он думал перебраться в Вильнюс. Жену его теперь звали Габриэль, ее превратили во француженку, замужем за литовцем. Она хотела устроиться домашним преподавателем, давать частные уроки. Ее подругу, теперь по имени Регина, которая раньше работала вместе с нашей приятельницей Павлашей, решено было оставить у «ангелов». Как это все устроить, никто из нас толком пока не знал, но готов был рискнуть. Мы и раньше встречали у Наташ узников гетто, которые на пару часов скрывались со своей каторги и приходили сюда отдохнуть у добрых хозяек. Потому мы даже не удивились, когда однажды, вернувшись домой, у теплой печки обнаружили Регину. Правда, тогда мы, конечно, и представить себе не могли, что она останется здесь до самого освобождения — на два с половиной года.
Итак, первый шаг был сделан, побег удался. Регина грелась у печки, пламя освещало ее суровое осунувшееся лицо. Первый вопрос, который, видно, беспокоил ее более всего: очень заметно, что она еврейка? В глаза бросается?
Да нет, что вы. Совсем нет! Я бы и не подумала никогда, если бы не сказали. Я было подумала, вы русская.
Однако Регину невозможно не заметить, больно уж она сама по себе необычное существо: словно неземное, как сивилла Микеланджело. Как будто даже двуполое создание, в ее внешности мужского столько же, сколько и женского. Она совсем не похожа на тех дамочек, что дюжинами порхают по модным лавкам и кондитерским. Такую особу сразу заметят на улице, ее не скроет никакая маскировка, никакой крестьянский платок.
А ангелы наши между тем сияли, светились добротой, себя забыли и готовы были на любые жертвы для близкого человека. Домик принадлежит одной из Наташ, но за тоненькой перегородкой живет с мужем и ребенком ее сестра[55], там владения другой женщины, которая в опасных экспериментах сестры совсем не участвует и чужих сторонится. Наташа же изо дня в день повторяет: «Любовь все может преодолеть». Повторяет так серьезно, с такой верой, что в ее устах слова эти не звучат пошлой банальностью.
Первая забота: как достать Регине продовольственную карточку? Документ необходим, но совсем не потому, что хозяйкам жалко поделиться с беженкой своим убогим рационом, а потому что без карточки не получить прописки. Ищут хорошего знакомого. Есть такой, слава богу. У него тоже есть добрый приятель, у того — свои люди в конторе, где оформляют и выдают карточки. Но этому приятелю ни в коем случае нельзя открывать, для кого понадобилось выправить бумажку. Ладно, остается ждать. Ждут. Проходит неделя. Ну, что? Готово! Есть карточка! Слава богу! Ну, теперь давайте Регину с этой карточкой в полицейский участок — за пропиской.
Новая беда: Регине нужна работа. Регина обязана где-то работать, каждый в городе обязан встать на учет на бирже труда, иначе ушлют в Германию. Наташе удается записать девушку подмастерьем в своей швейной мастерской. В другой раз в конторе требуют личного присутствия. Снова начинаются фокусы. Наташа кидается к врачу: дайте бюллетень! Приносит в учреждение справку: Регина больна, явиться лично не может. Через какое-то время с биржи труда или из полиции заявятся на дом с проверкой. Сидим трясемся, замираем от страха. Господи, пронеси! Понемногу привыкли, научились, как себя вести. Регина была лишь одной из многих таких же несчастных, что жили под дамокловым мечом, и каждого такого опекал и берег узенький кружок доверенных, близких людей, связанных, словно заговорщики круговой порукой.
Однажды в комнате Людмилы появилась черноглазая девчушка лет шести, с остреньким вздернутым носиком, с длинными светло-каштановыми косами. И говорит, вроде, по-русски, но какой-то странный слышится акцент. Я с ней по-литовски. Нет, литовский едва знает, спотыкается. По-немецки — заговорила без остановки. Я ей: ты кто? Как зовут? Откуда? Все, ни слова больше ни на каком языке, молчит.
Пригляделась к ней, смотрю: что-то она, кажется, на нашу Лиду слегка похожа. Ну, да. Так и есть — племянница, дочка Павла, Розочка, с недавних пор — Ирочка. Храбрая соседка Броня вывела ее из гетто, и вот ребенок здесь, и никто не знает, где ее теперь поселить. «Этот ребенок должен жить» — вспомнились мне слова старого советника. Но малютка долго не желала общаться с совершенно чужой тетей, и Регине с Наташами пришлось долго девочку уговаривать, прежде чем она протянула мне ручку и пошла со мной в нашу комнату.
Ирочка пугалась всякого немецкого солдата, даже совсем безобидного, и здорово умела передразнивать их грубые окрики: «Иди, иди, давай, быстрей! Не то по морде получишь!» Девчушка совсем была не похожа на еврейку и говорила на чистом, красивом немецком. Но стоило мне появиться с ней в магазине, как вокруг начинали перешептываться, бросать косые взгляды. Наконец следовал нахальный вопрос: откуда это у меня вдруг взялась такая маленькая дочь? Спустя неделю на санках прикатила сестра Наташи Лида и забрала ребенка в свою деревню, там девочка будет в безопасности, у меня было ненадежно.
Ее родителям не сразу удалось устроиться на новом месте. Павел не долго выдавал себя за литовца в Вильнюсе, там быстро узнали, что он еврей, так что ему пришлось временно искать убежище в вильнюсском гетто. Габриэль нашла по объявлению в газете место гувернантки и экономки в одной из усадеб в провинции. В семье, куда ее приняли, оказалось двое малолетних детей, их она учила французскому и немецкому, занималась с ними музыкой и гимнастикой, а еще следила за садом, отчего ее стали звать «прекрасной садовницей». Роль свою она играла столь свободно, раскованно и убедительно, что никто и не подозревал, кто эта дама на самом деле. Она флиртовала с соседями, с немецкими солдатами, что квартировали в деревне, а у самой беспрестанно ныло сердце — от тоски по дочке, от неустроенности в жизни. Мечталось о собственном доме, о собственном семейном мире, о спокойной светлой жизни, чтобы никто не лез, не терзал. И ее осторожные письма — никогда ведь не знаешь, кому они попадут в руки, — полны были и отчаянного авантюризма, и надрывной тоски.
Лида и Эдвин остались в гетто, еще более одинокие и покинутые, чем прежде. Павел бежал, связь с внешним миром, с друзьями нарушилась. И мы знали, что им там теперь еще труднее, еще горше. Контроль у ворот гетто стал строже, жестче. Никто больше не брался пронести мимо часовых посылку для друзей, хорошо, если для себя удастся что-нибудь тайком урвать, всяк за себя, ничего не поделаешь.
Однажды осенью во дворе тюрьмы ко мне обратилась молодая женщина с белокурыми волосами: «Вы меня не узнаете? Я училась у вас в немецкой гимназии». Эмми Вагнер. Ее семья отреклась от нее, потому что она вышла замуж за еврея, и теперь ее фамилия Лифшиц. Зато семья мужа приняла девушку как родную дочь.
Муж и его родители оказались в гетто, Эмми жила совсем одна, но ни дня не проходило, чтобы она не виделась с мужем. Он работал в городе, жена подкупала бригадира и приносила мужу поесть. Иногда в темноте ему удавалось отстать от бригады и переночевать у нее. Эмми знала лично каждого часового в гетто и каждого полицейского.
Как-то раз она прибежала ко мне: пришейте мне срочно на пальто желтую звезду! В гетто отправляют обоз с дровами, она спрячется среди поленьев и попадет к мужу! Вот, она уже собрала узелок: картошка, овощи, мясо, медикаменты. Свекор и свекровь просили табаку, ниток для штопки.
Мы вместе отнесли все это в порт на Немане, там уже стоял воз с дровами. Скорей запихнули мы все под поленья, там же спряталась и моя бывшая ученица.
Эмми пробыла в гетто несколько дней, на службе извинилась: мол, пришлось неожиданно и неотложно съездить в провинцию. В организации Тодта[56], где она работала стенографисткой, ни одна живая душа не подозревала о двойной жизни «фройляйн Эмми». Ей не составляло ни малейшего труда сто раз на дню легко, не моргнув глазом, произносить «Хайль Гилер» и терпеть среди своих коллег оголтелых юдофобов. Но мне, когда я заходила к ней в бюро, она, лукаво улыбаясь, открывала ящики своего письменного стола: там фрау Лифшиц собирала и хранила то, что при первой же возможности несла в гетто. Шепотом она рассказывала, как радуются муж и свекор и свекровь всякий раз, когда она неожиданно появляется у них на пороге.
Одну из комнат своей большой квартиры Эмми сдавала литовцу-полицейскому, который частенько нес караул в гетто. Хозяйка ловко «втянула» его в свой заговор, так что офицер в любое время готов был оказать любую услугу. Он постоянно носил туда-сюда ее передачи и письма, под его защитой она могла беспрепятственно и безопасно проникнуть в гетто. Там ее хорошо знали и любили, но были и такие, кто ей, «дурочке», не доверял, держал за немецкую шпионку и предостерегал мужа, как бы чего не вышло. Эмми же заботилась не только о собственной семье, но и о соседях помнила — то сигарет подкинет, то детям пару яблок принесет.
Однажды ее застукал часовой, когда она перелезала через колючую проволоку. Прикинулась дурочкой: мол, из провинции, господин полицейский, из самой глуши, заблудилась в большом городе, в темноте никак дорогу не найдет, прямо беда! Поверил он ей, нет ли, — уж не знаю, сомневаюсь, чтобы поверил. Думаю, скорее, тронут был — уж такая милая барышня, такое свежее девичье личико! Пожалел, отпустил. Иногда Эмми бывала у нас каждый день, оставалась ночевать. Потом неделями не появлялась, пропадала, и ни слуху, ни духу. Тогда становилось страшно за нее — не арестована ли?
Она же, как одержимая, выдумывала все новые и новые способы, как преодолеть эту преграду между ней и мужем. Ходила по чиновникам: сделайте для Лифшица исключение — пусть живет в городе, с женой! Ей угрожали: немка вступается за еврея! Позор! Срам! Вот накажем — будете знать! А ей все нипочем — не запугаете! И людей она давно уже оценивала по их отношению к евреям: всякий юдофоб был ее личным врагом, и другом — всякий, кто сочувствовал узникам гетто.
Эмми привлекала к своей деятельности каждого, с кем бы ни познакомилась: ей помогали монахини, бывшая горничная, партизаны. Немецкие солдаты доставали для нее в городе редкие и дорогие продукты. Многие, правда, женщину использовали и обманывали — хапнут деньги и поминай как звали. Она стала продавать домашнюю утварь, продала великолепную шубу, вещи исчезали одна за другой, и скоро в доме стало совсем пусто и голо. Ей самой не всякий день доводилось пообедать, съесть чего-нибудь горячего: в обеденные перерывы на службе она бежала к мужу.
В начале нового года Эмми нашла себе подругу и товарища, точно так же готовую помогать узникам гетто, а в авантюризме и предприимчивости даже превосходившую саму фрау Лифшиц. Дора Каплан, Долли. Я уже давно была с ней знакома: красивая, видная, заметная немка, яркая блондинка, рослая, статная. Всегда появлялась в сопровождении двух псов и в окружении мужчин, как правило — евреев.
Муж Долли, как и многие другие евреи, пропал в самом начале войны. Она не теряла надежды найти его и добровольно переехала жить в гетто, совсем одна, и ждать его возвращения. На формальный развод она категорически не согласилась, да и вообще — всякая подобная нелепость вызывала у нее отторжение и протест. В гетто она тут же стала своей, хотя ее экстраординарная внешность и необычное окружение сразу бросались в глаза, так что в ней без труда узнавали немку. Она всем и каждому готова была помочь, ее уважали, ею восхищались и в то же время не доверяли еще больше, чем кроткой Эмми.
В январе я встретила ее в городе. Долли собиралась покинуть гетто: ее мать в Кенигсберге, якобы, выправила ей безупречное арийское удостоверение, так что ей разрешили переселиться в город. С Эмми она подружилась еще в гетто. Эти две женщины подходили друг другу как нельзя лучше: две яркие немки, живущие только затем, чтобы помогать евреям, «свои люди» за колючей проволокой.
Эмми помогла Долли перебраться в город: наняли санки, сунули часовому под нос чье-то удостоверение, якобы это официальное разрешение на переезд, и, к изумлению евреев, несколько раз ездили туда-сюда — вывозили все Доллино имущество и конечно — двух ее избалованных псин.
Подобная дерзость привлекла, конечно же, внимание: без помощи полиции здесь не обошлось, это ясно. Долли сняла комнатушку в стареньком деревянном домике, сырую и темную. Но новая постоялица быстро наполнила помещение множеством вещей и оживила своим бурлящим жизнелюбием. Из гетто Дора привезла множество чужих вещей, чтобы в городе обменять их на продукты. Единственное, что занимало ее, — здесь, за пределами еврейского «поселка», она может сделать для обездоленных больше, чем если бы осталась среди них. В нашем заговорщицком лексиконе «поселком» звалось гетто, точно так же его обитатели между собой звали нас «героями».
Долли не прожила еще и двух недель на новом месте, как уже ее домохозяйка тайком сообщила мне: «Вы ее подруга, вам одной могу доверить тайну: сегодня рано утром за фрау Каплан прибыла полицейская машина, фрау Каплан велели немедленно одеваться и увезли. Она хотела было взять с собой одну свою собачку, но ей не позволили. Мне же она успела только сказать: попроси фрау Хольцман, пусть сходит к майору X[57], он ей, фрау Каплан, может помочь».
У меня подкосились колени, но терять нельзя было ни минуты. Где искать майора X? Сперва я бросилась к Эмми в бюро, рассказать ей все. Прибегаю в контору, взлетаю на последнем дыхании по лестнице и вижу — в передней комнате сидят на лавочке Долли и Эмми, сияющие, радостные. Долли кидается ко мне: «Привет! Ты не поверишь: эти в гестапо в меня просто влюбились! Простили несанкционированный переезд в город! Раука сам лично захотел познакомиться с женщиной, которая „добровольно поселилась в гетто“, и пригласил назавтра на прием. Ну, на том и отпустили, так, постращали, конечно, немного: мол, не слишком-то якшайтесь с теми, на другом берегу Вильи. Да что они мне сделают!» — снова произнесла Долли свою любимую фразу. И снова попала в точку! Из знакомства своего с Раука[58] она не стала делать секрета и на той же неделе заинтриговала всех друзей сообщением, что ей, якобы, поручена секретная полицейская миссия.
Не вступятся ли мои подруги-энтузиастки за моих Гайстов? Может, донесут до Раука, что Эдвина весьма уважают в немецких музыкальных кругах, что его сочинения многократно исполнялись различными музыкантами, ну, и что, наконец, его считают одним из наиболее значимых композиторов современности.
Вступились. И, удивительное дело, Дора получила положительный ответ: ей обещали навести об Эдвине справки в Берлине. Спустя неделю Гайста вызвали в гестапо и тщательно выспросили обо всем. Потом объявили: есть возможность вытащить вас из гетто. Да, пожалуй, это возможно. Вы ведь, как ни крути, все-таки наполовину ариец. Но для этого придется развестись с женой и, естественно, прекратить с ней всякие сношения. Он обещал исполнить все, не задумываясь. Он мечтал только об одном — вырваться на свободу. Ему в гетто было тяжелее, чем кому бы то ни было: мальчик из порядочного, респектабельного семейства берлинских буржуа, отец-еврей давно умер, вырос с матерью и тетушкой в совершенно немецкой обстановке. В гетто такой человек должен был чувствовать себя абсолютно потерянным, пропащим, обреченным. Композитор, натура тонкая, возвышенная, он только в творчестве мог обрести душевное равновесие, более ни в чем, и с наивным эгоизмом требовал от окружающих, чтобы с капризами и особенностями его природы считались. И это в гетто! Кто в таких нечеловеческих условиях станет вникать в такие тонкости? Его близкие всегда знали, что он существо не от мира сего, и в сложившихся обстоятельствах любили его как могли.
Эдвин неспособен был ни приспосабливаться, спекулировать, ни шустрить, ни выкручиваться, так что выживать ему было неимоверно тяжело. Вместе с Лидой они жили в одном углу с сестрой Лидиной матери, «тетушкой Эммой». Другую половину комнаты занимала семья психиатра профессора Лазерсона. Тому тоже было несладко. Его бывшие коллеги по университету время от времени собирали для него немного денег, но и этого доброго жеста коллегиальной дружбы не хватало на жизнь. Ни Гайстам, ни Лазерсонам не на что было купить дров, оттого их каморка всю зиму, даже в самые холода, не отапливалась. Стены сочились сыростью и плесенью, воздух был спертый, затхлый, проветривай сколько угодно — ничего не помогало. В передней комнате, — здесь устроили кухню, — скупо жгли пару поленьев в день, чтобы только приготовить обед. А на обед часто не было ничего, кроме картофельных очисток, жареных в солодовом кофе. Мы последнее время посылали им нерегулярно, связь с гетто прервалась, да и самим частенько не хватало, и теперь мы все больше отправляли за колючую проволоку теплые вещи, белье, чулки, варежки. Такие посылки легче было переправить в гетто, чем продукты.
Прошло несколько недель с того дня, как Эдвина вызывали в гестапо. Ничего не происходило. Я уже перестала было надеяться, но Долли была уверена в успехе: Раука у нее в руках, она вертит им как хочет. Он поможет, вот увидите, только обеспечит сам себе прикрытие.
Письма Лиды той поры трогают до слез. Она всей душой, страстно желала, чтобы Эдвин вышел на свободу, хотя, с другой стороны, жизнь свою без мужа не мыслила. Тем не менее она готова была на любые жертвы, только бы он не страдал слишком от их развода.
Между тем из гетто смогли уйти еще несколько человек. Как-то вечером в начале января в нашем доме появились две молодые женщины. Скорее по их поведению, нежели по еврейской внешности, мы мгновенно поняли, кто они и откуда. Они же передали нам привет от стариков Цингхаусов, которые и дали им наш адрес. К счастью, пожилая пара, вопреки многочисленным лишениям, держалась в гетто удивительно бодро.
Их временно приютила литовка, фрау Бинкис[59], жившая одна с двумя дочерьми. Теперь женщины пытаются получить фальшивые документы и устроиться в провинции. И снова первый вопрос — ох, уж этот треклятый вопрос, вечно он не дает им, бедным, покоя: очень ли заметно, что они еврейки? Сразу ли заметно?
Вообще-то евреев узнавали не столько по внешности, сколько по характерному акценту, но здесь обеим бояться было нечего. Одна из них, Беба, из Риги, чисто говорила на хорошем русском, какой услышишь среди самых образованных людей. Вторая, Соня, училась в литовской гимназии, и ее произношение ничем не отличалось от произношения коренных литовцев. Профиль, конечно, мог выдать ее истинную национальность, однако она была светловолосая, с фиалковыми глазами, и если, как в тот день, когда она впервые появилась у нас, закутать ее в толстый пуховый платок, женщина легко сойдет за литовку.
Беба, напротив, была брюнеткой, однако ее лицо не носило никаких типично еврейских черт. В ее фигуре, даже закутанной в несколько слоев одежды, угадывалась природная элегантность. Нет, крестьянки из нее не выйдет, не похожа, совсем не то. Сейчас, с непокрытой головой, с ее печальными, полными горести светло-серыми глазами она напоминает Скорбящую Богородицу, Матерь Долороса.
Начало их новой жизни было положено. Браво! Экзамен выдержан! Но пока что нам нечего было им предложить. Приходите в ближайшее время, вечером. Пришли, уже как старые друзья. И долго рассказывали о неимоверных бедах, свалившихся на их голову. Теперь им необходимо было вырваться из этого круга несчастий.
Обе недавно вышли замуж и обе сразу же овдовели. В часы тягчайшего горя они сблизились и ухватились друг за друга, как за спасение, нашли друг в друге утешение и поддержку. И вот теперь вместе решились на отчаянный шаг — вырваться на свободу. Что впереди — неизвестно, они ступили на неведомую им почву, не успев еще проверить ее на надежность.
Рассказ Бебы
Мы с мужем приехали в Каунас из Ионишкиса в самом начале оккупации и поселились в отеле «Ноблесс» на Аллее Свободы. В первую же ночь войны все постояльцы гостиницы вынуждены были скрываться в бомбоубежище. На другой день «арийцы» все как один превратились вдруг в антисемитов, так что мы решили как можно скорее убраться из отеля подобру-поздорову и переждать у друзей, в семействе Вулльф-Лурье на улице Кестуцио. Собрали каждый по чемоданчику, забрали деньги, ценности.
Поселились у друзей в комнате с окнами на улицу, но оттуда вскоре пришлось съехать: в окна беспрестанно палили. Мы тогда подумали: верно, просто уличные беспорядки, мы и не подозревали, что это настоящий антисемитский демарш. В конце концов стрелять в окна стали уже и со двора. Явился домоправитель: всех жильцов-евреев, видите ли, арестовали. Для Вулльф-Лурье сделали исключение — глава семьи был единственным в Литве судебный следователь-еврей, и литовцы его очень уж уважали.
Всю ночь мы лежали на полу, чтобы не попасть под обстрел. Утром сообщили во всеуслышание, что евреям запрещено покидать номера в гостиницах. И тут же загремело знаменитое воззвание: «Сотню евреев за одного немца!» Господи, да ведь у меня же в чемодане в гостинице осталась антифашистская книжка! Срочно бегом в отель — уничтожить, пока не поздно! Муж не хотел меня отпускать. Так и вижу его перед собой: сидит в кресле и смотрит на меня, долго, печально так, смотрит и все молчит. Мне тогда и в голову не могло прийти, что больше я не увижу его никогда.
По улицам гнали евреев, поодиночке и целыми толпами. Стреляли с улицы в окна, а потом врывались в квартиры: якобы это евреи первые начали стрелять в солдат! Склонила голову пониже, чтобы скрыть лицо, — не дай бог паспорт потребуют! — подходила к каждому партизану с вопросом: можно мне домой? Да идите уже, отвечали мне. Добралась до гостиницы, подхожу к часовому: можно войти? Тут подкатил грузовик с арестованными евреями, у меня так ноги и подкосились. Часовой, видно, заметил и велел предъявить документы: ага, еврейка, следуйте за мной! Я умоляла, сулила немалые деньги — все напрасно, как каменный: проверим сперва — а вдруг вы коммунистка. Привели меня во двор полицейского управления, там стоят несколько сотен евреев, все лицом к стене.
Беба замолчала. У меня перед глазами стояла эта мрачная, ужасная картина. Вот и мужа моего так же поставили лицом к стене! И мою Мари! Значит, и мы пели нашу горькую песню по тем же нотам, песню утраты. Безумие германского «фюрера» с энтузиазмом подхватила бессмысленная чернь, и теперь каждая роковая минута несет смерть тысячам семей — разных семей, добрых и злых, аристократам и простолюдинам. И главное — эти люди, которых теперь убивают, в любом случае, ни в чем перед своими убийцами не виноваты.
И давит, как петля на шее, как удушье, давит один и тот же вопрос: как такое может быть? Что мы за люди такие немцы, кто мы, в чем наша суть? Мы изничтожаем сами себя, в слепой ярости перемалываем собственную плоть. Никогда еще мир не видел такого сумасшествия.
Беба между тем продолжала.
Я ходила по пятам за тем человеком, что пригнал меня сюда, не отставая ни на шаг с одной и той же просьбой: допросите меня, наконец! Ладно, согласился он, пойдемте со мной. И повел куда-то вниз по ступеням, в подвал полицейского управления. Я оказалась во мраке, взаперти. Тьма такая, ничего не видно. Сначала я думала, я одна, потом слышу: стонет кто-то тихо-тихо. Кто здесь? Оказалось, кроме меня там заперли еще шестерых женщин. Они сидели почти неподвижно, опустив руки, но я не собиралась сдаваться так просто: кинулась к двери, колотила кулаками, кричала. Да толку-то.
Утром, на рассвете открываю глаза, и мне делается дурно: вокруг серо, грязно, мерзко, гадкие грязные мешки навалены на полу, и на них — женщины, человек пятьдесят, в полном отчаянии. Утром принесли тепловатой воды, в которую накидали хлебных корок. И каждой по куску хлеба. Ни умыться, ни причесаться, ничего. В отхожее место повели один раз всех вместе, один раз за весь день. Грязь невообразимая вокруг. На обед принесли щи из прошлогодней кислой капусты, наполовину уже сгнившей. Многие поначалу вообще есть отказывались, но голод, известное дело, не тетка.
То и дело к нашей клетке подходили немецкие солдаты — «полюбоваться на еврейских баб». И наш вид, опустившихся, грязных, измученных, весьма их забавлял. Хохотали от души, за животы хватались: «Так вот как выглядит это отребье! Знатные телки! Бррр! Вот дерьмо-то!» Были, правда, и такие, что умолкали, глядя на нас — жалких, убогих. Но таких, конечно, были лишь единицы.
Спустя пару дней нас распределили по камерам, человек по десять в каждую, так что мы все время оставались вместе. И в один из первых дней я познакомилась с Соней. Соня же намного сильней меня, она мне помогла, она вытащила меня из моего отчаяния.
Однажды среди нас появилась девушка, которая в отличие от нас, отчаявшихся, сохраняла присутствие духа, умела оставаться даже бодрой и веселой и поддерживала других. Нуня Рейн ее имя. Соня, временно переведенная в другую камеру, оказалась ее лучшей подругой. Нам удалось всем троим остаться вместе, и с тех пор мы неразлучно проходили нашу дорогу слез. Тогда же мы стояли еще в самом ее начале.
Прошла неделя в тюрьме. Мы ни разу не поменяли одежды, даже не умылись. Дышать было нечем, вонь стояла страшная. Невыносимая жара, одежда мокра от пота. И солдаты, солдаты каждый день глазеют и тычут пальцем, словно мы звери в клетки, омерзительные, но диковинные. Они заходили к нам в клетку поиздеваться, плюнуть от отвращения и удовлетворенные снова уходили.
Поначалу среди нас содержалось еще немало литовок. Потом отделили «католичек». И подумать только, ведь неделю назад я проходила здесь вместе с мужем и спросила его, что это за здание. Тюрьма? Как, прямо в центре города, как все равно центральная городская достопримечательность! Надо же! Видимо, сюда всякий должен заглянуть как-нибудь по случаю. Какое с моей стороны легкомыслие. Спустя несколько дней и я здесь оказалась.
По ночам слышались стоны, стенания и грубые окрики. Женщинам чудились голоса — одной мужа, другой сына, третьей брата. Порой становилось слышно, как кого-то колотят: мужчин гонят! А мы за стеной, в клетке и ничем не можем помочь! Нам оставалось лишь заламывать руки в бессильном отчаянии.
Первое время дни и ночи тянулись беспрестанной медленной пыткой. Потом объявили: кто хочет, может отправляться на работы. Лес рук. И мы отправились на кухню чистить картошку, разносили кастрюли с едой на мужской половине, и тюремщики подобрее исподтишка подсовывали нам лишнюю пайку. Поговорить с мужчинами не удавалось, но от них все-таки долетали до нас кое-какие вести, все больше недобрые. Говорили, что ни день, уводят сотни, и ни один ни возвращается. Слухи, один страшнее другого, поползли по камерам. Мы слушали, умирая от тревоги, и не догадывались, что действительность еще страшнее.
Однажды подметаем мы с Нуней тюремный двор, вдруг она хвать меня за руку: там, говорит, на сторожевой вышке партизан один стоит, я его знаю, мы с ним друзья! Тот тоже ее заметил, пачку сигарет ей вниз сбросил, стали подавать друг другу знаки, тайком, чтобы из тюремщиков никто больше не заметил. Условились, что она в определенном месте оставит письмо. Нуня в спешке черкнула пару строк матери и отнесла записку, куда указал парень. Позже стали известно, что он и вправду отнес послание по назначению.
Парнишка, к сожалению, подцепил эту заразу — бредовую идею, будто евреи — враги рода человеческого, будто они виновны во всех бедах мира сего и потому надо изничтожить их, извести, выжечь каленым железом, кроме тех, пожалуй, кого он лично знал и с кем был дружен, — эти-то, как ни крути, замечательные ребята, черт побери.
Где теперь Нуня, спрашивает Гретхен. Осталась в гетто, отвечают, но надеются, скоро выберется на свободу.
Беба и Соня наперебой рассказывали о пережитом: а вот еще, а помнишь, а потом было еще… Соня стеснялась немного — она не говорила по-немецки. Говори по-литовски, попросили ее.
Лицо у Сони было необычайно выразительное, а когда она увлекалась, рассказ становился красочным, ярким, почти наглядным. Но обе совершенно измучились от горьких воспоминаний, от страшных образов прошлого. В тот вечер мы отпустили их с миром. Скоро они пришли снова и с тех пор бывали у нас часто и всякий раз с новыми и новыми историями о страстях и лишениях, что им пришлось пережить. Да и мы делились с ними тем же.
Они тогда провели в тюрьме десять дней. Под конец их затолкали человек двенадцать в тесную одиночку, набили, как селедок в бочку, и оставили на грязных мешках. Но им уже было все равно, даже солдатские издевательства уже не трогали. На одиннадцатый день всех женщин разделили на группы и стали вывозить куда-то на автобусах. Каждый раз автобус возвращался пустой минут через двадцать, и туда заталкивали новую партию. Оставшиеся не знали, что ждет их впереди, покуда до них не доходила очередь.
Рассказ Сони
Нас повезли на Зеленую гору к VII форту. Там уже толпились женщины, кажется, несколько тысяч. А подальше, за казармами — другая толпа. Стоит без движения на ярком солнце. Кто это? Присмотрелись — боже ты мой, это же мужчины, наши мужчины!
А людей все везли и везли новых, целыми грузовиками. Среди них были евреи с Ландштрассе, которые пытались спастись из города бегством. Мужчин тут же отделяли от женщин. Мальчиков до двенадцати лет оставляли с матерями. Час за часом мы маялись под палящим солнцем. Вечером скомандовали: женщины — в казармы!
Казармы оказались слишком малы и тесны, чтобы вместить всех: давка, крик. С грузовиков прихватили, что смогли: кто одеяло, кто подушку, кто что-нибудь из одежды, и теперь любой клочок ткани рвали друг у друга из рук. Пол в казарме был неимоверно загажен, и постелить было нечего — не было ни соломы, ни мешков, только жесткие доски, да вдоль стен — узкие лавки. Устроились как могли и уже даже несколько успокоились, когда стряслось самой гнусное.
В казарму ввалились пьяные партизаны, озверевшие от алкоголя, стали светить в лицо спящим и выбирать себе девушек. Поднялся крик, плач, девушки умоляли оставить их в покое — все напрасно. Их сгребли в охапку, выволокли в соседнее помещение, и через минуту до нас долетели их отчаянные вопли — вопли боли и бесчестия. Поднялась паника. Молодые девушки стали прятаться за женщин постарше, но осатаневшие мерзавцы снова заявились, фонари, как ищейки, скользили по лицам дрожащих от страха женщин, и новых юных жертв без всякой жалости вырвали из рук матерей, умолявших в бессильной скорби пощадить их дочерей.
Наверное, двадцать пять девушек и женщин эти зверюги изнасиловали и потом расстреляли, оставшиеся в живых в бессознательном состоянии, шатаясь, еле добрались обратно. Среди убитых оказались молодая докторша К. и обе очаровательные барышни Гзрфункель. На другой день одна из выживших сказала мне: «Эти скоты чудовищно надругались надо мной, но умирать мне нельзя — вот ему я еще нужна», — и она показала на своего трехлетнего сына. На следующую ночь повторилось то же самое. Бежать было некуда, ворота наглухо заперли.
Днем нас выпустили во двор и оставили под строжайшим наблюдением. И все же мы заметили примыкающий к забору холм, высокие раскидистые деревья: нет ли где лазейки — сбежать? И ведь некоторым и вправду удалось подкупить часовых и ускользнуть.
Принесли котел, стали варить обед для заключенных. Воды хватало только для готовки, ни капли чтобы умыться, отхожего места тоже не предусмотрено. Вместо него — кусты за казармами. В форте — две с лишним тысячи человек с детьми разного возраста, и нетрудно себе представить, что в кустах, конечно же, постоянно была толпа. А еще там беспрестанно околачивались немецкие солдаты, извращенцы грязные, пялились на этот срам с нескрываемым удовольствием и еще и шуточки отпускали. Помню, торчал там один офицер, в белых перчатках, губы плотно сжаты, руки крестом на груди. Стоит, как вкопанный, не шевелится и от мерзкого зрелища оторваться не может. А рядом — его псина, сидит, смотрит, будто и ее наш позор завораживает.
Солдаты приходили и в казармы и там тоже издевались и отпускали свои мерзкие шуточки в адрес измученных, униженных евреек. И здесь, как и у тех, кто в тюрьме, потребовали сдать деньги и ценности: вздумаете прятать — станем расстреливать всех подряд! И пошли распихивать трофеи по карманам. Мы-то сразу все отдали, но нашлись все-таки и посмелее нас — спрятали кое-что из украшений, кто часы золотые, кто колечко, и не стали отдавать.
Для переговоров с комендантом форта выбрали фрау Эппель — эта дама-врач, исключительно образованная, владела несколькими языками и умела вести себя не хуже любого дипломата, поэтому ей удалось заручиться обещанием коменданта, что ночные рейды пьяных насильников в казармы прекратятся. Прекратились. Но немецкие солдаты тут же придумали себе массу новых, таких же мерзких развлечений.
Как-то раз слышим команду: все во двор — выдают сдобные булки и конфеты для детей! Быстро! Кто не успел, тот опоздал! Достанется только самым шустрым! И мы поверили. Кинулись сломя голову, как были: грязные, растрепанные, истерзанные, оголодавшие и остервеневшие от страданий. А во дворе — кинокамеры трещат, и вот вся эта гротескная картина уже на пленке. Ни на какую еду, конечно, ни намека. Хохот, издевки: пошли назад, назад, в казарму! И снова ненасытные кинооператоры все снимают, крутят без остановки.
На третий день у колодца мы заметили группу мужчин, и среди них я вдруг узнала мужа. Машу ему, подаю знаки — не видит. Я к часовому: пустите с мужем повидаться! Так умоляла, так рыдала, что он согласился. И когда мы с мужем свиделись, единственный и последний раз, даже злобных часовых, кажется, проняло.
Соня расплакалась, горько, надрывно. И мы вслед за ней.
Соню арестовал ее же собственный сотрудник из треста, где она работала, Пожюс его звали. Он был ее подчиненный, она — его шефиня. Мелкий, тщеславный человечек весь извелся: женщина, да еще еврейка — и над ним начальствует! И тут настал его звездный час: с партизанской повязкой на рукаве заявился на квартиру к начальнице, вволю поиздевался и сдал в полицию.
Беба в какой-то момент узнала, что и ее муж содержится в форте. В тюремном дворе встретила директора одного из филиалов компании «Шелл», тот, согнувшись в три погибели, тяжело шагал через двор и с усилием толкал перед собой груженую тележку. Проходя мимо Бебы, он тайком шепнул ей: «Он здесь». Она отвечала ему также тихо: «Поклон ему от меня». Больше ничего передать не успела.
В тот вечер обе больше ничего не стали рассказывать. Мы лишь обнялись, подруги по несчастью.
Спустя день нескольких мальчиков, которые прежде были с мужчинами, вернули матерям. От них стало известно о том, что происходит на мужской половине. О том, как их там мучают, пытают, как издеваются эти скоты, мы кое-что уже слышали. Слышали, что всех мужчин заставляли без движения лежать часами на земле под палящим солнцем, и кто двинется, того расстреливали. Один из узников помешался: вскочил и стал орать не своим голосом. Они дали очередь из автомата — и его уложили, и тех, кто рядом был, всех сразу.
Потом их заставили делать физические упражнения: бегать на четвереньках, приседать, пока не рухнут от истощения. Эсэсовцы стояли тут же и соревновались с литовскими партизанами, кто придумает издевательство погаже. Все как один пьяные. И то и дело выдумывали все новые и новые поводы, чтобы с кем-нибудь расправиться, а иногда и вовсе безо всякого повода расстреливали. Живых заставляли хоронить мертвых, а потом и их уничтожали.
Когда узников осталось уже совсем мало, появился Бобелис, комендант IX форта[60]. По его приказанию из оставшихся отобрали 69 мужчин, которые двадцать лет назад, когда создавалось государство Литовское, звались борцами за свободу, и отвезли их на следующий день в каунасскую тюрьму. Когда организовали каунасское гетто, их переселили туда. Некоторым другим удалось по протекции выйти из форта живыми. Остальных казнили.
Соня и Беба продолжали свой рассказ.
В VII форте нас держали четыре дня. На пятый перевели в IX, тысячи две человек, наверное. Подняли рано утром, часа в четыре, и стали выгонять. Обещали, что там нам, мол, лучше будет, чем здесь. Да только кто же им теперь поверит!
Тяжкая, бесконечная, изнурительная дорога: вниз с холма, вдоль реки, через Вилью по мосту, за Вилиямполе снова на гору. Больных по очереди несли на руках. Дети устали, расплакались: не пойдем дальше. А часовые знай подгоняют: давай, давай, шевелись! Быстро! Шли через город — жители высыпали на улицу и давай издеваться!
IX форт обнесен высокой кирпичной стеной, не убежишь, и мечтать нечего. Дворик узенький. Казармы как тюремные камеры: длинные, узкие, и нары в два яруса. Канализация разрушена, водопровод не работает, колодца нет. Воду для кухни привозили специально в канистрах, умыться было нечем. Сортир загажен — дерьмо по колено.
Самое страшное — вши. Часами мы собирали эту гадость с платья и белья, помогая друг другу. Но в грязных мешках, что нам кинули вместо подстилок, гнусные паразиты не переводились, избавиться от них не было никакой возможности.
В этой непроходимой грязище у двух беременных начались схватки. Доктор Эппель устроила в маленькой комнатенке что-то вроде приемного кабинета и сумела организовать роды, насколько это было возможно, когда кругом полная антисанитария и даже воды достать негде. Одна из рожениц умерла вместе с младенцем. Вторая выжила, как и ее малыш. Спустя некоторое время одна старушка опустилась на пол у порога и умерла. И долго-долго на нее никто не обращал внимания.
Мы вызвались помогать на кухне. Персонал форта не был настроен враждебно, партизан здесь не было. Зато комендант не переставал угрожать: «ну, не жить вам. Всех порешим!» Но на третий день вдруг внезапно объявили: собирайтесь и вон отсюда! Катитесь ко всем чертям! Только не толпой, а маленькими группами! Нечего внимание привлекать! [61]
Первые ушли, а оставшиеся со страхом, затаив дыхание, ждали, не послышатся ли выстрелы. Нет, тихо. Тогда и остальные потянулись из форта. Шли как в бреду: семнадцать дней под арестом, а теперь, вроде бы, и на свободе, да не свободны. Нет у нас больше родного угла, нет дома, а впереди — только мучения, будто проклятие какое над нами тяготеет.
Шли через город, снова чернь глумилась над нами: «Гляди-ка какие нынче еврейки стали!» Ну, да пусть, бог с ними, на волю выпустили — и на том спасибо, лишь бы не схватили снова по дороге. Что нам до их издевок! Горе наше слишком велико, чересчур страшна наша беда, и между нами и остальными теперь пропасть, и никому из них не понять, что у нас на сердце. Нам же их, ослепленных, заблудших, было почти жаль, мы им готовы были даже посочувствовать, «ибо не ведают, что творят».
Пришли к Нуне, у нее мать и сестра. Нас отправили мыться и дали сменную одежду. Впервые за несколько недель удалось помыться и переодеться.
Потянулась новая череда несчастий: родных Сони и Бебы выгнали из дома и обокрали. Родственники пропадали и гибли один за другим.
У Бебы — она ведь родом из другого города, из Риги, кажется, — вообще никого не осталось.
Они поселились в гетто, до изнеможения гнули спину на постройке аэродрома, терпели унижения и голод, а потом решились, наконец, на побег. Соня потом на неделю еще вернулась в гетто — у нее там остались братья с семьями.
Накануне по городу и деревням вокруг прошла волна облав, семьи, укрывавшие беглых евреев, расстреляли. Народ испугался, и подруг никто больше не хотел принимать. Дама, у которой они поселились, и ее дочь-студентка, женщины с доброй репутацией и очень осторожные, прятали их в мансарде всякий раз, как только кто-нибудь звонил в дверь. Даже специальная комиссия, надзирающая за жильцами, ничего не заподозрила. Так им несколько раз пришлось целый день пролежать в кровати под одеялом, в другой раз — сидеть без движения на холодном чердаке. Выходили на улицу только в темноте. Своей благодетельнице фрау Рушикиене платили своими вещами, которые удалось сохранить: дорогими мехами, платьями, бельем.
Мы с Гретхен часто заходили к ним в их укрытие, приносили хлеба и другие продукты, а самое главное, самое ценное — новые паспорта с новыми фотографиями и именами.
Соня стала теперь Оните, крестьянкой, Беба — Марианной, белорусской, которую покинул муж. Но потребовалось еще много времени, несколько месяцев, прежде чем им удалось зажить новой жизнью.
В конце февраля Соня, она же Оните, принесла недобрые вести из гетто: 19 февраля снова партизаны и эсэсовцы прошли по домам и отобрали людей для каких-то работ[62].
После последней экзекуции в октябре 1941 некоторые обитатели гетто стали выкапывать подземные укрытия. В гетто нашлось достаточно специалистов-инженеров и умелых ремесленников для таких сооружений. Знать не должен никто, не только, не дай бог, часовые, но даже и соседи. Куда девать выкопанную землю? Придумали выносить с собой в рюкзаках килограммы земли на стройку и там тайком вытряхивать. Бетон и балки удавалось достать с огромным трудом, оттого и работа шла долго. Но узники не сдавались, и строили, строили, тайно, медленно, тихо.
Когда в феврале отбирали для депортации, в некоторых домах ищейки никого не нашли: семья схоронилась в выкопанном бункере под землей, пока не минует угроза. В одном из домов за домовой прачечной оборудовали полуподвальное помещение с окошком. Зимой, когда снаружи подвал завалило снегом, изнутри окно замуровали, так же, как и дверь, — изнутри ее заложили кирпичами и заштукатурили. Над этим подвальным бункером находилась ванная, темная, без окон: снаружи, с улицы это помещение было не заметно. Из подвала пробили пол ванной, подняли жесть вокруг печи, получился люк. Жесть поднималась и опускалась с помощью проволоки, непосвященный бы ни за что бы не догадался, что она прикрывает дыру в полу. Подземное помещение вычистили, выбелили, провели туда электричество и вентиляцию. Там постоянно хранился бочонок с водой и запас долго не портящихся продуктов. Всякий раз, как только надвигалась беда, все тридцать жильцов дома бесшумно скрывались в бункер. Над их головами слышался топот множества ног — это часовые напрасно разыскивали евреев.
Другие находили себе укрытия попроще: наша худенькая хрупкая Лида во время одной облавы забралась в голубятню на чердаке одного из домов, а Эдвин просто забрался в кровать, накрылся одеялом и лежал, распластавшись и не шевелясь, пока часовые не ушли.
11 февраля увели человек шестьсот. Позже стало известно, что их отправили в Ригу[63]. Тамошние евреи по большей части успели убежать в глубь России вместе с отступающей советской армией. Оставшихся немцы уничтожили сразу же, в начале оккупации. Поэтому там не хватало «рабов», и туда погнали каунасских евреев. Среди них оказались и наши старики Цингхаусы.
Я не надеялась, что пожилые люди перенесут насильственное переселение в Ригу и все лишения дороги, однако спустя пару-тройку недель окольными путями до меня дошло письмецо: живы! Фрау Цингхаус и ее сестру на работах определили на кухню, мужа, владевшего русским, немецким и латышским, — в канцелярию. Они уверяли, что в Риге им даже лучше, чем в Каунасе. Дали условный адрес, на который мы тут же отправили посылочку с продуктами и вещами. Ответа не последовало. Впоследствии выяснилось, что всех каунасцев, угнанных на рижские работы, убили.
Записки, что приходили от наших друзей из гетто, были одна другой отчаяннее и надрывнее. Лида, самая сильная и волевая натура из всего семейства Гайстов, писала, что Эдвин совсем плох, что он гибнет. Он почти не ходит после того, как на стройке отморозил ноги.
Однажды ему и еще нескольким людям велено было отнести в предместье железные каркасы для кроватей. По дороге Эдвин совсем обессилел и упал. Часовой сжалился и отпустил его домой. И таким я и встретила его в городе, когда он ковылял один почти пять километров обратно в гетто, с желтой звездой на груди и спине, по кривой булыжной мостовой, держась на целый шаг от тротуара, чтобы не расстреляли на месте. Шел такой несчастный, такой согбенный, шатающийся, спотыкался, так что едва его узнала.
«Эдвин!» — кричу — «Эдвин!» — и кидаюсь к нему, но он весь ушел в себя, ничего не замечает, а народу вокруг тьма, и я не решилась его остановить. Я долго смотрела ему вслед и, глядя, как он спотыкается и едва бредет, подумала только: господи, ведь ты такой был весельчак, остроумец и жизнелюб! Что они с тобой сделали!
Я обратилась к Долли: нельзя ли облегчить ему жизнь в гетто?[64] Долли отвечала, что единственная возможность его спасти — это вытащить его из гетто совсем, а для того ей необходимо использовать свои связи с Раука. Вытащить из гетто? Невозможно, показалось мне. Но моя предприимчивая подруга сумела настроить Раука на иной лад: видите ли, пропадает замечательный музыкант! Наполовину ариец! Раука уступил и обещал разобрать этот «особый случай».
Спустя неделю он вызвал к себе Гайста, как следует выспросил обо всем, о его музыке, о прежней его деятельности, узнал адреса и семьи, где мог бы навести справки об Эдвине. Еще через четыре недели пригласил снова: а вам повезло, господин композитор. Вас, пожалуй, можно было бы объявить полукровкой и тогда пожалуйста — живите в городе. Но только с одним условием: разводитесь с женой и в дальнейшем ведете себя достойно, в соответствии с оказанной вам высокой милостью.
Эдвин, не задумываясь, пообещал выполнить все что угодно. Ему разрешили написать тетке в Берлин, чтобы прислала ему арийское удостоверение его покойной уже матери. Мы жили в постоянном напряжении, уже все издергались: что-то будет? А вдруг ничего не получится? Но Долли, великая оптимистка, утверждала, что Раука пляшет, как миленький, под ее дудку.
Интимная близость с этим гадким человеком, оберштурмфюрером СС, не мешала Долли по-прежнему на пару с Эмми предпринимать дерзкие вылазки в гетто. С некоторыми часовыми они были вполне накоротке, но иногда приходили новые, и тогда женщинам едва-едва удавалось избежать ареста. В любое время они готовы были передать в гетто и мою посылочку. Однако два раза подряд они попадались, сумки, набитые нужными вещами, у них отнимали, да к тому же и письма мои попали в руки охраны, так что держать связь с гетто через них стало опасно. Я старалась найти иной путь.
Во дворе одного дома на Аллее Свободы при местной военной комендатуре работала большая бригада организации «Башмак». Там служил один автомеханик, который раньше брал у Эдвина уроки музыки[65]. Этот человек согласился время от времени передавать в гетто мои маленькие посылочки.
В том же дворе в деревянном домике жила портниха Мендельските, всеобщая любимица среди евреев. У нее на кухне узники гетто виделись с друзьями из города. Задняя дверь жилища вела в мастерскую и на улицу, так что можно было незаметно проскользнуть внутрь.
В кухне Елены Мендельските частенько сидели «звездоносцы» и ели горячий суп. Девушки забегали, чтобы быстренько погладить что-нибудь из одежды и погреть руки у печки в уютном доме доброй портнихи и ее сестры Мани, женщины простой и грубоватой, но душевной. Респектабельные немки, которые приходили в ателье снимать мерку и примерять заказы, и не подозревали, что происходит в это время в задней комнате за кухней. Сестры Мендельските не признавали никакой юдофобии и прочей мерзости, для них человеческое теплое отношение к ближнему настолько было само собой разумеющимся, что им казалось: достаточно соблюдать малейшую осторожность, и бояться нечего.
В «Башмаке» работала и сестра одноклассника Эдвина, отвечала за хозяйство вместе с несколькими другими: убирали в офицерских комнатах, кухарничали, кололи дрова, летом работали в саду за домом. Сколько раз видела: девушки пилят бревна, воду таскают, а солдаты стоят, как пни, вокруг и пялятся тупо. У Германна и Эстер семья владела поместьем на Мемеле. Кроме них в семье был еще брат Макс и замужняя сестра Соня, обоих я также встречала в домике портнихи. С Эстер я виделась теперь раза три-четыре в неделю и через нее передавала Лиде в гетто бутерброды и письма. Наконец-то нашелся человек, которому можно это поручить! Эстер можно было доверять и попросить передать что-нибудь и на словах, что было даже надежнее, потому что письма могли попасть в руки охраны гетто.
С того времени наша тайная почта работала бесперебойно. Через сестру Германна мы постоянно держали связь со всеми старыми знакомыми. Терпению сестер Мендельските не было предела: в их кухне неизменно толклись всякие подозрительные личности, проворачивались обменные махинации. А иные собирались у теплой печки только перевести дух под крышей щедрых хозяек.
Во время наших тайных свиданий выглядывали через окошко на другой конец двора — не дай бог заметят кому не следует в доме портнихи посторонних. Но нет, к счастью, даже среди охраны нашлись люди не совсем бессердечные, которые просто делали вид, будто ничего не видят и не слышат. Я же обычно проходила через парадный вход с улицы, якобы, иду примерять новое платье. И скоро уже все евреи в бригаде знали, к кому я наведываюсь и зачем, и подавали мне знаки, кивали через стекло. Бывало иногда и так, что я приду, а в бригаде как назло проверка, и Эстер никак подойти не может. Что же, сижу жду ее. Наконец прибегает, хлопая деревянными башмаками по выложенному булыжником двору, обнимемся, и у нас есть еще полчаса для теплого, сердечного разговора. Она рассказывала мне о своей семье: отец, добрый, милый человек, теперь болен, очень мучается, ему необходим пронтосил. Мать-труженица, тянула на себе все их приусадебное хозяйство, особенно — огромный птичник. Братья и сестры работали в саду все четверо. И так продолжалось, пока они не покинули долину Мемеля, спасаясь от наступающих войск вермахта. Теперь вот ютятся в крошечном, кривом домишке, затхлом, сыром, прогнившем от фундамента до крыши. Но они все вместе — и это самое главное, и, пока они вместе им, любая нищета и убожество — не беда.
У Эстер было нежное личико, словно с полотен эпохи бидермейера, тонкие черты, хрупкий образ, темные глаза. Она жила своей семьей и замирала от нежности к своим родным.
Лида присылала мне из-за колючей проволоки записки, густо исписанные мелким почерком. Она писала о муже. В марте я прочла в ее письме: «Я уговорила Эдвина развестись. Это единственная возможность спасти его, а здесь ему конец, в гетто он погибает».
… марта[66] звонок в дверь. Открываю: на пороге стоит Эдвин. Да нет, даже не стоит, он падает, вваливается в дом, как только я открываю дверь. Врывается стремительно, как дикарь, ищущий убежища в своей пещере.
Это уже совсем другой Эдвин, не тот, с которым мы виделись в последний раз в августе. Прежде это был эдакий дородный, неторопливый, слегка даже флегматичный господин с достоинством, одновременно весельчак, балагур и эпикуреец с отменным чувством юмора. Теперь же я увидела: тощий, высохший затравленный субъект, лицо сведено горькой судорогой, складки у рта и на переносице, белый как мел, в глазах — испуг и мука, волосы, некогда густые и вьющиеся, сильно поредели.
И тем не менее — Эдвин! Живой! Пусть даже он тысячу раз изменился, наплевать, ведь вот же он живой, он здесь! Невозможное свершилось — его выпустили из гетто и он снова среди нас!
Он и меня нашел сильно изменившейся. Ну, что ж за беда! Мы, старые друзья, мы обнимались и целовали друг друга, и говорили лишь о том, как там Лида и чем ей помочь.
Он пробыл у нас с час и отправился еще раз обратно: забрать вещи и еще пару дней побыть с женой. Мы нагрузили его посылками и наскоро попрощались.
Через два дня он должен был вернуться к нам. Мы уже готовили знатный обед и считали часы. Где же он? Задержался, что ли? Мы забеспокоились. Но к вечеру Эдвин, к счастью, появился. Мы ужинали, пили кофе, курили и снова рассуждали о наших старых излюбленных темах — об искусстве, о форме и содержании, о том, как возникают образы в сознании художника и как рождаются произведения искусства.
Гайст был одновременно и музыкантом, и поэтом, неизменно добивался полного созвучия звука и слога, оттачивал и шлифовал и то, и другое. Человек он был исключительно творческий, созидающий, так что он и в гетто не переставал сочинять новую музыку и перерабатывать старую, хотя, конечно, в этих нечеловеческих условиях по-настоящему, глубоко и проникновенно работать не удавалось. В освобождении своем он видел в первую очередь новую возможность для творчества. Он был в восторге от маленькой комнатки, где я его поселила, к сожалению, правда, только на время, так как она уже была сдана, просто жилец был временно в отъезде. Но пока что в ней расположился Эдвин и с головой ушел в работу.
Как вы теперь станете жить, господин композитор? На что? Каково вам теперь без жены? Он от этих вопросов лишь отмахивался. «А, да что там! Войне скоро конец! Вот увидите, уже осенью конец! А там и образуется». С чего он взял, что осенью война кончится, бог его знает. Он по крайней мере ни единого разумного довода не привел. С неделю он пожил у нас, потом перебрался к старому другу Бенедиктасу, но не вынес шумных детей и вернулся опять к нам.
Эдвин стал просить меня, чтобы я выгнала жильца и отдала комнату ему. Нет, говорю, так не поступают, никак не могу. Он как будто не слышит: выгони да выгони. К счастью, квартиранта все равно пока не было. Тогда Эдвин по всей комнате разложил свои ноты, водрузил на журнальный столик стопки партитур и наслаждался тишиной и покоем, позволявшим ему самозабвенно творить, творить, творить. При этом ему не приходило в голову, что в этом доме существуют заведенный порядок и правила: он уходил, когда я накрывала обед, забывал взять ключ и возмущался, если к его возвращению никого не оказывалось в квартире, чтобы открыть ему дверь, и выходил из себя, если соседи включали радио.
Мы бранились что ни день, словно брат и сестра, которые никак не могут поладить в одном хозяйстве. И одновременно мы словно брат и сестра были близки и связаны друг с другом. «Я сегодня написал о вас пакость в моем дневнике», — заявлял Гайст и тут же протягивал мне тетрадь: читайте, сударыня, как я вас тут «приложил», любуйтесь!
Его живой ум ни минуты не знал покоя. Он надеялся прожить долгую-предолгую жизнь, чтобы сыграть все мелодии, которые когда-либо приходили ему в голову. Наш гость требовал столько внимания и общения, что мы даже отвлеклись от наших тревог и горестей, которые не отпускали нас всю зиму.
И тут опять ночью заколотили в дверь. Откройте, полиция! Два литовца: «Вы укрываете еврея. Где он? Не скажете по-хорошему, сами найдем, но для вас это добром не кончится». Зашли в комнату, стали рыскать по углам, под кроватью, за занавесками, залезли в шкаф, в чемоданы, сундуки, обнюхали каждую полку, чулан, ящик стола. Забрались в кладовку, на балкон, перетряхнули наших жильцов в других комнатах и добрались, наконец, до Эдвина: ага, вот он где!
Но у него же полицейское разрешение на проживание в городе! Не важно, все равно — собирайтесь и пошли с нами в участок. Гайста всего трясло, он едва смог одеться. Сигареты у него кончились, он ко мне: попросите у них сигарету для меня! Ночные визитеры охотно угостили его куревом и тут же сменили тон, стали более дружелюбными. Оказывается, на меня донесли, пришлось устроить обыск. Да вы не беспокойтесь, отпустим мы вашего Гайста, только бумаги его проверим.
Он и правда вернулся через пару часов. Его отпустили с миром, но напомнили, что господин композитор забыл встать на учет в полиции, ай-ай-ай.
Долли, страшно гордая своим успехом, нашла ему комнату в городе, довольно простую, будничную, так, ничего особенного. Ему вернули назад его фортепьяно, которое отдано было прежде на хранение одной певице, удалось достать кое-что из мебели и домашней утвари, после чего Эдвин торжественно, с помпой даже, перебрался в новое жилище. «Я не долго буду жить здесь один, — заявил он чрезвычайно убежденно, — скоро я перевезу сюда из гетто мою жену!»
После ночной облавы я некоторое время не решалась прийти в бригаду «Башмак»: что, если это кто-нибудь из тамошних донес?
А как же Лида? Надо скооперироваться с Эмми — тогда я сама смогу передать жене Эдвина, что нужно.
Мы стали вместе таскать в гетто тяжелые, туго набитые сумки, увязая по колено в сугробах, что по обеим сторонам реки. Виля еще лежала подо льдом, но снег на берегах уже начинал таять, наст осел, побежали ручейки, зачернели лужи, показались проталины. Мы прыгали от одной проталины до другой, чтобы не провалиться в воду, а потом долго стояли над рекой, смотрели на серое, безрадостное гетто на другом берегу и ждали.
Издали, оттуда, где Виля делала петлю, приближались сумрачные фигуры. Понемногу можно было уже различить санки, запряженную в них лошадь и группу мужчин. Они переходили речку по льду и приближались к нам. Эмми они уж знали и издалека еще закричали ей, что ее муж с ними. Один из них, в коричневой овчине, отделился от других и, забыв об осторожности, сломя голову помчался к Эмми.
Я отошла немного в сторону, чтобы не мешать. Супруги разговаривали долго-долго: муж в овчинном тулупе с необыкновенной нежностью глядел на свою миниатюрную белокурую Эмми, и она отвечала тем же. И казалось, будто нет на свете ничего естественней и душевнее, чем эта пара среди тающего снега и луж за городом на берегу реки.
Прочие, очевидно, уже привыкли к этим свиданиям. Каждому из них, мы выдали по свежей булке, и пока Лифшиц обнимал жену, они двинулись дальше, стали колоть лед на речке и складывать глыбы на санки, пока не наполнили их доверху. Наши сумки спрятали под кусками льда, а лед нужен был в гетто для пивоварни. Наши мешки надо было тайком от часовых выгрузить где-то по пути.
Вечернее солнце пестро освещало снег и лужи. Лифшиц еще раз при всех пылко обнял жену, и мужчины двинулись обратно.
Мы же, обрадованные, вернулись домой: снова удалось наладить связь с гетто, на некоторое время оборвавшуюся. Назавтра пришло письмо от Лиды: Лифшиц передал мою посылку еще в тот же вечер, спасибо. Лида героически переносила свое одинокое заточение в гетто и жила одним только ожиданием добрых вестей от Эдвина.
В конце марта нам единственный раз удалось с ней встретиться. Попасть в бригаду было ой как непросто, брали новых людей неохотно, надо было водить дружбу с бригадиром. В то время снова похолодало, намело сугробы. Условились свидеться в большой школе на окраине города. Школу переоборудовали под лазарет, где служили еврейки из гетто. Поговаривали, что управдом госпиталя — юдофоб неописуемый, и что он обожает доносить на тех, кто приходили туда встретиться с кем-нибудь из евреев.
Я соврала немцу-часовому, будто мне надо в библиотеку, что в одном из крыльев здания школы. Вхожу внутрь, вижу — один из рабочих-евреев мне кивает: идите, мол, во двор, там есть дощатая будка, вам туда. Фрау Гайст я сейчас позову.
Сижу в будке, жду. Грязища, хлам навален, мерзко, аж тошнит. И холод собачий. До костей пробирает. Мешок с продуктами поставить некуда — кругом мусор. Вдруг вижу — Лида бежит ко мне со всех ног.
Прибежала, вошла: закутана в красный платок, тощая, как жердь, кожа да кости, что они с ней сделали! Бедная моя, добрая, родная моя. Мы обнялись и разрыдались — так стало тяжко и горько за себя и за других. Долго не могли вымолвить ни слова, стояли потрясенные. Господи, как же она изменилась, совсем другая стала: исстрадавшаяся, измученная, с печатью неизбывного горя и отчаяния на лице. Сердце сжималось от жалости, от сострадания!
«Съешьте-ка яблоко», — я постаралась привести нас обеих снова в чувство. Но ей кусок в горло не лез. Она по-прежнему так всхлипывала, что сотрясалось все ее тщедушное хрупкое тельце, мы снова обнялись и плакали. Спустя некоторое время слезы резко и внезапно кончились, обе успокоились и заговорили. Об Эдвине, разумеется, о ком же еще? Лида лучше, чем кто-либо иной, знала все его слабости и ошибки, знала о его неспособности твердо по-мужски постоять за себя, позаботиться о себе и о ней, о его безалаберности и бытовой беспомощности. Ей превосходно был знаком его наивный, ребяческий эгоизм, свойственный возвышенным, тонким натурам, чье призвание — искусство. От нее же первой, а потом и от всех остальных вокруг, Эдвин неосознанно требовал, чтобы его опекали, заботились о нем. Как же он теперь один, без жены? Лида, Лида, моя преданная, заботливая Лида! Подумать только, как он там без жены? А как вы тут без мужа, дорогая моя? Господи, что ж это за жизнь, до чего же она стала мрачна и безрадостна! Слава богу, Лида по крайней мере не осталась в гетто совершенно одна, с ней по-прежнему живет тетушка, женщина пожилая, но еще крепкая, сильная, смелая, волевая. Старушка не позволяет себе расклеиться и впасть в отчаяние от этого скотского существования за колючей проволокой, она и в самом горьком горе держит голову высоко и хранит свое врожденное достоинство.
Бригадир распахнул дверь будки: «Быстрей! Бегите! Часовые идут!»
В тот же миг нас будто окатило ледяной водой, обе мгновенно пришли в себя: все, пора, прочь из этой омерзительной загаженной будки, надо бежать, пока не застукали! Коротко пожали друг другу руки и врассыпную. Господи, что ж так холодно? Ведь конец марта уже, а ветер ледяной, и снег прямо в лицо!
Дома Эдвин умирал от нетерпения: как она там, его крошка, его душенька? От возбуждения он сыпал глуповатыми, несколько нелепыми ласкательными именами.
Нет, конечно, нет — он и не думал обосноваться в городе без жены! Лида будет с ним! Вот увидите, обязательно будет, и тогда его голая мрачная комната превратится в сияющий дворец! На днях он снова наведывался в пресловутую эсэсовскую берлогу, снова напросился на аудиенцию к Раука, долго объяснял ему, что и жена его тоже полукровка, что и у нее достаточно арийской крови, и она тоже замечательный музыкант, так что и ее надо скорее освободить из заключения!
Ох, и в опасные же игры он играл, наш Эдвин. Но играл уверенно и шел напролом, как одержимый, оттого даже у самых близких не хватало духу его удержать или предостеречь, больно уж он был увлечен этой идеей — вытащить Лиду из-за колючей проволоки. А потом, кто знает, быть может, этот его фанатичный волевой порыв проломит стену, может, слабый избалованный Гайст совершит невозможное. А вдруг! И нам лишь оставалось следить за развитием его отчаянного предприятия, с замирающим сердцем и нервами, натянутыми словно струны.
Дни стали длиннее и светлее, но в остальном — ни намека на весну. Обратно в Литву еще до истечения годичного срока со всеми пожитками, с чадами и домочадцами потянулись немцы, которые еще до оккупации переселились было в рейх[67]. Теперь они заявились большими, важными господами, баре да и только. Победители, понятное дело, черт бы их побрал, мерзавцев! Задрали нос, выпендриваются, проклятые, на литовцев свысока глядят, а то и вовсе плюют. Строят из себя!..
Зайдешь к немцам в продуктовую лавку — полки ломятся: белый хлеб, масло, овощи, водка! А в хозяйственных торговали вещами, которые умельцы-евреи в гетто изготовили. Немецкие мамаши отправлялись со своими отпрысками за покупками и нахваливали детские вещички и игрушки: таких, мол, в Германии давно уже не сыщешь, чудо как хороши! Куколки из ткани, зверушки плюшевые, мячики, деревянные лошадки, солдатики, сумочки кожаные! М-м-м-м, красота! И всего вдоволь, чего ни пожелаешь — пожалуйста, сию минуту, и стоит копейки, и ждать не надо[68]!
Вот они, выходят из магазина со свертками. Эх, крикнуть бы им в лицо: «Эй, вы, да знаете ли, подлые, сколько слез было пролито на эти игрушки! Бессовестные, безмозглые, вот вы кто! Стыдились бы!» Но стыда, конечно, не было и тени. Привыкли, приспособились, ужились, да как быстро! Аллея Свободы стала совершенно немецкой улицей. Оскорбленные литовцы, горько закусив губу, избегали появляться на центральной магистрали родного города, бригады «звездоносцев» обходили ее стороной.
Тех, кто работал далеко за городом, по-прежнему запихивали в грузовики и вывозили на работы. Конвоиры с автоматами следили во все глаза, чтобы ни один из заключенных ни в коем случае хоть на минуту не почувствовал бы себя вольным человеком. И в каждом таком грузовике кто-нибудь обязательно растерянно кивнет тебе — знакомые. То и дело наблюдаешь: вот стоит в кузове пара, обнимают друг друга. Какой добрый, человеческий жест, искренний, сердечный, проникновенный! Меня всякий раз душит вопль: невыносимо смотреть, как втаптывают в грязь права человека! Нет таких слов, чтобы описать, как низко может вести себя человек, как мерзко, как гадко! То и дело прямо на улице посреди толпы охватывает бессильная ярость. Как накатит, колени подгибаются, ноги не держат. Скорей в какой-нибудь ближайший подъезд, сяду на ступеньки, отдышусь и разбитая плетусь домой.
Гретхен замкнулась в себе. И она все это видит, и ей хочется уже не плакать, а орать не своими голосом. Но она молчит и хранит свой гнев глубоко-глубоко внутри.
Немцы живут по принципу: для грязной работы у них, народа-гос-подина, есть рабы. Потому трудоспособным крепким евреям дозволено еще пожить на свете, покуда из них не выжмут все соки. Для того же имеются еще и русские пленные, которые как будто созданы, чтобы сдвигать горы с наименьшими затратами для господ. Серые силуэты русских пленных виднелись повсюду, где нужна была недюжинная физическая сила: они тянули и толкали вагоны и возводили насыпи на железной дороге, грузили баржи на Немане. Горе прохожему с добрым сердцем, если из сострадания протянет несчастным кусок хлеба! Но я нашла-таки один дворик, где они пилили дрова и стирали солдатское белье. Там можно было незаметно передать пленным пару яблок и пачку-другую сигарет. И мне всякий раз радостно было наблюдать, как они тут же по-товарищески делятся моим скромным подаянием.
Страшный VII форт позади магазинчика Ванды превратился в лагерь для военнопленных. Когда их выводили и гнали строем в город, некоторые успевали забежать к Ванде, и та каждому вручала по буханке хлеба и пачке сигарет. На моих глазах однажды раздала буханок пятнадцать, не меньше.
Немецкие часовые колотили пленных прикладами по голове. Однажды один из них от этого споткнулся и упал, хлеб плюхнулся грязь. Немец наподдал буханку ногой, и она, словно футбольный мяч, полетела в уличную канаву с водой. И узник подобрал из лужи размокший свой трофей. Прочие же часовые, напротив, кажется, были рады, что их пленным что-то перепало от чужих щедрот.
Умница Ванда со временем обнаружила недюжинный коммерческий талант и стала знаменита на всю округу. Она сумела найти подход к самым продувным, прожженным торгашам-спекулянтам, выжигам и мошенникам, отчего на заднем дворе ее магазина на Ландштрассе, в стороне от посторонних глаз, велись успешные гешефты, заключались сделки, проворачивались всяческие аферы, и на складе шустрой хозяйки появлялись целые бычьи и свиные туши, мешки с мукой и сахаром и прочая снедь. Лавка была переполнена с утра до ночи покупателями и менялами. Ванда с короной золотых кудрей на голове восседала на софе во главе своего предприятия, скрестив на груди голые крепкие ядреные руки. Цены, конечно, и у нее взвинчены были будь здоров, но товар разлетался в мгновение ока. Зато Ванда подавала всем нуждающимся, так что немцы с партизанами, которые заглядывали порой к ней в подсобку побалагурить, пофлиртовать, даже они удивлялись ее человечному, теплому отношению к людям, ее состраданию к обездоленным. Удивлялись и сами, может быть, менялись, перенимая хозяйкину доброту.
Полиция частенько наведывалась к ней с обыском. Любого другого злостного спекулянта, найди они у него в лавке такие залежи дефицитного товара, давно бы наказали без всякого снисхождения, но Ванда и здесь всех обошла: нет, она не закармливала ищеек сочными картофельными оладьями со сметаной и водкой не опаивала, подкупала сама ее естественность и искренность. Противостоять им было невозможно, отчего всякий обыск заканчивался миром ко всеобщему удовлетворению. Впоследствии плутовка по секрету, конечно, могла поведать, как ей удавалось одурачить незваных гостей.
Март выдался холодным и снежным, апрель — промозглым и дождливым, лето нагрянуло внезапно и окончательно, как по приказу. Фруктовые деревья спешно и будто по обязанности отцвели, появились зеленые, еле заметные завязи. Мы так же срочно, в обязательном порядке высадили в нашем огороде лук и редиску, воткнули на грядке дюжину худосочных, убогих кустиков томатов и без всякой радости слушали назойливое чириканье воробьев и синиц.
Но еще больше отпугивала и настораживала яркая, шумная, благополучная жизнь немецких переселенцев. Они заполонили звонкой суматошной толпой большие широкие улицы города, а мы появляться среди них избегали. Да и мои прежние коллеги из немецкой гимназии, завидев нас, тоже переходили на другую сторону. Я обратилась к профессору Штрауху, не передаст ли он мои письма родным в Германию. Он перепугался: да вы что, мне такая выходка карьеры стоить может! Впрочем, ладно, принесите мне ваши письма к почтовому фургону. Я принесла. Он стоял в компании других немцев, разговаривали о чем-то. Увидел, как я подхожу, вскинул вверх руку, как ужаленный и, словно заклинание, выпалил мне в лицо «Хайль Гитлер!» Прав был адвокат Баумгертель, сто раз прав: трусливый мы, немцы, народец, безнадежно трусливый.
Надутые павлины, снобы, затянутые в коричневую форму, господи, до чего же противно! Физиономии опухли от водки, сапожищи эти чудовищные! А немецкие школьники? Еще того пуще: им тоже положено играть роль господ, а ведь еще в коротких штанишках бегают! «С литовцами — никаких игр! Забыть, не дружить, не сметь!» — науськивают их в классе. На улице, посреди яркого лета, меня вдруг охватила жгучая жалость к этим людям, ослепшим, словно одурманенным каким-то наваждением. Жалость даже сильнее презрения и ненависти. Не кончится это добром, ох не кончится! Пока они там, в России, победно берут один город за другим, мы тут живем только одним — ожиданием перемен.
В завоеванных областях немцы раздувались от гордости, самонадеянность и безнаказанность кружили победителям голову. Русских «недочеловеков», как и здешних, тут же определили в рабы, на них так же пахали, из них тоже выжимали все соки, выпивали всю кровь, на их костях прилежный германский ум решил возвести свою империю, свой Рейх.
На фабрике «Нерис», где служила моя Гретхен, производили плуги, прочий сельхозинвентарь для украинских оккупированных земель, однако литовское руководство комбината выполняло заказ неохотно, тянуло время, а потом и вовсе перестало вывозить готовую продукцию заказчику. Да и среди немецких солдат все чаще встречались те, кому до «строительства Рейха» особого дела не было. Эмми однажды подцепила одного такого, он тайком рассказывал нам, как они у себя в войсках то и дело расстреливают своих же за саботаж.
Эмми в ту пору не знала ни минуты покоя. Как-то ей пришлось ночевать у нас, потому что свою комнату в городе она на одну ночь уступила знакомому еврею. Соседка ее чужака приняла за взломщика и сообщила куда следует. Еврея арестовали, Эмми вызвали на допрос. Ей удалось с грехом пополам отговориться, кое-как оправдаться. Отпустили, слава богу. Вдогонку, естественно, пригрозили: с евреями всякие сношения прекратить!
Но только Эмми не хилого была десятка и не из «трусливого народца». На другой же день прибежала на свидание с мужем. Вместе с ней мы съездили в деревню, купили яиц, Эмми обещала мне зайти за ними завтра. Но назавтра ее не было. И через два дня тоже. Я пошла к ней на квартиру: арестована. Засекли близ гетто и тут же схватили. Случайно на улице я столкнулась с ее мужем, он незаметно оторвался от своей бригады и подошел ко мне: «Помогите! Сделайте все, чтобы спасти мою жену! О деньгах не думайте, мы все вам вернем до последнего!»
Я обратилась к старому знакомому — адвокату Новицкасу. Он был молод, умен, хорошо знал немецкий и пользовался определенным авторитетом среди эсэсовцев. Обещал помочь, чем может. И снова я, как год назад, оказалась с тяжелой корзинкой в тюремном дворе. Снова выстаивала часовые очереди. Что ж делать, о бедной Эмми некому было больше позаботиться, некому было принести ей продуктов и сигарет. Без курева она, должно быть, сходила с ума больше, чем от голода.
Спустя пять недель ее выпустили. Вышел на свободу совсем другой человек: в тюрьме ее бесконечно допрашивали по поводу отношений с мужем, она все отрицала. А чиновник, что допрашивал, некий господин Штруш, обещал ей немедленное освобождение, если станет его любовницей.
Все существо этой молодой женщины пребывало теперь в смятении и в крайнем раздражении, почти в истерике. Сломали ту Эмми, не было в ней прежней силы и уверенности в себе, не было больше той воли, с какой она прорывалась сквозь беды, чтобы у них с мужем было будущее.
К нам она заходила теперь редко. Как-то я пришла к ней, так, навестить, и встретила у нее пресс-секретаря СС Адольфа Гедамке. Пришла второй раз — опять он у нее. Лицо вялое, вид расслабленный, ленивый, сытый. Эдакий лощеный, самодовольный, гладкий господинчик. Бедная Эмми, бедная.
Но эти малоприятные отношения не помешали Эмми снова опекать своего мужа и оплакивать смерть свекра. Правда, сама в гетто уже не ходила. Она по-прежнему была хороша собой, очень мила, но порой на нее жутковато было смотреть: глаза все время бегают, взгляд неверный, переменчивый, блуждающий, и еще эти ярко-алые раскрашенные губы на бледном лице. Послушай, говорю, Эмми, ведь ты, кажется, было время, наблюдалась и лечилась у хорошего невропатолога, сходила бы ты к нему опять, а? Не, отвечает ни за что не пойду, не дай бог я и вправду больна!
Долли, со всеми ее авантюрами, судьба берегла, не в пример несчастной Эмми. Раука от нее отдалился, зато тут же появился новый покровитель, некто Штютц, и еще несколько офицеров, так что вокруг нее постоянно вертелся кто-то новенький. Захожу к ней однажды, а у нее сидит барышня, и Долли этой барышне перекисью водорода осветляет черные как смоль кудри. Что за девушка? Оказывается, евреечка из провинции, единственная выжила после очередной бойни в маленьком городке. У нее на глазах уничтожили зверски мать и брата, от матери не осталось ничего, кроме большого пестрого платка. Дочь спас один партизан и отвез ее в монастырь, там она пробыла лишь пару недель — и там стало опасно оставаться, и там земля под ногами горела. Тогда девушка снова обратилась к тому партизану. Он приютил ее на некоторое время у себя, но никакого другого пристанища найти не удалось, поэтому он и привез ее в конце концов в каунасское гетто. Там с ней познакомилась Долли и обещала вытащить беглянку на волю.
С платиново-белыми кудрями Таня, юная и хорошенькая, и вправду выглядела совершенно «по-арийски». Долли раздобыла через одного священника фальшивое свидетельство о рождении, так что можно было начинать новую жизнь. Таня устроилась гувернанткой в состоятельное немецкое семейство, владевшее дачной усадьбой в Кулаутуве. Там и прожила с хозяевами все лето. Господа попались юдофобы неописуемые, клейма поставить негде, но в белокурой овечке Тане «волка» не заподозрили. Ее идиш приняли за литовский немецкий и так были довольны воспитательницей своих отпрысков, что даже предложили осенью вместе с ними уехать в Германию. Таня вежливо отказалась.
Начиная с апреля я регулярно встречалась с Лидой в старой школе, правда, уже не в дощатой будке — она превратилась в настоящую клоаку, тонула в нечистотах. В крыле школы работали литовские каменщики и маляры, до нас им, к счастью, дела не было. Мы садились на ступеньки, держась за руки, мечтали: как-то оно станет потом, в будущем, и все время держали ухо востро — не идет ли управдом, не видать ли часовых? Удивительно: как ни безумна казалась затея Эдвина, она, кажется удавалась!
Эдвин жил в своей большой пустой комнате, где ему, казалось, принадлежат два квадратных метра у окна, занятые столиком, остального пространства он будто и не касался совсем. На столе разложены были открытые партитуры и нотные тетради. Он сочинял симфонию на основе «Танцевальной сказочки» Келлера[69], очевидно, юмор и благочестие этой книги были особенно по нраву Гайсту. За рабочим столом он проводил времени больше, чем за фортепьяно.
Из его дневника[70]:
«Здорово же у меня огрубели руки. Даже игра на рояле не доставляет больше удовольствия. Я настолько привык уже сочинять музыку безо всякого инструмента, там, внутри себя, что рояль, кажется, уже не звучит, как будто он уже лишний в моей внутренней гармонии. Я заколдован, я сплю. Не надо будить спящего, ни к чему. Когда глухой, милостью провидения обретает вдруг слух, то неизменно к радости его примешается горчинка. Если прозреет слепой, то ему, наверняка, не лучше: свет ясного дня ударит его по глазам своей грубой, агрессивной белизной».
Однако скоро Эдвин «помирился» со своим инструментом. С того дня он не отходил от него, играл классиков, пробовал свои сочинения. Дневник продолжал вести и дальше, для Лиды — когда вернется к нему из гетто, пусть прочтет. Время от времени он сам читал мне отрывки своих записей, видимо, своего рода самоконтроль.
«21. IV. Раннее утро. „Сказочка“ уже весьма неплохо звучит. Надеюсь расширить будущее адажио…. Но вот последний фрагмент, этот „Те deum“, как быть с ним? До чего же мне Тебя не хватает? Была бы Ты теперь со мной! Я часто в беспокойстве шагаю по своей темной комнате, куда не проникает солнце, и ужасно хочу спросить Тебя о чем-то, может, даже о каком-то пустяке, неважно, главное — я знаю, я точно вижу, вот из-за этой незначительной мелочи вижу, что не хватает мне Тебя. Знала бы Ты, что Ты для меня значишь!
23. IV. Сражаюсь изо всех сил с моим адажио, а мыслями — с Тобой. Не отвлекаюсь на Тебя, вовсе нет, напротив — думаю о Тебе, и приходит вдохновение, появляются силы творить.
25. IV. Любимая, дорогая моя! Сегодня лишь пару слов: адажио в общих чертах закончил. Получилось, кажется, — нашел для „Те deum“ кое-какой нотный ряд. Сгодится ли? Ладно, потом, а то нынче совсем нет больше настроения. Самое главное, великое наступит, когда Ты придешь, когда Ты вернешься!»
И так — весь дневник: страстное, увлеченное сочинение адажио и не менее страстная, ожесточенная борьба за освобождение жены. Когда его самого отпустили из гетто, он обещал немедленно развестись с Лидой и действительно сделал даже пару шагов, чтобы разыграть этот мерзкий фарс. В то же время на него подал жалобу один немецкий прокурор: мол, он, Гайст, полукровка, германский подданный, осрамил свою расу — женился на еврейке!
Эдвин, обычно такой пугливый, здесь не струсил, поехал в Приенай, где Лида родилась, нашел там старых знакомых ее семьи и с настойчивостью гипнотизера внушил им историю, необходимую для Лидиного освобождения: якобы Лида — отпрыск неудачного, несчастливого брака, отец постоянно в разъездах, так что когда семья перебирается в Каунас, дочка живет не в родительском доме, а с теткой, с которой сейчас как раз вместе в гетто. Мать, блондинка, ни слова на идиш, в еврейском окружении ко двору не пришлась и оказалась чужой. И теперь все знакомые готовы письменно свидетельствовать, что мать Лиды — едва ли еврейка, да и дочка — не от мужа, скорее всего, а от одного поляка. Старый доктор Брунза по всей должной форме заявил, что фрау Багрянски накануне рождения ребенка, якобы, открыла ему имя настоящего отца.
С этими документами, шесть или семь заявлений, Гайст пришел в гестапо и разложил их на столе перед ужасным Раука. Тот был ошеломлен и отпустил «Духа Святого»[71], как он называл Эдвина, даже как будто милостиво.
Теперь надо бы как следует проинструктировать Лиду, а было это нелегко, не всегда удавалось увидеться в школе. В дело была посвящена Реляйн из бригады «Башмак», она передавала Лиде в гетто устные и письменные инструкции. К несчастью, часовые нашли у нее однажды письмо от Эдвина, где Гайст позволил себе нелестно отозваться о Раука. Мы уж было опасались самого худшего, но, к удивлению, все обернулось к лучшему. Эдвина вызвали к Раука, ткнули носом в то самое письмо, и наш друг, достаточно уже подготовленный, сделал вид, что страшно перепуган: ах, боже, как я мог, такое едкое замечание! Он назвал Раука в своей записке «опасным другом женщин». Гайсту удалось ловко умаслить нациста, тем более, что в остальном письмо было посвящено лишь Лиде, весьма правдоподобно излагалась теория ее арийского происхождения, как будто это уже дело решенное. Раука отпустил задержанного не особенно дружелюбно, конечно, но, по словам Эдвина, кажется, почти ему поверил.
За освобождение Лиды с особым рвением взялся и адвокат Новицкас, который до того помог вызволить из тюрьмы Эмми. Новицкас обсудил этот необычный случай с прочими авторитетными лицами в городской администрации, прежде всего — с Юстом. Дело тянулось всю весну и целое лето, и казалось, что вот-вот доведет оно нас до беды. Раука запретил Эдвину предпринимать еще что-либо для доказательства арийского происхождения жены и потребовал немедленного развода, который до сих пор не был еще очевиден. Кроме того Гайсту запрещено было снова уезжать из города.
Эдвин наплевал на запрет. Невероятно настойчиво, почти нахально, отпихивая прочих, он протолкнулся к билетному окошку на вокзале, и ему сей же час выдан был билет даже без предъявления нужного разрешения о выезде. Вместе с Новицкасом они снова уехали в Приенай. На этот раз все документы и заявления, свидетельствующие о том, что Лида — арийка, были заверены юридически, и Новицкас представил их Раука, сопроводив убедительным, весомым комментарием. Лиду и ее тетушку Эмму допросил в гетто другой эсэсовец, Й[72], который, к счастью, знаком был с Лидиным венским учителем музыки, отчего Лида произвела на него наилучшее впечатление.
Тут опять беда: часовой застукал нас с Лидой в школе и арестовал обеих. Посылку с продуктами от Эдвина спрятала у себя расторопная фрау Оречкина, еще один товарищ по несчастью из гетто, так что хоть эту улику удалось скрыть: никто, якобы, ничего не нарушал, никаких посылок в гетто не носил. Мы же бросились умолять охранника, сулили ему бог знает что, но он не поддался. У меня, как на зло, при себе не оказалось паспорта, отчего я показалась ему вдвойне подозрительной.
Меня тогда мучила только одна мысль: Гретхен! Вот придет она домой со службы, а меня нет! Где? Что? Куда бежать? Где искать? Станет ждать, терзаться, наступить ночь, и она останется совсем одна в пустой квартире, испуганная, в смятении и тревоге. А ведь меня могут продержать за решеткой недель пять, как Эмми или фрау Ландау, которую заперли на … недель[73] за то, что принесли мужу в гетто поесть. До чего ж я легкомысленна! Куда смотрела, чем думала! Только бы отпустили скорей, впредь буду осторожней! Но чем больше я молила тупого баварца, тем больше он меня подозревал. Лидино имя записали отдельно, ее отправили обратно в бригаду, а меня повели в полицию.
Так было и с Максом, так было и с Мари, теперь, видно, мой черед. Ох, Гретхен, Гретхен, бедная моя Гретхен, не слишком ли много тебе горя? У меня потемнело в глазах, горло сдавило, не вижу ничего, все расплывается. Очертания человеческих фигур, лица мелькают, вспыхивают, проносятся мимо, словно на экране в кино.
Вдруг вижу знакомая, библиотекарь из той школы, где мы встречаемся с Лидой. Я к ней: послушайте, умоляю вас, заступитесь, помогите! Скажите им, что вы меня знаете, что я немка. Она сделала все, как я просила. Баварец посомневался немного, но, видать, ему никакой не было радости тащиться по жаре со мной в полицейский участок, он резко повернулся и ушел, оставив меня вдвоем с дамой. Слава богу, пронесло! Я словно проснулась от кошмарного сна, и — удивительное дело — в действительность я вернулась без особого раздражения и волнения.
Гретхен я ни словом не обмолвилась о своих приключениях. Поделилась лишь с Эдвином, и он, черт его возьми, даже не подумал побеспокоиться обо мне, куда там, конечно, он пекся только о Лиде и о себе! А то, что я была в опасности, — до него и не дошло вовсе! Потом он проболтался моей дочери, Гретхен долго не могла успокоиться и заставила меня пообещать ей, что впредь я обо всем, обо всем буду рассказывать ей, что бы ни случилось. Баварец, к счастью, забыл мое имя, да и Лида отделалась лишь легкой головомойкой. Но свидания наши в школе на время прекратились.
Не все немецкие солдаты были столь ретивы и так свирепо кидались на людей, как тот баварец. Были и такие, как Этцихь из Аахена, наполовину француз. Он таскал на себе солдатскую шинель как мученик. Когда Лида работала на постройке аэродрома, он был нашим верным посредником. Другой, господин Лоренц из Дрездена, член нацистской партии, старой закалки, влюбился в Лиду по уши, пил с Эдвином на брудершафт и утверждал, будто с первого взгляда угадал в его жене арийку.
Как ни радовались мы его помощи и добровольному посредничеству, все же вскоре он с его нудным саксонским говором осточертел. Он часами просиживал у нас дома на софе и гундел хвалебные гимны Третьему рейху. Возражений не терпел, перебивать себя не позволял, слово вставить не давал. Когда его перевели в другое место, мы, право слово, вздохнули с облегчением.
Нет, все-таки лучше всего связь держать через Реляйн, что и говорить. Она теперь работала в саду за домом портних и на условленный знак, стуча деревянными башмаками по булыжнику, переходила через двор к нам в условленное место, в неизменном хлопковом платьице, руки — в садовой земле. Она принимала участие в судьбе обоих Гайстов самозабвенно, с душой, никогда не жалуясь на собственные невзгоды. Она вся без остатка отдалась и посвятила себя своей семье, особенно пеклась о хвором отце, и эта необыкновенная преданность и любовь помогали ей, в прошлом забалованной, залюбленной девчонке из состоятельной семьи, выносить ее нынешнее убогое существование. Ежедневная работа в саду на воздухе нагнала немного румянца на ее бледные щеки, все ее тело окрепло, налилось силой. И Эстер так радовалась каждому своему кустику, взлелеянному и взращенному в огороде, что даже уже и не думала о том, кому достанутся все ее старания, кто будет пожинать плоды ее забот, ее труда.
Каждый день в сад заявлялся нахальный ефрейтор с проверкой: как тут работа идет? Мерзавец осыпал Эстер и ее подругу Нину оскорблениями, из которых «ленивое жидовье» и «жидовская мразь» были самые мягкие. Соседские дети иногда тибрили через дырку в заборе смородину или редиску с грядки, отвечать приходилось «жидовкам-воровкам». Реляйн, с ее чувством собственного достоинства и уверенностью в своей невиновности, пропускала всю эту погань мимо ушей. Ей жаль было этих ничтожных, ослепших немчиков, без царя в голове и земли под ногами. В глазах у нее затаилась неизбывная печаль, порой и слезы набегали, но ни одного слова ненависти она не произнесла, ни разу не пожелала им отомстить за их кровавый промысел, за ежедневные унижения. Меня всякий раз снова и снова трогала и восхищала эта небывалая твердость, это кроткое достоинство. Эта женщина являла собой разительную противоположность окружавшим ее низким мерзавцам, и мне казалось, что солдатское хамство и скотство должны сами собой раствориться в ее присутствии.
Дни, недели, месяцы шли своей чередой, мы жили в ожидании Лидиного освобождения. Поговорить с ней все не удавалось. Эдвин не решался пойти к ней в бригаду и только выглядывал ее издали: увидеть хотя бы, как она мимо проходит, хоть кивнет мимоходом, хоть взгляд бросит, и то слава богу. Эдвин последовательно и упрямо шел к своей цели, все больше и больше увлекаясь идеей доказать, что женат на арийке. Он фонтанировал новыми фантазиями: вытаскивал откуда-то новых свидетелей и каждый день являлся к Раука с новыми документами. Раука вышвыривал его вон, но Гайст уже назавтра снова сидел в его кабинете.
Как ни скептически были мы настроены, но с удивлением и восхищением обнаруживали, что отчаянная энергия и авантюризм Эдвина творят невозможное. Советовать ему поостеречься или приостановиться было совершенно бесполезно — он только злился. Уговаривали несколько раз последовать приказам Раука и согласиться на условия эсэсовца — Гайст свирепел и выходил из себя. Пусть освободят Лиду — а там образуется. Мы виделись каждый день, и что ни день, то ссорились и бранились, как близкие родственники, которые с трудом выносят друг друга, но при этом любят один другого более всех на свете.
Так прошло лето. Я уже перестала надеяться, что из безумной нашей затеи выйдет толк, но адвокат Новицкас оптимизма не терял и нам не позволял. Платить Новицкасу было нечем, Эдвин сидел без денег, поэтому адвокат выпросил у него в качестве вознаграждения старинный дорогой сервиз, который тетушка Гайста обещала прислать из Берлина. Новицкас утверждал: якобы, Раука выразился в том смысле, что пусть, мол, композитор украшает свое жилище цветами — скоро, не сегодня завтра выпустят жену из гетто. И бедный Эдвин, без гроша в кармане, занял пару марок у друзей, накупил роз и гвоздик, расставил букеты по комнате, но они так и увяли, не дождавшись его желанной и долгожданной. Тогда Эдвин купил новых цветов, купил лекарств, чтобы лечить свою Лиду, купил продуктов, чтобы отметить ее приезд.
И вдруг 31 августа она неожиданно появилась в его доме! Приехала на дрожках, доверху груженных всякой всячиной. Там было даже стоматологическое кресло: кто-то, видно, упросил Лиду продать его в городе. Приехала, приехала Лида: усталая, грязная, испуганная. Хозяин дома и его племянница, которым Эдвин наплел, будто ждет жену из Берлина, только диву давались, пока выгружали нелепый багаж из тележки. Лида опустилась на стул и разрыдалась. Плакала, плакала горько, надрывно, не могла унять слез, всхлипывала громко, захлебываясь рыданиями, а растерянный муж не знал, как ей помочь. Он поднес ей букет — тот как раз уже начал отцветать, — принес поесть и сел за рояль. Лида вроде бы заулыбалась, ожила, но эта их встреча совсем была не такая, какой себе воображали. «Здесь мило, очень мило, и мне уже лучше, — заговорила Лида, — сейчас все будет хорошо, сейчас, только привыкну, и все наладится».
А привыкнуть-то было вовсе не так легко. На что, спрашивается, им жить? Эдвин уже и так продал, что только можно было, и ходил теперь в долгах, как в шелках. Их, конечно, тут же стали звать в гости, друзья засыпали их подарками, однако проблемы это не решило. Эдвин надеялся на частные уроки музыки — надежды не оправдались. Кое-кто начал было заниматься, но их хватало на пару-тройку уроков, потом ученик исчезал. В чем дело? Уж не антисемитизм ли взыграл? Жена коменданта Крамера пожелала было, чтобы Гайст учил музыке ее детей. Бедный Эдвин понятия не имел, как следует себя вести с этими людьми, и смущенно напомнил фрау Крамер: но ведь лишь наполовину ариец, сударыня. Ну, после такого, конечно, из затеи комендантши ничего не вышло.
Но не прошло и двух недель, как Лида нашла работу — устроилась переводчицей в контору продовольственного снабжения. Каждый день по девять часов в бюро, и за это — заработная плата, которой хватило бы примерно на два килограмма масла. Зато время от времени перепадали премии, подкидывали что-нибудь из одежды, иногда мыло, а главное — водка, а ее менять или продавать было выгоднее всего. Вместе с Лидой там работала Ева Симонайтите, нежная, тонкая женщина, поэтесса. Женщины скоро стали подругами.
Работа Лиду не тяготила, для своего Эдвина она готова была на любой тяжкий труд. Ее угнетало другое: из гетто выпустили с условием, что она как можно скорее разведется с мужем и уедет жить в другой город. Если же им так необходимо оставаться вместе, одного из них придется стерилизовать: ведь их освобождение — так сказать, эксперимент, а потому власти должны быть совершенно уверены, что у Гайстов никогда не будет детей. Тогда, за колючей проволокой, они готовы были на все, лишь бы вырваться отсюда, они обещали выполнить что угодно, не задумываясь. Но теперь от них требовали принять решение, и у обоих опускались руки, противостоять этому гнусному цинизму не было сил.
Мы советовали им временно разъехаться и пожить отдельно. Пусть один из супругов уедет на время в Вильнюс, исчезнет на время из поля зрения властей. Но ни он, ни она не хотели об этом слышать, особенно Эдвин. Обратились к врачам-литовцам, но те, как оказалось, все как один зареклись так чудовищно корежить человеческое существо без крайней медицинской на то необходимости. Гайсты подали письменное сообщение Раука: так и так, стерилизовать никто не берется. Ответа не последовало, и супруги немного успокоились.
Да что там, жизнь и без того была тяжела безмерно. Гайстов кидало из одной крайности в другую, они любили друг друга, как не любили еще никогда прежде, страстно и нежно, то совершенно забывая о себе, то как два законченных эгоиста. И ссорились, ругались, словно дети малые, по всякому бытовому поводу, поскольку для обоих быт и повседневная борьба за выживание были по большей части невыносимо тягостны. Но хрупкая сильная Лида решила преодолеть все: она обустроила сумрачную комнату, доставала где-то сало и масло, опекала мужа и старалась не забыть и о себе тоже.
В конторе шептались у нее за спиной: кто-то прознал, что ее выпустили из гетто. Однако на защиту Лиды встала благородная Ева Симонайтите — она никому не позволяла распускать грязные слухи. У фрау Гайст между тем не было ни паспорта, ни другого удостоверения личности, и достать их было негде, а требовали их на каждом углу. Да и у Эдвина не было ничего, кроме его давно уже просроченного берлинского заграничного паспорта. Супруги как будто зависли в воздухе между небом и землей, их как будто и не было, и общество отказывалось принимать их. Тогда Лида пошла в немецкий суд: там по-прежнему еще тянулся нелепый бракоразводный процесс, которому Эдвин дал ход еще весной. На суде эта трогательная пара, повсюду искавшая человеческого участия, столкнулась с ледяной чиновничьей вежливостью. О, по этой части немецким господам не было равных. Позже стало известно, что эти виртуозы лицемерия вдоволь поиздевались над беспомощными, отверженными Гайстами и среди своих преподнесли историю процесса как великолепную шутку.
В этом хаосе у Эдвина открылось вдруг второе дыхание, откуда-то взялось вдохновение для творчества: он закончил «Танцевальную сказочку», написал несколько песен, восстановил по памяти одну утраченную свою композицию. Еще до Лидиного возвращения он собрал трио музыкантов: скрипач Воцелка, замечательный, необыкновенно одаренный дилетант с великолепным музыкальным чутьем и вкусом, виолончелист Пюшель из оперного оркестра и сам Эдвин, пианист. Все трое сошлись не только на почве музыки, они были еще и товарищами по несчастью: каждый был женат на еврейке.
Воцелка нелегально вывез жену и троих детей из гетто уже через несколько месяцев после заключения и на время тайно поселил у знакомых. Позже снял в старом городе на задворках одного из домов какую-то дыру, — квартирой такое не назовешь — однако эта дыра весьма удачно была спрятана от посторонних глаз, прежде всего от полиции: с улицы не видно было ни входа, ни окон. Это были две комнаты, расположенные за домашней прачечной обычной квартиры, окнами на голую глухую каменную стену, отчего в помещении постоянно было темно и днем всегда горел свет. Туда скрипач перевез сначала детей, а спустя пару месяцев и жену. Детей не стал ставить на учет в полиции и определять в школу. Однако, сколь бы скрытный образ жизни ни вело семейство, соседи, да и вся улица, прознали, что да как. Лишь о присутствии жены знали только самые близкие. Воцелка сам после службы всякий раз ходил по магазинам и приносил все необходимое, чтобы жена могла и дальше прятаться, сколько понадобиться.
У Пюшеля тоже было трое детей. Старшие сыновья скрывались в провинции, жена с младшим после особого разрешения из гетто вернулась к мужу в город. Поскольку женщина была уже не молода, ее освободили даже от необходимости проходить стерилизацию.
Трио «Жидовских холопов» скоро стало известно в городе и даже неофициально заработало добрую репутацию. Их стали приглашать на разного рода праздники и вечеринки, и все трое счастливы были отвлечься на время от своих домашних тягот, а заодно заработать немного деньжат и принести домой чего-нибудь вкусненького, потому и соглашались на любое предложение поиграть. У них был репертуар на любой вкус и случай: могли великолепно сыграть что-нибудь из классики, а могли, если понадобиться, и любой новомодный шлягер. Репетировали у Эдвина, и задолго до приезда Лиды готова была торжественная композиция в ее честь. Время от времени они давали семейные концерты, где слушателями оказывались только Лида, я и Долли, но во время этих музыкальных вечеров нам удавалось ненадолго забыться, отвлечься от наших забот, развеяться.
Долли, надо сказать, сама себе придумывала эти заботы — отчасти потому, что была авантюристка, отчасти из сострадания к тем, кому и вправду несладко, для кого любое новое приключение могло стать роковым, в то время, как сама она, по большому счету, мало чем рисковала. Она сняла большую, красивую комнату, похожую на ателье или мастерскую художника, и принимала там самую разношерстную публику. Сидят, бывало, у нее в гостях друзья евреи, а тут из СС приятели нагрянут, евреев скорее в подпол: сидеть тихо, не дышать! Эсэсовцев — за стол. Но Долли никогда не прятала евреев от немецких военных или от партизан, этим гостям приходилось привыкать к странной компании. Долли помогала всем, кто только просил, и одновременно пользовалась всеми сама, делая вид, будто наивно считает это само собой разумеющимся. Она всегда с особым шиком одевалась, доставала самую красивую мебель и сервировала стол самыми изысканными блюдами, которыми, впрочем, всегда щедро делилась с окружающими. Устроиться на работу ей и в голову не приходило, зарабатывать на жизнь необходимости не было, оставалось лишь красиво и много тратить.
У Долли была очень близкая подруга — некая миссис Хиксон, полная противоположность взбалмошной немке абсолютно во всем. Англичанка, аристократка, сливки общества, была некогда замужем за дипломатом высочайшего ранга[74], развелась с ним, из-за чего ее консервативное семейство строгих правил от нее отказалось. В Париже она познакомилась с одним каунасским евреем, вышла за него, переехала в Каунас и, проживая в весьма скромных, даже скудных условиях, была с ним несказанно счастлива, отчего не жалела более ни минуты о том, что ей довелось потерять в прежней жизни. Муж миссис Хиксон погиб в VII форте среди прочих узников, и если бы Долли не взяла даму под крыло, англичанка осталась бы совершенно одна и без всяких средств к существованию.
Поэтому вдова была абсолютно привязана к Долли, восхищалась ею, превозносила ее, даже сумела приспособиться к образу жизни подруги-опекунши, и хотя, конечно, все это было совсем не ее, приучила себя к этому богемному пестрому обществу со всеми его замашками и капризами, как бы оно ей ни претило. Сама же она была дама строгих правил, никому старалась не досаждать, ни у кого не сидеть на шее, на жизнь зарабатывала уроками английского.
Чтобы улучшить свой ломаный немецкий, она брала у меня уроки устной речи и общения, а со мной разговаривала по-английски. Я приходила к ней в ее уютную мансарду, где она уже ждала меня — строгая осанка, безупречный туалет, седеющие волосы подкрашены в золотистый цвет, на руках — белый фокстерьер Пикси. Образец британской аристократки!
Во время наших уроков она всегда пекла в своей печке белый хлеб для Долли и, как только мы заканчивали, торопилась к подруге со свежими батонами. Однажды мы пошли к Долли вместе и нашли ее комнату запертой. «Я потеряла ключ, — заявила Долли из-за закрытой двери, — идите на чердак, покажу потайной ход».
Как мы попадем с чердака в ее жилище, мы понятия не имели. Но через пару минут из чердачного окна, откуда-то сверху, появились сначала длинные, стройные, красивые Доллины ноги, а потом и она сама вся целиком, как будто с неба спустилась. Оказывается, с чердака надо вылезти на крышу, а оттуда через другое окно спуститься в комнату к Долли. Миссис Хиксон была в ужасе от того, что ей придется лезть через чердачное окно и ходить по крыше, словно кошке, но мы ловко подхватили ее под руки и осторожно помогли без потерь преодолеть опасный, головокружительный маршрут. В комнате уже собралась приличная компания, играли в карты. Все гости проникли сюда тем же путем, что и мы, и точно так же собирались отсюда в свой час убраться. Спустя пару дней один из знакомых принес новый ключ.
Летом доллин улей обогатился еще одним гостем: появился Сережа, юноша семнадцати лет, чьи родители остались в гетто, а сам он жил в городе под видом арийца. Долли собиралась устроить для его матери то же, что и для Эдвина и Лиды. Уже были выправлены документы, подтверждавшие, что женщина лишь наполовину еврейка. Фрау Оречкину дотошно допросил Раука, и похоже было, что ей вот-вот разрешат покинуть гетто. Долли страшно была горда: еще одно дело провернула! Но дело не выгорело. Кто следует навел справки в Варшаве, откуда Сережина мать была родом, и объявил, что Оречкина — целиком еврейка, а потому ей надлежит «пока что» оставаться в гетто.
Долли же решила, что Сереже не вполне безопасно в его городском укрытии, и забрала его совсем к себе. Наплевать, что молодой человек живет с ней в одной комнате, кому хочется, пусть сплетничают. В этом-то и есть приключение! А ей только того и хотелось, и она всячески подчеркивала, что ее собственный сын, который теперь живет в Палестине, тех же лет, что и ее молоденький приятель.
Сережу она очень скоро избаловала и изнежила, одновременно постоянно браня и используя его. Их слишком уж близкие, интимные отношения скоро стали ее тяготить, хотя бы потому, что мешали ей принимать гостей, и она соорудила ему небольшую светелку на чердаке, где по крайней мере летом можно было достаточно уютно устроиться. Она не скрывала их связи ни от эсэсовцев, ни от евреев, одинаково часто и помногу проходивших через ее дом, но его присутствие в комнате и в компании досаждало и хозяйке, и гостям больше, нежели постоянная возня ее вертлявых назойливых нахальных псов.
Долли давно уже обустраивала на чердаке еще одно помещение, втайне от всех. Там уже отштукатурили стены и поставили маленькую печку, получилась настоящая комнатка. Там предстояло поселить доллину давнишнюю подругу, жену так называемого «братишки» — даму по прозвищу Мозичек[75]. Давно уже Долли обдумывала, как вытащить женщину из гетто в Вильнюсе, наконец съездила в Вильнюс, встретилась с подругой и все с ней обговорила.
Долли вернулась из Вильнюса весьма довольная своей поездкой и, как только будет готова комнатка на чердаке, собиралась забрать Мозичек к себе.
В то же время моя экстравагантная приятельница разыскала жену одного немецкого профессора, фрау Энгерт. Профессора уволили в начале оккупации из университета, с кафедры германистики, и определили в полевую комендатуру, благодаря чему его супруга пользовалась определенными привилегиями. Поначалу она даже долгое время жила не в гетто, а за его пределами, в отдельном домишке, и профессор по молчаливому согласию начальства мог ежедневно видеть свою жену, говорить с ней и снабжать необходимыми продуктами.
Поскольку фрау Энгерт говорила по-литовски, по-немецки, по-русски и по-польски, ее использовали как переводчицу в одном предприятии внешней торговли. Для молодой женщины, которую, как бы это ни было лестно и престижно, всегда в известной степени тяготила роль профессорской супруги, жизнь в гетто означала в определенном смысле возврат к своим корням, к своему народу, к своей исконной среде, так что ей это убогое существование даже нравилось — пусть в ничтожестве, зато среди своих. Оскорбления и лишения, которых с лихвой хлебнули остальные, ее, к счастью, пощадили, и ей оставалось лишь надеяться, что скоро, благодаря положению мужа, она сможет совсем переехать жить к нему.
В Каунасе были евреи, которые получили разрешение жить в городе. Был некто Серебрович, лет сорока пяти, который, когда немцы вошли в город, сидел в тюрьме. Как только его выпустили, явился в гестапо и предложил, так сказать, свои услуги. Его сделали посредником между гестапо и гетто, и он, должно быть, доносил до своих работодателей кое-какую информацию. Субъект, одним словом, скользкий, препротивный, доверять такому нельзя, продаст. Тем не менее он знал подход к эсэсовцам и нередко с успехом заступался за других евреев.
Серебрович был вхож в штаб СС в любое время и пользовался доверием самых отпетых юдофобов. К делу освобождения Лиды он тоже руку приложил: он допрашивал ее много раз по поручению полиции. К ней, как видно, он относился как-то особенно тепло и вправду желал помочь. Сам же он с женой и двумя детьми-подростками жил в городе, и пока другие гнули спину на стройках и прозябали в ничтожестве и постоянном ужасе, Серебровичи радовались жизни в большой светлой квартире и ни в чем не знали нужды.
Благодаря заступничеству Серебровича из гетто отпустили доктора Хойера с семьей, эмигранта из Австрии. Этот врач успешно лечил варикозное расширение вен инъекциями соляного раствора. Среди его пациентов были влиятельные персоны, за него замолвили слово: мол доктор Хойер блестяще врачует заболевания и травмы ног, в военных условиях такой специалист необходим, пусть вернется к своей практике. И он вернулся, снова стал лечить, но и сам, и семья жили замкнуто, скрытно и избегали даже на улице показываться. Сыновей учил сам, жена до самых глаз закутывалась в платок, когда выходила в магазин с карточками. Пациенты помогали им держаться на плаву.
Разрешение жить в городе надо было обновлять каждый квартал, и всякий раз, приходя в СС, доктор Хойер приносил с собой список просителей — из них всякий готов был подтвердить, что он необходим в городе. Врач постоянно зависел от милости немецкой полиции, жил в постоянном страхе, и так от этого мучился, что иногда, казалось, лучше бы ему вернуться в гетто, там, честное слово, спокойней.
В июле Серебровичу велено было перебираться в Вильнюс, там ему тоже обещали службу при полиции. Выделили грузовик для перевозки домашнего скарба и мебели. Он хлопотливо попрощался со знакомыми, среди прочих — откланялся у Долли и миссис Хиксон. Последняя занималась английским с его отпрысками.
В Вильнюсе в его распоряжение предоставили просторную светлую квартиру, но не успел он туда въехать, как однажды ночью соседи увидели у подъезда зловещий автомобиль, откуда появились несколько гестаповцев. Вскоре после этого у Серебровичей послышались выстрелы. Квартиру временно опечатали, а трупы вынесли ночью. Так рассказывали соседи. Никто ничего не знал более подробно об исчезновении семьи. Другие утверждали, что Серебровичей застрелили в полиции.
Со смертью Серебровича у доктора Хойера стало на одного заступника меньше. В июле врач снова собрался продлевать разрешение на проживание в городе, но его пока оставили без ответа. Потом объявили, что дом, где располагается его квартира, понадобился для нужд полиции, поэтому пуст найдет себе другое жилье. Спустя неделю пришел Штютц и сообщил, что новую квартиру семье предоставят. Сколько нужно комнат? Две и только? Не маловато ли? У Хойера ведь обширная практика.
На другой день перед домом остановилась телега с решетчатыми бортиками: у вас два часа на сборы, вы переезжаете в гетто. Через час явился Штютц, взглянул на изысканную венскую мебель, на ценные картины, на дорогие ковры и решил: все это пусть остается здесь, в гетто с собой семья пусть возьмет только самое необходимое. Хойер спросил эсэсовца, зачем же его обманули, зачем подали ложную надежду. Штютц подло улыбнулся: «Не хотел волновать вас раньше времени».
Июль и август пережили, выстояли. Каждый день казался бесконечным, ночь все не наступала, время тянулось невыносимо долго, отчего набегали воспоминания о прошедших месяцах, об утратах, о потерях, становилось невыносимо тошно и тоскливо. Гретхен так же мучилась, как и я. Это была не та боль, которую врачует время, совсем наоборот — со временем раны причиняли все большую боль, режущую, острую боль. С каждым днем горе впивалось все глубже. И не помогали никакие «возьми себя в руки», «соберись», «борись, не поддавайся», «молчи, просто тупо молчи, само пройдет». Крик, вопль давил горло, душил, и слезы невозможно было унять, и так — с утра до вечера.
Гретхен провела две недели отпуска у своей любимой, милой, наивной подруги Нины. У ее родителей-литовцев была маленькая деревенская усадьба. Две недели свежего молока и купаний в речке, две недели свежего воздуха и яркого солнца — и щеки моей дочки, наконец-то, слегка порозовели. Но и там в лесу оказалось место, где расстреливали и закапывали евреев. Кажется, вокруг не осталось ни одного клочка земли, не политого их кровью. Не осталось ничего, что не напоминало бы об этом, ни на что не отвлечься, ничем не забыться. Слишком велико и ужасно это бедствие, все в него вовлечены, никто не остался в стороне. Это как пожирающая болезнь, которую не скрыть, сколько ни старайся.
Мне все время кажется, будто меня на улице провожают недоверчивые взгляды, кажется, я многим подозрительна, словно и я пытаюсь скрыть мою болезнь и вину. Я теперь во многом стала лучше разбираться, многое поняла. Но вокруг меня никто ни в чем не пытается разобраться, мир смирился, как если бы ему сказали: это крест твой, неси его…
В прошлом году осенью мы относили посылки нашей Мари. Помню наши четверги в тюремном дворе — мы тогда страдали, но хоть надеялись еще на что-то. Теперь пришла новая осень. Дни стали короче. Эдвин и Лида снова были с нами, Регина прячется в доме двух Наташ, двух наших ангелов-хранителей, маленькая Ира бегает босоногой крестьянской девчонкой в усадьбе фрау Лиды. Эмми выпустили из тюрьмы. Спасти надо еще Реляйн, Мозичек, фрау Энгерт. Что ни день, то новые приключения, новая борьба.
С деньгами туго. Летом ученики все разъехались, другие, как раз детишки богатеньких и высокопоставленных родителей, вообще не заплатили за занятия. Да, да, знаю, мы — люди бесправные, странно даже, что нас еще больше не используют, удивительно, что еще не все соки выжали.
Как-то раз встретила на рынке одного ученика, Сокольского. Он хотел было улизнуть. Но я его поймала и говорю: инфляция, видите ли, деньги что ни день обесцениваются, за уроки я теперь беру не одну, а четыре марки, и будьте добры вернуть ваш долг. Он сперва изворачивался: нет, мол, у него денег. А потом вдруг залез всей пятерней в карман и бряк на прилавок — весь свой долг сразу и швырнул. И вдруг как заорет: я, мол, все про вас знаю, кто вы такая! Вы обо мне еще услышите! Я вам еще покажу! Рыночные торговки глазели, открыв рты: гляди-ка — «интеллигенты» собачатся. Я не особенно испугалась его угроз, не приняла их по-настоящему всерьез, но внутри что-то тревожно заныло.
Механически, плохо соображая, прошлась по рядам, купила того-сего и зашла еще не надолго к Гайстам. Лида была на службе, Эдвин сидел за нотами. Он собирался прожить лет до ста, чтобы записать и сыграть все, что звучало у него в голове и в душе. Я ему говорю: Эдвин, ты бы отложил на время свою музыку, пойди устройся в какую-нибудь контору, умасли гестапо, потерпи, а там образуется. Он страшно злился: я, говорит, буду продолжать жить, как живу, пусть в мою личную и семейную жизнь никто не лезет! Я так решил и точка!
Ну, ладно, что же теперь. В задумчивости я побрела домой.
Хотела было прикупить еще кое-что, вдруг вижу — сумки нет! Где? Как? Что? Там же документы! Таких мне их больше не достать! Бегом обратно к Эдвину: там нет. На рынке? Там не найти, уже унесли. Снова в лавку, где я обнаружила пропажу, и там нет. Но на улице вижу — новенькая подкова блестит, это на счастье, ага! Должно повезти! Подняла — из нее еще гвозди торчат. Взяла с собой. Подошла уже почти к дому, и вдруг вспомнила, где я сумку оставила: бросилась с горы в город, к Елене Куторге — вот она, пропажа моя, лежит на кресле. Смотрю на Елену — она вся так и светится. Что, спрашиваю, такое? От сына вести! Слава Богу! Мы обнялись.
Так проходили дни — в маленьких радостях и больших горестях. Каждый следующий переполнен до отказа событиями, людьми, переживаниями, уже и не разберешь, где, что и как. Наши враги — немцы. И это такие же немцы, как мы сами. Мы сами, наши же люди, свои убивают нас[76]. И немцы, немцы тоже уничтожают сами себя, пожирают друг друга. Куда ни глянь — повсюду предательство и опасность. Порой так и подкатывает к горлу, так и мутит. Ох, мерзко! Выйду на улицу — тянет невыносимо обратно в дом, схорониться, спрятаться, подальше от чужих лихих людей. Сидишь дома — так и дергает на улицу, задыхаешься в четырех стенах, мочи нет!
Кругом враги. Во что превратились мирные, трудолюбивые литовцы? Холопье племя, слуги палачей, только свистни — любого вздернут, кому угодно пустят пулю в лоб! Спекулянты, барыги, торгаши. Хлебом не корми — дай на соседа донести, оболгать ближнего своего, оклеветать, со свету сжить!
Зато и друзей вокруг не меньше: в лихие времена как раз друзья и появляются, настоящие, верные. Среди тягот и лишений, среди смятения и горя втайне рождается привязанность, а потом дружба, появляется доверие, добрая женская солидарность и взаимная поддержка. На людях мы молчим и чураемся друг друга, среди своих — мы на «ты», мы вместе, потому что знаем: один в поле не воин, надо держаться друг друга, надо помогать друг другу, чтобы выжить. Все больше людей мы спасли, все больше выручили, но и борьба с каждым днем все опаснее.
Город все наполнялся возвращенцами из Германии и имперскими немцами. Германские фирмы открывали свои представительства. Литовцев стали вышвыривать из их домов, магазинов, мастерских. Повсюду селились новые хозяева жизни. Литовские предприятия переходили в руки немцев или вынуждены были на них работать. Занятые немцами жилые дома, как в мирное время, отремонтировали, обставили квартиры элегантной мебелью и на полную врубили центральное отопление, не скупясь на топливо. На всем, что только попадало на глаза, новоприбывшие тут же ставили печать: «принадлежит господствующей нации».
Деревенских обложили непомерным оброком, да еще и свободную торговлю запретили. Горожане неделями не видели ни сала, ни мяса, зато должны были смотреть, как немцы ходят по своим немецким лавкам и закупают масло, белый хлеб, яйца, молоко. В литовских мясных магазинах торговали третьесортной малосъедобной кониной, в немецких — отменной говядиной, первоклассными колбасами и ветчиной. В лучших ресторанах теперь кормили только по немецким продуктовым карточкам. Лекарства купить можно было теперь только в немецких аптеках.
Летом 1942-го началась первая так называемая мобилизация литовских добровольцев[77]. Решили подманить литовцев водкой и сигаретами, но литовцы были оскорблены такой подачкой. Были, говорят, случаи в провинции, когда молодые люди вступали в СС, получали свои сигареты, а потом швыряли прилюдно их на землю, поливали сверху водкой и молча удалялись прочь. Вербовщики так, видно, опешили, что даже никого не остановили.
В деревни стали заселять немецких крестьян. Их щедро снабдили инвентарем и домашней скотиной, в батраки дали русских пленных или целые русские семьи с оккупированных территорий. Литовские хозяйства и усадьбы, особенно процветающие и доходные, немцы просто забрали и национализировали. Прежних хозяев, согнанных с насиженных мест, частично куда-то переселили, на другие земли. Из этих лишенцев многие ушли в партизанские отряды, к другим уже партизанам — врагам немцев. Они уходили в леса и оттуда грозили тем, кто занял их дома, кто теперь владел их хозяйством.
Немецким поселенцам выдавали оружие для самозащиты, но тех, кто ушел в леса, это лишь раззадоривало и бесило. Прежним владельца мало было нужды, что их хозяйство поддерживает теперь целая государственная немецкая программа. Они будто чуяли: недолго неприятелю тут хозяйничать, на чужой земле.
Родственники из рейха писали нам аккуратные, осторожные, очень сдержанные письма, где между строк так и горело: террор! Террор! Террор! Все наши и целый круг друзей и знакомых были ярыми противниками режима, и им там очень несладко приходилось, они, как, впрочем, и весь остальной немецкий народ, пребывали в убожестве и унижении. Мы давно еще придумали специальный условный язык, чтобы сообщать друг другу необходимое и тайное. Мы слали им посылки с продуктами и по чрезвычайной, искренней благодарности, с какой они сообщали нам о получении, становилось ясно, насколько им необходим этот наш маленький паек.
Моя свекровь тогда жила в доме моей матери, и последней удавалось все еще уберечь женщину от нападок в городе, одним словом, от беды[78]. Моя мать мужественно сопротивлялась любым требованиям и угрозам властей, которые давили на нее, требуя очистить дом от жилички-еврейки. Новый закон, согласно которому евреям и в Германии предписано было носить на одежде звезду Давида, едва ли взволновал мою престарелую свекровь, она теперь редко покидала дом и сад. Соседи и друзья по-прежнему заходили к доброй, щедрой и заботливой еврейской старушке, и она всегда готова была помочь, чем могла, забывала о себе, потому что пеклась о других, и, кажется, пребывала в наивной вере в доброту человеческую, чем и пыталась утешить окружающих. Она была женщина образованная, в высшей степени образованная, очень по-немецки воспитанная, и с ее чистым большим сердцем искренне не могла понять, что же это происходит, что творится вокруг. Она столь твердо уверена была в скорой «победе добра», что постоянно ожидала встречи с сыном и внучками. И мы все не решались никак открыть ей правду о том, что сталось с любимыми близкими людьми.
В конце сентября в дом к ним ворвались эсэсовцы и уволокли свекровь с собой. На этот раз не смогла моя мать, как прежде, заступиться, не защитила, не вышло. Без разговоров, велели собрать чемодан и увели. Говорят, в Люблин, куда многих евреев собирали в концлагерь. Храбрая старушка не разгадала сатанинского замысла своих палачей, она и тогда еще не приняла яд, который был у нее припасен на всякий случай. Мы так и не узнали, где и когда ее убили[79]. А в гибели ее сомневаться не приходилось — слишком уж много было таких случаев, трагических примеров такой же участи. Когда мы с Гретхен узнали, сердце сжалось от боли и тоски. Так стало одиноко, так пусто, так сиротливо — нет больше бабушки, нет нашей заботливой, нашей любящей старушки. В таком подавленном, угнетенном состоянии застала нас внезапная гостья из рейха.
Однажды летом Гретхен освободилась со службы сразу после полудня, и мы вместе совершили «паломничество» в садоводство наших друзей-голландцев, откуда вернулись домой лишь вечером, с корзинами, полными овощей и фруктов, усталые, в ботинках, облепленных садовой грязью. Уже в темноте подходим к дому, вдруг у подъезда нас окликает тихий женский голос: «Привет! Не узнаете?» Пригляделись: в сумерках виден был только широкий приземистый силуэт. Кто бы это мог быть? И вдруг я ее узнала: Зузе! Подруга студенческих лет, долгие годы нас связывала дружба[80]. Ее сыновья одно время росли вместе с моими девочками, мы, как бы ни были не похожи друг на друга, сколь бы по-разному ни были воспитаны, сохранили интимную девичью привязанность и доверие и никогда не судили друг друга слишком строго.
Много лет ей, талантливой писательнице, приходилось пробивать себе дорогу, но когда настала эпоха Третьего рейха, к ней пришли и успех, и слава, и богатство. Зузе всегда была скорее немного конформисткой, вот и тогда, когда нацисты оказались у власти, она понемногу, шаг за шагом ушла в их идеологию и оказалась совершенно в струе. Я давно уже перестала отвечать на ее письма, полные хвалебных гимнов в адрес режима. Между нами не было больше прежнего взаимопонимания, и не могло быть, подруг уже разделяла пропасть. Но теперь, когда после многолетней разлуки она снова стояла передо мной, меня переполняла радость встречи. Мы поднялись к нам, включили свет, стали разглядывать друг друга и видели лишь близкого друга юности.
Теперь Зузе совсем стала матроной, но за этой внешностью я разглядела ту живую, сильную, активную, пламенную девчонку, и светлые воспоминания нахлынули на мены волной. Ее командировали на восток как журналистку от немецкого союза писателей, и она на несколько дней остановилась в Каунасе. Утомленная дорогой, Зузе отправилась на поиски своей гостиницы, мы условились встретиться завтра к обеду. Она ушла, мы с Гретхен сердечно радовались, что появился среди нас милый нашему сердцу человек, с которым мы на «ты», которому доверяем. Любые противоречия были в тот момент забыты.
Утро прошло в заботах, обед был приготовлен, гостья пришла, и мы забыли о времени, сидя у окна в нашей теплой кухне. Стемнело. В кухне коромыслом стоял табачный дым и густо пахло кофе. Окно затемнять не стали, просто не включали свет. И все говорили, говорили, говорили до самой ночи. Такое было чувство, будто в каждой из нас открылся, наконец, какой-то шлюз, который долго-долго был заперт, и вот теперь все, что накопилось за многие годы молчания, все, что мы когда-то не досказали друг другу, что, может быть, не решались или стеснялись сказать, вырвалось наружу. И в присутствии третьего все было сказано сполна. Сказано открыто, страстно, искренне. У Зузе вся грудь была уже в наградах, нацистских наградах, но мы, свидетели нацистских зверств, совершаемых, якобы, от имени всего немецкого народа, изо всех сил старались перетянуть женщину на «нашу» сторону: пусть вступит в партию, пусть под партийным прикрытием всем существом своим встанет на борьбу с режимом. Мы были готовы прямо сейчас, пока она еще в Каунасе, собрать ей необходимый материал и информацию для правого дела.
На другой день я повела ее к Наташам, познакомила с Региной, представила портнихам, в доме которых мы встретились с милой нашей Эстер-Реляйн. Я затащила подругу даже на аэродром, где гнули спину несколько сотен «звездоносцев», привела к воротам гетто. Вот, говорю, смотри, любуйся — окна в домах, что выходят на улицу, замурованы, дома будто слепые, колючая проволока на столбах и на каждом — щит с предупреждением: только сунься — ты покойник! Как раз в те дни в гетто вступил в действие новый запрет — нельзя рожать! Иначе накажут: смерть и матери, и младенцу. Всякая беременная пусть отправляется к врачу здесь же в гетто и делает аборт, помрет во время операции — тем лучше. Зузе, конечно, пришла в ужас от подобной мерзости, от такого унижения. Но мне все казалось, она как-то не так на все реагирует, как я ожидала.
Вскоре она поехала дальше на восток, по направлению к линии фронта, на обратном пути обещала снова зайти. Спустя несколько дней получаем от нее длинное письмо. Нас будто окатило ледяной водой. Шок, растерянность: напрасно мы питали иллюзии, зря надеялись. Не обратили мы Зузе в нашу веру, кем была, тем и осталась! Всякое ее слово, любая фраза, сердце и разум пропитаны были насквозь нацистской идеологией, все, что сумело просочиться сквозь этот панцирь, впиталось и растворилось без остатка, и сознание моей подруги снова подернулось, словно пруд ряской, прежним тупым, приспособленческим безразличием. До чего же, подумалось нам, должно быть, ослепли и оглохли немцы, до чего сильно это наваждение, если даже Зузе, наша добрая, по-матерински заботливая и душевная Зузе, не способна воспринять что-либо иное, кроме внушенной уже догмы, так что ни один лучик света не пробьется в ослепшую ее душу.
Когда она оказалась у нас, возвращаясь в Германию, от той прежней радостной встречи не осталось и следа. Мы лишь ссорились с ней, бессмысленно, грубо, пошло, совершенно непродуктивно сыпали фразами и ни на шаг не стали друг другу ближе. Прощаясь, напрасно искали слова, чтобы хоть как-то навести мосты над пропастью, что нас теперь разделяла. Так и не нашли.
Многому нас научила эта встреча, очень многому. Мы вдруг так и увидели нашу Марихен — как она проповедует братскую любовь в лазарете среди солдат вражеской армии, пока ее не уводят в тюрьму. Бедная моя девочка, бедная, наивная моя Мари! Мне теперь стало ясно: с этой заразой, с национал-социализмом словами сражаться — зря время терять, эту беду одолеть можно только оружием.
Спустя еще месяцев пять-шесть посетил нас еще один такой же гость, которого мы, впрочем, с самого начала приняли без малейших иллюзий, весьма холодно. Заехал один знакомый архитектор, обласканный властью и вознесенный на должность государственного зодчего, большого начальника. В нашем присутствии он, правда, стеснялся своей коричневой служебной униформы и переживал искренне все нацистские гадости, что видел вокруг, однако весьма был горд своим назначением и должностью и не скрывал своих приятельских почти отношений с Ш. и даже чуть ли ни с самим Герингом. Особенно его распирало от гордости за сына: мальчика рекомендовали в одну из школ им. Гитлера. Гость совершенно при этом не замечал, насколько неуместно хвастаться этим именно в нашем доме, передо мной и моей дочерью.
Конец октября. 365 дней прошло после первых массовых расстрелов, когда и в наш дом пришла беда, с которой невозможно смириться. В горле у нас застрял вопль, от которого не избавиться.
Гретхен приходит из конторы в половине пятого, уже начинает темнеть. На меня же порой так начинают давить стены замолкшего нашего дома, что я бегу прочь, спускаюсь с горы и захожу к ней на работу — хоть коротко взглянуть на нее.
По улицам гонят изможденных пленных. Они умоляют о куске хлеба или паре сигарет. Желтые листья ясеня на темной земле похожи на звезды Давида на одежде узников гетто. Когда же конец мукам? Неужели никто над нами на сжалится?
По улицам грохочут эсэсовские сапоги. Победоносный марш оккупантов достиг вершин Кавказа, а самонадеянность победителей — крайней степени.
Грохот их сапожищ наводил ужас, омерзительны были брутальные их рожи, тупые звериные глаза, бритые затылки хозяев жизни, но мы ни на минуту не прекращали надеяться, что придет конец их гнусному царству, и на робкие вопросы отчаявшихся евреев так и отвечали: потерпите, наступят иные времена, не все слезы лить.
Наши подопечные Марианне и Оните с подложными документами устроились горничными. Хозяин одной из них, мелкий литовский чиновник и его жена, в юности пасшие свиней, с великой радостью нагружали грязной домашней работой интеллигентную еврейку с высшим образованием. Господа упивались своим превосходством и властью и на бедную служанку наваливали все больше и больше, обращались с ней все унизительней. Но Оните, натуре цельной, сильной и волевой, с врожденным достоинством, их подлый нрав большого вреда не нанес. Она работала, как лошадь, и по вечерам валилась с ног от усталости, но неизменно сохраняла чувство юмора и бодрость духа. У нее была цель, которая не позволяла ей сломаться и опускать руки, цель опасная: вытащить из гетто брата и его семью.
В гетто наступило относительное затишье. Массовых расправ пока больше не устраивали. Условия жизни по-прежнему оставались чудовищными, но узники держались, не болели, смертность снизилась. Очевидно, естественный отбор сделал свое дело: слабые умерли, выжили сильнейшие, самые стойкие, выносливые, упорные. И чем тягостнее была жизнь за колючей проволокой, тем отчаяннее они рвались выжить, преодолеть, прорваться, тем яростнее была воля к жизни.
На заднем дворе у портних, в домовой прачечной рабочие из «Башмака» устроили мастерскую. Там работал слесарь-еврей, и один очень талантливый часовщик чинил немцам карманные часы. В их ремесленной каморке всегда было тепло, уютно, и ничего так не хотелось, как посидеть с ними немного и поболтать о том, о сем. Что за люди, какая нация, какой дух, какая внутренняя сила. У них отменное чувство юмора, а глаза полны грусти, они кротки и смиренны, но способны вытерпеть и пережить что угодно, любые беды, любые муки, и при этом всегда найдут себе занятие, работу, ремесло.
Заходить к портнихам приходилось тайком, чтобы часовые не засекли. Особенно старался один ефрейтор, мерзкий тип, отвратный парень — он из кожи вон лез, чтобы «рабы» не встречались с «людьми». Никаких свиданий, никакого обмена продуктами. Взяли моду спекулировать, барыги! На вечерней перекличке он всегда шерстил узников — шарил по карманам и узелкам — не прихватил ли кто чего недозволенного. Но они были умнее и сметливее, ефрейтор неизменно оставался в дураках.
Эдвин как одержимый запасался лекарствами, накупил целую аптеку витаминов, успокоительных, противопростудных и рвотных средств. Сам глотал их без перерыва и жену заставлял. Тем не менее в ноябре он вдруг захворал и слег. Ему становилось все хуже, он безбожно ругал лекарства, называя их дерьмом, и требовал себе немецкого врача: подайте ему доктора А. и все тут! Тот пришел, осмотрел больного и констатировал сильнейшее воспаление легких. Лида взяла больничный в конторе и ухаживала за мужем. Ей приходилось нелегко, она никогда раньше не работала сиделкой, не пришлось.
Температура у Эдвина все поднималась, состояние больного становилось критическим. Лида вся в слезах примчалась ко мне: врач прописал компрессы, а что такое вообще эти компрессы, черт их возьми? Я собрала фланелевый платок, несколько английских булавок, повязки Билльрота[81], прихватила банку малинового варенья и маленькую подушку, и мы побежали к Гайстам. Измученную Лиду уложили спать на кухне, постель, конечно, получилась жестковата, но после нескольких бессонных ночей сиделке не терпелось прилечь хоть куда-нибудь.
Температура поднялась еще выше — до 41. В доме жил врач-литовец, я пришла к нему уже поздно вечером и упросила пойти со мной в квартиру Гайстов. Он сделал Эдвину укол стрихнина и сказал, что пневмония дает осложнение на сердце. Обещал прийти назавтра. Я осталась сидеть на кровати больного. Он бредил в голос, метался во все стороны, вскакивал, собирался бежать куда-то, кряхтел, стонал, плевался, кашлял. Кашлял так, что его, казалось, сейчас вывернет наизнанку. Компресс сорвал: душит, хрипит, душит, давит, не могу! Я накладывала новый, снова взбивала ему подушки, поила элендроном, пронтозилом, пихала ему в рот дольки лимона и ложки малины. С ночного столика при свете лампы убрала лишние лекарства, закрыла крышку рояля, унесла пыльный засохший букет бессмертника. И каждые две минуты бегала к больному.
«Умираю, умираю, — выкрикивал он при каждом приступе кашля, — не хочу, не хочу умирать, рано мне! Я еще музыки мало сочинил! Ведь все мелодии у меня уже придуманы, нужно их лишь записать! Мне нужно только время! Время и здоровье! Врачи — придурки, идиоты! Все идиоты! Компресс! Компресс теперь совсем не давит! Теперь в самый раз! Ленхен, Ленхен, вы лучшая из людей! Нет, вы вторая лучшая, первая моя Лида! Пусть спит, пусть отдыхает, малютка моя, крошка моя! Как ей там на кухне — не замерзнет ли?»
Так прошла вся ночь и весь следующий день. Врач делал уколы, слушал сердце и легкие. Хм, сердце, сердце. Осложнения, задето, барахлит, нехорошо, хм. Лида будто обезумела: спасите, спасите его, доктор, пусть он выздоровеет! Она весь день носилась по городу: достала редкое лекарство в ампулах, бог знает уж где она их взяла, выменяла у солдат апельсинов и лимонов, раздобыла где-то белого хлеба. Вернулась, подошла к мужу, нагнулась над ним и тут же снова выбежала прочь — ей невыносимо было глядеть, как он мучается.
Эдвин стонал, кричал, пел и плакал попеременно. И вдруг затих. Я испугалась: что с ним? Лежит весь белый, как полотно, я потрогала его лоб. Покрыт потом. Уснул. Спит тихо и дышит часто и спокойно как младенец. Легкие работают как насос, грудь вверх-вниз, вверх-вниз. Час спустя я стягиваю с больного насквозь промокшее от пота белье, протираю мокрым полотенцем его выше пояса, отощавшего, с впалой грудью, надеваю новую, подогретую рубашку. Спи, наш большой ребенок, спи спокойно, наш избалованный малыш, спи и выздоравливай.
Всю ночь его прошибает пот. Чистого белья уже не осталось, и мы, нарушая всякие нормы пожарной безопасности, спешно сушили только что выстиранное на радиаторе батареи. Ночь, ночь, ночь без конца. У меня уже нет сил, я валюсь с ног, не могу больше, спать, спать! Забыв о долге сиделки, засыпаю на стуле и остаюсь в забытьи, пока сквозь затемняющие шторы не пробивается серенький пасмурный день. Больной спит, тихо сопя носом. Как он у нас? Что с ним? Где же доктор? Ведь обещал быть утром пораньше! Лида побежала за врачом, но тот уже ушел. Мы убираем комнату и ждем. Доктор приходит к полудню: утром рано стучал к нам в дверь, да мы, видно, проспали. Осматривает пациента, меряет пульс, слушает грудь: кризис миновал. Уходит. Нам остается лишь тихо радоваться, как если бы в доме только что родился ребенок, а мы — две его матери, и между нами нет ни малейшего соперничества.
Удивительно, до чего же быстро человек выздоравливает после столь тяжкой болезни! Недели не прошло, как Эдвин уже бегает, и его бедная Лида кажется теперь более больной, чем он. Трудно ей, очень нелегко, и дома, и на службе — все вокруг отнимает силы. Эдвин больше не кашляет, теперь кашляет жена, ей все хуже и хуже, и она, наконец, оказывается в постели с температурой. Теперь черед мужа ухаживать за Лидой. К счастью, это не воспаление легких, но лишь тяжелый грипп, и она быстро поправляется.
В конце ноября, в воскресенье мы зашли к ним в гости. Они сидели в темноте. Что вы делаете? Ничего. Мы просто сидим и радуемся, что мы есть друг у друга, что мы вместе, отвечала Лида.
В комнате чисто убрано, на столике стоит букет бессмертника, пожелтевший, увядающий, он напоминает о болезни Эдвина. Убрать бы, да Лида не дает: нет, пусть стоит!
Я перевела на немецкий новеллу нашего общего друга Бенедиктаса и теперь прочла ее вслух всей компании. Лирический, грустный зимний этюд всем пришелся по вкусу и взбудоражил. Мы долго еще разговаривали о литовских поэтах и поэзии: что бы еще такое перевести, что бы почитать. Лида рассказала о новой замечательной книге ее коллеги Евы Симонайтите: повесть о землях по берегам Мемеля, об их разделе между Литвой и Пруссией, о лихолетье в мемельских краях. Рассказ с точки зрения литовца[82].
Лида вдруг поднялась, села за рояль и стала наигрывать сонату Моцарта. Давно уже мы не слышали, как она играет. А играла она изумительно, виртуозно, как в прежние времена.
Ну, разве не ангельское пение, спрашивала пианистка, играя. Она в тот момент сама была похожа на ангела — такое у нее было просветленное, одухотворенное лицо, такая яркая улыбка.
«Первый мирный вечер с начала войны, — произнес Эдвин, — давайте почаще собираться вместе вот как сейчас!»
ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ
Смерть Эдвина Гайста. Репрессии против смешанных семей. Смерть посредством яда. Краткий процесс. Жизнь в каунасском гетто. Барышня Йоруш. Каста немецких повелителей. Студентка из Рейха. Гетто в Вильнюсе. Городские бригады. Эмми Вагнер. Конец вильнюсского гетто. Анолик рассказывает об Эстонии. Товарные эшелоны из Западной Европы. Последние спасенные. Рождественский младенец. Тетушка Эмма. Наташа арестована. Нелегальное общество. «Детская акция». Опасность возрастает. В лесу. Беглецы. Рассказ Эммы Френкель. Конец каунасского гетто. Ничья земля. Рассказ Стаси. Район боев. Служанка дочери фараона.
Незадолго перед тем как заболел Эдвин, в городе вдруг появился профессор Энгерт, появился причем из Вильнюса: его жену, оказывается, арестовали в каунасском гетто и теперь держали в тюрьме в Вильнюсе. За что? Почему? Как так? А так: профессор не стал разводиться с женой, в отличие от многих евреев-полукровок, да еще обратился в вильнюсское отделение гестапо с прошением разрешить фрау Энгерт покинуть гетто и жить с ним в городе. Обязательным требованием в таких случаях было пройти стерилизацию, на что супруги согласились, и теперь муж, как ему казалось, обоснованно, ожидал положительного ответа.
Его вызвали в гестапо и вместо разрешения, на которое он надеялся, устроили строжайшее разбирательство: как это он, урожденный имперский немец, филолог-германист, обязанность которого — представлять германскую культуру в университетской среде, осмелился уже после 1933 года жениться на еврейке из восточной Европы! И ведь до сих пор не одумался, до сих пор держится за жену, не желает с ней разделаться, не хочет развестись, вот ведь что особенно достойно порицания! Так что о своем прошении пусть забудет, никто ему ничего не позволит, и думать нечего! Известно также, что профессор позволил себе некоторые возмутительные выражения в адрес режима. Так, однажды он заявил в беседе с литовцами, что сегодня быть немцем стыдно. Ну, да ладно, пусть идет покамест, но его тайная связь с женой отныне должна быть прекращена, уж об этом-то позаботится кто следует.
Энгерт примчался в Каунас с намерением испросить помощи у генерала Йоста. Дочь профессора служила у Йоста личным секретарем[83]. Генерал дал свои рекомендации, и германист вместе с дочерью пришел в каунасский штаб гестапо. Оттуда чиновник при нем позвонил в Вильнюс и дал окончательный ответ: профессору нет больше надобности беспокоиться о жене — она расстреляна. А самому профессору рекомендовано было на будущее поведение свое поменять, иначе и он напросится на репрессивные меры.
В прошлом году с нами обошлись с такой же точно жестокостью, так же точно угрожали, когда мы пришли просить за своих близких. И утешить человека тут нечем, нет таких слов, нечего сказать, кроме одного слова отчаяния и боли: за что? В тот вечер он остался у нас, и мы провели время в немом горьком недоумении.
Потом он, разбитый, уничтоженный, уехал снова в Вильнюс. Там ему, как ни удивительно, сообщили, что жена не расстреляна, она, якобы, депортирована куда-то в Германию и находится в одном из концлагерей, в каком — неизвестно. Бедный Энгерт уцепился за это расплывчатое, обманчивое определение и долгие годы прожил в тщетной надежде увидеть снова любимую женщину. Нам же, к несчастью, было уже превосходно знакомо это изощренное и циничное вранье, которым нацисты, словно сетью, опутывали своих жертв. Мы на эту удочку уже не попадались. Много позже гибель фрау Энгерт подтвердилась.
Спустя некоторое время вышла из тюрьмы женщина, которая содержалась по соседству с женой профессора: они сдружились в неволе, вместе выходили на прогулку в тюремный двор и перестукивались через стенку. Однажды фрау Энгерт забрали, проходя мимо камеры соседки, она стукнула ей в дверь и крикнула: «Меня уводят на расстрел! Передайте мой поклон моему мужу!»
Трагедия Энгертов, честно говоря, тронула нас как-то не особенно глубоко, в ту пору мы заняты были своими тревогами — болели Эдвин и Лида. Когда они поправились, мы могли лишь радоваться, что друзья не погибли. Кроме того, мы, видимо, уже порядком привыкли к горю, к смерти, жестокости и насилию, отупели.
Наши мысли снова обратились в гетто: там было неспокойно. Кажется, гетто медленно закипало, росло сопротивление: хватит, шептали за колючей проволокой, хватит гнуть спину, хватит подставляться под удары, пора собрать все силы и встать против оккупантов. Нам удалось освободить наших Гайстов, и это подталкивало нас действовать дальше — вызволять других. В подполье прилежно трудилась маленькая отважная группа заговорщиков.
Доктор Елена Куторга помогла одной еврейке, жене немца, бежать в Германию, спрятавшись в паровозе. Женщина благополучно жила в дальнейшем на родине своего мужа по поддельным документам.
У себя Елена евреев прятать больше не могла: к ней регулярно приходили с обысками, подозревали в связях с коммунистами и евреями. Ей угрожали, она стала осторожней. Осенью арестовали ее сына, врача одного из минских госпиталей — схватили за то, что водил дружбу с русскими среди гражданского населения и действовал против оккупантов. Ему тогда повезло, что заболел тифом и в тяжелом состоянии переведен был в лазарет. Храброй фрау доктор Куторге удалось после нескольких месяцев тяжких усилий освободить сына и привезти его обратно в Каунас.
10 декабря 1943 года. Несколько дней мы не видели наших Гайстов, и перед обедом я зашла в контору, где служила Лида. Через окно я увидела ее ярко-красную, прямо-таки пламенеющую вязаную кофту. Она же увидела меня уже издали и выбежала мне навстречу в прихожую, где мы, обнявшись, ходили туда-сюда. Руки у нее были ледяные, я терла их и пыталась согреть в своих, моим в муфте было жарко.
Лицо у нее в тот день было особенно счастливое, так и сияло. С утра она сказала Эдвину, что уж слишком они теперь счастливы, не к добру это, не долго это продлиться, чует ее сердце, быть беде. Эдвин же только разгневался: отчего это жена не верит, будто теперь их ждет долгая и счастливая жизнь: «Не каркай, Лида, накличешь беду! Вот увидишь, дальше только лучше будет! Только бы дал бог еще поработать, и все наладится!»
Пока Лида радостно щебетала, ее позвали к телефону. Расстаться вот так мы не могли, и она попросила сотрудницу передать, чтобы ей перезвонили минут через десять. Через три минуты ее снова позвали, теперь уже настойчиво, срочно. Она вернулась через мгновение. Звонил хозяин квартиры: Эдвина только что арестовали.
Как? Что? Почему? Столь внезапно свалившееся несчастье осознать нелегко. Мы бросились к ним домой: комната опустела. Хозяин говорит, час назад перед домом остановился эсэсовский автомобиль, вошел Штютц и еще некто, подняли Эдвина с постели, велели немедленно одеваться: быстрей, вас решено отправить в гетто, пока не разъяснятся кое-какие факты о вашей персоне. Пока арестованный натягивал на себя одежду, Штютц беспардонно прошелся по комнате, как у себя дома, и прикарманил дорогие золотые часы, доставшиеся Эдвину от отца. «Они вот здесь, на столе лежали», — хозяин изобразил, как хапуга Штютц стянул часы. При этом эсэсовец с презрением тронул стопки нотных тетрадей на столе, листы разлетелись по полу: «Ваши сочинения? Больше не понадобятся».
Гайст потянулся было за шляпой, но Штютц и тут ему заметил: «Не трудитесь, она вам не пригодится. Наденьте старую кепку, не ошибетесь. В гетто вам наконец-то предстоит по-настоящему научиться работать». Потом они сели в машину и уехали[84].
Непостижимо! Не может быть! Невероятно! Вот же еще постель не остыла, еще пижама висит, переброшенная через спинку стула! Но Эдвина нет! Его нет! Как мне знакомо это ощущение: бессильная ярость, боль, отчаяние, крик застревает в горле и душит, душит! И нет сил крикнуть, никак не освободиться от этого вопля!
Мы — к Долли: помочь можешь? К адвокату Новицкасу: не замолвите ли слово за Эдвина? Потом снова в контору Лиды — там ее хватились, надо отпрашиваться, извиняться. Коллеги были изумлены и возмущены произошедшим, стали спрашивать, чем помочь, что сделать? Я взяла Лиду к нам домой: ей страшно было оставаться одной в опустевшей квартире.
Наутро она пошла на работу. В бригадах уже знали о необычном случае и рассказывали, что Эдвина в гетто поместили в тюрьму и строжайше запретили кому-либо с ним видеться.
Запрет, впрочем, вскоре был нарушен: над Гайстом сжалился один из еврейских полицейских и разрешил Лидиной тетушке повидать родственника и принести ему немного еды. В первые дни Эдвин, говорили, держался бодро, не терял оптимизма, надеялся на скорое освобождение. Но его все держали взаперти, и он постепенно отчаялся, затосковал. Стал отказываться от еды, шумел, кричал, стенал, плакал. Совет старейшин обещал подать за него прошение.
Спустя неделю снова явился Штютц. Узник было подумал — освободить его пришли, и кинулся с радостью навстречу. Его посадили в открытый автомобиль, где уже находились несколько вооруженных гестаповцев. Те, кто видел в гетто, как Эдвина увозят, были в ужасе, ибо знали, что это означает: автомобиль направился к IX форту[85].
Мы обо всем об этом услышали позже, поначалу никто ничего не знал, от бригадных ничего невозможно было добиться. Зато Долли узнала правду от самого Штютца, тот лично ей сообщил, что с Гайстом «разобрались». Мы не хотели верить. Лида сама пошла в ненавистный штаб СС, где ей подло соврали: мол, муж ваш в полном порядке, а отделить его от вас пришлось потому, что не желал пройти стерилизацию.
Лида приходила к нам каждый день, садилась в угол кушетки и сидела тихо-тихо, смирно-смирно, уставившись в одну точку прямо перед собой, пока я занималась с учениками. Она говорила только об Эдвине, тонула в сладких и мучительных воспоминаниях и раздумьях, тряслась над каждой мелочью, всяким добрым или тягостным моментом их супружеской жизни. Настоящее для нее теперь подернулось мраком, она жила лишь прошлым.
Мы вместе стали читать его дневники, тексты его музыкальных композиций. В свете последних событий эти записи приобрели особый, трагический смысл. Поразительные тексты, надрывные стихи. Вот, в особенности, одна из строф его реквиема, посвященного памяти матери (Эдвин называл это сочинение «родственным народным песням»):
Как мне не плакать, Ведь ты меня покинула. Сердцу бы окаменеть, Как мне теперь без тебя. Как бы жизнь ни била, Ты умела меня уберечь. Где же теперь твоя забота? Смерть отняла ее. Было жаркое лето, А тебя поглотил холод. Теперь ты восходишь по лестнице, Что ведет на небеса.И еще последняя строфа:
Вы всегда рядом — значит, Пора готовиться к смерти. Внемлите! Жесткий шаг — тяжкий шаг, Уходит в море. Внемлите! Жжет огонь — жжет сквозь ночь, Не спасти — не помочь. Внемлите! Смерть — вечная река Последнее чувство становится поцелуем.[86]Из его дневника:
«16 апреля 1942. Почему, собственно, творческий человек больше опасается смерти, нежели стать посредственностью, этой опуститься еще ниже? Эта мысль заботит меня сегодня с самого утра».
Он и вправду чрезвычайно боялся смерти. Когда весной и летом объявляли воздушную тревогу, Эдвин мчался в бомбоубежище в подвале соседнего дома и прятался там, покрытый холодным потом, трясущийся, пока не объявляли отбой. Город бомбили в действительности очень редко, тревогу объявляли, когда в небе просто пролетали военные самолеты, оттого мы всерьез к этим атакам не относились и в подвал бежать не спешили. Эдвина это страшно злило. Он звал нас бесчувственными, толстокожими. Как можно игнорировать явную опасность, возмущался он.
Гайст верил в приметы, одержим был всякого рода суевериями, доверял разным тайным знакам и взаимосвязям, особенно из области астрологии. Его сознание и в самой повседневной жизни выдумывало постоянно символы и фетиши, от которых Эдвин отказывался, как только они обманывали его, и тут же измышлял новые.
Лида порой тоже искала в реальности тайные магические нити, которые связуют воедино разных людей и события, как звезды определяют судьбу земных жителей. Она то и дело просила подругу по работе погадать на картах, конечно, только в свободное время, и неизменно сообщала, что ей выпал туз пик, а он означает смерть. Гадалка, говорила Лида, испуганно стала тасовать колоду и снова раскинула карты, но зловещий пиковый туз снова был тут как тут. Когда Лида приходила к нам, она могла с самым беззаботным видом шутить и веселиться с моей дочерью, но иногда вдруг мрачнела и снова уходила в свои тревожные мысли.
Однажды одна авторитетная астрологиня предсказала ей пять тяжких лет, когда горе, лишения и отчаяние станут невыносимыми, но потом беда минует, и снова все наладится, и станет жизнь ее светлой и мирной. «Пять лет почти на исходе, — думала Лида, — как же может жизнь моя стать счастливой без Эдвина. А что если меня обманули, солгали, подлые, что если он жив и скоро вернется?»
Как-то раз она попросила у меня дозу яда: знаю, говорит, у вас припасена на случай ареста. Спустя пару дней снова спрашивает: а как цианистый калий действует — быстро убивает или мучиться долго. Я посмеялась, а про себя страшно за нее встревожилась и решила глаз с нее не спускать.
В конце декабря пришел друг Воцелка, несчастный, в тревоге: младшенькую его, белокурую солнечную Маритхен с тяжелой дифтерией увезли в больницу. Он долго не пускал врача в дом — он прятал жену, поэтому укол сыворотки сделали слишком поздно, ребенок протянул еще пару дней и умер.
24 декабря мы с Лидой пришли к нему, в его темную сырую берлогу, в эту дыру, где он скрывал жену, совершенно истаявшую, белую, прозрачную, и других детей. Семья пребывала в безнадежном отчаянии. Когда мы шли домой, Лида вспомнила: а помните два года назад, в рождество, мы тогда все вместе собрались, и тогда мы все были еще счастливы, праздновали и радовались.
Год заканчивался, следующий никаких особенных надежд не подавал. И все-таки, все-таки вдруг новые события на фронте принесли нам новую надежду, мы с удвоенным напряженным вниманием обратились на восток — оттуда пришла нежданная новогодняя радость: первая значительная победа советских войск под Сталинградом[87]. Оживилась даже Лида. Мы почувствовали: есть еще кое-что, кроме одних только наших личных несчастий и тревог, есть еще и наша общая история, общая судьба, и в этой судьбе наступил, наконец, перелом, который коснется всякого из нас. И ты, моя бедная Лида, и ты заживешь вскоре по-иному, ибо дни палачей наших уже сочтены.
Однако тогда мы порадовались еще слишком рано, потому что дьявольская кровожадность наших убийц далеко еще не утихла, а Сталинград был далеко от Каунаса. Здесь же удар следовал за ударом: спустя несколько дней после гибели Эдвина из дома 787 по Аллее Свободы забрали еще две семьи евреев-полукровок. Арестовали Хелен Фрок, чей муж, иранец Хомайонни, ветеринар, жил и работал в Париже. Хелен жила на Аллее Свободы с двумя детьми, десятилетней дочерью и семилетним сыном. Она, как и муж, были персидскими подданными, поэтому Хелен полагала, что имеет право не жить в гетто. Ее брат, французский подданный Жак Фрок, также вместе с семейством остался жить в городе. Жена Жака Сюзанна также была француженка, у них было четверо детей: сын Рике десяти лет, двухлетние Сузанна и Бернар, младший был совсем еще грудной младенец.
В тот день 16 декабря в семь утра на Аллею Свободы явился Штютц с сопровождением и арестовал фрау Хомайонни, Жака Фрока и его жену-француженку. В квартире Хелен нанимала комнату некто фрау Ландау с дочерью. Женщинам было поручено приглядеть покамест за детьми, оставшимися в доме без матери. После полудня забрали и детей. Один из эсэсовцев погладил по головке крошку Бернара: «Настоящий еврейчонок!» — «Какой же он еврейчонок! — вступилась фрау Ландау, — он же француз!» В тот же день трое взрослых и шестеро детей были расстреляны в IX форте.
Назавтра Штютц с чемоданами явился в опустевший дом, обшарил все шкафы и ящики, заглянул в каждый угол, прошерстил обе квартиры, сгреб все ценные вещи и увез с собой. Переводчик с французского, сопровождавший эсэсовца, прошелся по комнатам следом за шефом, все, до чего еще смог дотянуться, перенес в квартиру на верхнем этаже и поселился там, окружив себя вещами только что расстрелянной семьи.
Фрау Ландау с дочерью были свидетелями всех этих событий. Вместе с мужем, немецким евреем, она в начале оккупации переселилась в гетто, но еще в ноябре 41-го мать и дочь получили разрешение СД снова перебраться в город[88].
Фрау Ландау, близкий друг расстрелянной семьи, была в ужасе от того, что увидела, и теперь опасалась за жизнь своей дочери и свою собственную. И было чего бояться: ведь за ней следили в гестапо, две недели она даже провела в тюрьме, после того как, вопреки любым угрозам, несколько раз передавала еду мужу в гетто.
Она нашла другое жилье и устроилась на работу в «Каунасскую газету». Слежка за ней продолжалась. Женщина знала об этом и была крайне осторожна, но продолжала помогать мужу, а потом и вовсе сумела забрать его к себе в город и прятала в своей квартире целых десять месяцев, пока не пришел конец немецкой оккупации.
В те же дни «разобрались» еще с несколькими семьями евреев-полукровок. «Разобрались» тем же способом. Арестовали виолончелиста Пюшеля, друга Эдвина, одного из их музыкального трио. Взяли вместе с тремя сыновьями и женой, у которой было официальное разрешение на проживание в городе. Соседи говорили: арестованных заверили, будто увозят ненадолго, кое в чем нужно быстро разобраться, выяснить пару вопросов. Расстреляли всех пятерых, и детей, и родителей.
Схватили семью Полески: жену-еврейку расстреляли, мужа-немца отправили в концлагерь под Берлином. Его престарелые родители, что жили в Берлине, передавали сыну в лагерь продукты, которые им регулярно пересылал Воцелка.
Этот террор снова заставил дрожать и фрау Ландау с ее Марион, и меня с моей Гретхен. Ни на минуту не отпускал нас этот тоскливый страх, каждую ночь ждали беды, всякий день тряслись. Мы с дочерью постоянно носили при себе приличную дозу яда, — нам один врач достал, — и обещали друг другу: если арестуют — пустить отраву в ход.
Долли тоже нервничала: она никак не могла пристроить в надежное место свою подопечную Таню, еврейку, которую она перекрасила в платиновую блондинку. Связь с Раука и Штютцем оборвалась, Долли чувствовала себя неуютно и ненадежно и подумывала, не сбежать ли в Финляндию. Да и с Мозичек дело не двигалось.
В начале января Лида получила из гестапо бумагу: ей предписано было пройти, наконец, стерилизацию, которой до сих пор удавалось избежать. Зачем вдову Гайст погнали на стерилизацию после смерти мужа, никто понять не мог. Лида пошла к профессору Мажилису, который живо сочувствовал евреям и не скрывал своего отвращения к мерзкой циничной процедуре. Мажилис снова отказался стерилизовать фрау Гайст. Тогда она снова пошла к своим давнишним мучителям — к Раука и Штютцу, и заявила, что готова хоть сейчас пройти все что потребуется, да не может найти врача, никто не берется. Ей отвечали, что им все равно, где и у кого она будет стерилизоваться, не их дело. Пусть найдет хоть кого-нибудь, но только при операции обязательно будет присутствовать их доверенное лицо — доктор Обст, а то «вы евреи — мошенники известные, знаем мы вас!»
Для бедной вдовы это было уже слишком: силы ее совсем оставили, она превратилась в серую тень. В таком состоянии никакой операции не перенести. Сидя в углу нашей кушетки и глядя прямо перед собой, она все повторяла тихим голосом: «Не пойду, больше не пойду, станут вызывать, больше не пойду».
10 января ей в контору позвонил Штютц: к трем часам чтобы была у него! Лида вернулась за свой стол, написала письмо и передала подруге Симонайтите: передай, пожалуйста, Хольцманам завтра. После этого вдова извинилась перед начальством и ушла домой.
Вечером я безуспешно пыталась дозвониться до Лиды. Что же это с ней? Мы с Гретхен, снедаемые тревогой, отправились ее искать. Сперва зашли к Долли: Лида была у нее и все повторяла: «Не пойду больше к этим убийцам. Я знаю, что мне делать, знаю». От Долли позвонили еще раз Лиде. Квартирная хозяйка просила срочно прийти: фрау Гайст не открыла дверь, сколько ни стучали.
Мы без труда сорвали непрочный замок с двери вдовы. На столе горела электрическая лампа. Лида лежала на кровати, белая, безжизненная. На полу, словно только что выпав из ее руки, — разбитый пузырек.
Позвали врача: констатировал смерть от отравления. Хозяин дома сообщил о смерти жильца в полицию. На утро из полиции явился чиновник, бегло задал пару вопросов: остались ли у самоубийцы родственники, то да се. Быстро составил опись имущества. Комнату заперли. Мы просили похоронить покойницу — не дали. Тело отправили в анатомичку.
13 января я еще раз зашла в ее жилище. День был холодный, мрачный, без снега. Дверь оказалась открытой, двое мужчин на носилках вынесли что-то, покрытое простыней. Это что-то казалось таким плоским и узким, что невозможно было представить под покрывалом человеческое тело, тело моей Лиды, моей жизнелюбивой, красивой, веселой Лиды. Носилки погрузили на дощатую тележку, и белая лошадка в коричневой уздечке, цокая копытами по булыжной мостовой, повезла свою нетяжелую поклажу по узкому переулку позади тюрьмы к задним воротам анатомички. Я шла следом, единственная, одинокая гостья на этих печальных проводах в последний путь.
Благодаря Наташам, удалось уговорить одну прозекторшу в анатомичке и получить назад тело нашей подруги. Мы подкупили могильщика, и он похоронил Лиду Гайст в безымянной маленькой могилке между двумя старыми могилами.
Симонайтите передала нам последнее послание Лиды, очень нежное и трогательное: «Думаю, мне нечего больше вам сказать, ведь вы знаете обо всем лучше, чем я».
Никогда еще никого так не терзали до смерти, подумалось мне, и никого столь настойчиво не толкали на самоубийство, как этих двух, этих любящих, влюбленных друг в друга людей, этих двух светлых и одухотворенных моих друзей.
Нам не дали в тишине скорбеть по нашей Лиде: начались новые репрессии. 17 января гестапо устроило масштабную ночную облаву. Хватали литовцев польского происхождения. Их затолкали в грузовики и отправили в Польшу. Объявили, будто был раскрыт польский антигосударственный заговор на территории Литвы и будто бы эти аресты — лишь для стабилизации обстановки и безопасности литовского государства. Среди арестованных были такие, с которыми обошлись мягче, нежели с остальными: им велено было собирать вещички и в течение трех дней перебраться в Вильнюс.
Среди литовцев нашлось порядочно тех, кто ненавидел поляков. Они остались довольны этой скотской акцией и жадно потянули ручищи, чтобы захапать оставшиеся после арестов имущество, кто что урвет, кто до чего дотянется. Немцы, как всегда, оказались самыми длиннорукими и ненасытными, они-то и отхватили самое ценное.
На другой день я пришла к миссис Хиксон: у той было много друзей среди поляков, я хотела справиться, уцелел ли кто? Дверь в ее комнату оказалась опечатана полицией. Не к добру, заныло у меня внутри, ох, не к добру. Я бегом к Долли. Там — офицер из СД: кто вы такая? Что вам нужно от фрау Каплан? О чем вы собирались с ней говорить? Фрау Каплан арестована. Я пробормотала что-то невнятное вместо отговорки и убежала.
На улице встретила оберефрейтора Мюллера, частого гостя у Долли. Он был совершенно сбит с толку и растерян — ему уже все было известно: той же ночью, что устроили облаву на поляков, ворвались к миссис Хиксон, где на одну ночь остановилась Таня, схватили обеих и увели. В то же время арестовали Долли и Сережу. Долли умоляла, чтобы ей позволили хоть ее любимую псину Дэзи отвести к соседям. Отказали.
Мюллер, как только узнал об этом, поспешил в гестапо. Но помочь не смог, его самого заподозрили черт знает в чем, раз он состоял в связи с арестованной Каплан. Оказалось, что в полиции наилучшим образом осведомлены обо всем, что касается Долли, видно, за ней давно уже следили. И никто из ее влиятельных друзей не имел ни малейшего влияния на гестаповцев и ничем не мог помочь арестованной: ни адвокат Новицкас, ни преподобный Фульст, доверенное лицо в СД. Суд над Долли был короткий: подделка документов, связи с евреями, вопреки многочисленным предупреждениям, контакты с неблагонадежными элементами, врагами государства. Новицкас был в курсе всех деталей и рассказал все до мелочей: Долли отважно защищалась, стояла насмерть за миссис Хиксон и Сережу, так отчаянно сражалась, что, казалось, быть ей на свободе! А Сережу — того, наверняка, отправят к матери в гетто, тем и кончится.
Но спустя неделю Доллина подруга фрау Кон, бывшая имперская немка, вдова еврея, увидела, как у ворот тюрьмы останавливается автомобиль. Из тюрьмы вывели Долли, растрепанную, всклокоченную, в наручниках. Она пыталась о чем-то сообщить фрау Кон жестами, часовые не дали. Вдруг Долли крикнула: «Все! Кончено!» Ее запихали в машину и увезли. Следом увезли миссис Хиксон — так не дрогнула ни одним мускулом, ни одного признака возбуждения или волнения, корректна и сдержана, как всегда, — и Таню. Англичанку осудили как сообщницу и пособницу подсудимой Каплан. Евреи, работавшие в IX форте, стали свидетелями расстрела. Сережу тоже расстреляли. Для того же и мать с отчимом из гетто привезли. У отчима Оречкина по дороге в форт прихватило сердце — скончался от сердечного приступа прямо в машине. На нем немцы сэкономили пару пуль, зато уж от души оттянулись, когда палили в мать и сына.
Нашей пламенной, яркой, активной Долли не стало. Вся деятельность нашего маленького кружка была под угрозой, без Долли мы могли просто захиреть, энтузиазм наш гас на глазах. Давил страх, мерзкая тупая тоска: что если и с нами так же «разберутся»! Как они это умеют, мы теперь знали во всех подробностях. Нам тогда казалось, что не миновать нам той же участи, и мы надеялись только не дожить до расстрела — привел бы бог тихо и быстро скончаться накануне казни, как посчастливилось Оречкину.
Прошел январь, уже конец февраля. Доктора Виктора Куторгу выписали из больницы, а потом выпустили и из тюрьмы — повезло человеку: энергия его матери Елены сметала все препятствия.
В «селах»[89] пока все было тихо, спокойно, стабильно. Массовых казней пока больше не устраивали. Еврейская полиция в гетто чрезвычайно добросовестно следила за чистотой и гигиеной. Каждого узника раз в месяц обязательно гоняли в баню, санитарные службы старательно морили насекомых-паразитов, которых в гетто развелась тьма еще в первые месяцы. Полицейские ходили от дома к дому и проверяли жилища — все ли в порядке, везде ли чисто. В бригадах рабочие стали тоже выглядеть как-то аккуратнее, чище, хотя и беднее — пообносились, а переодеться не во что: что могли только, сняли с себя и сменяли на продукты. Иным удавались головокружительные аферы и спекуляции среди немецких солдат, так что порой там в гетто некоторые жили даже лучше, чем в городе, то есть питались лучше, чем мы по эту сторону колючей проволоки. В остальном же существование евреев по-прежнему было несравнимо более тягостным и убогим, нежели наше, потому что им приходилось жить под кнутом, терпеть вечные побои, унижения и оскорбления. Нам здесь, в городе, казалось, что такое вынести невозможно.
Улицы в гетто тоже стали все равно что вылизанные, до мерзости чистые, аж противно. Тошно становилось от этой стерильности! Вид вычищенных голых улиц за колючей проволокой наводил тоску, повергал в уныние. До часу дня в гетто запрещено было показываться из дома. Рабочих угоняли на строительство аэродрома, в мастерские, в город, остальным велено было носу из дома не казать, пока не пробьет положенное время. Узники по-прежнему жили в крохотных, убогих сырых, замшелых домишках. Окна, выходившие не во двор, а на улицу, забиты досками, заколочены, заперты на замок, так положено.
А по эту сторону колючей проволоки жизнь шла своим чередом, и прохожие старались не глядеть в сторону проклятого квартала, жители которого, отгороженные от всего мира, отданы были на растерзание озверевших садистов.
В гетто не было школы, строго-настрого запрещено было учить детей чему-либо вообще, но среди узников были учителя, педагоги, преподаватели, которые, возвращаясь домой после каторжного тяжелого рабочего дня, тайно собирали группы учеников и проводили занятия. Строгой, четко выстроенной программы, конечно, не было, и многими предметами вовсе пренебрегали, но евреи, вопреки немецким запретам, дух и разум свои держали в строгости и не позволяли себе духовно опуститься, деградировать: они продолжали говорить на идиш и учить детей и этому языку, и ивриту, европейским языкам, а также математике и музыке. Непостижимо, но именно они, которым всякий день смерть дышала в затылок, устраивали самые утонченные и виртуозные концерты, куда по какому-то гротескному стечению обстоятельств собирались высокопоставленные немецкие чиновники, откуда они уходили каждый раз в восхищении, в восторге, долго трясли музыкантам руку и сулили какие только возможно послабления, привилегии и перемену участи.
Эту программку концерта[90] мне прислала Леа Шайнберг, великолепная пианистка. Она, как и Лида, некогда училась у меня в немецкой гимназии, музыке обучалась в Швейцарии и Лондоне. Ее письма, возвышенные, тонкие, интеллигентные, впоследствии долгие годы связывали нас. Она много времени проработала на радиостанции «Радиофон» в Каунасе — среди литовцев и немцев не нашлось музыковедов в нужном количестве. Потом ее уволили, потому что евреев решено было бросить на самые тяжкие и грязные работы. Ее определили в бригаду на одну фабрику, где ей приходилось пахать как лошади. Время от времени мы встречались в городе, иногда зимой, под покровом темноты, она по вечерам пробиралась к нам.
Ее внешность мгновенно выдавала в ней еврейку, ни с кем не спутаешь: скорбный взгляд больших черных глаз, нижняя губа немного выпячивается вперед, волосы густые и черные, словно вороново крыло. Оттого ей особенно тяжело было бежать из гетто — ее негде было спрятать, не у кого поселить. Долго-долго мы при всякой встрече обсуждали, как ей быть, пока, наконец, не приготовили план побега.
С тех пор как Эдвина и Лиды не стало, нам было чудовищно одиноко, мы с Гретхен оказались как-то особняком, отдельно ото всех, даже к старым друзьям не знали как подступиться. Из Германии от родных приходили письма, полные любви, мы читали, но ничего не чувствовали, будто оглохли. И никто, вроде, из окружающих, друзей, знакомых, приятелей, не замышлял против нас зла, но казалось, будто весь мир отвернулся. В прежние времена мы тосковали по нашим годам радости, проведенным среди родных в Германии, теперь же мы страшились любых воспоминаний о былом счастье. «Вот бы снова были с нами!» — писали нам наши добрые, заботливые бабушки и тетушки, а мы могли ответить только: нет, ни за что, не надо! Любая встреча, всякая новая радость, даже самая малая, чреваты новыми утратами, новой болью, а нам больше не вынести, не пережить!
И все же нас трогало каждое новое письмо и маленькая посылка: аккуратный сверток — что только нашим удалось насобирать из-под полы, в обход карточек и официальных очередей. Так они старались отблагодарить нас за наши посылки: солидные порции сала и масла. После рождества от моей матери пришла упаковка с бельем и носовыми платками для Гретхен и для меня, флакон одеколона, как трогательное напоминание о минувшем, и еще — необыкновенно сердечное письмо. Мы едва не расплакались. Между нами и нашими родными пролегала почти что пропасть, и она росла с каждым днем, оттого они с каждым днем становились нам дороже и родней. Нам бы сюда нашу бабушку! Соскучились! Истосковались! Она собралась уже было к нам весной, но ей не дали разрешения на выезд, так она и не приехала.
В марте 43-го навестила нас одна дама, немка, на вид еще молодая, но уже совершенно седая. Привезла весточку от мамы, они недавно познакомились в Йене, где потом наша гостья навещала несколько раз нашу старушку. Мы, как всегда с незнакомыми немцами, и с этой женщиной были сдержанны и не пускались в откровения. Но она сразу показала себя как совершенно свой человек, и мы скоро уже прониклись к ней доверием. Мы обещали ей подыскать жилье в Каунасе и предложили поселиться у вдовы поэта Бинкиса (умер он совсем недавно).
Фрау Бинкис засомневалась, пускать ли в дом немку, у нее ведь пряталась двенадцатилетняя еврейская девочка. Ребенку выправили фальшивые документы и выдали за сестру зятя Бинкисов[91]. Кроме того с недавнего времени у вдовы жила и Марианне, которая уже успела поработать экономкой в нескольких семьях, но, несмотря на ее новые документы, хозяева боялись долго держать женщину в доме. Марианне не собиралась надолго задерживаться у фрау Бинкис, лишь перекантоваться пару недель, но ей пришлось прожить в этом доме семь месяцев.
Поначалу от новой постоялицы фройляйн Йоруш скрывали историю обеих евреек, но потом стали доверять ей настолько, что, ничего не опасаясь, посвятили ею в тайну. Новенькая тут же присоединилась к нашему заговору. Летом в город явился прежний владелец дома, где проживала теперь вдова Бинкис. Наглый репатриант, ни минуты не колеблясь, выставил женщину из квартиры со всеми жильцами. Тогда фройляйн Йоруш наняла новое жилье и забрала с собой Марианне под видом «подруги из Вильнюса». Сама же фрау Бинкис переселилась за город, в свою деревенскую усадьбу, и взяла с собой не только двенадцатилетнюю Валю, но и бабушку, ярко выраженную еврейку. И пусть соседи болтают, что им угодно, — никто не осмелится донести на вдову! Все семейство Бинкисов было едино в своем отвращении к нацистским зверствам. Племянница вдовы Туся Ликевич открыто помогала евреям, собирая их у себя в доме на окраине города.
Тогда и для литовцев настало лихое время. Немногие польстились на немецкие приманки и «добровольно» вступили в ряды вермахта, мало кого немцам удалось завлечь яркими агитплакатами на работу в рейх. По городу прошла волна облав и обысков, особенно в театрах и кино. Хватали, проверяли документы, у кого не было рабочего удостоверения, на скорую руку заталкивали в грузовик — и в Германию, на фабрику или на завод[92]. На сильных, боеспособных мужчин напяливали военную униформу и в качестве вспомогательной силы определяли в организацию Тодта или еще в какую-нибудь полувоенную-полустроительную компанию. Интеллигенция принялась было сопротивляться, протестовать — оккупанты закрыли университет (за исключением только медицинского и политехнического факультетов), консерваторию, упразднили старшие классы в гимназиях.
Политика захватчиков была очевидна — интеллигенцию, образованных интеллектуалов прижать к ногтю, чтобы стали ручными, карманными, своими. Зачем нужен литовец немцу? Литовец — рабочая тягловая сила, пусть возделывает почву, на которой зацветет пышным цветом германский нацистский режим, а руководящие должности — все немцам, и дело с концом. В немецких кругах, и публично, и приватно, ликовали — сердце каждого немца радовалось, что здесь любой из них — представитель господствующей касты, и отношение к нему должно быть соответствующее, и обхождение с ним — надлежащее, и сам держится как положено повелителю. Самолюбование и самообожание были так велики, что среди немцев очень быстро перестали придавать большое значение образованию, профессионализму, интеллектуальному развитию, так что «господа» моментально опустились и превратились всего лишь в тупых, бессмысленно жестоких, подлых надсмотрщиков и палачей своих униженных рабов. Каста повелителей разучилась думать и работать, теперь они умели только использовать завоеванные народы в качестве бесплатной рабочей скотины.
Немецким детям запрещено было общаться в школе с литовскими: мол, они нам, господам, не компания. Чиновникам и государственным служащим, по большей части репатриантам, которые раньше дружили и с литовцами, и с русскими, не рекомендовалось водить дружбу со старыми знакомыми.
Литовских интеллектуалов арестовывали одного за другим. В концлагерь отправили университетского профессора поэта Балиса Сруогу, генерального советника профессора Владаса Юргутиса и многих других. Профессора Гринюса выслали из города и велели поселиться в деревне. Из девяти генеральных советников-литовцев, что занимали должность в 1942-м и 1943-м, не уволили и не схватили шестерых. В 1944-м их осталось только трое — Кубилюнас, Германас и Паукштис.
Деревню по-прежнему, как колонисты, заполоняли немецкие переселенцы. Однажды я разговорилась с директором одной крупной литовской фабрики: как странно, смотрите — немцы отступают, а на Украине полным ходом идет колонизация, как же так? Он поглядел на меня тупо, ничего не понимая: как то есть «как же так?»? Да вы что, ведь это отступление — один из гениальных стратегических планов германского руководства! А его фабрика и дальше будет производить сельхозтехнику для оккупированных украинских земель, отданных на освоение немцам.
Среди немцев мало было дальновидных, которые заранее уже могли предчувствовать грядущую катастрофу. Большинство, и в первую очередь — руководство, продолжали играть роль неуязвимых победителей. Селились в новые дома и квартиры, делали дорогой ремонт, обставляли красивой элегантной мебелью. В немецких ресторанах, куда литовцев не пускали, вино и водка текли рекой. Офицеры самозабвенно предавались своему любимому развлечению: палили из пистолетов по зеркалам, вазам, картинам, стреляли, пока ни оставались одни только лоскутки и осколки, и при этом раз за разом поднимали тосты за здоровье фюрера.
Летом прибыла партия молодых девушек рейха, приехали для «службы на восточных территориях». Их распределили по разным государственным чиновничьим структурам, где они стали преподавать немецкий служащим. Среди них в Каунасе оказалась моя племянница Зузанне, дочка моего брата из Берлина. Последнее время девушка училась в университете во Фрайбурге[93]. Она рассказала, как живут и о чем думают немцы в Германии, и они, как оказалось, совсем не похожи на здешних немцев: там, откуда она приехала, в студенческой и профессорской среде на юго-западе страны, жгуче ненавидели этот режим и даже испытывали известное удовлетворение и злорадство во время затяжных тяжелых бомбежек — пусть бомбят, пусть сотрут этот мерзкий рейх с лица земли, и чем скорее, тем лучше! Зузанне тут же была посвящена в наш заговор и стала своей.
С племянницей вместе мы побывали даже у нашего «спеца»[94], специалиста по изготовлению фальшивых документов, поддельных паспортов, которые многим помогли спасти жизнь, — с таким паспортом любой еврей сошел бы за немца.
После смерти младшей дочки, после гибели Эдвина и самоубийства Лиды Воцелка не прикасался больше к скрипке и жил еще более замкнуто и скрытно, чем прежде. Его жена-еврейка с детьми прятались некоторое время у друзей, но потом музыкант забрал и ее, и детей обратно к себе.
Они так и жили в старом городе, в каморке, окна которой почти упирались в глухую кирпичную стену. Жилье было сырое, нездоровое, темное, но лучшего укрытия было не придумать[95]. Вход в квартиру нелегко было найти: сперва темная узкая лестница на заднем дворе, потом переход, коридор, комната вроде кухни, теперь — дровяной сарай, наконец, их дверь. Стучим — «Кто там?» Называем имя. Только тогда дверь отперли. Фрау Воцелка, белая как мел, с сыном сидела в тайной комнате. Человек, впервые оказавшийся в доме, ни за что не догадался бы, что кроме двух комнатушек здесь есть еще одна — потайная. Никому не пришло бы в голову, что дрова за кафельной печкой в бывшей кухне на самом деле не сложены в поленницу. За исключением верхнего слоя одним концом поленья приклеены к вертикальной доске — это маскировка, скрывающая секретное пространство, где может кто-то спрятаться. Сложнее всего было скрыть тайную комнату от младшего ребенка, ему незачем было знать родительские секреты. Посвятили в тайну только старшую дочь, худенькую брюнетку, чью внешность можно было назвать не столько еврейской, сколько вообще экзотической.
В той же потайной комнате стоял радиоприемник, и Воцелки, как и Наташа с подругами, жадно ловили иностранные радиостанции, только оттуда и черпали силы сопротивляться. У нас с Гретхен радио не было, мы часто ходили к друзьям послушать. Немецкие голоса русский радиостанции «Свободная Германия» казались нам такими родными, будто это кто-то близкий говорил с нами издалека, и мы всем сердцем хотели ответить им, откликнуться, чтобы и они нас услышали, нас, с нашими тревогами и надеждами.
Зузанна была особенно счастлива услышать эти голоса. Через два месяца она уехала домой с новой уверенностью в скорых переменах, убежденная в том, что ей и людям ее круга предстоит готовить почву для новой Германии.
Вместе с нами племянница побывала у Наташ, где пряталась Регина, а с недавних пор еще жила Габриэль, жена Регининого брата, бежавшая из вильнюсского гетто.
Габриэль пришлось уже осенью оставить своих хозяев в деревне и скрываться. Поляк-управляющий в усадьбе был арестован. Габриэль заподозрили как шпионку. Она вернулась в Каунас и решила уже было добровольно снова поселиться в вильнюсском гетто, где оставался ее муж.
Вильнюсское гетто весьма отличалось от каунасского. Наше состояло из маленьких, убогих деревянных домишек. Места в гетто было много, вокруг каждого дома разбит был огород или садик, который хозяева тщательно возделывали. В центре гетто располагалась широкая песчаная площадь, отчего пространство за колючей проволокой казалось еще более обширным. Весной и летом, когда зеленели сады, несмотря на тяжкие условия жизни и нищету, гетто выглядело порой даже вполне мирно. На площади иногда по вечерам заключенные играли в футбол, за матчем с интересом наблюдали даже часовые и не могли, как уже много раз, не подивиться физической силе, спортивной форме, ловкости и умению игроков-евреев.
В Вильнюсе гетто располагалось в центре города, в старой исторической его части. Территорию гетто окружала стена, а не просто колючая проволока, но, тем не менее, проникнуть туда или выйти наружу было легче, чем в Каунасе. Хотя большинство жителей гетто уничтожили еще в самом начале оккупации, по ту сторону стены было очень тесно, гораздо теснее, нежели в Каунасе. Условия жизни от этого в вильнюсском гетто были тяжелее. Но чем больше одолевала нищета и постоянный страх смерти, тем больше узники цеплялись за жизнь.
В течение одного года на территории, обнесенной стеной, наладилась и потекла своим чередом какая-то своя жизнь. Полиция ревностно сражалась за чистоту на улицах, во дворах и домах. В мастерских между тем создавались шедевры ремесла. Я сама видела удивительные, изысканные эскизы одежды и головных уборов из еврейских ателье. Такие штучные изделия шли бы нарасхват в любой метрополии моды. Вильнюсские немцы от души попользовались мастерством заключенных, чтобы украсить свой гардероб и дом. Однако не все доставалось «господам»: кое-что производилось специально для обмена на черном рынке, и благодаря своему ремесленному дарованию узники гетто проворачивали немыслимые торговые операции, приносившие не только пропитание, но и новые заказы и сырье для их выполнения, так что производство ни на минуту не останавливалось. Вильнюсские невольники лучше каунасских умели доставать продукты, и некоторые из них не знали нужды и могли себе позволить даже роскошно пожить. Таких, правда, было немного, в основном евреи были заняты на тяжелых работах и радовались любой корке хлеба после очередного дня каторжного труда. Весной и летом узники убрали горы мусора и нечистот и разбили в гетто несколько цветущих садов. Время от времени и у них давали концерты, читали доклады. Среди заключенных оказались самые известные вильнюсские оперные певицы.
Месяцев четырнадцать, с февраля 43-го по апрель 44-го, в вильнюсском гетто было относительное затишье. За это время расстреляли только двенадцать человек, среди них — известную замечательную певицу-сопрано Любу Левицкую.
Областной комиссар Мурер выдумал презабавное развлечение: на Рождество 42-го была объявлена акция «десять дней юдофобии». И город взорвался антиеврейскими лозунгами и плакатами, всякие контакты с евреями в течение этого времени особенно строго карались. Как раз в ту пору оголтелого скотства Мурер и поймал Левицкую, когда она пыталась выменять на необходимую домашнюю утварь два килограмма гороха. О «великолепном» муреровском садизме ходили легенды. Особенно, поговаривали, обожал издеваться над женщинами и девушками. Загонит, бывало, под стол и ну командовать: «Встать! Сидеть! Лежать!» — и так пока жертва не рухнет полумертвая. Любил лить женщинам за вырез платья воду и любовался, как струйки сбегают из-под платья по ногам, глаз оторвать не мог.
Левицкая пыталась бежать, но он приказал схватить женщину и отвести в гетто. Собрал евреев-полицейских и велел бить пленницу прямо здесь и сейчас, у всех на глазах. И чтобы «двадцать пять ударов»! Это было его обычным наказанием. Потом певицу бросили в тюрьму, где она провела несколько недель с девятнадцатью другими узниками, зная, что совет старейшин гетто изо всех сил пытается ей помочь, и оттого пребывая в уверенности, что скоро выйдет на свободу. Она пела своим подругам по несчастью, сочиняла песни, которыми отпразднует свое освобождение, пытаясь ободрить и поддержать окружающих. Но ведь немцы ничто так ненавидели в евреях, как их талант. В ночь с 27 на 28 января 43-го Любу расстреляли. Девятнадцать сокамерниц отпустили[96].
Больше повезло другим артистам из гетто — певице Майе Розенталь, великолепной пианистке и преподавателю музыки фрау Гершкович и композитору и дирижеру Дурмашкину. Его определили на особое место — назначили в городскую оперу аккомпаниатором. Кроме того он руководил еврейским хором — тоже человек девятнадцать — хор же иногда давал концерты и репетировал иудейские песнопения. Девятую симфонию Бетховена на слова оды Шиллера «К радости»[97] они исполняли на немецком. Поэта Переца строки Шиллера «И все люди будут братья» вдохновили на новую оду.
Официально, конечно, любые культурные учреждения и образовательные мероприятия среди узников гетто были запрещены. Между тем начальству прекрасно было известно, что за каменной стеной люди не желают превращаться в скотов и не дают, насколько это возможно, угаснуть ни духу, ни интеллекту, но немцы молчали и позволяли. Терпели, разумеется, не по доброте душевной. Евреям уже вынесен был окончательный смертный приговор, но до их полного уничтожения они еще пригодятся: их духовный и интеллектуальный потенциал следует до конца использовать на благо «господ». Поэтому в городе оставили несколько ненемецких школ — в одних преподавали на польском, в других — на идиш, в третьих — на иврите. В вильнюсской консерватории, где преподавание было на очень высоком уровне, учились самые разные студенты. Был и детский хор с чудесным репертуаром и совсем юным дирижером. Еврейские дети постарше ходили в город на работы, помладше оставались присматривать за хозяйством. По вечерам репетировала детская театральная студия в гетто. Артисты от десяти до шестнадцати лет самозабвенно и необыкновенно трогательно представляли композиции Переца, Шолома Алейхема и других еврейских авторов.
В гетто работал и взрослый театр, который немцы вызывали на все официальные приемы. В новогодний вечер 42-го давали замечательный дивертисмент, интереснейший изысканный спектакль. Художник оформил представление авторскими декорациями: вход в зал и на сцену представлял старый год — мрачный, тоскливый, к счастью, уходящий. Новый 1942 год, приближающийся, полный надежд, изображен был как большие светлые врата, из которых исходит свет.
Воля к жизни невольников и их добрые надежды на будущее были велики, и все их помыслы и ощущения сфокусировались на одном единственном вопросе: «Что грядет?» Из всех этих деятельных, жизнелюбивых, одаренных людей лишь немногие остались в живых к началу 1943-го, и уже совсем единицы пережили 1944-й.
Вильнюс славился своей известной библиотекой им. Страшуна, хранившей тысячи томов[98]. Немцы посадили туда трех высоколобых ученых евреев: пусть просмотрят все собрание книг и отберут наиболее ценные научные труды, которые потом отправятся во Франкфурт-на-Майне, в институт исследований еврейства[99]. Мудрый библиотекарь Кальманович считал, что надо в точности следовать требованиям немцев: ведь тогда удастся спасти хотя бы часть ценной коллекции, даже если оккупанты в конце концов совсем уничтожат гетто и его обитателей. Но молодые и горячие старика не слушали, стали прятать книги у себя в гетто, где они, совсем как предсказывал хранитель библиотеки, и сгинули — сгорели вместе с убогими домишками, когда немцы, отступая ликвидировали гетто.
Часть библиотеки превратили в абонемент — выдали книги на дом. Здесь хранились в основном тома из частных собраний, подаренных владельцами, — беллетристика, научная и специальная литература на иностранных языках. Можно было найти любого автора нового времени. Книги описали, составили каталог, который вели прилежно и строго, ведь библиотекой пользовался весь город. Любому за скромную плату выдавали нужную литературу. Если же абонент оказывался нерадивым читателем и возвращал книгу потрепанной, испорченной, у него просто изымали читательский билет. В тот день, когда один из библиотекарей выдал стотысячный том, устроили праздник.
Мир по эту сторону стены не знал порой, какой богатой духовной жизнью живут узники. Туда проникали лишь немногие. Среди них — Она Шимайте, уроженка Каунаса, перебравшаяся в Вильнюс. Ей удалось наладить постоянную связь с гетто, так что она, находясь снаружи, вместе с заключенными пережила все, что выпало на их долю. Часовые у ворот уже давно ее знали. Стоило появиться новому, незнакомому, она и его ловко умела подкупить, и он уже был своим. Она была известна всем и по эту сторону стены, и по ту, везде ее ждали, уважали, ценили как посредника. Она носила туда и обратно почту, передавала посылки и вести.
«Всегда удивлялась, что за исключительные люди — евреи, — написала она однажды в Каунас Наташе, — теперь же восхищение и уважение мое не знает границ». Она рассказывала, как в гетто устроили спортивный праздник. Одна учительница с учениками расчистили небольшое пространство, убрали мусор, разбили цветник и устроили детскую площадку. Там и проходили соревнования. Фрау Шимайте была и на праздновании стотысячной выданной в библиотеке книги, тогда ей посчастливилось увидеть то, до чего не допускали евреев, — в библиотеке хранился знаменитый макет города Вильнюса.
Как-то военные заказали скульпторам и художникам большой, в несколько метров длиной и шириной, объемный макет города во всех деталях, вплоть до мелочей, чтобы был пластически вылеплен каждый отдельный домик. Целая команда художников-евреев несколько лет трудилась над этим произведением искусства. Заказчики только диву давались, любуясь шедевром, и при этом старательно не допускали в ателье прочих евреев города, да и вообще — вход был открыт совсем не любому горожанину, лишь привилегированным разрешен был доступ, среди них оказалась и Она Шимайте.
Посреди гетто стоял газетный киоск, где можно было купить ежедневную газету и еженедельный журнал. Немцы ничего об этом киоске не знали, хотя туда заглядывал всякий житель гетто. Но стоило подойти немцу, стеллаж с печатной продукцией закрывали листом фанеры, так что ничто и не намекало на торговлю.
В Вильнюсе, как и в Каунасе, немало нашлось немецких солдат, которые даже дружили с евреями и помогали им, как могли, выжить, позволяя им то, что было запрещено начальством. Даже прятали и выгораживали перед гестаповцами.
По городу, среди предпринимателей распространили своеобразное напоминание. Этот документ дает возможность в деталях представить существование невольников в гетто[100].
Конфиденциально!
Специально для работодателей города!
Напоминание и предписания касательно приема на работу сотрудников-евреев.
1. Гетто находится под юрисдикцией областного комиссара города Вильнюса. Он единственный наделен полномочиями и несет ответственность по любым вопросам и распоряжениям, связанным с гетто.
2. Любые вопросы, связанные с еврейским населением, решаются через социальную службу в областном комиссариате. В этой связи по вопросам трудоустройства еврейских рабочих кадров предписывается обращаться в ведомство областного комиссара. Самовольное принятие на работу сотрудников-евреев не допускается.
3. Распределение еврейских трудовых кадров в социальной службе областного комиссариата происходит согласно правилам и предписаниям, отныне вступающим в силу. Социальная служба при ведомстве областного комиссара не обязана предоставлять рабочие места евреям по их просьбе.
4. Служащие вермахта, желающие принять на работу евреев, должны руководствоваться предписаниями главнокомандующего силами вермахта на восточных территориях от 20.09.1941. Среди прочего в предписаниях сказано: «Всякое сотрудничество вермахта с еврейским населением, которое явно или тайно неизменно настроено враждебно по отношению к немцам, а также использование еврейской рабочей силы для тех или иных необходимых вспомогательных работ не допустимы». Военные ведомства ни в коем случае не должны выдавать евреям никаких удостоверений и прочих документов, подтверждающих возможность использования еврейской рабочей силы в целях вермахта. Исключением является лишь использование еврейской рабочей силы в случае, если рабочие-евреи специально выстроены в колонны и работают строго под наблюдением немецкого руководства.
5. В случае, если социальная служба сочтет целесообразным определение на ту или иную работу еврейских кадров, во время транспортировки из гетто и обратно рабочих должен сопровождать конвой, а также во время самих работ рабочие должны находиться под наблюдением часовых.
6. Определение на работу еврейских кадров возможно только после того, как с заявкой на работу обратилось не менее 10 евреев. Определять евреев на работу поодиночке воспрещается. Исключение возможно лишь для евреев-специалистов, замену которым не удалось найти среди местных жителей.
7. Бригады рабочих-евреев должны перемещаться от места проживания к месту работ строго под наблюдением работодателя и бригадира. В течение рабочего дня, как и во время обеденного перерыва, рабочим-евреям запрещается покидать место работы или помещение мастерской. Евреи, появляющиеся на улице поодиночке и без разрешения областного комиссара, будут наказаны.
8. Рабочий день рабочих евреев продолжается до 15 часов, это полный рабочий день. Между 6.00 и 9.00 рабочие покидают гетто и до наступления темноты, в любом случае не позже 20.00 возвращаются обратно.
9. Работодатель обязан следить за тем, чтобы рабочие-евреи во время рабочего дня не занимались обменом или торговлей. Работодатель обязан пресекать любые попытки рабочих купить и отнести в гетто продовольственные продукты, дрова и т. д. Рабочим строго воспрещается брать с собой с места работы предметы первой необходимости, особенно производственный инвентарь.
10. Принятые на работы евреи имеют право:
A) на заработную плату: мужчины, достигшие 16 лет, — от 12 рейхсмарок, женщины, достигшие 16 лет — от 12 рейхсмарок, дети — 10 рейхсмарок за один час работы. Частные гражданские предприятия, тресты, товарищества и проч., за исключением немецких предприятий и городского магистрата, кроме заработной платы сотрудникам-евреям, обязаны в том же размере выплачивать взнос в кассу областного комиссара в Вильнюсе;
B) на дополнительное медицинское обслуживание и питание в целях поддержания работоспособности. В этой связи работодатель обязан раз в день предоставлять сотрудникам-евреям горячее питание в обеденный перерыв в размере до 30 рейхсмарок. Работодатель может вычесть эту сумму из зарплаты сотрудников.
11. Еврей — наш злейший враг и единственный виновник войны. Между одними евреями и другими нет никакой разницы, они все одинаковые. Любое привлечение к работам есть привлечение принудительное, а потому любые сношения с евреями вне рабочего времени и места, как и вообще любые личные отношения с евреями, запрещены и наказуемы. С тем, кто лично общается с евреями, обращаться следует также, как и с самими евреями. Данные распоряжения относительно обращения с евреями, запреты и наказания в случае их нарушения касаются в равной степени и рейхснемцев, и местных жителей.
12. Работодатели и предприятия, нарушившие данные предписания, будут привлечены к ответственности и в дальнейшем привлечение еврейских сотрудников для них исключено.
Областной комиссар Города Вильнюса Уполномоченный Г-н Мурер Вильнюс 7 апреля 1942 годаВ мае до нас дошли вести о ликвидации варшавского гетто[101]. Узники варшавского гетто не позволили увести себя как стадо овец на бойню, они сопротивлялись, долго держали оборону, запершись в своих домах. Несколько недель их поддерживали поляки, несколько недель обреченные люди оборонялись, хотя исход противостояния был предрешен. Конец гетто в Варшаве был трагичен, страшен. И здесь, у нас в Каунасе с тревогой заговорили: как-то оно будет с нашим гетто? В бригадах только о том и беспокоились. И уже стали то тут, то там появляться зловещие предзнаменования. В провинции ликвидировали последние малые гетто, узников отправили кого — в каунасское, кого — в вильнюсское.
Из Вильнюса в воскресенье 4 апреля выехал эшелон с набитыми до отказа, запломбированными вагонами — 5000 невольников, в основном из провинции, человек 300 из вильнюсского гетто. Поезд остановился в предместье Панеряй, один за другим стали открывать вагоны, заключенных отводили в лес к заранее выкопанным рвам и по заведенному уже порядку всех расстреливали и закапывали.
Запертые в дальних вагонах, до которых очередь еще не дошла, услышали выстрелы и догадались: конец. Поднялась паника. В отчаянии они пытались выломать стенки вагона. Когда же двери открыли, узники кинулись врассыпную, по ним открыли огонь и всех почти застрелили, человекам семидесяти, говорят, удалось скрыться. Бойня длилась всю ночь.
Наутро пассажиры поезда на Каунас увидели лес, усеянный трупами, и сразу поняли, что здесь произошло. Среди проезжающих оказалась жена совета старейшин вильнюсского гетто Генса, литовка, которой вместе с дочерью позволено было жить в городе, а не за колючей проволокой, при этом она постоянно поддерживала связь с мужем. От нее-то мы в Каунасе и узнали об этом злодействе, а спустя несколько дней всплыли и подробности[102].
Бойня на железной дороге в лесу проходила не по предписанному порядку: гестаповцам самим пришлось стаскивать трупы в ямы, так приказано было всем без исключения, уклоняться не позволили никому. Говорят, тела убитых были странным образом изуродованы, искалечены, словно стреляли разрывными пулями. Двадцать пять полицейских-евреев под надзором офицеров из СС перебирали вещи, оставшиеся от расстрелянных, все мало-мальски ценное отвезли в штаб гестапо, никчемную же дрянь отправили в гетто.
Эта кровавая расправа была только началом длинной череды таких же. Сразу же пошли на спад тайные мятежные настроения среди евреев в гетто, страх за свою жизнь душил любые возвышенные попытки сопротивляться, поднять восстание, не повиноваться. Но тогда с удвоенной силой заработала изобретательность узников, и то, что раньше было лишь побочным занятием, так время от времени, теперь приняло форму планомерной, целеустремленной, отчаянной борьбы за выживание.
И вскоре в глубоких старых подвалах и подполах гетто возник целый подземный город. Он появился тайно, в строгом секрете, даже ближайшие соседи скрывали друг от друга, что строят убежище под землей. Эти бункеры среди заключенных гетто стали называть «малиной». На строительстве «малины» трудилась вся семья, все, кто впоследствии собирался пользоваться убежищем. Однако эта работа доставляла лишь удовольствие, особенно заключительная ее стадия, когда выстроенный бункер вычищали, мыли, укрепляли и оборудовали для многодневного пребывания. Вести из Варшавы дали понять узникам, что обычные подвальные убежища не спасают, тогда появились в гетто столь изощренные подземные постройки, что непосвященному практически не было никакой возможности распознать подземное помещение под старым кривым домиком.
Часовым в гетто порой приходилось разыскивать людей, только что на их глазах буквально провалившихся под землю. И найти пропавших так и не получалось, ищи хоть с собаками. В одном из домов ищейки обнаружили люк в подземелье, спустились — обнаружили чистенький подвал, совершенно пустой. Полицейские выбрались наверх в недоумении, не подозревая, что старенькая печка в углу подвала скрывает от посторонних глаз едва ли не царские покои: если открыть печку, узенькая лестничка и низенький коридор выведут в просторное сводчатое помещение, где стоят уютные кровати, удобная мебель, куда проведено электричество, водопровод, вентиляция, канализация, где запасов колбасы, консервов, сухого молока, лука и сухарей хватило бы на месяцы, где припасена солидная аптека, в первую очередь — витамины на всю семью.
Иные рыли подземные ходы, выводившие в дома по ту сторону колючей проволоки, чтобы в случае опасности можно было и вовсе бежать из гетто на свободу. Что за опасность грозит узникам, никто еще не знал, но чуяли, что ждать ее осталось недолго, и, собрав все силы, готовились к встрече.
Габриэль через Ону сообщила Наташам о расправе в Панеряе. Павлаше директор театра Купстас[103] выправил разрешение отправиться в Вильнюс и забрать Габриэль из гетто. Поскольку внешность у Габриэль совсем была не еврейская, они в Павлом открыто ехали в Каунас в поезде вместе с другими, и никто их ни в чем не заподозрил. Она подумывала снова поискать работу, а пока поселилась вместе с Региной в доме у Наташ, где обе в задней комнате помогали хозяйке шить, и как только кто заходил в дом, пусть даже просто заказчики, замирали и сидели тихо-тихо, как мышки.
О нелегальных жильцах не знали ничего даже сестры Наташи, которых от Регины и Габриэль отделяла всего лишь тонкая перегородка. По вечерам обе выходили иногда украдкой из дома, заходили к нам с Гретхен или к фрау Бинкис. Заходили, чтобы рассказать новости: в доме двух Наташ слушали радио на запрещенных частотах — из СССР и Англии. Когда же, наконец, когда это все кончится? И каков он будет — этот конец?
Этот тоскливый вопрос задавали всякому, кто приходил из города в еврейские бригады. Моя Реляйн по-прежнему трудилась в бригаде «Башмак», и порой, если часовые не глядели в нашу сторону, она выводила меня в свой садик посмотреть на ее цветы и овощи. Она так всякий раз радовалась, ликовала по-детски, любуясь на плоды трудов своих, как будто она выращивала их не для кухни «башмачников»[104], а для собственной семьи.
В городском садоводстве этим летом три раза в неделю работала особая бригада, и я часто заходила к ним проведать знакомых. Там работала Ада, двоюродная сестра покойной Лиды Гайст. Женщина загорела на солнце, и на темном лице сверкали глаза и, когда она улыбалась, блестели белые ровные зубы. Если не случалось поблизости часового, она ненадолго уходила поговорить со мной на скамейку в беседке, увитой диким виноградом и душистой жимолостью.
Я познакомилась с ней, когда зимой передавала в гетто известие о Лидиной кончине. С той поры мы с Адой виделись часто и относились друг к другу с той искренней теплотой, какая возникает между людьми, которые познакомились и сблизились при столь особенных и столь тягостных обстоятельствах, между людьми, каждому из которых близко и понятно горе другого, потому что и сам он пережил то же, потому что беда у них общая. Сын Ады учился у меня в немецкой гимназии. Когда началась война, мальчик был в Англии, и мать радовалась, что он там — в сохранности, и надеялась увидеть его снова после войны.
Пока разговаривали, мы постоянно были настороже: нет ли поблизости часового или садовника, служащего в садоводстве. Последние, кстати говоря, были люди мирные и добрые, антисемитизма не признавали, неприязни своей к немцам не скрывали и посетителей к евреям-работникам пускали без ограничений.
В садоводческой бригаде трудилась также и певица фрау Гедан. Вид у нее был, к сожалению, жалкий, даже ее красивое лицо, с классическими тонкими чертами, с восхитительными светло-серыми глазами, посерело, осунулось, как будто съежилось от горя. Одета она была плохо, работа в саду ей была тяжела. Однако, поразительно, что храбрые, отважные женщины с этой мерзкой желтой звездой на одежде принимали свою участь осознанно, терпеливо, стойко, мужественно. Им бы вот так обрабатывать родную почву на святой земле, в Палестине, ведь они не страшатся никакого труда, они вынесут что угодно, и даже с благодарностью, лишь бы дали им жить, только бы не убивали.
Я всякий раз жалела, что нет у меня под рукой фотоаппарата, глядя, как женщины дружно выпалывают грядки и сажают капусту. Эти даже грядки полют с достоинством, с природным изяществом, даже как-то грациозно, таких женщин ничем не унизить. Даже эти менялы, эти торговки, что лезут ко всякому со своими мелкими гешефтами, даже они не раздражают, не противны и не отвратительны. Такие скорее просто комичны, нежели несимпатичны.
Навещая работниц в садоводстве, я всякий раз исправно приносила с собой нарезанные бутерброды, и женщины могли хоть позавтракать прямо среди грядок. Как-то раз Ада положила мне в корзинку две ветки с розового куста, и тут вдруг беда — часовые с проверкой! Мы только что беззаботно болтали — а они уже перед нами! Мы замерли от ужаса. Женщины похватали наскоро свои тяпки и кинулись окучивать свеклу, а мне спрятаться было уже некуда. Кто такая? Что здесь надо? С евреями гешефты водите? Смотрят в мою корзину, а я делаю невинное лицо, словно Святая Елизавета Вартбургская: я только цветы для моего палисадника купить хочу, вот ищу садовника. Они, как всегда, удивились моему чистому немецкому, пробормотали что-то про «жидовскую мразь» и ушли.
Бригадир еврейских работников попросил меня не приходить больше так часто: и среди евреев есть стукачи, а меня здесь уже слишком хорошо знают. С тех пор я больше почти не заходила на территорию садоводства, только подходила снаружи к ограде. Мы с Адой встречались в условленном месте, где было мало прохожих, где можно было более или менее безопасно разговаривать через решетку.
Однажды я пришла и нашла сад пустым. Из деревянного барака, оборудованного под кухню, не долетало ни звука, ни запаха. Дверь кухни — на замке. В чем дело? Может, просто перенесли на другое время рабочие дни бригады? Но один из садовников сообщил, что в рабочей силе из гетто просто не было больше надобности. И свидания у решетки прекратились. Но и бригада «Башмак» больше не появлялась в городе. Внезапно оборвались всякие связи. Что теперь происходит в гетто? Ох, не к добру все это, не к добру.
В городе тоже стало тревожно: что ни день, уходили в Германию эшелоны с литовцами — на принудительные работы на фабрики и заводы. Что ни день — облавы на улицах. Гретхен моя боялась ходить на работу — ведь могут схватить по дороге, а у нее вообще нет никакого паспорта! Ученики мои частью перестали ходить ко мне — их семьи уехали из города в деревню. Трое студентов, что снимали у меня комнату, внезапно пропали. Никто не желал подчиняться немецким приказам.
Никакого значительного наступления вермахта на фронте летом не случилось: энтузиазм немцев понемногу шли на спад. Но чем ленивее протекало существование оккупантов, тем активнее и жестче боролись в тылу и в подполье.
Из продуктовых карточек регулярно выдавали теперь только хлебные. Ни мяса, ни сала, ни жира не было месяцами. В мясных лавках найти можно было разве что конину или низкопробную говядину, все сколько-нибудь стоящее продавалось в немецких магазинах. Молоко для детей теперь тоже появлялось лишь время от времени. Свободную торговлю продуктами питания, как и прежде, держали под запретом. На черном рынке одна облава следовала за другой, гребли всех подряд — и продавцов, и покупателей, и всех — в грузовик и в полицию. У кого не доставало нужных документов — в рейх, на работы. Но на другой же день рынок снова был полон, на месте одного арестованного спекулянта тут же появлялись два новых. Масло и сало, чья официальная цена была 2.20 рейхсмарок за килограмм, здесь шли за 50, 60, а то и вовсе 70 марок за то же количество. На прочие продукты цены были соответствующие.
Я каждый день давала по пять уроков, но заработка не хватало на самое необходимое. Мы стали продавать, что еще осталось: одежду, столовые приборы, постельное белье. То и дело приходилось сбывать ценные вещи за бесценок, а иногда наоборот — самые незначительные побрякушки, дешевенькую бижутерию, краску для волос удавалось обменять на сало и муку. Случалось, что нам всего хватало даже с излишком, и тогда мы слали продуктовые посылки голодающей родне в Германию. А потом снова наступали голодные дни: кофе с сухарями и каша на обед. И оголодавшим литовцам только и оставалось, что кидать завистливые взгляды на немцев, тащивших из магазина сумки, набитые белым хлебом, колбасой и консервами.
Эмми, которую определили теперь на работу в организацию Тодта, сумела раздобыть, уж бог знает как, немецкую продуктовую карточку. После освобождения своего из тюрьмы она редко у нас бывала: я обиделась, было заявлено нам с Гретхен. И я знала почему: я не одобряла ее связей с новыми ее друзьями. Бедная Эмми не выносила одиночества, и от безысходности повисла на шее у этого увальня — начальника пресс-службы СС Адольфа Гедамке, женатого отца семейства. Семейство, понятное дело, осталось в Германии. Эмми цеплялась за этого избалованного рыхлого слизняка, сама же между тем презирала его и звала насквозь изолгавшимся эгоистом.
Прежде ей приходилось жить двойной жизнью, теперь же она вела и вовсе тройную. На службе — самостоятельная литовка, эдакая независимая фройляйн Вагнер, первоклассная переводчица и стенографистка, восседающая за пишущей машинкой. Последнее время она стала красить губы в оранжевый цвет, толстым слоем помады, что чудовищно контрастировало с ее милым, простеньким личиком. Дома — примерная жена своего мужа, оберегающая свою семью, имущество мужа и свекра со свекровью. Комната ее полна была мешков с овощами, банок с медом, коробок с табаком — все для мужа в гетто. Она договаривалась с людьми, которые брали на себя посредничество между мужем и женой, и передавали все эти запасы ему и его старикам. А однажды она попросила меня зайти к ней: в гетто скончался ее свекор, ей необходимо было выплакаться у кого-нибудь на плече.
Кроме этой мрачной квартиры в старом городе, где Эмми занимала лишь одну единственную, страшно неудобную комнату с окном в темный, узенький, серый переулок, где в соседних комнатах жили сплошь чужие люди, была и еще одна комната — просторная, светлая, на склоне горы, в большом саду. Здесь фройляйн Вагнер жила с Гедамке. Проводя время с этим эсэсовцем, Эмми носила красивые платья, делала красивые прически и выглядела беззаботной, благополучной подружкой удачливого офицера. Ухажер не знал, что Эмми почти всякий день видится с мужем и ради него от всего готова отказаться.
Ее муж уже долгое время работал на фабрике в городе. Немцы-часовые были подкуплены и всегда пускали ее внутрь, она носила продукты мужу, а заодно и тем, кто работал вместе с ним. Лифшиц заметил, что с женой последнее время что-то не в порядке, и попросил одного врача из гетто, который выходил в город с одной из бригад, осмотреть Эмми. На проходной фабрики врач осмотрел женщину и рекомендовал лечь в больницу. В немецкой больнице она больше двух суток не вынесла.
В августе после долгого перерыва она снова пришла ко мне, бледная, высохшая, измученная, глаза безумные. Она сделала рентген — опухоль в мозгу. Нужна срочная операция, иначе не спасти. Эмми собиралась в Дорпат — к одному известному специалисту, но сначала хотела переписать на мое имя их загородный домик, чтобы в случае ее смерти я передала имущество ее мужу.
Вид ее сперва напугал меня, но потом, когда она курила на балконе, я узнала прежнюю Эмми. Зашла фройляйн Йоруш, Эмми разговорилась с ней о кино и театре, щеки у ней порозовели, она оживилась и ушла, обещав снова вернуться через два дня.
Но через два дня она не появилась, я пошла ее искать, зашла к ней на старую квартиру, позвонила — мне не открыли. Я к ней в контору: говорят, она в отпуске. В конце концов я отправилась в тот дом в саду: через террасу вошла на балкон, в комнату — она лежит на кровати, белая, как полотно, еле живая. Гедамке не было — уехал в командировку в Германию.
Через свою контору она выправила себе разрешение на поездку в Эстонию, но сначала непременно хотела видеть мужа, собрала все силы, оделась с моей помощью и, опираясь на мою руку, побрела в гетто.
Я видела издали, как муж кинулся к ней из проходной фабрики и увел внутрь. Целый час ждала я Эмми на улице, наконец она вышла. Муж поддерживал ее под руку и вел по улице ко мне навстречу, будто забыл, что людям со звездами на одежде запрещено появляться в городе. Еще один взгляд, еще одно рукопожатие, последний раз обнять друг друга — никак не могли оторваться друг от друга. Потом все-таки распрощались. Мы с Эмми пошли обратно, тихо, медленно. Она тяжело опиралась на мою руку, и время от времени нам приходилось отдыхать на лестнице в каком-нибудь подъезде. Мне казалось, она не дойдет, помрет по дороге. К счастью, нам повстречалась фройляйн Йоруш. Втроем мы слава богу дошли до дома.
Как Эмми перенесет одна поездку в Эстонию и обратно? Мы нашли ей сопровождение — одна знакомая дама согласилась. Но до их отъезда я пришла с Эмминым рентгеновским снимком еще к двум специалистам-литовцам: что скажете? Ответ был неопределенный, что у одного, что у другого. Ни одни не решился бы такую опухоль оперировать. А в немецкой больнице, где Эмми поставили диагноз, мне сообщили, что пациентка сбежала из госпиталя еще до окончания обследования.
Мы подготовили все, что нужно, к поездке. Эмми между тем не могла подняться с кровати, лежала, тяжело дыша, становилась все бледнее, слабее, худела, таяла на глазах. Светлые волосы подобно нимбу обрамляли восковое лицо. Ну, куда ей ехать, она же еле жива! Но Эмми, собрав волю в кулак, настояла на своем: надо, надо ехать, надо выздороветь, иначе муж пропадет без нее. Она дала мне тысячу указаний: что понадобится ее мужу, пока она будет в отъезде, что ему принести, что ему сказать. На ночь я осталась у нее, потом еще на день. На вторую ночь я сидела рядом с ее кроватью и слушала ее хриплое сбивчивое дыхание. Эмми захлебывалась, ловила воздух ртом, и каждый короткий мучительный вдох казался последним. Но утром она посвежела, оживилась, выпила молока, заговорила снова о муже. О Гедамке — так, лишь пару слов впроброс.
Эмми отдала мне ключ от квартиры, попросила обязательно забрать ее пишущую машинку и многотомный словарь Брокгауза, еще кое-какие вещи, иначе Гедамке загребет все себе.
Мы наняли дрожки на вокзал. Там нас уже ждала симпатичная спутница. Эмми, лежа на подушках в купе, попрощалась со мной через стекло, и личико ее снова просветлело и стало знакомым, милым. Я подумала тогда: болеют же люди и еще тяжелее, еще безысходнее, а вот выздоравливают, повезет и Эмми.
Спустя две недели спутница нашей больной вернулась в Каунас одна. В клинике того известного хирурга опухоль у Эмми в мозгу, кажется, рассосалась под действием лучей рентгена, но зато обострилось воспаление почек, так что на выздоровление надежды почти уже не осталось. Больную не стали держать в переполненной частной клинике и перевели в полевой госпиталь, где она и скончалась через несколько дней. Похоронили женщину на солдатском кладбище близ госпиталя.
Через несколько дней после отъезда Эмми в Эстонию из своей якобы командировки явился Гедамке, бросил пару сентиментальных пошлостей по поводу бедной больной и тут же принялся самозабвенно выторговывать у меня ее вещи: ему, видите ли, машинка позарез нужна, а покойница ничего бы против не имела, если б он машинку забрал себе. Я в ту пору все еще надеялась на ее возвращение, но сопротивляться напористому нахальному эсэсовце сил не было — машинку он забрал. Потом — известие о смерти Эмми, и он снова — тут как тут: зачем это она мне ключ от квартиры оставила? На что мне быть в курсе всех ее дел? Зачем я забрала себе столько ее вещей? Кто тут единственный наследник? Он тут единственный наследник! Отдай ему все, что осталось, а не то!.. О, у него было весьма действенное средство добиться от меня, чего ему было нужно: донесу, говорит, что тут кое-кто с евреями якшается.
Перед такой низостью и подобными угрозами я была бессильна. За меня вступилась было отважная фройляйн Йоруш, да и у нее ничего не вышло. Этот хапуга сгреб Эммино имущество, забрал и Брокгауз. Даже покушался на одежду Лифшицов, запертых в гетто — пришлось воевать с ним за каждую тряпку. К счастью, вскоре после того его перевели на службу в Минск, и я никогда его больше не видела.
К Лифшицам в гетто я ходила каждый день, пока Эмми была в отъезде. Всякий раз в глазах его маячил молчаливый вопрос: как она там? Что с ней? Вернется ли? Пока, наконец, я не принесла ему последнюю весть — о ее смерти. Я и после этого часто навещала их — Эмми просила. Когда я намекнула Лифшицу, что надо бы отвоевать кое у кого их имущество, вдовец отказался: он знал, оказывается, о связи покойной жены с Гедамке, но добрые воспоминания об Эмми были настолько ему дороги, что эта мелкая интрижка никоим образом не могла им повредить. Бог с ними, с вещами, пропади они пропадом, не жалко. Что в них теперь проку — ее больше нет.
Вскоре на фабрике, где трудилась его бригада, запретили использовать евреев в качестве рабочей силы. Еще несколько раз я пересылала ему на адрес старой их квартиры кое-что из вещей и продуктов через одного полицейского-литовца. В октябре 1943-го его вместе с матерью и еще 3100 несчастных услали в Эстонию, там они и сгинули[105].
Пару раз объявлялись еще их прежние горничные и домохозяйки, один раз заявила свои права на наследство тетушка Эмми из Рейха — от ее слащавого гаденького письмишка меня просто затошнило: добренькая старушка надеялась, что вскоре справедливый боженька и миленький Гитлер «разберутся» и всем сделают, наконец, хорошо. Я отослала ей коробку с вещами, что еще у меня оставались, и вздохнула с облегчением: ненавижу семейные скандалы и дрязги вокруг наследства! Что до нас с Гретхен, то мы в очередной раз лишились еще одного из близких и милых нашему сердцу людей. Еще одним другом стало меньше.
В конце лета все меньше бригад появлялось в городе, их распускали одну за другой. На работу ходили теперь лишь отдельные служащие-евреи. Ничего не менялось лишь в прачечной-химчистке «Приколь» в самом центре города, и те, кто работал там, служили связными между городом и гетто. Время было тревожное. Мы слышали, что под Вилиямполе строят «малины», но кто знает: случись беда, надежное ли это укрытие? И мы искали и обустраивали для узников гетто убежища в городе.
Евреи и сами побаивались уходить из гетто: ведь с самого конца 1941-го и вплоть до последних депортаций в Эстонию жили они за колючей проволокой хоть и в убожестве, но все же в относительном спокойствии. А в городе на каждом шагу — смертельная опасность, и не только для них, но и для тех, кто решится им помочь, спрятать их, приютить. Рисковать ни своей, ни чужой жизнью невольники гетто не дерзали.
В сентябре по городу поползли новые слухи из Вильнюса: глава совета старейшин вильнюсского гетто Генс, чей солидный импозантный вид вызывал уважение даже среди нацистов, позволяя ему добиться для узников некоторых благ, непредусмотренных уставом, арестован 14 сентября гестаповцами и расстрелян. Так началась полная ликвидация гетто в Вильнюсе. Гибель Генса повергла невольников в панику и отчаяние.
Тогда узники стали убегать в леса, там примыкали к партизанским отрядам, и эти грозные лесные войска постоянно портили кровь немцам. Другие прятались в подвалах в старом городе, где их за приличное вознаграждение, а иногда и просто из сострадания поддерживали поляки. Один ремесленник уже после освобождения рассказывал мне, как один немец, старший лейтенант Нимейер из Берлина спас ему жизнь, выдав еврея за поляка и устроив на работу при себе. К несчастью, именно этот добросердечный человек попал в руки лесных партизан и был убит.
Среди немецкого офицерства немало было тех, кому претила пропаганда оголтелого антисемитизма. Майор Клаге тайно предупредил евреев о готовящейся ликвидации гетто, которая состоялась 20 сентября. Гетто стерли с лица земли, уничтожили слабых, нетрудоспособных — детей и стариков. Моя подруга Аронхаус, смелая, благородная женщина, отказалась расстаться со своим престарелым отцом и вместе с ним пошла на смерть. Тех, кто еще мог пригодиться, согнали в отдельный лагерь. Из них не стали больше формировать общины или группы, подчиняющейся комиссару гетто, их просто раздали разным хозяевам, как рабов. Многих отправили обслуживать военную технику и армейские грузовики, в организацию Тодта, в армейские мастерские или в провинцию добывать торф, строить дороги, прокладывать железнодорожные пути.
В это время гетто в Каунасе из-под юрисдикции городского комиссара перешло в ведомство СС и превратилось в концентрационный лагерь. Всякая культурная жизнь за колючей проволокой прекратилась. Дома пронумеровали и разбили на 330 блоков. В каждом доме пересчитали всех жильцов, если кого не досчитались — виноваты были все остальные. Половину узников разместили на аэродроме, вторую — в предместье Шанцы. Всем велели раздеться и погнали на дезинфекцию, в это время выпотрошили дома, вынесли, что только можно было. Потом выдали невольникам лагерную форму. Хотели было всех наголо побрить, но не стали. Прислали из рейха человек десять «не-евреев», уголовников, и назначили их в лагерь надсмотрщиками.
По еврейскому вопросу главным был некоторое время Геке, потом появился еще и Бруно Киттель — тот, что ранее возглавил ликвидацию вильнюсского и варшавского гетто, редкостная скотина.
В октябре Гёке потребовал от совета старейшин список невольников для депортации в Эстонию. Старейшины отобрали слабых и убогих, эсэсовцы вламывались в дома и хватали всех подряд — списки проклятых пополнились. От тех, кого увезли в Эстонию, не было никаких вестей. Лишь после освобождения один из немногих уцелевших, Анолик, высланный из Вильнюса в Эстонию 22 сентября, рассказал о том, что ему и остальным довелось пережить.
22 сентября 43-го те, кто уже не мог много работать, попали из Вильнюса в пресловутый Майданек, концлагерь близ Люблина, всего — тысячи две-три человек. Около тысячи отправили в Клоогу, километров сорок от Таллина. В Эстонии было около двадцати пяти лагерей. Свозили евреев со всей Европы. Комендантом над всеми лагерями назначен был хауптштурмфюрер Бреннайс.
Анолик почти год провел в разных лагерях. Трудно передать, какой кошмар там творился: все, что только может выдумать сам сатана, все пришлось вынести узникам, все выстрадать. Они больше были не люди — только номера. Анолик стал 818, и это число, как он мне потом рассказывал, оказывается, в иудейской традиции считается счастливым.
Работали каждый день по шестнадцать часов. За малейшую провинность — наказания, да такие, которые мог изобрести только самый больной мозг. Самым мягким наказанием было оставить заключенного без ужина — их и так почти не кормили. Воспаленное воображение садистов изыскивало все новые способы поизмываться над беззащитными пленниками. Раздетых узников в лютый мороз привязывали к дереву на дворе и, стоя вокруг и укутавшись в меха, наблюдали, как постепенно коченеет тело замерзающего живьем человека. Точно так же, спокойно и с любопытством, глядели, как по телу жертвы медленно расползается смертельная доза эвипана, впрыснутая в вену.
Заключенных хлестали ремнями из бычьей кожи, усеянными стальными шипами. Жертву кидали на лавку, товарищам по несчастью приказывали держать наказуемого за руки и за ноги — и двадцать пять ударов минимальная порция. Некоторые могли выдержать и семьдесят пять, но живыми после такого с лавки уже не вставали.
Близ бараков располагалась баня и дезинфекционная. Мужчины и женщины мылись вместе, и в декабре, пока их одежду дезинфицировали, метров тридцать шли по морозу обратно в барак, совсем голые. Во всех лагерях кроме Клооги свирепствовал сыпной тиф, но на работу гоняли даже умирающих. Только если температура подскакивала под сорок, больного отправляли в лагерный лазарет.
4 февраля 44-го большую группу заключенных, в том числе детей и женщин, отправили в Кивиоли на нефтеперерабатывающий завод. Без остановки прошли они 120 километров вдоль моря. Многие, ослабев от тифа, падали без сознания. Если кто не мог больше идти — бросали в море.
Один из лагерных санитаров — Вильгельм Гент — обожал кромсать больных в лазарете топором, всех подряд, кто под руку попадется. Так погибли известный врач-гинеколог из Варшавы доктор Фингерхут, рентгенолог доктор Ивантер и сын адвоката Зильберштейна из Вильнюса.
У группенфюрера Курта Штахе была большая собака — он натравливал ее на узников, и обученная псина волокла пойманную дичь к хозяину.
Работа была тяжела невыносимо: заставляли таскать трехметровые балки, мешки с цементом килограмм по сто. Стоит оступиться — опять измываются. Впрочем, беспрестанные издевательства и унижения в лагере были повседневностью. Особенно свирепствовал завскладом одежды обершарфюрер Хелльвиг и унтершарфюрер Шварце из Гёрлитца, Цеппелинстрассе 21.
Главврачом всех эстонских лагерей назначен был оберштурмфюрер Франц Бодманн. Он принимал роды у женщин-заключенных и швырял новорожденных прямо в печь, еще живыми. Однажды вкатил двум помешавшимся узницам по 50 грамм бензина в сердце. Обе умерли в страшных муках.
В женских бараках надзирали женщины-надсмотрщицы: одна была еще студентка, ее называли Ага, и напарница ее Инге стегали узниц плетками, таскали за волосы, вырывали сережки из ушей. Комендант одного из лагерей оберштурмфюрер Аймаер развлекался тем, что брал кого-нибудь из мужчин-заключенных и лил ему на голову тонкой струйкой воду, пока несчастный не падал в обморок. Его приводили в чувство и снова подставляли голову под струю воды. И так раза по два, по три.
22 августа 44-го Анолик из Клооги был переведен в Лагеди. 19 сентября был приказано соорудить костер: метров шесть квадратных по площади, на расстоянии полуметра от земли — чтобы поддувало как следует. В центре — круглое отверстие, тоже чтобы разгоралось лучше. Сто пятьдесят эсэсовцев согнали к этому костру всех заключенных: узники сами должны были укладывать дрова на помост, а потом и самих туда бросили. Так они и лежали слоями — дрова, люди, дрова, люди. Все это облили бензином и запалили. Анолику с братом удалось закопаться в солому, которой устланы были нары в бараке, и ночью бежать из лагеря. Так и спаслись. Бежали обратно в Клоогу. Вскоре после этого их освободили русские. Анолик привел тогда советских офицеров на то место в Лагеди, военные сделали несколько снимков, Анолик их мне потом показывал. Когда в мрачные средние века жгли еретиков на костре, это и то не наводило такого ужаса, как фотографии из Лагеди: трупы — обугленные, скрюченные, обгорелые тела людей, захлебывавшихся только что воплем боли отчаяния. Мужчины и женщины бриты наголо, куски человеческих тел среди дымящихся углей. Рассказ Анолика подтвердили позже и иные, кому удалось в ту ночь бежать.
Из прочих лагерей заключенных депортировали в Данциг, в основном в крупный лагерь Штуттхоф, откуда распределили потом по мелким трудовым лагерям. Оттуда немцы уже убегали в такой спешке, что полностью ликвидировать лагерь и его пленников не успели, оттого-то многие, кого уже считали погибшим, вернулись потом к родным.
Весной стали приходить эшелоны с неожиданными пассажирами: в Литву, Латвию и Эстонию свозили евреев со всей Европы — из Берлина, Парижа, Гамбурга, Вены, Праги[106]. Заключенных большими группами вели через город с вокзала, под строгим надзором. Поговорить с ними не было никакой возможности. Многие из них были хорошо одеты, с аккуратными чемоданчиками в руках. Были среди них и дети, хоть и немного. Им было сказано, что их переселяют на оккупированные российские территории, а в Каунасе им предстоит лишь пройти дезинфекцию. Никто из узников особенно не радовался происходящему, однако у них не было в глазах того отчаяния, которым, как клеймом, отмечены были наши местные евреи. Но и у них на одежде пришиты были желтые звезды.
Их погнали по направлению к Вилиямполе, видимо, в гетто, где невольники уже ждали пополнения, узнав об очередном эшелоне с запада.
Иностранцев и правда привели в Вилиямполе, но дальше дорога их шла вдоль колючей проволоки, мимо гетто — это был путь к IX форту. Из гетто на них глядели наши: им хорошо был известно, зачем несчастных туда ведут.
Спустя несколько дней наши евреи получили новое задание — рассортировать и разобрать содержимое чемоданов с того эшелона: вышитые инициалы отпороть, все выстирать, подшить, что требуется. Потом все отнесли в гестапо. Часть вещей разбирали в здании бывшей еврейской реальной гимназии, где теперь располагался госпиталь. Часовые, наблюдая за работающими, откладывали себе в сторонку что получше, и евреям, несмотря на строжайший запрет, удалось кое-что стянуть: «Запрячем в матрас в изголовье».
Особенно из всего содержимого чемоданов ценилось элегантное дамское белье. Перед лазаретом я видела грузовик, доверху наполненный добротными чемоданами и парусиновыми мешками, совсем как в Берлине на вокзале Анхальтер Барнхоф в прежние времена. И на самом верху уложены — рыдать хочется! — детские ночные рубашечки…
Держать связь со старыми друзьями из гетто становилось все сложнее — ни «башмачники», ни «садовники» в городе больше не появлялись.
Некоторое время Реляйн стирала на Зеленой горе грязное солдатское белье. Я нашла ее там — совершенно подавленную, без сил. Она даже не смогла толком порадоваться тому, что я ей принесла. А мне больше нечем было ее утешить.
Потом я долго вообще ее не видела. Спустя несколько месяцев выяснилось: Реляйн работает на галошной фабрике «Гума», в Вилиямполе, в двух километрах от гетто. Вход на фабрику был воспрещен, и мне пришлось потратить много времени, сил и денег, чтобы, наконец, устроить встречу с девушкой.
Нередко долгий путь на «Гуму» я проходила зря: на проходной оказывался не тот часовой, которому я накануне дала взятку, или невозможно было достучаться до фройляйн Бедорфайте — молодой литовки необыкновенной красоты, которая работала в химической лаборатории фабрики. Она была доверенным лицом евреев и организовывала им свидания с кем нужно, рискуя при этом немало собственной свободой. Благодаря изобретательности Бедорфайте мне удавалось проникнуть на завод под разными предлогами.
Мы с Реляйн виделись то в сторожке, то в амбулатории, то на заднем дворе, иногда лишь минуту, порой — по целому часу. Фройляйн Йоруш, уже уехавшая из Каунаса, тем не менее часто приезжала к нам из Кёнигсберга и очень хотела забрать с собой Реляйн, выправить ей поддельные документы и спрятать у себя в доме. Добрая женщина уже начала даже готовиться к приезду Реляйн: устроила ей комнатку на чердаке над своей мансардой. Но Реляйн все не могла никак решиться покинуть родителей и брата. Я тоже было собиралась укрыть ее в каморке позади нашей кухни, но замыслы так замыслами и остались, и лишь по-прежнему ходила к ней на свидания, когда почти каждый день, а когда не видела ее неделю, а то и чаще. Не опасность и не дальний путь более всего угнетали меня, когда я ходила на фабрику — просто дорога туда всякий раз проходила мимо холмов, где возвышался IX форт. …
В каунасском гетто знали до мелочей, что случилось в Вильнюсе, и ждали всякий день того же и здесь. Мы в городе ни малейших иллюзий больше не питали и все только с раздражением удивлялись вялости и пассивности узников гетто. Мы бегали по городу и его окрестностям в поисках людей, что приняли бы у себя на время беглецов из-за колючей проволоки. Найти таких было неописуемо тяжело. Вот уже, кажется, все обговорено, все — берут, обещали, и тут в последний момент — нет, говорят, боимся, немцы узнают — не жить нам. Иные начинают вдруг требовать немереной платы за каждого еврея, а что самое для нас было ужасное, что более всего злило — это когда сами же узники перед самым побегом так и не решались уйти из гетто: кто не мог оставить семью, а кто, привыкнув за последние годы к побоям и унижениям, отупевший, забитый, затравленный, не осмеливался уже ни одного шагу сделать за пределы колючей проволоки — свобода была под запретом, и многие с этим смирились.
Фройляйн Йоруш в октябре снова навестила нас. Проездом она была в Вильнюсе и оттуда ко всеобщему изумлению привезла с собой Мозичек. В Вильнюсе надежные люди доверили фройляйн Йоруш один секрет: у них скрывается молодая женщина, сбежавшая из одного из трудовых лагерей перед самой ликвидацией. Побег спас Мозичек жизнь, но когда фройляйн Йоруш пожелала с ней познакомиться, нашла беглянку в отчаянии: у нее в Вильнюсе нет больше знакомых, кроме этой вот семьи, но они боятся держать ее у себя дольше, а идти ей больше некуда. Вот в Каунасе, там да, там у нее есть друзья: Хольцманы, может, знаете? Фройляйн Йоруш возликовала, когда нашлись общие знакомые, и тут же решила увезти Мозичек в Каунас.
И вот Мозичек здесь, с нами, бесконечно счастливая, что снова среди друзей, и столь же несчастная, потому что из-за нее друзья в опасности. Мы, оставив ее пока что у себя, пошли искать ей работу. Но прежде всего нужен был поддельный паспорт, что удалось в лучшем виде состряпать благодаря нашему «спецу», — Мозичек отныне была совсем не Мозичек, а литовка из долины Мемеля. С таким документом можно было выпустить ее в город. К несчастью, бедняжка говорила только по-немецки. Четыре недели еще жила она с нами, изо всех сил стараясь не обременить нас своим присутствием, помочь по хозяйству, в общем — оказаться полезной.
Наконец нашлась в предместье Панемуне одна литовская семья, посвященная в дело: Мозичек взяли гувернанткой к трем совершенно диким, невоспитанным сорванцам-мальчишкам. Бедная, бедная Мозичек: она стонала от них! Прежде ей доводилось работать лишь в разного рода конторах, за письменным столом, с детьми она никогда дела не имела. Но ей во что бы то ни стало нужно было удержаться на этом месте, и ей это удалось. «Господа» также постанывали, глядя на неопытную, не слишком хозяйственную гувернантку, которая обладала совсем не германскими добродетелями домработницы. С другой стороны, хозяевам нравилось, что в доме появилось такое веселое, заводное существо. Они сами зарегистрировали ее в полиции, прописали у себя, вот только хлебные карточки на ее долю достать не удалось.
Мозичек рассказала нам о последних днях вильнюсского гетто, и рассказ ее оказался столь ужасен, столь пронзителен, что мы с удвоенной энергией принялись изыскивать способы помочь узникам Вилиямполе. Наташам было позволено взять из сиротского дома пару сирот, и одна из Наташ привела в дом двух девочек. Мы сообщили об этом в гетто, но именно в эти несколько дней в гетто все было тихо и спокойно, а потому именно те, кто накануне отчаянно упрашивал нас спасти их детей, теперь не могли решиться отдать своих чад добрым людям в город. Нам пришлось убеждать, упрашивать, настаивать, добиваться, и прошло время, прежде чем все было улажено, часовые подкуплены и детей можно было забрать в условленном месте.
Именно в это время в сиротских домах была устроена строгая проверка: в приюте, куда отдавали совсем еще грудничков, полиция «разоблачила» восьмерых младенцев-евреев, детей тут же изъяли и убили. Директора детдома арестовали. Акция эта навела такого страху на весь город, что никто больше не соглашался принять из гетто ни одного малыша.
И вот в доме двух Наташ сидят две девочки, тихие, сосредоточенные, с грустными серьезными глазами. Что нам теперь с ними делать? В то же время привезли маленькую Иру, которая так хорошо прижилась в Кулаутуве у фрау Лиды и даже совершенно официально ходила в деревенскую школу. Но немецкие соседи по селу невзлюбили ребенка с необыкновенной, слишком заметной внешностью и потребовали у сельской администрации от девочки избавиться. Сельским старостам и школьным учителям крайне было неприятно выгонять девочку: ведь Лиду безмерно уважали в Кулаутуве, и всякое ее слово и действие считались бесспорно верными. И, тем не менее, к Лиде ходили и убеждали ее увезти Иру из деревни до тех пор, пока женщина не поняла, что в покое их тут не оставят.
И вот три маленькие девочки — Ира, Дануте и Марите, — а еще и Габриэль, мать Иры, и Регина — и все вместе в крошечной каморке, портняжной мастерской, а за тонкой стенкой — Наташина сестра, которая ни о чем не должна догадаться. Хозяйки сдвинули вместе две широкие софы, и все вместе спали всемером на одной широкой кровати. Долго такое скрывать невозможно, но найти иное укрытие для детей пока не удавалось.
Мы с Гретхен вообще-то решили никого больше у себя не прятать: мы слишком часто появлялись в бригадах в городе и постоянно ждали, что к нам вот-вот нагрянут снова с обыском. Но пока у нас жила Мозичек, мы были счастливы, наше мужество вернулось к нам и мы снова готовы были рисковать.
Мы забрали к себе Дануте — худенького, белокурого ребенка с высоким лбом и трогательным вздернутым носиком. На первый взгляд — ничего еврейского во внешности, но глаза — миндалевидные, зеленые, полные невыразимой скорби, той самой, что носит в себе весь этот древний народ с трагической судьбой. С такими глазами за литовку сойти невозможно. Мы достали для нее лучших продуктов, купили книжки с картинками, рассказывали ей сказки, припасли для нее пестрых ниток для вышивания и вязания, придумывали бог знает что, только бы не скучало это девятилетнее создание в нашем доме — она оставалась задумчивой, серьезной и время от времени тихо плакала, глотая слезы. Ее бесконечно любили в ее семье — родители и старший брат, а теперь ей против воли приходится жить без них.
У Наташ ей, честное слово, было привольней: там были еще дети, а Регина и вовсе доводилась ей родней. Но и Марите, и Ирине тесно было в маленьком их укрытии, обеих тянуло побегать, глотнуть свежего воздуха, и мы устроили так, что всякий вечер, как только спускались сумерки, они приходили к нам. Замечательные были часы, радостные: мы болтали, играли, ставили пьески, пели, танцевали. И девчонки, обычно такие тихие, апатичные, давали волю фантазии и дышали полной грудью, а потом с волчьим аппетитом набрасывались на бутерброды. Рано утром Дануте, оставшись без подружек, опять замыкалась в своей печали, и пока Гретхен была на службе, а я давала уроки, девочка не отнимала от глаз серенький носовой платок.
Мне надо было навестить бригады в городе, но как мне теперь уйти — для девочки ничего нет страшнее, чем остаться в чужом доме совсем одной. Либо вести ее к Наташам, либо брать с собой. Я стала брать ее с собой, оставляла дожидаться меня на углу или в подъезде ближайшего дома, а сама бежала на свидание с невольниками, замирая от страха, как бы чего не стряслось с девочкой. Так дальше продолжаться не может, повторяла я себе всякий раз, но так продолжалось неделями, месяцами, и ничего пока не менялось.
Марите взяла одна семья в Шанцах. Ира с матерью Габриэль пока оставалась у Наташ. Дануте — с нами. Ее мать тайно приходила повидаться с ней из гетто. Ей удавалось хоть немного утешить дочку. Мы стали разрабатывать план, как бы переселить всю семью в город. Между тем из гетто сбежала кузина Дануте, девушку взяли в горничные в семье Руткунас и храбро скрывали ее от недобрых соседей. Невероятно, чудовищно, до чего ретиво мчались иные литовцы к немцам в полицию, стоило им только заподозрить, будто какой-то еврей пытается в городе спастись от смерти. Скоро и на нас стали косо смотреть, с прищуром: что это за девочка с ними ходит о городу? Откуда взялась? Кто такая? Зачем? Почему? Оттого-то мы вскоре принуждены были оставлять Дануте в укромных местах, не показываться с ней на улице, а ее выводили погулять только вечером, когда уже стемнеет, подышать воздухом.
Как бы ни было туго, время от времени удавалось все-таки вытаскивать из гетто то одного, то другого. Они жили в разных местах, хватались за любую работу, но подолгу им нигде оставаться было нельзя. Если же идти было уже некуда, шли к фрау Бинкис. Там их принимали, и не просто принимали, а с великой щедростью, великодушием, здесь их прятали с великой охотой и окружали заботой. Брат Оните у фрау Бинкис много недель делил кров с одним необычным мальчиком — непокорным, буйным, неукротимым[107]. Роза долгое время прожила в этом доме, заправляя на кухне. Наконец, там очутилась и бедная Фанни, которая нигде не могла найти себе пристанища, над которой по-скотски издевались литовцы, взявшие на хранение кое-что из ее вещей, использовали ее и потом еще и донесли на девушку, после чего во время поездки в провинцию ее арестовала полиция.
Ох уж этот страх — страх перед полицией. Сколько ночей я провела без сна, прислушиваясь к шорохам и каждый миг опасаясь, что ворвутся эти хамы, схватят Дануте, стащат с кровати мою спящую дочь, повяжут и уведут нас всех. Иногда я вставала, наклонялась над изголовьем кровати Гретхен и ловила с упоением тихое ровное дыхание моей девочки, и так проходила ночь. Днем же снова казалось, что беда минует: снова мы пили на завтрак наш кофе, радовались, если еще удавалось закусить бутербродом или плеснуть в кофе глоток молока. Нет молока — и то ладно, не беда. Не всякий день доводилось что-нибудь поставить на стол, но голодать уже не приходилось.
Время от времени у нас останавливались не надолго, обычно на ночь, все новые и новые беглецы из гетто. Однажды в доме появилась измученная малютка, которую постоянно перевозили с места на место, передавали из рук в руки, и ребенок так исстрадался и перепугался, что у девочки начался тяжелейший запор, от которого можно было избавиться только с помощью клизмы и промывания. Прятать ее было необычайно трудно: ее бледненькое личико, вспученный животик и еще этот резкий еврейский акцент, с которым она говорила по-литовски, бросались в глаза. Ее пришлось постоянно держать в квартире, она очень мучилась, а помочь было нечем. В конце концов, чтобы вывести еще и вшей, пришлось отрезать ее длинную толстую светло-каштановую косу, единственное, что еще было привлекательного, красивого в этом истерзанном существе, ее гордость. Осиротевшую головку пришлось обрить и тщательно обработать уксусом и керосином.
Год шел к концу. Во время воздушной тревоги мы больше не бегали в бомбоубежище, мы оставались в доме, даже с кровати не вставали. Глухое гудение русских самолетов звучало для нас музыкой сфер. Скорей бы они уже остались здесь совсем.
Как-то раз я подслушала на улице разговор двух офицеров из генерального комиссариата: военное положение, говорят, тягчайшее, отступаем, беда! Но есть уже, поговаривают, новое оружие массового уничтожения, в начале следующего года его уже введут в действие. Я подошла к беседовавшим сзади, слушала и ликовала: отступаете! Так вам и надо! Туда вам и дорога! Не дождетесь никакого нового оружия! Недолго вам осталось!
Иногда в то время нам так ясно представлялась недалекая уже победа, что мы и бояться даже переставали. Мы видели, как у «господ» иссякают силы. Но тем бдительнее приходилось быть: чем ближе конец, тем ожесточеннее и свирепее кидались оккупанты на всех вокруг.
К Рождеству нас навестила Марите. Дети нарядили премиленькую изящную елочку и приготовили маленькие подарки — добрый знак, знак мира на земле.
На русское Рождество обе Наташи и фрау Лида, приехавшая из Кулаутувы, выходили из церкви после службы. Вдруг путь им преградила незнакомая молодая женщина, вложила Наташе в руки спеленутого младенца и исчезла. Вокруг все только подивились — надо же, такой подарок на Рождество, чудеса да и только! В пеленках нашли письмо на русском, откуда выяснилось, что мальчику дано имя Николай. Его мать, русская беженка, в Рождество отдала ребенка чужим людям в надежде, что у него, наконец, появится крыша над головой и любящая семья. Сверток принесли в дом к Наташам, Регина и Габриэль страшно перепугались, потому что малыш сразу же истошно завопил, как будто хотел, чтобы вся округа узнала о тайных жильцах этого убежища.
Фрау Лида привезла с собой из Кулаутувы молока, и Габриэль, как самая сведущая в вопросах материнства, накормила мальчика, перепеленала и убаюкала его. Ну и что теперь делать с этим горлодером? Лида лукаво заулыбалась, и нам показалось, что для нее появление этого ребенка не было сюрпризом, что она как будто уже подготовилась и ожидала этого. Уж не устроила ли она этот ловкий обман для отвода глаз посторонним, чтобы спасти очередного малыша из гетто? После того как ей пришлось увезти из Кулаутувы Иру, Лида стала поговаривать, что ей бы отдали на воспитание совсем еще малыша, который еще и говорить-то не умеет, чтобы среди соседей никто не догадался, кто таков и откуда. На этот раз Лида промолчала, но на другой же день уже была готова повозка и Коля укутан в толстый теплый платок. И Лида с мальчиком и еще одной пожилой дамой отправилась за двадцать километров от города — в Кулаутуву.
Старушка оказалась тетушкой Лиды Гайст и одновременно тетушкой Габриэль. К счастью, пожилой женщине удалось ускользнуть из своей бригады и спрятаться на время в закутке у Наташи. Удивительная была женщина, эта тетя Эмма, необыкновенной доброты и сердечности. Рядом с ней любые проблемы улетучивались. А как она поддерживала Лиду в гетто, как сносила нелегкий нрав Эдвина! Она говорила на чистейшем немецком и так же хорошо на французском и русском, только по-литовски — как будто с иностранным акцентом. Каждый из нас нес ей, приходя к Наташам, что-нибудь, чтобы старушку порадовать, а нам так и вовсе хотелось оставить ее у себя. Но для нее был заготовлен иной план спасения.
Фрау Лида договорилась с пастором в Кулаутуве — тетушку Эмму согласились принять в тамошнюю приходскую богадельню, приют для старичков. Снова наш «спец» напечатал отличный новенький паспорт: тетя Эмма стала теперь вдовой литовца из Риги. Теперь ее акцент в литовском никого не должен насторожить — она же не здешняя. Из гетто она сбежала совершенно без вещей, поэтому мы снабдили ее и одеждой, и постельным белье, а еще пообещали непременно навестить тетушку в Кулаутуве.
Больше мы ее так и не увидели. Она попрощалась с фрау Лидой в Кулаутуве, Лида с мальчиком поехали дальше — до имения было еще два километра. В богадельне, к сожалению, как раз не оказалось того пастора. Старушкам-обитательницам приюта новенькая с ее чудным литовским выговором показалась чужой и подозрительной, они тут же явились в полицию: заберите, мол, эту пришлую. Полицейские допросили тетю Эмму, она выложила им всю легенду о своем происхождении, и ее отдали на попечение пастору, а он спустя пару дней посоветовал ей пешком вернуться в Каунас.
И она пошла. По пути ее задержали жандармы и отвели в гестапо. Совет старейшин изо всех сил пытался ее выручить, то есть выхлопотать ей возвращение обратно в гетто. Шеф еврейской полиции Липцер, который как к себе домой ходил в гестапо и работал связным между двумя лагерями, оккупантами немцами и узниками евреями, со своей стороны также на совесть старался помочь женщине, всеми в гетто весьма уважаемой[108]. Через него стали известно, что тетя Эмма сразу же призналась в гестапо, что сбежала из гетто, но из нее никто не смог вытянуть ни слова о том, кто ей помог и у кого она собиралась укрыться. Она утверждала лишь, что будто бы бежала наудачу в состоянии, близком к помешательству. Паспорт она, очевидно, успела уничтожить. Много недель продержали старушку в тюрьме при гестапо, а потом и она пошла по печальному, кровавому пути к IX форту.
Мы пытались скрыть ужасный конец тети Эммы от детей, отшучивались, отвлекали их игрой, но дети чувствовали: стряслась беда, но спрашивать ни о чем не решались. И мы все вместе тихо оплакивали гибель старушки. И в очередной раз мы убедились в том, что человек от горя не тупеет, горе растет и перерастает все остальное, в конце концов оно тяготеет над человеком, словно проклятие, и сильнее только смерть. Смерть тетушки Эммы нас раздавила, уничтожила, горе было столь велико, что утратило уже всякую форму, оно разлилось, и у него не было больше берегов. Мы утратили всякое ощущение реальности. Помню, Гретхен на второй же день после смерти Эммы пошла в кино…
Наташе было мало того, что она уже успела сделать, она как одержимая стремилась помочь еще кому-нибудь, спасти еще кого-нибудь. Она убедила семью, которая приняла Марите, укрыть также и мать девочки и вместе с отцом этого литовского семейства придумала план действий: пусть выкопает и оборудует под своим домом убежище человек на двенадцать. Он все выполнил, однако с помощью этого подвала решил заработать денег и запросил столь высокую сумму, что заговорщики вынуждены были отказаться от плана: у беглецов из гетто таких денег не было.
В конце концов Наташа решила выкопать такой погреб под собственным жилищем — жить в таком подполе вряд ли кто смог бы, но туда можно было укрыть тех, кто уже прятался в ее доме, в случае опасности. После того как убежище будет готово, Наташа хотела взять к себе еще человек трех из гетто. Один знакомый инженер обещал заняться постройкой подвала. Люк, спрятанный под ковром, должен был открываться бесшумно и легко, чтобы беглецы могли мгновенно скрыться под полом. Когда кто-нибудь приходил к Наташам, то сперва попадал в прихожую, оттуда — в кухню, потом — в гостиную, а потом уже в портняжную мастерскую, где трудились хозяйки. Так что, если нагрянут с обыском, у тех, кто прячется в задней каморке, достанет времени скрыться в подвале. Пока оборудовали убежище, каждый что-нибудь добыл для общего дела: кто доски, кто гвозди, кто кирпич.
В середине февраля случилась ужасная вещь: Наташу арестовали! Господи, да что же это! Она замешана в слишком уж многих «заговорах», может быть, за ней давно уже шпионили, собирали компромат. Что теперь делать? Куда бежать? Прежде всего — надо спрятать Габриэль и Регину. И снова беглецов приняла фрау Бинкис, хотя ее дом и так уже был переполнен.
Наташа была схвачена, когда однажды вечером вернулась домой, только что уговорив одну женщину принять ребенка из гетто. Дома уже ждали два полицейских — и тут же в полицию. Наташа поняла: та женщина вовсе не собиралась спасать еврейского ребенка, она тут же донесла на подозрительную посетительницу куда следует.
Наташа не могла уже отрицать знакомства своего с доносчицей и потому состроила из себя наивную простушку: я, мол, так просто, все это несерьезно, так, глупости, да стоит ли! Ее саму могли счесть еврейкой, этого арестованная старалась избежать прежде всего. Первый допрос длился долго. После перерыва ее снова допрашивали. Более всего Наташа мучилась, полагая, что в ее доме при обыске и нашли беглецов из гетто.
Между тем, очевидно, ее показания и личные данные проверили, и на втором допросе пригрозили наказанием, если не бросит помогать евреям и впредь, а потом отпустили.
Легко отделалась. Однако слежка скорее всего не кончилась, а потому прежние тайные ее жильцы оставались пока в других убежищах. Постройка подвала и вовсе остановилась. Обеспокоенная Павлаша настаивала, чтобы мы перепрятали и Дануте, что жила со мной и Гретхен: дружба наша с Наташей слишком всем известна и очевидна, не ровен час и к нам придут с обыском. И Дануте забрала к себе другая русская дама — фрау Даугувиетис. Наташин дом опустел: пусто и тихо, словно в могиле, жаловалась хозяйка. Работа наша «спасательская» была на время парализована, и это не давало нам покоя.
Но прошло несколько недель, и Наташино жилище снова наполнилось. Иру и Дануте приняли в детский дом. Нелегко пришлось девчонкам, но они столь виртуозно играли роль двух литовских сироток, что никто ничего не заподозрил. По выходным им разрешалось навестить своих «тетушек», и девочки оказывались у нас дома, а по воскресеньям приходили еще и Регина, Габриэль, Мозичек и еще многие другие, собирались вместе, радуясь встрече, изливали друг другу душу, плакали друг у друга на плече — жилось каждому трудно, тяжело, в постоянной опасности, трудились в поте лица день и ночь. Приносили с собой поесть, кто что мог, и всегда на всех хватало.
В пестрой компании говорили на разных языках, и детей постоянно просили не шуметь — незачем соседям знать, что мы с Гретхен здесь не одни. В середине марта у нас собрались одиннадцать бывших узников гетто, да еще обе Наташи — все женщины. Это был наш рекорд. Собираясь вместе, мы как правило политиканствовали и высчитывали, как скоро придет конец нашим бедам, и утешали друг друга, уповая на перемены к лучшему уже в скором времени. На улице было еще холодно, а в комнатах жарко натоплено, окна задернуты затемняющими шторами.
Несколько часов в кругу друзей, в тишине и покое — это ли не счастье. Женщины маленькими группами располагались по квартире: Регина и Мозичек курили вместе, дети заняты были игрой, Марианне и Оните рассказывали пресмешные байки из жизни горничных[109]. Я глядела на них, и меня вдруг время от времени начинал душить панический страх: вот сейчас-то в дверь и постучат! Вломятся, топоча сапожищами, начнут орать своими отвратительными грубыми голосами и «разорят гнездо» в моем доме. И уведут нас отсюда — всех сразу. Я так явственно видела перед собой эту картину, что мне огромного труда стоило скрывать от прочих свой страх. Недобрые предчувствия мучили меня и тогда, когда женщины уже уходили к себе, а дети, прижавшись друг к другу, тихо засыпали. Всю ночь я, не находя себе места, ломала голову: как немцы, одни из нас, свои, казалось бы, люди, заразились этой дрянью — этой больной звериной юдофобией. Всю ночь я настороженно прислушивалась: не идет ли кто. Но нет, все было тихо.
Спустя неделю, 27 марта 1944-го в гетто стряслось то, чего еще не случалось никогда. Рабочие бригады ушли из гетто в город, немцы заперли все мастерские за колючей проволокой, где обычно трудились тысячи две мастеровых, по улицам гетто проехал грузовик, откуда громкоговоритель запретил под страхом расстрела покидать узникам свои дома, а потом началась омерзительная акция: стали забирать детей.
От дома к дому переходили немцы-полицейские в сопровождении «украинцев», крепких грубых парней с дурной славой: чтобы избежать немецкого плена, они переходили на сторону оккупантов и служили у них палачами и карателями, получая за это неплохое жалованье. Брали детей до двенадцати лет и сажали в грузовики. Матерей самих заставляли относить младенцев в машины. Полицейские собаки-ищейки, специально обученные искать и таскать детей в зубах, обнюхивали дома, подвалы, сараи. Женщины отказывались отдавать детей, толкались вокруг грузовиков, пытаясь вытащить оттуда своих чад, тогда матерей били, некоторых расстреливали. Иные матери готовы были пойти на смерть вместе с детьми, но им было сказано лишь: вы, скоты, нам еще пригодитесь, еще поработаете, а вот этих малявок мы увезем!
Некоторых детей вытаскивали прямо из кроваток и неодетыми кидали в грузовики, швыряли как мешки с картошкой, и у многих были сильные ушибы и даже переломы. Дети кричали, надрывались что было мочи, кто постарше — пытались бежать. Среди этого отчаянного вопля из машин грохотала музыка. Никогда еще мир никто не видел такого безжалостного цинизма.
Одновременно стали забирать и стариков — нетрудоспособных или уже и вовсе больных. И отец Эстер, и Германн с Максом, и Нуня Рейн, захворавшая накануне и отказавшаяся отдать немцам на растерзание мать-старушку, и жена известного глазного врача из долины Мемеля профессора Пиха, и фрау доктор Матис с детьми — все они и еще многие наши друзья в тот день исчезли навсегда.
Этой акцией командовал Киттель, уже проверенный во время ликвидации варшавского и вильнюсского гетто. Особенно отличился эсэсовец Хельдке, толстяк, знаменитый своими непомерными габаритами. До того, как Гитлер пришел к власти, Хельдке учился в гимназии здесь в Каунасе и со своими одноклассниками жил душа в душу.
Спустя несколько дней эшелон с детьми, говорят, видели по дороге к германской границе, скорее всего, по пути в крематорий. Никто о них ничего больше не слышал. Всего детей увезли примерно 2500 человек[110]. Человек 300 детей спрятали во время облавы в подземных убежищах, и немцы их не нашли. Некоторых, что были постарше, родителям удалось выдать за взрослых работоспособных.
Среди спасенных детей оказался и сын певицы Абрамсон, нашей старой знакомой. Через бывшую горничную Анеле, по-прежнему преданную хозяйке, и одну из прежних учениц певицы нам удалось вытащить мальчика из гетто. Мы давно пытались это сделать, несколько раз уже договаривались о встрече у колючей проволоки на берегу реки, но что-то постоянно мешало, и унести маленького Сашу в город не получалось. Через друзей из Швейцарии мы держали связь с братом Абрамсон в Берне, а он прислал в Каунас несколько ценных вещей, которые его сестра продала, чтобы выжить в гетто и подкупить охрану в случае ее побега.
После того, как Саша чудесным образом уцелел после облавы, мы с удвоенной энергией принялись уговаривать его мать передать нам сына в город. Я встретилась с ней в подземелье немецкого госпиталя близ здания гестапо. Вход туда был строго воспрещен, но я дерзко прошествовала по лазарету, нахально улыбаясь, приветствовала часовых «добрым утром» и тут же нырнула в подвал. Меня никто не задержал. Там она вместе с русскими пленными женщинами чистила картошку. Прежде я всякий раз приносила ей что-нибудь для Саши: конфеты, карандаши и альбом для рисования, ведь он так любил рисовать. Или почтовые марки, им он особенно радовался. На этот раз я умышленно не принесла ничего: Сашу немедленно нужно переправить к нам, пусть выйдет в город с подложным рабочим удостоверением вместе с одной из бригад. Бригадир — с ним заодно, он отпустит его на мосту, а мы будем ждать у ближайших ворот. Гретхен ждала его там в назначенный час — он снова не появился. И мы ломали голову, что стряслось: то ли мать боится отпускать его в неизвестность, то ли не может оторвать от сердца свое дитя, то ли еще что-то помешало?
Обстоятельства складывались так, что и за колючей проволокой, и в городе стало ясно: абсолютная ликвидация гетто неизбежна уже в ближайшее время. Нам пришлось напрячь все силы, еще больше собрать в кулак все силы, волю и мужество, чтобы в последний момент помочь еще хоть кому-нибудь, хоть кого-то еще спасти. Я пошла в монастырь к иезуитам поговорить с пастором Фульстом, он, я слышала, был вхож в гестапо. Может, он сможет помочь. Его преподобие внимательно меня выслушал, но отвечал, что, к сожалению, помочь ничем не может. Сколько их таких было, кто, якобы, ничем не мог помочь!
Знакомые среди немцев, те немногие, к кому можно было открыто обратиться, только пожимали плечами: к чему без толку рисковать собственной жизнью и свободой? Все равно скоро всех, кого надо, найдут и «разберутся». И действительно — именно в это время и в городе, и за его пределами обнаружили многих, кто прятался. В усадьбе доктора Жакевичюса близ Георгенбурга взяли сразу дюжину беглецов, которых доктор укрывал за солидное вознаграждение. Его экономка позавидовала побочным нелегальным доходам своего жильца и настрочила донос, и врача дружно трясла вся команда немецкой полиции Каунаса. Та же участь постигла и доктора Матусевичюса, известного в городе гомеопата. Старика неделями держали в тюрьме, потом расстреляли. Расстреляли и остальных «укрывателей». Время от времени пойманных беглецов почему-то щадили и отправляли обратно в гетто.
Мы прежде всего хотели вытащить из-за колючей проволоки пианистку Лею и ее мать. Обе работали в большой бригаде на войлочной фабрике. Но именно там немцы-надсмотрщики служили особенно свирепые: если во дворе маячила синяя шинель и шляпа с опущенными полями, значит, ни пройти, ни поговорить — не пустят. Меня каждый из них знал в лицо и, завидев меня за забором с набитой сумкой в руках, грозил: ты что тут шатаешься? Марш отсюда!
Но я часто ходила на фабрику — шла долго, шагая по тающим сугробам, спускалась по скользкому глинистому склону холма. Иногда на фабрике и вовсе не оказывалось никаких еврейских бригад, отчего меня всякий раз терзали недобрые предчувствия, и я беспокойным взглядом искала хоть кого-нибудь из «звездоносцев». Переполненную тяжелую сумку, предназначенную для невольников, приходилось тащить обратно.
Однажды мы с фройляйн Йоруш вместе пришли на фабрику, где в тот день дежурили трое немецких охранников. Мы, стесняясь и переминаясь с ноги на ногу, попросили разрешения поговорить коротко с одной девушкой из бригады. Да сколько угодно, был ответ, пожалуйста! Прибежала Лея, мы отошли с ней в сторонку, а часовые неожиданно подсели к нам и наскоро вдруг стали изливать нам душу: им осточертела эта война, опротивел режим, омерзителен и позорен бессмысленный антисемитизм, и вообще они со своей стороны изо всех сил стараются как могут облегчить участь таким, как Лея. В их роте все так считают, и никто не смеет требовать, чтобы они стреляли в евреев.
Мы долго еще так разговаривали, но они вдруг перепугались: не сболтнули ли они лишнего? Вы ведь нас не выдадите? Нет, нет, конечно нет! Но и мы просили их не выдавать нас. Теперь мы можем приходить чаще, их сюда определили надолго. Как их зовут? Эрих, Вилли и Хайни.
Когда я пришла в другой раз, тех троих уже не было, а пьяному охраннику отдан был строгий приказ никого близко к фабрике не подпускать. Видно, трех милых пареньков заподозрили в неблагонадежности и перевели от греха подальше куда-нибудь в другое место. Не было больше никакой возможности встретиться с кем-либо из бригады. Лея перевелась в другую бригаду — на меховой завод «Вольф» позади гетто. Туда пройти было проще: жены немецких чиновников часто заказывали там меховую одежду. Надо было просто отважно наврать часовому, глядя ему в глаза, будто идешь на примерку, и ни один не осмелился бы проверить.
Только что прошла в гетто детская акция, и на меховой фабрике над работой молча склонялись печальные фигуры матерей. Лея очень нервничала: ей удалось тайком спрятать от немцев свою престарелую мать, и теперь боялась, что старушку обнаружат. Мы договорились, что Лея с матерью убегут из гетто и на время спрячутся у нас, а потом о них позаботится милейшая фрау Квашиене. Уже миновала Пасха, когда мы, наконец, собрались встретить мать Леи у ограды гетто, где были заранее подкуплены часовые. Бежать тогда удавалось не многим, и охрана требовала определенную таксу золотом.
Был первый замечательный весенний день. По эту сторону гетто горожане гуляли по улицам такие радостные, беззаботные, светлые, как будто и не существовал перед самым их носом этот клочок земли, обнесенный колючей проволокой и постоянно уменьшающийся в размерах. После каждой акции территория гетто сужалась, забор передвигали, и все больше улиц возвращались городу и становились прежними. Проволока сжималась вокруг жалкого обиталища несчастного народа, словно петля на шее.
Мы прошлись туда-сюда несколько раз, часовые окриками гнали нас прочь. Повсюду расклеены были плакаты с текстом по-немецки, на идиш и на литовском. Огромными буквами выведен был заголовок: «Расстрел!» И далее длинный список — за что именно грозит расстрел гражданам Каунаса: если кто перейдет на ту сторону улицы, что еще числится за гетто. Если кто будет стоять на той стороне улицы. Если кто станет перелезать через колючую проволоку или пропихивать туда продукты или прочие вещи для заключенных. Если кто заговорит с часовым или с евреем или будет подавать знаки и тому, и другому.
В домике напротив гетто была высокая веранда, откуда узкие улицы за забором хорошо просматривались. Темнело. Настал нужный момент. На той стороне улицы через колючую проволоку наружу передали ребенка, снаружи его подхватили две женщины и тут же исчезли. Наших — ни слуху, ни духу. Уже в темноте мы отправились домой.
Почему не получилось в тот день — уже не помню, но только через несколько дней фрау Кважиене привела и Лею, и ее мать к нам в дом. Пожилую даму мы раньше никогда не видели, это оказалась простая, наивная, очень симпатичная женщина. Мы с дочерью очень были рады обеим беглянкам.
У нас были соседи, которым ни в коем случае не следовало знать о посторонних в квартире: обе женщины выглядели слишком уж по-еврейски, ни один поддельный документ никого не убедил бы в том, что они не еврейки. Верная фрау Квашиене сдержала слово: дней через десять она смогла перевезти Лею и ее мать в загородный домик своих друзей в Шанцах, где все обустроила в лучшем виде. Обе беглянки заранее приберегли в городе кое-что из ценностей и одежды и теперь смогли вознаградить добрую женщину и сами себя обеспечить необходимым на каждый день. Но убежище оказалось не идеальным: женщины не могли готовить — слишком дымила неисправная печка. Хозяйка дома пропадала на службе и забывала частенько закупить для постояльцев продукты. Фрау Квашиене вынуждена была то и дело навещать их с набитыми сумками и извинениями за все эти недоразумения.
Между тем снова пришлось тревожиться за наших сироток Иру и Дануте: в их детском доме надвигалась очередная ревизия, девочек надо было на время забрать домой. Только вот к кому? Фрау Кважиене на время приютила Дануте, но потом в ее доме начался ремонт, и ребенок снова оказался у меня и Гретхен.
В середине мая вся в слезах и расстроенных чувствах появилась Мозичек: кто-то из соседей ее хозяев, кажется, заподозрил скромную гувернантку, поползли слухи, поговаривали даже о доносе, а «господам» не слишком хотелось рисковать, в общем — женщину уволили. Она снова вынуждена была остановиться у нас, но мы должны были как можно быстрее найти ей другое, более надежное пристанище.
В то же самое время и Оните с Марианне вынуждены были внезапно второпях оставить свою работу, обеим также некуда было податься. Они ночевали каждый раз в другом месте, то тут, то там, переходили из дома в дом, страшно мучаясь оттого, что подвергают опасности своих друзей. В ту пору что ни ночь — по городу шли облавы на дезертиров, схватить могли кого угодно.
Еще весной мы сняли в лесном курорте в Кулаутуве дачу — на всякий случай будет где спрятаться. Мы собирались укрыть там еще и кого-нибудь из беглецов. На Троицу мы на пароходе съездили туда на несколько дней, взяв с собой и Дануте. Но тамошние жители, соседи и хозяева дома, так пристально присматривались к ребенку, так дотошно выпытывали, кто такая, откуда да почему, что мы очень быстро поняли: здесь скрыть кого-либо еще труднее, чем в городе. Людмила, прожившая здесь всю зиму, сообщила, что в здешних краях полицейские злые, как черти. Как обошлись здесь с тетушкой Эммой — это мы все знаем.
Во вторник перед Троицей я безуспешно пыталась дозвониться до фрау Квашиене. Она не отвечала еще и накануне — в воскресенье. Тогда я пошла к ней. Постучала. Открыл незнакомый господин: к фрау Квашиене? Проходите. Отогнул обшлаг пальто: криминальная полиция.
Старомодная квартира, комнаты чередой друг за другом, вроде анфилады. Все перевернуто вверх дном. Кроме полицейского еще два господина обыскивают каждый угол и что-то записывают. Я собралась было поскорее исчезнуть — куда там! Фрау Квашиене арестована, сообщили мне, и по всей вероятности на свободу уже не выйдет. Кто такая я, что здесь делаю, что мне надо от арестованной, хорошо ли я ее знала? Уж не одна ли я из этих темных личностей — спекулянтов-перекупщиков, с которыми хозяйка постоянно якшалась?
На руке у меня висела тяжеленная сумка со столовым серебром от одного заключенного из гетто. Я обещала ему продать все это добро, которое теперь безбожно оттягивало мне руку. Что если они залезут мне в сумку? Тогда конец — я пропала!
Пока этот из криминальной полиции меня допрашивал, из задней комнаты появился еще один — немец. Я тут же к нему: отчего же меня подозревают! Смешно, право слово! Я собиралась заказать фрау Кважиене пошить мне кое-что из белья, отпустите же меня, наконец, домой!
Немец повернулся к полицейскому: ну, вы же видите — перед вами дама! И тот немедленно меня отпустил.
Я вышла, не веря своему счастью, и бросилась домой. У нас с фрау Квашиене было так много общих секретов! Боюсь, она утянет теперь и меня за собой. Наверное, уже и в моей квартире ждет кто надо.
А дома Мозичек и Дануте, ползая на коленях, драили паркет в моей комнате мотками из жесткой проволоки. Они задумали меня порадовать, а я заявилась нежданно-негаданно и погнала обеих из дому: бегите, спасайтесь! К счастью Мозичек встретила накануне старых своих знакомых литовцев, они охотно приняли ее к себе. Дануте я снова отправила в детский дом. В спешке я вынесла из дома все, что могло показаться подозрительным.
Стали выспрашивать соседей фрау Квашиене — оказывается, ее мужа тоже арестовали. Через несколько дней тревоги и бессонных ночей соседка прибежала ко мне: фрау Квашиене отпустили, и она просит меня немедленно прийти к ней.
Женщина сильно переменилась: ее широкое, дружелюбное лицо с теплыми карими глазами потемнело, осунулось, взгляд потух. Ее арестовали в воскресенье накануне Троицы. В то же время схватили Лею с матерью и Франю. Фрау Квашиене обвинили в том, что она помогла бежать из гетто и скрыться двум женщинам, кроме того — укрывала еврейского ребенка. Арестованная не смогла и не стала отрицать своей причастности к побегу Леи и ее матери, но не выдала, ни где теперь находится ребенок, ни у кого скрывалась до того Лея. Трудно было молчать, пожаловалась фрау Квашиене, приподнимая блузку: спина и плечи у нее покрыты были вспухшими ссадинами и рубцами. Ее муж ничего об этом не знал: его отпустили несколькими днями раньше.
В тюрьме ей удалось поговорить с другими заключенными. Они сговорились не выдавать меня, но все же на одном из допросов всплыло мое имя. И ее стали терзать: близко ли она меня знает? В каких отношениях я состою с Леей? Много ли я уже спасла еврейских детей? Фрау Квашиене прикинулась, будто ничего обо мне не знает. Тогда переводчик, переводивший на допросе, вдруг произнес: мне, говорит, известно о фрау Хольцман больше, чем многим другим. Поэтому фрау Квашиене и позвала меня — предупредить.
Себя и Франю фрау Квашжиене выкупила — отдала кольцо с бриллиантом, что осталось у нее на пальце во время ареста, и несколько тысяч марок. После этого ей намекнули, что еще за тысячу Лею отпустят из тюрьмы обратно в гетто.
Через Липцера из еврейской полиции в гетто стало известно об аресте Леи и о моей причастности к делу, и евреи стали уговаривать меня бежать из Каунаса как можно скорее. Через несколько дней одна женщина передала из тюрьмы письмецо от Леи — крик о помощи: сделайте что-нибудь! Пусть в комитете гетто похлопочут за нее — талантливую пианистку, которую так ценили прежде в городе.
Я не решалась покинуть город: еще ничего не было сделано ни для фрау Абрамсон, ни для Реляйн. У Леи в городе припасены были кое-какие драгоценности, их надо было продать, чтобы умаслить гестапо. Наши друзья, особенно Павлаша, взялись за это дело, и торопили меня уехать из города — куда угодно, только не в Кулаутуву, дальше, туда, где никто не найдет. Но мы с Гретхен полагали, что мы и в Кулаутуве в безопасности.
Павлаша продала три бриллиантовых колечка и один тяжелый массивный браслет, отнесла деньги фрау Квашиене, а та — в СС. Выкуп приняли, но Лею никто не выпустил. На что ушли деньги — неизвестно.
В Кулаутуву мы уезжали с новыми надеждами. Гретхен выпросила на своей фабрике срочный отпуск, и 4 июня мы покинули город. В Кулаутуве нас встретили наши многочисленные друзья. Оказалось, Наташа закрыла свой дом в городе и с Региной, Габриэль и Ирой перебралась в усадьбу фрау Лиды. Фрау доктор Елена Куторга сняла здесь на лето домик.
Теперь мы жили в лесу. По ночам было холодно, и дождь барабанил по крыше нашего дачного домика. Мы проводили в лесу весь день, бегали, чтобы согреться, ходили по тропинкам в разных направлениях. В том лесу что ни тропинка, то открытие. Там росли цветы, каких мы никогда в жизни еще не видели. Мы собирали букеты и дома сушили гербарии. Пригорки белели земляничными цветами. Птицы перекрикивали одна другую: вот зуек, вот клест-крестонос. А вон на дереве дупло дятла. Вот с шумом вспорхнула с ветки синяя сойка, изрядно нас напугав. Какие стояли переливы, какие трели, что за симфония! Никогда еще не попадали мы в такое вот птичье царство, где только мы и птицы, и больше никого.
Нам случалось и заблудиться. Долго блуждали мы по лесу, пока, наконец, стволы не расступались перед нами и не открывали нашему взору росистую долину Мемеля: поля, кустарник, стада овец, смирные стреноженные лошади и никакого иного намека на присутствие человека — ни жилья, ни хозяйства, и на вольной реке — ни запруды, ни плотины. Местами река разливалась в ширину необыкновенно, расходилась на несколько рукавов, образуя острова, богатые птицей, намывала песчаные косы.
Как-то раз мы неожиданно набрели на озеро, которое давно уже и не надеялись найти. У озера тоже, кажется, не было никаких определенных берегов. Лес вокруг него постепенно превращался в болото, почва становилась зыбкой, неверной. На таких местах кустится влаголюбивый багульник, таволга с белыми цветами-зонтиками с пьянящим ароматом, а еще — морошка, чьи хмельные крепкие ягоды, кажется, напоены соком ядовитых болотных соседей. Кочки покрыты розовыми цветочками — цветет клюква. Стоп, дальше дороги нет — дальше из темной воды уже высятся сосновые стволы, и корни торчат из земли, словно чьи-то колченогие конечности. Кустарники с бледными цветами зачарованно глядят на свое сумрачное, расплывающееся отражение.
Лес околдовал нас. Мы с нашим горьким житьем разучились так ощущать, так дышать и так любоваться, теперь же к нам вернулось это ощущение жизни, вернулось нежданно, впервые за последние годы. Несколько лет подряд мы жили одним днем и думали только о том, как бы дожить до завтра, и не задумывались о будущем, а тут на природе, в лесу мы вдруг обратились к тому, что еще будет, и во время наших прогулок Гретхен стала рассказывать мне, каким ей представляется наше будущее. Моей дочери хотелось закончить школу, получить аттестат, поступит в университет и изучать биологию[111].
4 июня мы прибыли в Кулаутуву, а 6-го у Елены Куторги услышали по радио о взятии Рима и наступлении союзников на линию укреплений «Атлантический вал»[112]. И дальше что ни день — известия об успехах союзников на западе и юге Европы, и что уж совсем казалось невероятным и особенно отрадным — с востока гигантскими шагами наступала Красная Армия.
Через две недели в поселок приехали еще двое наших друзей — Герта и Нана. Теперь мы гуляли по лесу все вместе — мы с Гретхен, Нана с Гертой, Елена и ее маленький приемный сын. Распогодилось, стало тепло, солнечно, и мы грелись на солнце, собирали грибы, купались в реке. Радость по-прежнему переполняла нас, но очарование первых дней уже пропало.
Наши друзья в городе оставались без опеки — это угнетало и не давало нам покоя в нашей лесной глуши. Приехала Павлаша и сообщила, что за Лею был внесен выкуп — 1000 марок, и все еще есть надежда на ее освобождение. Павлаша виделась также и с фрау Абрамсон, правда, о новом свидании не договорились. Впоследствии я горько сожалела, что не бросила все и не помчалась снова в Каунас — спасать друзей. Последняя возможность помочь была потеряна. Когда мы вернулись в город в начале июля, было уже поздно. В городе не было больше ни единой бригады, всякая связь с гетто оборвалась.
На пароходе вместе с нами плыла шумная немецкая компания: мужчины и женщины уплетали бутерброды и играли с огромной собакой. По-прежнему у всех вид победителя-триумфатора, они по-прежнему все еще нация господ, высшая каста. Мы же между собой разговаривали по-литовски, чтобы не привлекать внимания, и держали ухо востро. Это были чиновники из генерального комиссариата с семьями. Для них реквизировали и оборудовали лучшие виллы на курорте в долине Мемеля. На пароме стояли грузовики, переполненные домашней утварью и мебелью. Из разговора путешественников мы поняли, что для них были даже специально оборудованы теннисные корты. Один из господ, протягивая колбасную шкурку по направлению к необъятной собачьей пасти, заметил, что на фронте положение, поговаривают, не из лучших. Его тут же бросились успокаивать: да что там, бог с вами, бывало и хуже, ничего, выправится!
Беззаботные господа доживали последние свои веселые часы. Город уже лихорадило от радостного предчувствия: русские берут Минск! А на другой день войска Красной Армии взяли Вильнюс, нашу прежнюю столицу[113].
Гретхен снова вернулась из отпуска на свою фабрику. Коллеги ей завидовали: вам, говорят, Маргарита, редкостно повезло — вы теперь можете уехать в Германию, а вот нас всех тут Иваны перевешают. Маргарита же отвечала, что и не думала никуда убегать, и постепенно с ней согласились: лучше всего просто оставаться, где живешь — дома.
Из Вильнюса прибыли первые беженцы. Первые и последние. Город был эвакуирован. Немцы, бежавшие оттуда, все еще надеялись остаться в Каунасе: ходили слухи, — и им верили, потому что хотели верить, — будто между Каунасом и Вильнюсом стянуты крупные германские силы, которые в состоянии задержать врага.
Для других Каунас был лишь перевалочным пунктом: немцы стремились в Германию, как будто там они могли укрыться как за запертой дверью. Всякому немцу немедленно выдавали разрешение на въезд в страну и устанавливали лимит на килограммы багажа. Литовцам приходилось доставать специальные документы на выезд, впрочем, это было несложно. Одному нашему знакомому удалось забронировать для себя целый вагон и вместе с домашней утварью вывезти на запад тонны сала, сахара и прочего продовольствия.
Многие просто покупали лошадь и тележку и уезжали сами по себе, никого не спрашивая.
У нас появился профессор Энгерт с двумя дорожными саквояжами, в которых уместилось все, что ему удалось увезти, — свою обширную библиотеку, свои работы он оставил в большой, прекрасно обставленной квартире. Мы его спрашиваем: вы-то, профессор, зачем бежите? Он в ответ: как зачем? Да вы с ума сошли, дамы! Бегу и вам советую! Из всех этих русских только в первых войсках придут нормальные люди, европейцы, остальные — не приведи господь! Следом придут такие азиаты — всех поголовно вырежут и камня на камне не оставят! Мы пожелали ему счастливого пути и распрощались.
Улицы кишели солдатами, отставшими от своих частей, грязными, измученными, в одежде, почерневшей от пота и гари. Голые худые шеи торчат из гимнастерок, небритые подбородки, в глазах — страх, растерянность и уныние.
Поезда медленно проплывали в здание вокзала, вагоны от крыши до подножки облеплены людьми, как соты пчелами. Беспорядочный поток беженцев валил с вокзала в город. В противоположном направлении — к вокзалу — катился другой поток. Имперские немцы, рейхснемцы, посланные сюда для «колонизации восточных земель», с перекошенными лицами тряслись на тележках и дрожках, взятых напрокат в большом количестве, чтобы спасти что-нибудь из домашнего скарба. На одной из улиц я столкнулась со знакомой женщиной — детским врачом, она везла свой соллюкс[114]. Вы тоже едете — вот и хорошо, обратилась она ко мне. Нет, отвечала я, остаюсь, близ вокзала я оказалась случайно.
На самом деле — не совсем уж случайно. Я шла на маневровые пути — искать еврейские эшелоны. Может, хоть кого-то еще удастся вытащить!
8 июля около 1500 человек из гетто погрузили на баржи и повезли вверх по Мемелю. Комендант Гёке в очередной раз со своим знаменитым цинизмом толкал свою речь: мы, мол, вас от русских спасаем, мы вас увезем подальше от Иванов. Куда их повезли? Говорят, в Данциг. Баржи видели еще в Георгенбурге. Потом стали известно, что суда плыли восемь дней, прежде чем узников довезли до места назначения — концлагеря Штуттхоф. А через несколько дней из гетто вниз по берегу реки потянулась длинная вереница людей.
Эти шли через город к вокзалу. Грета собралась пойти на мост через Вилию, что вел в гетто. Строй узников прошел по мосту, медленно, у каждого в руках узелок. В старом городе один пытался бежать, скрыться в ближайшем доме — застрелили на месте. Охранников было очень мало, если бы заключенные решили разбежаться врассыпную, их никто бы уже не удержал, но бежать им было некуда. Двери литовских домов для них были наглухо заперты, их жители — люди без сердца и совести, отпускающие лишь гадкие шуточки в спину пленников, задавленных своим горем, своей смертельной тоской и одиночеством.
Так они и шли — по десять человек в ряду, молча, уставясь перед собой невидящим взглядом. Гретхен вдруг увидела фрау Абрамсон. Женщина вела за руку своего Сашу. Фрау Абрамсон! — киваем ей, машем. Не замечает. Грета следовала за ними до самого вокзала, куда их отвели дальше, она не видела. Сил у нее больше не было, вид такого отчаяния кого угодно доведет до полной потери сил, домой моя дочь вернулась совершенно разбитой. Куда их дели, мы придумать не могли и, как ни горько, готовы были их уже похоронить. Лишь спустя год, когда война уже миновала, многие из тех пропавших стали возвращаться домой и рассказывали о своей жизни в лагере такие ужасы и мерзости, что мы поначалу отказывались такому верить. Но вскоре стали появляться все новые и новые подтверждения, все новые и новые очевидцы и жертвы, так что никто уже в правдивости бывших узников не сомневался.
Вот что рассказала Эмма Френкель, вернувшись в июне 1945-го из Германии в Каунас. Ей тогда лет четырнадцать было.
В каунасском гетто она работала в прачечной, где обстирывали гестаповцев. Когда в понедельник 4 июля 1944-го[115] из гестапо не привезли очередной партии грязного белья, в гетто почуяли неладное. Но несколько дней все было тихо, пока не пришел приказ: отправить 5000 человек на работы. Первую партию отправили на тех самых баржах вверх по реке. Остальных — в товарном составе с вокзала. Это их Грета видела в городе. В том эшелоне оказалась и Эмма Френкель.
Их погрузили в товарные вагоны, выдали провиант в дорогу: хлеба, искусственного меда, лимонада. В каждом вагоне оказалось человек по 50 и один вооруженный эсэсовец. Пока состав шел по литовской территории, семеро смельчаков из вагона, где оказалась Эмма, выкарабкались на крышу через узкое окошечко и спрыгнули с поезда. Часовые спали, так что из всего поезда многим удалось спастись. Некоторым, среди них — фрау доктор Барон, известному в нашем городе дантисту, посчастливилось еще на вокзале скрыться, воспользовавшись всеобщими сумятицей и беспорядком.
На второй день к вечеру поезд остановился. Мужчин отдельно отправили в Дахау. Женщин распределили по грузовикам и отвезли на дезинфекцию, а потом еще километра два пришлось идти пешком, пока, наконец, они не оказались на широком дворе. Велели сложить в кучу ручную кладь, пройти в помещение и, без всякого надзора, раздеться. При себе разрешили оставить три вещи: зубную щетку, расческу и очки. Врач-поляк проверил у каждой уши, рот и волосы, а потом каждую досмотрел на гинекологическом кресле — не припрятано ли и там у них золотишко. После дезинфекции, как были голые, вышли снова на двор, и каждой выдали байковую робу, по паре мужских трусов и полосатый халат[116].
В таком виде прошли еще несколько километров — до лагеря Штуттхоф. Работы там никакой не было. Все время занимали ежедневные бесконечные переклички, когда часами приходилось торчать на жаре, босыми ногами в горячем песке. За малейшую провинность нещадно били и называли не иначе как «потаскуха» и «старая скотина».
Через несколько недель в отдельную группу отобрали уже нетрудоспособных и детей. Всех увели в крематорий. Оставшихся поделили в группы по сотне в каждой. Эсэсовцы и девицы из BDM[117] проштемпелевали всех узниц специальными номерами и велели впредь на эти номера и отзываться. Сообщать друг другу свои номера заключенным запретили.
Каждой выдали одеяло, пальто, миску, деревянную ложку и башмаки, не важно — впору ли они оказались или нет. По железной дороге узниц доставили в Дербек. Подходить к окну и выглядывать наружу во время пути было запрещено. Когда прибыли, женщины по приказу выгрузили из вагонов палатки и в глухой пустынной местности разбили лагерь по сто палаток в ряду. Спать приходилось на соломе. Здесь невольниц ждала тяжкая работа: в открытом поле, прямо на жнивье выкапывали противотанковые рвы метров по шесть в длину, четыре в ширину, три с половиной в глубину. Невольницам не забыли пригрозить: не успеете в срок — останетесь без ужина. Эмму как-то до полусмерти колотили за то, что, проходя мимо поля, засеянного брюквой, осмелилась стащить одну кривенькую, высохшую брюквину: «Жидовская мразь! Скотина!» — в очередной раз услышала девочка в свой адрес, как слышала уже много раз. Утренняя перекличка начиналась в пять утра, до поля, где шли работы, — пять километров ходу. Пока дотащишь на себе тяжелый заступ — уже никаких сил не останется. А работать еще десять часов с перерывом на тридцать минут. По воскресеньям работали до двух.
На ужин — суп из нечищеной картошки, нечищеной брюквы, нечищеной свеклы. И каша. Иногда лагерное начальство специально тянуло с ужином, выставляло суп в огромном чане простывать на улице и не подпускало к еде никого из узниц: пусть потерпят, а то больно жрать здоровы! В день заключенным выдавали 275 грамм хлеба, 20 грамм маргарина и мармелада, по утрам разливали горячий кофе. Из тысячи невольниц что ни день семь-восемь умирали. Их закапывали в общую яму. Комендант лагеря обершарфюрер[118] Энгель ругался на чем свет стоит: сегодня только пять трупов! Что ж они так медленно дохнут! В других лагерях по двадцать штук в сутки копыта отбрасывают! А то и больше!
Через две недели показалась польская граница близ Гутавы. Палатки перевезли тем же эшелоном. И здесь в жесткой утоптанной земле пришлось рыть противотанковые рвы и траншеи для прокладки кабеля. За работой наблюдал один специалист из поляков. Ему удалось на короткий период несколько облегчить заключенным жизнь и труд за спиной у этих — в черной форме. Он таскал узницам хлеб, соль и самое ценное — швейные иголки.
Комендант Энгель, уроженец долины Мемеля, запретил заключенным пить воду из резервуара — она, мол, только для немцев. Узницам пришлось пить воду из реки и в реке же мыться. В ноябре, когда совсем стало холодно, заключенных переселили в деревянные тесные бараки с тонкими дощатыми стенками, глухими, без окон — финское изобретение. В одну такую хибарку набивалась сотня женщин, завшивели тут же все чудовищно, так что и после войны не могли долго еще до концы избавиться от паразитов. В больничном бараке тоже все кишело вшами. Там лежали с обмороженными конечностями уже почти без надежды на выздоровление. Одежда, насквозь мокрая от дождя, не высыхала за ночь, а утром ее снова приходилось натягивать и отправляться на работы. Стоило постирать что-нибудь из вещей, как она тут же застывала от холода и могла сохнуть сутками.
В декабре в их убогое жилище поставили железную печку, которая, конечно, не могла согреть сотню закоченевших человек. Женщины распухшими пальцами ловили друг у друга вшей с тела и одежды, пытались мыться своим теплым утренним кофе. Они выдалбливали промерзший картофель, наполняли его маргарином и использовали вместо свечки: лучше голодать, чем замерзать в кромешной тьме.
Когда настал январь, темный, ледяной, ветреный, глинистая почва промерзла насквозь и превратилась в камень, а когда немного потеплело, оттаяла и превратилась в месиво из комков грязи, в кашу, чавкающую под ногами.
Упрямая, тупая воля к жизни заставляла узниц держаться, держаться, держаться. Орудия наступающей армии гремели все ближе и ближе. Одна из заключенных, венгерская еврейка, убирала комнату коменданта, краем уха слушала время от времени иностранные радиостанции, от нее невольницы знали, что дела вермахта на фронте идут все хуже и хуже, и надеялись, верили, ждали. И всем было понятно, почему комендант с неподходящим именем[119] пребывает в столь мрачном расположении духа.
25 января 1945-го отобрали 500 самых крепких и трудоспособных женщин и увезли. Пятидесяти больным в тифозном бараке Энгель лично что-то впрыснул в руку. Еще три сотни, которых сочли не пригодными к работам, отвели на холм, в три ряда уложили на снег, и Энгель с помощниками расстреливал их одну за другой. Но вдруг расстрел оборвался на половине, и кто-то из немцев произнес: «Бежим! Самое время свалить отсюда!»
Те, кого не успели расстрелять, поднялись и смотрели, как убегают их мучители и убийцы. Свободны! Свободны! Остались живы и больные в тифозном бараке: доза яда, впрыснутая Энгелем, оказалась не смертельной. И все же женщины настолько были еще запуганы и затравлены, что не верили своему счастью. В воскресенье пришли русские, заглянули в барак и, увидев женщин, чуть не расплакались: больные, высохшие, тощие, оголодавшие, вшивые, оборванные, до времени постаревшие, серые — для немцев их вид был очередным поводом для глумления и унижений. Но русские не выказали ни малейшей брезгливости или гадливости, только глубокое человеческое сострадание: мы, говорят, думали — это все пропаганда, когда нам такое в кино показывали. Никогда бы не поверили, что это и вправду возможно, если бы сами не увидели.
Женщин вывели из бараков и отвели в дом, где раньше размещалось лагерное командование. Через пару дней прибыл полевой госпиталь. Доктор Морозов лично перетаскивал на своих плечах больных узниц в помещение. Человек двадцать женщин уложили на санки и отвезли в крестьянскую усадьбу, где для них специально натопили баню. Старые лагерные вшивые одеяла забрали на дезинфекцию, выдали новые, солдатские, новое белье и каждой по свитеру. Вернувшись из бани, бывшие пленницы получили по стакану горячего молока, свежие соломенные подстилки, витамины, лекарства, необходимые инъекции. Медсестра по имени Вера без всякой гадливости состригла женщинам волосы, кишевшие вшами, и каждый день грела воду для мытья. На нижнем этаже дома лежали тяжелые больные, этажом выше — легкие и здоровые. Здоровые помогали ухаживать за больными. Среди бывших узниц немало было таких, кто от чрезмерного истощения и побоев, несмотря на уход и лечение, так и не выжил. Прочие быстро поправлялись. На запад шли все новые и новые войска русских, солдаты подкидывали женщинам кто сухарей, кто сахару, кто чего-нибудь из одежды. Военные корреспонденты заходили в госпиталь взять интервью и сделать пару снимков.
Четыре недели оставались женщины в том госпитале, потом их перевели в место, еще больше напоминавшее им рай: в Дойч-Эйлау[120]в доме одного генерала расположился военный госпиталь 1749.
Доктор Столова по-матерински опекала женщин: навещала их каждый день дважды, измеряла каждой температуру, делала перевязки, поила лекарствами. Бывшим узницам по утрам разносили кофе и чай с молоком и сахаром, больным дополнительно давали белый хлеб и диетическое питание. Здоровых кормили супом, мясом с овощами, на десерт еще и компот. Подушки на кроватях обтянуты белыми наволочками! Вчерашние невольницы были бесконечно счастливы и одновременно несчастны: именно сейчас, когда все было уже позади, больше всего стало жаль себя, жаль свое изношенное, изувеченное, истерзанное тело, более всего угнетало страшное одиночество и пустота.
Через три недели этот госпиталь перевели в другое место, женщин определили в новый, где с ними обращались значительно менее ласково: их заставили мести двор, а недружелюбная сестра Маруся не выдавала нужные лекарства. Прошло еще четыре недели, и еще один, великолепно оборудованный полевой госпиталь доставил женщин в Лодзь на сборный пункт гражданской регистрации. Из всех литовок, некогда содержавшихся в лагере, в живых осталось лишь двадцать две. После регистрации их отправили обратно на родину.
В то время мы уже не надеялись никогда больше увидеть кого-либо из узников гетто, увезенных из города на баржах и в товарных вагонах. Эстер с семьей, как оказалось, также была депортирована. Ее брат Германн вот уже несколько недель скрывался в доме у…[121] в Шанцах, где строил подземное убежище для себя и со временем — для всего своего семейства. Депортация многим спутала все карты, нарушила все планы. Лишь спустя год из Германии в Каунас пришла весточка от второго брата Эстер Макса и мужа ее сестры Сони — обоим мужчинам удалось выжить в лагере Дахау.
Гетто было упразднено. Когда ушли из города последние эшелоны, немцы совершили последний рейд на территорию, все еще обнесенную колючей проволокой: искали — кто еще прятался в «малинах». Об укрытиях знали — на допросах под пытками узники гетто выдавали свои укрытия. Тех, кого еще нашли и вытащили на свет, немцы либо отправили вслед за уже депортированными, либо расстреляли на месте. Однако под землей осталось еще немало невольников, и убийцы, уже отступая, в довершение своих зверств один за другим спалили в гетто все дома и постройки.
Подземелья наполнились дымом и гарью, люди задыхались или сгорали вместе с домами. Часовые стояли наготове: кто вылезет и попытается спастись бегством — стрелять на месте. Мало кому повезло схорониться в подземелье и уцелеть. Так в одну из «малин» набилось тридцать четыре человека, там они дождались, пока немцы уберутся из города, и лишь после того решились выйти наружу.
После того как в Каунас вошли русские, мы пришли на место бывшего гетто и увидели развалины, обгоревшие печи, дымящиеся руины и обугленные трупы на пепелище сожженных домов. В жарком летнем воздухе некуда было укрыться от тяжкого запаха гниения и разлагающейся плоти.
С горы мы видели столбы дыма на том берегу Вилии, думали поначалу — так, случайный пожар, а потом поняли — не случайный. Они нашли время еще для одной мерзости, прежде чем «свалить».
Орудия грохотали все ближе и все тревожнее, так неровно колотится сердце в груди больного — то заходится в бешеном надрывном ритме, то опять внезапно утихнет, бьется ровно, а то и совсем замолкнет. В городе паника: ходили слухи о звериной жестокости русских, линия фронта придвинулась вплотную к городу, люди совсем потеряли голову. Остановились фабрики, закрылись учреждения, жители в спешке паковали вещи и бежали вон из города, продуктовые карточки стали совершенно бессмысленными — купить на них нельзя было уже ничего. Хлеб приходилось выклянчивать у солдат.
Многие тащили с собой всю свою домашнюю утварь и мебель, улицы переполнены были тележками и грузовиками. Что станет с городом? Останется ли что-нибудь от Каунаса? Беженцы из Вильнюса рассказывали, будто там разрушены целые кварталы, и стреляют в каждом доме, в каждом закоулке.
И вот, когда из города бежали перепуганные толпы, представьте себе — кто появился в нашем доме? Фройляйн Йоруш! Как уж ей удалось получит визу в таком кошмаре — бог ее знает, но только она так за нас перепугалась, что решила во что бы то ни стало из Кенигсберга приехать в Каунас и навестить нас. Мы встретили ее печальными вестями о Лее, о сожженном гетто.
Оставались бы с нами, фройляйн Йоруш, а? Но она, едва дождавшись, когда в город войдут русские, уехала. Добросердечная женщина уговаривала Мозичек отправиться с ней в Кенигсберг. Бедная Мозичек не знала, куда податься: она говорила лишь по-немецки и потому хотела бы осесть где-нибудь на немецких землях. Она запаслась чем смогла в городе, объятом истерикой, выправила себе поддельный паспорт и через несколько дней под видом «арийки» уже пересекала границу Германии.
Наташа вернулась с нами из Кулаутувы: она решила любым способом спасти мать «маленькой Регины»[122].
Мы тогда еще не знали, что мать «маленькой Регины» была расстреляна при попытке покинуть гетто, расстреляна вместе с одной молодой литовкой, которая помогала еврейке бежать. Лея с матерью, эти двое — сколько же можно!
Руткунас с семьей перебрался в деревню, а Стасю оставил одну в городской квартире. Соседи мгновенно донесли в полицию. Когда мы пришли ее проведать, нам сообщили, что девушка пропала. Мне показалось это подозрительным. На другой день Наташа навела справки, и выяснилось, что Стасю увели два гестаповца.
Мы сидели в доме у Наташи совершенно подавленные. Но когда я возвращалась к себе, навстречу мне вышла Стася. Я не поверила своим глазам: откуда, как, что? Она была совершенно измучена, еле ноги волочила, лицо искажено мукой — печальный образ. Почему последнее время мне являются не ангелы с доброй вестью, а вот такие истерзанные призраки? Знаками Стася дала понять, что не хочет говорить со мной здесь, на улице, и мы поторопились в дом обрадовать Грету. От Наташи мы знали, что бедную девочку в тюрьме пытали до полусмерти, а потом, еле живую, выпустили на волю. Наташа взяла ее к себе и поселила в опустевшей комнате соседей, а сама спешно уехала обратно в Кулаутуву.
Мы поехали в Кулаутуву вместе с Наташей. Герта Зархи увезла туда же мать и подругу. Наташа забрала туда из детского дома крошку Дануте.
В Кулаутуве мы, не находя себе места, бродили по лесу. Птицы пели, как и прежде, но сердце больше не радовалось. Птичьи трели заглушались рокотом канонады где-то уже совсем недалеко. Беспокойство наше так возросло, что в один прекрасный день мы сели на паром, который ходил теперь безо всякого расписания, и вернулись в Каунас.
Из порта мы шли домой задними дворами, чтобы не дай бог не наткнуться на немецкие отряды, занимавшие окопы, и возводившие переправу через реку. Но как раз в одном из таких глухих переулков мы и попались кому не надо. Вместе со многими другими нас сначала согнали в один из дворов, а потом погрузили на грузовики. Мы уже прощались с белым светом, как вдруг мне пришла в голову мысль: надо попробовать мое последнее и самое верное средство: «Что вы себе позволяете! — заявила я охранникам. — Как вы можете меня, этническую немку, забирать на тяжелые работы вместе с остальными!» — и я сунула одному из конвоиров под нос мой литовский паспорт, в котором тот ни слова не мог прочесть. Ах вот как, этническая немка! Простите, простите. Вы свободны.
Только вошли в квартиру, приходит домовладелец и сообщает: на днях поздно вечером нас разыскивали двое из гестапо, требовали у хозяина, чтобы отпер нашу дверь, он утверждал, будто у него нет ключа, и они отстали и убрались.
Перепуганные, мы не решились остаться на ночь в квартире и ближайшим же пароходом снова уехали в Кулаутуву. По дороге мы снова явственно слышали пушечную пальбу, то там, то здесь поднимались столбы черного дыма. Русские наступают, должно быть. Воздушной тревоги не объявляли уже несколько дней. С балкона городской квартиры накануне мы наблюдали над городом воздушный бой, на который горожане не обратили уже никакого внимания.
В нашем лесном домике в Кулаутуве мы были в безопасности, однако долго я в этой глуши не вынесла: как только пошел очередной паром, вернулась опять в Каунас. Пассажиров на пароходе было не много, а на пристани в городе, напротив, — целая толпа беженцев, стремящихся убраться поскорей из Каунаса, как только представиться возможность.
Город был тих и казался совершенно опустевшим. В старом городе узкие окошки домов и магазины заперты и наглухо заколочены досками. Стекла разбиты, мостовые усеяны осколками. Витрины в трещинах или раскололись на множество частей. Ни один магазин не работал, Аллея Свободы пуста, ни души. Созрели каштаны, в поздних липах жужжат пчелы.
И мне вдруг представился дорожный указатель — «Здесь начинается „Ничья земля“». Да вот так и выглядит Ничья земля, бездыханное, обескровленное пространство между наступающим победителем и бегущим побежденным. На этой Ничьей земле никто не станет тебя искать, никто не придет ночью из гестапо тебя арестовать. Но меня вдруг охватил страх, я кинулась звонить нашему домовладельцу: все ли спокойно? Почта оказалась открыта, но окошки заперты, позади запертых окошек — отчаянная суета и беготня. О телефонной связи можно было забыть. Я пошла дальше. В воздухе пахло гарью и носились клочки горелой бумаги. Городская электростанция превратилась в дымящиеся руины, на которые потерянно глядели несколько человек.
Хозяин нашего дома встретил меня на этот раз иными вестями: говорят, полиция больше не устраивает обысков и облав, им больше нет до нас дела. После того как взорвали электростанцию, водонапорную установку, крупные фабрики, вокзалы и аэропорт со всеми мастерскими и ангарами, гестапо, поговаривают, сбежало из города, да и вообще — из Литвы.
Наша квартира была сиротливо пуста. Мне не хватило духу устроить приличную уборку. Не забрать ли еще что-нибудь из моих пожиток? А, потом, не сейчас. И я легла и уснула, глубоко и спокойно, хотя город и сотрясался от артиллерийской стрельбы. Утром, часа в четыре, мне показалось — началось землетрясение. Дышать было нечем, воздух тяжко давил на грудь. Я подошла к окну — небо горело желтыми всполохами. Гроза, утренняя гроза, смешивалась с канонадой, словно собачий лай с львиным рыком. По городу то там, то тут разносился долгий пронзительный свист — ссссссссссссс! Потом грохот, удар, земля — ходуном, снова и снова. Нет, это уже не гроза, это совсем другое.
Я пошла на рынок: одна женщина продавала огурцы, другая — сахарин. И все, больше ни кого. Дома я нашла немного муки, сахара, консервы, в саду — немного овощей. Все это я отнесла Стасе. Девушка заперлась у себя в коморке, как будто целую неделю уже не выходила из дома и даже не вставала из-за стола. Она все никак не могла отойти после пережитого в гестапо. Я пыталась было заговорить с ней о другом — пусть развеется, отвлечется, но она в последнее время ни с единой живой душой ни словом не перекинулась и теперь ей нужно было лишь одно — излить кому-нибудь душу.
Я стояла у нас во дворе, появились три гестаповца, увидали меня — тут же ко мне, документы, говорят, давай, жидовка! Пошли со мной в квартиру, я достаю из сумочки свидетельство о крещении — вот, протягиваю, смотрите. Фальшивка, говорят, сразу видно — жидовка ты и больше никто. Я делаю вид, будто ничего не знаю. Они говорят: бери сумку и иди с нами. Я хотела было выбросить из сумочки дневник, что мог меня выдать, да не успела. Пришлось и его нести с собой в гестапо.
Привели в полицию. Начальник стал требовать, чтобы призналась во всем как есть, а не то худо будет. Я все твержу свое: литовка я, литовка и больше знать ничего не знаю.
Тогда те три гестаповца отвели меня в отдел внутренней безопасности. Там служащих в комнате сидело человек пятьдесят. Одному из них, сидевшему за отдельным столом, те три типа передали протокол моего допроса. Когда меня ввели, эти чиновники ухмыльнулись: жидовка, как есть жидовка, сразу видать!
Тот за столом стал допрашивать: когда из гетто сбежала? В каком форте расстреляли отца? Зовут как — Майя, Сара? Если я отвечала не сразу, на меня сыпались подзатыльники и оплеухи. Окружающие с увлечением наблюдали, их этот спектакль явно приводил в ликование. Смех, шутки, веселье: ха-ха, жидовка захотела стать литовкой!
Я отвечала, что я, как указано у меня в паспорте, из Утены. К счастью, Утену, при явном сотрудничестве литовцев, только что взяли русские, так что проверить мои показания у гестаповцев не было никакой возможности. Отец умер, мать — без средств, потому и пришлось мне устроиться здесь в Каунасе горничной.
Если ты католичка, перекрестись, говорят они. Прочти молитву — «Аве Мария» или «Отче наш». Я перекрестилась, но слов молитвы не знала. Меня снова стали бить. Да была ли ты вообще когда-нибудь в церкви? Где в церкви орган? Я знала, где орган. А где в церкви сортир? Хохот по комнате. Ничего, утром признаешься, никуда не денешься!
Меня отвели в подвал и заперли в канцелярии. Две минуты я была одна. Я выхватила дневник из сумочки и спрятала его в рукаве моего платья. Явился тюремщик и впихнул меня в камеру. Оставшись одна, я изорвала дневник на мелкие кусочки и через решетку выкинула их за окно, вниз, где между стеной тюрьмы и оградой оказалось столько грязи, что мои бумажки там никто бы не заметил.
На подоконнике лежала колода карт. Я перемешала их и загадала: вытяну черную масть — убьют, красную — выживу. Мне выпала бубновая десятка.
Кровать была вся разбита. Я уложила доски на пол и глубоко уснула. Проспала почти весь следующий день. Принесли еду — я не притронулась. Вечером меня снова отвели на третий этаж на допрос, на этот раз — к какому-то типу в штатском. Он разговаривал со мной мягко, будто пытался подластиться, заискивал, говорил тихо и вежливо, увещевал: признайтесь, мол, барышня, вам же лучше будет. Я стояла на своем.
Меня снова отвели в подвал. Принесли завтрак — кофе, хлеб, искусственный мед. Не притронулась. Утром снова на третий этаж. Там сидел коротышка в зеленой униформе с серебряными пуговицами, с остренькой козьей бородкой. Он пытался действовать внушением, глядел мне прямо в глаза и все науськивал: признайся, признайся! Наконец, не выдержал: мы тебя заставим признаться, дрянь!
Вскочил, схватил резиновую дубинку, банан так называемый, и со всей силы хлестнул по столу: признавайся быстро — пять минут даю! Он глядел на часы. Я молчала. Тут он меня схватил, перекинул через стул и задрал подол. Увидел мои панталоны из голубого шелка и заорал: горничные не носят такое белье! Говори, кто такая, жидовка! Я сопротивлялась как могла, но он, вконец озверев, бил меня дубинкой, пока я от боли и саму боль уже перестала чувствовать. Тогда он швырнул меня в кресло и облил холодной водой, постоянно повторяя: признавайся, дрянь, признавайся!
Он вышел и вернулся с тремя здоровенными крепкими парнями. Двое держали меня, третий бил. Я все упиралась. Удары сыпались на спину, на ноги, на бедра и ягодицы. Снова кидал в кресло и обливал холодной водой. Я терпела, стиснув зубы и ни звука не издала. Но в конце концов произнесла: не стыдно здоровенным мужикам лупить беззащитную невиновную женщину?
Коротышка с бородкой весь затрясся от возбуждения: ты у меня не увидишь ни гестапо, ни девятого форта! Мы тебя прямо здесь во дворе расстреляем! Потом снова допрос: на какой улице в Утене жила? Где была твоя школа? Я называла наобум улицы, которые можно найти в любом маленьком городке.
Вошел другой чиновник и заговорил со мной на идиш: я тебя, говорит, знаю — ты в гетто в прачечной стирала белье. Когда тебя били, ты кричала «Мамеле» [123] . Потом он заговорил на иврите, прочел молитву, бросил несколько скверных слов. Я глазом не моргнула: знать не знаю, что вы такое говорите. Человек, я вижу, засомневался — может, я и вправду не еврейка. Прежде чем он вышел, я стала просить его помочь. Ничего не могу для вас сделать, был ответ. Его коллега сам разберется.
Я вернулась в подвал. На спине лежать не могла — так было больно. Легла на живот и уснула до следующего полудня. Есть снова не стала. Часов в пять меня привели в канцелярию там же в подвале и отобрали сумочку. Тот, с бородкой, стал мне нашептывать: я ведь помочь тебе хочу, дурочка. Будешь работать у меня. Русские придут — скажешь им, что я тебя спас: так, мол, и так — неплохой человек. Или если хочешь — уедешь с другими евреями в Германию. Ножки-то болят? Намочи трусики, приложи — будет компресс, боль отпустит. Ну, скажи-ка мне теперь, кто ты такая, как тебя зовут? Я тупо повторила то же самое: я литовка из бедной семьи, не понимаю, чего еще они от меня добиваются. Вот дура упрямая, выругался допрашивающий, ну, держись, утром запоешь у меня по-другому.
Оказавшись снова в камере, я расплакалась. Плакала, пока не уснула. Вечером надзиратель меня спрашивает: ты почему не ешь? За что тебя здесь вообще держат? Помогите мне, говорю. Эх, девочка, отвечает, мне бы кто помог. Я ведь и сам отсюда сбежать мечтаю, да не пускают.
Ночью завыла воздушная тревога. Чиновники спрятались в подвале, и я услышала, как они разговаривают близ моей камеры. Да, гестаповцы свалили в рейх, но до них уже никому и дела-то не было. Русские наступают, самое время делать ноги. Я слушала с искренним злорадством и мечтала только о том, чтобы какая-нибудь шальная бомба в одночасье прикончила и меня, истерзанную и оплеванную, и этих перепуганных людишек.
Утром — опять на третий этаж. Коротышка с бородкой дрожал от возбуждения и, так и не дождавшись от меня нужного ответа, одной рукой зажал мне рот, другой стал бить. Я отчаянно защищалась, порвала юбку. А он дубасил меня по уже истерзанным местам, синим, опухшим. Боль была невыносимая. Он сам вымотался, стал пунцовым и остановился, наконец, тяжело переводя дух.
Я вернулась в камеру и несколько часов проплакала. Вечером, часов в семь явился тот с бородкой и сообщил, будто бы он был в гетто, навел обо мне справки, и теперь ему вся моя подноготная известна. Я молчала, молчала, как каменная. Он вдруг достал из кармана сверток — булочка с маслом и колбасой: чего не ешь? На, поешь. Я отказывалась, он настаивал: не станешь есть — плохо будет! Я расплакалась, взяла все-таки бутерброд. Может, отравленный, подумалось мне. Стала есть, мне сделалось совсем худо, и я надрывно разрыдалась.
Во вторник утром меня снова привели к коротышке. По-немецки говоришь? Нет, не говорю. Отвернись лицом к стене. Стоило мне отвернуться, он стал меня бить и допрашивал меня, пока я глядела в стену. Он страшно бесился, я всякую минуту ждала выстрела в спину. А он орал не своим голосом, угрожал, давил на меня — лишь бы вытянуть из меня признание.
Когда меня отвели снова в мою каморку, я совсем уже потеряла надежду на спасение, но решила ни в чем не признаваться до конца. Пусть застрелят — ничего не скажу. В четыре часа дня я снова на третьем этаже, и коротышка зачитывает мне протокол: еврейка Стася Бириетайте, выдающая себя за литовку, поступает в распоряжение гестапо.
Я вспомнила разговоры чиновников там внизу, в бомбоубежище во время бомбежки, и отвечала, что даже рада попасть, наконец, в гестапо — уж гестапо-то, наверняка, будет ко мне милостивее. Он, я заметила, на минуту утратил дар речи, а потом прохрипел: я тебя лично отвезу в девятый форт и там пристрелю! Подошел совсем близко ко мне и зашептал: да пойми ты, дура, сослужишь мне добрую службу — отпущу. Я до смерти перепугалась — чего же вы желаете: я шить умею, готовить, стирать могу, носки штопать. А он в ответ: оставайся со мной нынче ночью — выпущу на волю.
Тут уж я больше не стерпела: заорала, заголосила, забилась в истерике, завыла от безнадеги. Тот испугался, побежал смотреть за дверь — не подслушал ли кто, и снова ко мне: не ори, дура! Все, хватит с тебя, вали отсюда! Он сам отвел меня вниз, в канцелярию, отдал мне мое свидетельство о рождении, фотографии Руткунаса и его жены, велел охраннику выдать мне пальто и сумку: пошла вон, жидовка чертова! Проваливай к дьяволу!
Охранник отвел меня к выходу. Я с трудом передвигала ноги, каждый шаг давался с трудом, медленно, еле-еле дотащилась до дома. Мне понадобилось для этого несколько часов.
Я хотела навестить наших друзей-голландцев, но улицу Ландштрассе перегородили — не пройти. Повсюду солдаты с зенитками: вы прямиком на фронт бежите, гражданочка, он как раз в том направлении.
Я пошла полями, минуя с опаской солдатские расположения, и добралась, наконец, до голландского садоводства. Длинными рядами стояли точно вымеренные парники — целые, нетронутые. Корова толклась на куче выполотых сорняков, домик с просторной верандой дремал среди фруктовых деревьев под мягким июльским солнцем. Тишина, спокойствие. Среди грядок, культивированных пятнадцать лет назад из этой болотистой вязкой почвы, возвышалась фигура хозяина-садовника.
Когда же это все кончится — был наш вопрос друг к другу. Мы прошлись между ухоженных теплиц, где наливался урожай винограда. Созреет ли он еще в этом году? Не рассыпятся ли от артиллерийского грома эти стеклянные домики? На горизонте поднимались столбы черного дыма, воздух гудел и сотрясался от раскатов канонады. Вокруг возделанного садоводства, в диких полях торчали как лес стволы орудий, суетились солдаты.
Отведет ли уверенное спокойствие садовника войну от его сада? Здесь ничто не напоминало ни о метавшемся в панике городе, ни о безмолвной пустыне, в которую он теперь превратился. Здесь по-прежнему тяпки дружными рядами выпалывали сорняки и выкапывали бороздки для молоденьких побегов, которые принесут плоды только на следующий год.
В пустом, застывшем в напряжении городе чувствовалось — скоро конец. Так женщина ожидает на свет появление своего ребенка: она и страшится, и радуется. Но мне передалось умиротворенное спокойствие друга-садовника, поэтому, вернувшись домой с корзиной подаренных им фруктов, я занялась консервированием. Я вынула из рам все окна и спрятала их в подвал — чтобы стекла не вылетали во время бомбежки — и пошла в порт.
На реке не было видно ни пароходов, ни паромов, но вверх по течению одна за другой уходили барки и катера — в надежде спастись город покидали беженцы. Маленький буксир, доверху груженный всяким добром из бог знает скольких брошенных квартир, подвез меня до половины пути. Остальной путь я прошла пешком по берегу. Река вся покрыта была лодками, дороги — тележками и фурами. В последний момент люди вывозили из города все, что не смогли оторвать от сердца.
В Кулаутуве меня уже с нетерпением ждали: русские были уже совсем близко, вот-вот будут в деревне. Курорт теперь был переполнен. Лишь виллы, конфискованные некогда для генерального комиссариата, стояли пустые, брошенные, только оставались старые таблички перед каждым домом: литовцам вход строжайше запрещен.
У нас кончились запасы еды, о которых мы во врем не позаботились. Теперь же пришлось бежать к крестьянам и выменивать пропитание на одежду и белье.
Прежде здесь почти не появлялись военные, теперь же в одну из ночей загудела земля, и в деревню одно за другим с треском и грохотом ввалились огромные железные чудовища. Они все шли и шли, все новые и новые, и, казалось, конца им не будет. Их гусеницы впивались в сухую поверхность песчаной сельской дороги, совершенно не приспособленной для бесконечной цепи тяжеловозов. Походя машины оставляли ямы и колеи, ломали молоденькие акации в придорожных аллейках, и, наконец, встали лагерем под соснами позади нашего участка.
Немцы копошились вокруг своих танков, словно жуки, и когда заглохли моторы, воздух наполнился немецкой речью, криками. Солдаты наводнили деревню. Мы не сразу заметили, что еще накануне в лесу то тут, то там расположились несколько крупных военных отрядов с грузовыми телегами и лошадьми. Вероятно, военный стан французской кампании[124] и прочих военных походов прошлых столетий не слишком отличался от этих, да и забота о пропитании лошадей и о солдатской полевой кухне выглядела, наверняка, так же: немцы просто реквизировали все, до чего только могли дотянуться.
Ворот нашего колодца скрипел день и ночь, и нам приходилось ни свет, ни заря нестись туда с ведрами, чтобы набрать воды и для себя. Железные монстры вторгались на наш участок, и солдаты безжалостно ломали молодые сосенки, чтобы замаскировать орудия ветками. Оккупанты квартировали в нашем доме, через бревенчатую стенку доносился просторечный диалект средней Германии — каждое слово, так что я и моя дочь принуждены были слушать их пошлые армейские анекдоты.
Солдаты топтались на нашей веранде, дивились нашему маленькому немецкоязычному «оазису» и уговаривали нас вместе с ними «свалить в Рейх»: большевики придут — всем конец. Бегите, спасайтесь, пока время есть!
Они всей компанией собирались прихватить нас с собой и понемногу стали беситься, когда мы раз за разом отказывались, предпочитая, кажется, стать заложниками у русских. Уж не шпионы ли мы? Нам пришлось разыграть перед ними целую комедию: у нас, мол, бабушка-старушка, совсем, знаете ли, нетранспортабельна, не довезем мы ее до Германии! Солдаты навязчиво ухаживали за хорошенькой Гертой и за моей Гретхен — таскали вино бутылками, хлеб, мясо и обижались, что их здесь «больше не уважают». Мы дождаться не могли, когда же они, наконец, совсем отсюда уберутся, и в один прекрасный день прозвучал приказ: немедленное отступление! Ор, крик, шум, гам, беготня, суета — ох, убрались, ну, слава богу!
Но на другой же день появились новые отступающие: пехота. Стали спрашивать дорогу на одну деревеньку, мимо которой давно уже прошагали несколько километров. Я предложила им остаться на ночь здесь — что за нужда, ведь войска все равно отступают. Солдаты, приободренные добрым словом, стали изливать передо мной душу. Да, отступают, да тащат свою никому не нужную солдатскую шкуру обратно домой, в Австрию. Их здесь заставляли дохнуть за ненавистный им режим, и скорее бы русские пришли в Берлин — давно пора! Тут, среди своих, им не следует распускать язык — до добра не доведет. Например, вон с тем парнишкой, что трусит вон там подальше, лучше вообще не общаться. Полчаса мы жали друг другу руки, словно добрые приятели: если б только мы могли остаться у вас хоть ненадолго, но нет — уходим, отступаем. Прощайте.
1 августа 1944 года русские взяли город Каунас. В официальном докладе значилось: «Город был взят в результате тяжких боев», на самом деле — в результате беспомощного отступления немцев, к счастью для города. А потом, как последняя волна, по берегу реки выстроилась батарея зениток. По реке не ходила больше ни одна лодки. В сутолоке и спешке на другой берег перебросили мост — не для танков, для них переправу соорудили двадцатью километрами ниже по течению, а для легких машин.
Здесь же перегоняли на тот берег стада домашнего скота, реквизированного у крестьян. По обеим сторонам реки бестолково топтались стада коров, лошадей, гурты овец, телеги с птицей, свиньями и поросятами. Возы с сеном и кормами один за другим переползали через поток. Казалось, жизнь утекает из этой земли вместе с рекой, словно кровь из свежей раны. Крестьяне бежали рядом со своей скотиной, пытаясь хоть что-то вернуть себе из разоренного хозяйства: умоляли, плакали, заламывали руки, вопили, сыпали проклятиями. Кое-кто из них привел меня на Ландштрассе: она знает немецкий, пусть переводит! А солдат — он тоже человек, он же не зверь какой. Пусть она растолкует ему, каково крестьянину глядеть, когда из его хозяйства последнюю захудалую коровенку или порося уводят. Солдаты на крестьян не обращали никакого внимания, продолжая твердым спокойным шагом передвигаться по мосту и уводя за собой трофеи.
Что и говорить — отступление было организовано на удивление четко и слаженно. И главное — отступая, бывшие теперь уже оккупанты не забывали прихватить с собой все, что только попадало под руку. Оно и понятно: что им теперь до этой земли? Они уходят и никогда больше и не вспомнят о ней!
И снова грохочущие страшилища завернули в наш сад. Пятьдесят человек солдат. Все саксонцы. Глядят на меня, выпучив глаза от удивления: как это — вы, немка, и еще здесь? Да ведь здесь будут применять новое оружие массового уничтожения! На несколько километров в округе ни одной живой души не останется!
Что-то я сомневаюсь, был мой ответ. Военные тут же насупились. Особенно обиделся один — с посеревшим от дорожной пыли лицом. Он воспринял мое недоверие как личное оскорбление. Да знаете ли вы, заявил он, что мы в этой стране уже со всеми врагами разобрались и скоро переходим в наступление, вот увидите — и трех недель не пройдет. Гитлер, он нарочно заманивает тупых русских в Восточную Пруссию — в ловушку! На другое утро они убрались прочь.
Между тем ночи стали равны дням, горизонт светился яркими всполохами, канонада уже не смолкала. Мы с Гретхен не стали спускаться в деревенское бомбоубежище, так надежно замаскированное молоденькими сосенками: мы обе были на взводе, нервы натянуты, как струны, забыли о сне и покое, страх начисто пропал, и перепуганные до полусмерти соседи только раздражали своей суетой и метаниями.
Махнув рукой на предостережения, мы отправились в лес. Земля усеяна была листовками: «Евреи — ваши враги. Это они развязали эту войну!» Зря стараетесь: в этой глуши ваши ядовитые посевы не взойдут. Кому здесь в чаще читать эти бумажки — дятлам да сойкам? А литовки-крестьяночки, что ходят по грибы, печатной продукцией не интересуются. Мы ушли далеко в лес, где на пригорках спела земляника, и набрали наши туески до верху. Вдруг как загрохочет, как загремит, будто со всех сторон сразу забарабанил по земле и деревьям крупный град — бум, бум, бум! Мы кинулись на землю и поднялись, лишь когда залпы утихли. Оказалось, что мы лежали прямо посреди обширного земляничника. Нет, такие ягоды мы оставить на кустах не могли. Тут опять загрохотало, еще громче, еще ближе, совсем рядом, так что уши заложило. И мы снова приникли к земле рядом друг с другом и снова собирали налившиеся соком ягоды, переползая на брюхе от куста к кусту. То пугались, то смеялись попеременно и все казались сами себе тем беднягой-сирийцем, погонщиком верблюдов, из стихотворения[125]. Тут у нас над головами просвистела какая-то светящаяся спираль, в ветвях загромыхало. Следом пронеслась вторая такая же. Ну, тут уж нам мало не показалось: мы бросились бежать домой, еще несколько раз падали на землю, прижимаясь к ней всем телом, перебегали от дерева к дереву, мчались через поле, зато дома уже расслабились и смогли порадоваться пахучим ягодам.
Нас угнетало наше собственное бездействие совсем рядом с линией фронта. Подумать только — ведь совсем рядом идет борьба не на жизнь, а на смерть, и то, что едва не настигло нас в лесу, — это осколки той борьбы. Мы ходили по деревне и говорили с солдатами. Три года, целых три года мы молчали, на три годы мы как будто отказались от родного языка. Любой, кто говорил на немецком, был нам лично ненавистен — это он виновен в гибели наших близких и друзей. В лучшем случае, если он и не убийца, то сбитый с толку дурак! Но нынче, когда они отступали, поджав хвосты, как побитые собаки, жалкие и раздавленные, эти люди с блуждающим безумным взглядом стали нам странно близки. Мы передавали им через забор кофе, и среди них были такие, кто не уговаривал нас бежать отсюда в Германию, но искренне завидовал нам, остающимся здесь, дома. Мы были с ними искренни, и наше теплое открытое отношение возымело действие.
У фрау Куторги уже несколько недель жила одна девочка, год назад бежавшая из гетто и служившая потом горничной в одной литовской семье. Барышня оказалась блондинкой со светлым личиком, по-литовски говорила без акцента, так что даже ее хозяйка ничего не заподозрила. Когда семья переехала в деревню, девочку забрала к себе Елена Куторга. Альдона и моя Гретхен мгновенно стали подружками и вместе стали ходить купаться на речку. И тут вдруг приходит Альдона к нам как-то вечером — белая как мел: у фрау Куторги обыск! На женщину донесли — она, мол, якшается с евреями и коммунистами. Альдона просекла ситуацию быстрее всех: увидела, как подъезжает полицейская машина, схватила папку с документами и дневники, прыгнула в окно и спрятала бумаги далеко в лесу. А потом кинулась к нам — предупредить. Кто знает, может, и по нашу душу придут. Девочка снова убежала в лес. Через сад мы видели у дома Куторги полицейский автомобиль. Он стоял там бесконечно долго, пока, наконец, не вышли два полицейских — одни, без Елены! Ее не арестовали! Слава богу!
Мы бросились к ней. Она еще не оправилась от допроса. В доме учинили скрупулезный обыск, но не обнаружили ничего подозрительного. На допросе она держалась спокойно и уверенно, отвечала просто и прямо и, кажется, весьма даже понравилась допрашивающим своей убежденностью и спокойствием.
Спустя день мы уже находились в самом эпицентре боевых действий, на самой линии фронта. Улицы опустели: жители прятались в лесу или в подвалах. Артиллерийская канонада накатывала волнами — одна за другой. Повсюду валялись осколки орудий, некоторые дома были повреждены, заборы — повалены, деревья — вывернуты из земли или переломаны. Один дом сгорел. На том берегу реки клубы дыма скрыли местечко Запишкис. Наш деревянный домик трясся, как будто сейчас развалиться. Мы спустились в бункер вместе с прочими. Подвал оборудовали все вместе: укрепили балки, пересыпали песком, замаскировали сосенками. Убежище получилось просторным и сухим, но туда набилось почти все село, да еще с домашним скарбом, с чемоданами и тюками. Дышать очень быстро стало совершенно нечем, и, как только утих грохот орудий, мы выползли оттуда на воздух.
Мы беспокоились о Людмиле — как она там совсем одна в домике на горе? Мы решили навестить ее, а заодно и фрау Лиду со всем ее приемным семейством. Мы оделись понезаметней и прошли, нет — прокрались через лес. Не по дорожке, а все больше по глухим тропам, пригнувшись к земле, перебежками от дерева к дереву. Дорога и поля были пусты. Хлеб, частично убранный, стоял в снопах, но добрую половину уже растаскали и, должно быть, давно уже съели.
В углублении близ дороги затаились два солдатика, совсем еще мальчишки. Наткнувшись на них, мы испугались и встали как вкопанные, но и они перетрусили не меньше — так внезапно мы выросли перед ними, как из-под земли. Радисты, что ли? — спрашиваю. Парнишки заулыбались — родной язык услышали, а мне вдруг почудилось, будто я снова оказалась в детстве, и мы, как тогда, играем в лесу в принцесс и разбойников.
Усадьба фрау Лиды была пуста, ни души, ни скотины, ни птицы, но дом был не заперт. Мы вошли, навстречу старая служанка Лизавета: фрау Лида со всеми детишками прячется в лесу. Коров давно уже угнали в чащу, после того как немцы, бандиты, украли свиней.
Пока мы говорили с Лизаветой, пришла Наташа в сопровождении белокурого планериста, друга и доверенного лица семьи, который все лето помогал по хозяйству и теперь помог спрятаться в лесу. Дом фрау Лиды стоял на холме, на открытом месте, так что оставаться здесь с детьми хозяйка сочла слишком опасным, тем более что о подземном убежище во время позаботиться не удалось.
Мы стояли перед домом, внизу — долина Мемеля, на том берегу реки — бои. Горит Запишкис. Там в крестьянский двор прямым попаданием залетел снаряд, и усадьба выгорела целиком минут за десять. А там над рекой свистят снаряды, разрываются в воздухе или бьют по воде. Вдруг загремело вокруг нас — мы оказались под обстрелом: свистело, гремело, ломало ветки, рвалось. Мы бросились за дом, но там было не укрыться, тогда побежали в лес — подальше, поглубже в чащу. Впереди была лощина, там можно было спрятаться. Мы оглядели друг друга — все целы, к счастью, и, успокоенные, мы стали карабкаться по склону. Нам в спину все громыхало и трещало, но в лощину уже снаряды не долетали.
Мы добрались до лесного убежища наших друзей, нас встретили с великим радушием и сердечностью: оставайтесь с нами! День клонился к вечеру — искали место для ночлега. Людмила также оказалась здесь, с гамаком под мышкой. Ей оборудовали спальное место в этом гамаке, подложив под голову пару подушек. Несмотря на сухую погоду, здесь, у ручья, веяло сыростью и холодом.
У фрау Лиды давно уже жил дедушка, русский старик, которого немцы согнали с родной земли и, отступая, дотащили до этих мест. Вместе с женой-старушкой, дочерью и двумя внуками старик нашел приют и работу у Лиды. Теперь он «свил» для дочки и внуков настоящее гнездо — превосходно оборудовал место на ночь, выстлал его мхом и одеялами и сделал незаметным в лесной чаще, особенно в темноте. Дочь дедушки, мать двух детей Клавдия Степановна, восседала среди зелени, как Мадонна. Для бабушки в «гнезде» отвели особое пространство, а сам дедушка со знатной бородой, в кителе с поясом, улегся перед семейным убежищем, словно сторож.
Фрау Лида пеклась о детях. Кроме совсем еще маленького Коли, в семье появился еще один еврейский младенец, которого принесла одна русская женщина. Она приютила его еще в Каунасе, а когда оставаться в городе было уже невозможно, недели две назад, она пришла вместе с ребенком к Лиде в Кулаутуву, где и ее, и мальчика, как беженка совершенно справедливо надеялась, немедленно приняли в дом. Сколько придется пережидать в лесу — бог весть. Хлеба и сала захватили вдоволь, коровы паслись у ручья, а значит, молока тоже хватит на всех.
Фрау Лида осталась у ручья среди детей, следила за коровами и цыплятами. Прочие прошли немного дальше, где густо росли ивы и ветлы, укрывшие нас под своими плакучими ветками. Дети повзрослее, Дануте, Ира и глухонемая «Глушечка», также принадлежавшая к пестрому приемному детскому сообществу фрау Лиды, взяли к себе мою Гретхен. Наташа, планерист и я решили держать караул и поднялись на холм. В долине стояли, впившись в землю, танковые и зенитные батареи, вздернув к небу дула, так воющие волки вскидывают морды к луне. Глухо грохотала канонада. И здесь тоже стреляли, здесь грохотало, гремело и сверкало без перерыва. Мы не решились идти дальше и вернулись обратно в лес.
А там уже оборудован был полностью ночной лагерь. Поскольку на нас с Гретхен не рассчитывали, когда уходили в лес, теперь на нас не хватало одеял. Пришлось всем немного потесниться, и нам достало места рядом с другими. Подушкой мне служила круглая буханка хлеба, завернутая в листья мать-и-мачехи. Рядом со мной спала хрупкая Павлаша, похожая на китаянку. Двигаться пришлось тихо-тихо, почти не дыша, — не дай бог заметят нас проходящие лесом солдаты или их привлечет наш неосторожный шум. Мы еще немного пошептались, а потом все стихло.
Совсем стемнело. Ветлы закрыли нас ветвями, как черным пологом. Сосны шумели в высоте. Небо взрывалось то здесь, то там. Канонада не смолкала, рокот накатывал волнами из-за реки. На сельской дороге, мы слышали, грохочут танки. Но мы уже спали, спали крепко и спокойно, как спали когда-то у себя в кровати под теплым одеялом.
Когда утро мы проснулись, планерист вернулся уже из разведывательного полета. Ушли, сообщил он, и все уже знали, о чем он. Мы желали увидеть это своими глазами, вскарабкались на холм: на равнине из глубоких рытвин торчали танки, равнина была пуста и беззвучна. Наш планерист-первооткрыватель нашел ее на рассвете именно в таком виде. Усадьба фрау Лиды стояла нетронутая.
Лида поднялась первая. Все принесенное из деревни было упаковано в обратный путь. Все ночевавшие в лесу еле могли устоять на месте от нетерпения: скорей бы обратно в усадьбу, где больше нет боев, где ждет что-то новое и еще неведомое. Вернувшись, дети и Лида нашли в доме старушку Лизавету. Дом был в порядке, и тут же на кухне был разведен огонь — готовим завтрак и все за стол!
Малышей, которых не смогли добудиться рано утром, оставили досыпать в лесу с русской семьей и коровами, но Колю Лида взяла с собой. Я же упросила ее доверить на время ребенка мне.
Я развернула его одеяльце, вынула сонного еще ребенка из свертка и, взяв его на руки, пошла на берег реки. Там, где начинался лес, долину окутывал туман из низины. Поляны блестели росой. Малыш проснулся и заулыбался, блестя своими милыми маленькими молочными зубками, когда мы с ним перебирались через ручей. Фрау Лида уже стояла на холме, ждала нас обратно. Тогда я самой себе казалась служанкой дочери фараона, что держит на руках спасенного младенца Моисея.
В тот день кончился кошмарный сон, исчезла ужасающая реальность, чудовищно, безумно и бессмысленно исковеркавшие жизнь тысяч, сотен тысяч людей. С новой верой, с новой надеждой мы теперь смотрели в будущее.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рассказ Толи[126]
В пятницу 29 июня 1945-го в нашем доме появилась Толя Шабшевич. Она собиралась в Кидайняй, но сначала хотела послать туда телеграмму и узнать у тамошних друзей своего мужа, готовы ли их принять, кстати ли будет их приезд. Наш адрес она раздобыла через друзей. Мы пригласили ее остановиться у нас на несколько дней. Первое, что она рассказала нам о себе, казалось невероятным, как-то не вязалось с ее персоной и даже противоречило ее простой, открытой, искренней натуре. Через неделю, когда мы прониклись друг к другу доверием, она поведала нам свою настоящую историю, которою с начале вынуждена была скрывать. В том, что на этот раз она рассказала истинную правду, сомневаться не приходиться — события эти вплоть до мелочей подтверждают другие очевидцы и участники.
Толе не было и тринадцати лет, когда немцы захватили Польшу, и толиной семье в ее родном городе Ласке велено было отправляться в гетто. У ее родителей было шестеро детей — брат и пять сестер. Старшая из сестер, уже замужняя, успела вместе с мужем бежать в СССР, как раз когда войска вермахта уже занимали страну.
В первый год оккупации гетто еще не было обнесено колючей проволокой. Евреям хоть и не позволено было жить в других частях города, но нарушить запрет тогда не составляло труда, и с поляками в городе связь держали постоянно. Из города приходили и жандармы, и солдаты, и просто горожане. В гетто организовали крупную швейную мастерскую, и туда заходили под предлогом заглянуть к портному, а подпольно совершали самые немыслимые гешефты.
Толю определили к портным, которые шили шинели для офицеров вермахта. Когда заказов не было, что случалось нередко, девочку отправляли на другие работы. Однажды приказали надраить полы в доме, предназначенном для комендатуры. Молодая немка в служебной униформе стала требовать, чтобы Толя вымыла большую комнату. Горячей воды не было — велели мыть холодной. Тряпку тоже не дали. Пусть девчонка снимет с себя штаны, заявила фройляйн, ими и моет.
Толя стала упираться, плакала, просила. Женщину ничто не трогало. Мой, стерва! — был приказ. И пригрозила: приду завтра, не будет чисто — попляшешь у меня! Комната была насквозь проморожена, вода и вовсе покрылась льдом. Толя стянула свои панталоны и стала ими намывать пол. Когда та в униформе вернулась, в штабе было убрано. Девочка, разумеется, не услышала ни слова признательности: «Свободна, сучка!» — единственное, что было сказано. Что такое «сучка», Толя толком не поняла, и просила теперь меня объяснить, что та женщина имела ввиду.
К Толе приставили солдата, чтобы отконвоировал ее обратно в гетто. Вернулась, а там пусто. Оказалось, семья спряталась в подпол: днем был рейд, инспектор заявился в дом к соседям и приказал всему семейству до гола раздеться — сначала родители, потом дочь и сын. Дочь показалась инспектору не достаточно чистой, и брату велено было взять щетку для натирания полов и «отполировать» сестру.
Известие о таком скотстве так напугала Цабцевичей, что они укрылись в убежище и не решались выйти всю ночь. Только утром она поднялись из подпола и легли спасть. В шесть утра инспектор появился и у них: всем раздеться! Девочки растерянно поглядели на мать: как быть? «Дети, — выговорила мать, — раздевайтесь». Инспектор шибанул ее резиновой дубинкой: и ты тоже, старая корова! Младшая из дочек, хорошенькая, как херувим, Люба спряталась в кровати, накрывшись с головой одеялом. Этот мерзавец вытряхнул ее наружу со словами: «Что еще за черт — кто тут дрыхнет?» Девочки сняли одежду. Мать сопротивлялась, хотя он бил ее нещадно: «Снимай рубашку, дрянь!» И не унялся, пока всю семью ни заставил пережить этот позор.
На другой день слышат: инспектор над несколькими семьями так поизмывался. А раввина так и вовсе заставил совокупляться с женой на столе на глазах у всех.
В тамошнем гетто таких унижений хватало, как и во всех прочих, и там людей сотнями вешали и расстреливали. В вильнюсском гетто, говорят, узники сами разделались с одним таким гадом. В Ласке отчаянных не нашлось, терпели и молчали. Немцы озверели и стали направо и налево клеймить всех и каждого в гетто как преступника, стали трясти старейшину Кохманна: преступников укрываешь, старая сволочь! Давай их сюда! Они им: нет у меня никого, что вы! Они в ответ: ах, нет никого! Ну, так мы найдем! А не найдем, так сам с нами пойдешь, куда следует! И в гетто никто не знал покоя: кто следующий, кого назначат козлом отпущения?
О братьях Шер, семнадцати и восемнадцати лет, утверждали, будто они во время работ крали уголь. В гетто построили виселицу. Мальчишки плохо понимали, что с ними собираются сделать. Их приволокли, связанных, под виселицу, в сопровождении полицейских-евреев. Старейшина Кохманн на идиш огласил приговор: «Здесь будут повешены два еврея, ибо совершили преступление. Кто, как они, украдет впредь или самовольно покинет гетто, с тем поступят так же, как с этими двумя».
Братья слушали и не понимали. Привели их мать и сестру: пусть смотрят. Им приказали подняться четыре ступени на эшафот, и палач велел старшему, чтобы надел петлю на шею младшему. Мальчонка стоит, личико круглое, совсем еще детское: «Дайте хоть пять минут пожить еще»[127]. Тут палач сам набрасывает братьям петлю на шею, полицейский вышибает доску у них из-под ног. Сначала у одного, потом — у другого. Мать смотрит, как синеют личики сыновей. Убийцы садятся в свои авто и уезжают.
Повешенные на весь день и всю ночь остались висеть на площади. Жители гетто плакали и стенали, говорят, в тот день никто не готовил и не стал есть.
И все-таки, пока не началась война Германии с Россией, еврейской общине удавалось жить относительно спокойно. Систематические массовые уничтожения начались лишь в 1941-м. Тогда впервые всех обитателей гетто пересчитали и проштамповали. Каждому, от младенца до глубокого старика, велено было раздеться и встать в очередь на осмотр к врачу и к тому пресловутому инспектору, большому, как видно, специалисту по «здравоохранению». Наиболее работоспособные и сильные были на груди, плече и бедре проштемпелеваны чернильной буквой «А»[128], постарше и послабее — буквой «В», детей и больных — буквой «Р». Печати ставить приказали девочкам-еврейкам.
Спустя дней десять, в августе, старосте Кохманну позвонили из гестапо в местечке Здунска Воля, километров четырнадцать от Ласка: мол, собрали здесь человек пятьдесят евреев из Познани, тридцать — из Здунской Воли, двадцать — из Ласка (среди них оказался толин брат). Старосте велели приехать за ними и отвезти их в гетто в Ласке. Старейшина, прежде чем отправиться в Ласк из Воли, послал человека обрадовать жителей гетто: родные приезжают! Цабцевичи ликовали: сын едет! Вымыли наскоро дом, наготовили еды, и вся семья высыпала на улицу — встречать.
Стояли, ждали. Волновались, и вдруг подходит к ним одна женщина: смотрите, говорит, сколько за воротами гетто жандармов собралось, к чему бы? А ведь им, кажется, уже и приказ был отдан, вон, как дубинками резиновыми поигрывают. Семья бросается обратно домой. Тут и жандармы вламываются в гетто.
Толя, запыхавшись от быстрого бега, хотела было умыться, но времени не было. Ботинок потеряла, скакала в одном ботинке, а жандармы уже ввалились в дом. В каждый дом — по три жандарма, и всю семью — на улицу. Кохманн еще не приехал. Всех согнали к его дому, всех-всех. Многим удалось прихватить с собой самое ценное из хозяйства или немного еды, и стояли, жались пугливо, хватаясь за свои узелки. Дома опустели. Тысяч девять евреев, как ошалелое стадо, вытолкали из гетто и запихали в католическую церковь поблизости. Народу набилось столько, что не двинуться, не шелохнуться, не вздохнуть. Окна и двери заперты, а день жаркий, душный, дышать нечем. Так их продержали там три дня без еды, без воды, без движения. По нужде выйти не давали — где стоишь, там и испражняйся. Многие падали в обморок, другие и вовсе задохнулись.
Через три дня их выпустили. У церковных дверей вышла давка: каждый ринулся к выходу, каждому казалось, что он больше не вынесет здесь. И каждый надеялся попасть, наконец, домой, отдохнуть, поесть, выпить воды, помыться. Но измученных людей не пустили домой. Церковь оцепили, толпе пришлось остановиться. Их стали строить в шеренги — по пять человек в каждом ряду. Несчастные едва держались на ногах, падали, а немцы с отвращением и презрением обходили ряды. Потом стали делить: одних в церковь, других — на площадь. Большинство отправилось обратно внутрь, на площади оставили тех, кого проштамповали буквой «А», да и то не всех.
Цабцевичи сначала оказались всей семьей в одном ряду, потом Толю с младшей сестрой выдернули и толкнули на площадь, мать с тремя другими дочками втолкнули в церковь. Толя кричит: мама! — и пытается, схватив за руку сестру, пропихнуться к церкви. У нее остался еще кусок хлеба — матери передать. Накануне вернулся Кохманн, один. В Здунской Воле творилось то же, что и в Ласке. Кохманн передал матери Толи немного сахара, и мать хотела отдать его дочерям, оставшимся на площади. Толя и ее мать прорвались друг к другу, Толя матери протягивает хлеб, мать ей — сахар. Толя не берет: нет, говорит, тебе нужней! А жандармы их в это время дубинками хлещут, друг от друга отрывают. Толя видит — у матери от черного фартука отлетает пуговица. Мать и дочь глядят друг другу в глаза, не могут отвести взгляд. А в группе мужчин, отдельно построенных на площади, стоит отец и все видит.
На площади осталось всего человек восемьсот из девяти тысяч. Кохманн вцепился в немцев: верните сына! Верните его из церкви! Отдайте да отдайте! И ему сына вернули. И жену он тоже спас — удержал при себе. Остальные семьи разлучили, разорвали на части.
Отобранных на площади оттеснили от церкви метров на сорок, за оцепление, а к оцепленной церкви съезжались машины с автоматчиками. Отобранным велено было спрятаться в земляной ров. Надо рвом горел фонарь, и Толя с сестрой обнаружили среди прочих свою кузину. Лежа на дне рва, они слышали, как грохочут автоматные очереди вокруг церкви. Церковь со всеми, кто бы внутри, уничтожили[129]. В это время три девочки, уткнувшись лицом в землю, давились от рыданий.
На другой день восемь сотен оставшихся в живых отправились в долгий путь — в Литцманнштадт[130]. Они идут долго, день и ночь, им ни минуты не дают отдохнуть. Наконец, в один из дней, к полудню, они приходят в предместье города — местечко «Балут»[131], и здесь перед ними держал речь маленький толстый комендант гетто Бибов.
Толстяк-коротышка пел истерзанным путникам, что им здесь будет ох как хорошо: и одежду-то им выдадут, и еды-то будет сколько угодно — и яблоки, и апельсины, сколько душе угодно. Кто сдаст часы, украшения и все прочие ценности, пришлют родственников. Знаем мы, знаем, где вы свое добро прячете, а потому — быстро всем раздеться! Доставайте все, что спрятали, из каблуков, подошв, из белья, из ремней и подтяжек! Не лучше ли сдать золотишко, чем мать родную, а? Вот, вот, так и сдавайте быстренько. Несите все сюда. И не вздумайте ничего скрывать — не поможет: мы все ваши шмотки рентгеном просветим! И если что найдем — ух, держитесь, худо будет! Сдавайте, мы не смотрим, мы вам доверяем — вы же нас обманывать не станете!
Пленники недавно совсем слышали автоматные очереди, которые косят их близких, кого же им теперь вернут? Но Бибов так убедительно и вдохновенно врал, что люди снова стали надеяться: может, автоматы трещали в другом месте, может, в церкви никого уже не было, никого там не расстреляли, и горела вовсе не церковь? Толя поверила коротышке: больно проникновенно вещал, надо отдать ему все, что есть, лишь бы семья оказалась жива.
Выставили на площадь большой сундук и пустили по рядам одного из заключенных — собирать ценности. Люди отдавали все, что еще оставалось, и сундук быстро наполнился золотыми часами и украшениями. Проверять и правда не стали: Бибов уверен был в гипнотическом действии своей речи.
После этой процедуры восемь сотен невольников заперли в гетто. К их приходу приготовили кружку горячего кофе и ломоть хлеба на каждого, потом отправили в баню мыться. Попутно выдали хлебные карточки на два дня вперед. На другой день занялись трудоустройством: трудиться будете без отдыха, сколько потребуется, а то разжирели от хорошей жизни, теперь придется попахать, повкалывать. Толе безразлично было, где вкалывать. Ее определили перетряхивать солому и сено.
Солома до крови исколола ей пальцы, на пальцах вздулись нарывы. Некоторое время она инструктировала других, но потом стало очень уж холодно, она стала совсем замерзать на улице, лучше бы отправили ее служить в караулку, там хоть тепло. Однако когда понадобилось обрабатывать солому для хозяйственных нужд, Толя вдруг обнаружила недюжинные навыки, и ее повысили: ревизор выдал ей особый дополнительный талон на питание: 50 гр растительного масла, 200 гр сахара, 100 гр овсяных хлопьев, за то что «работать больно здорова».
Гетто в Лодзи было большое, а на работы — целый час ходу от той хибарки, что Толя делила с сестрой и кузиной. Затемно еще, часов в пять утра, выходили девочки из дома, Толя и ее кузина, и возвращались иногда после полуночи. Сестра работала в другом месте — в слаботочной мастерской[132].
После работы приходилось еще выстаивать длиннющую очередь, чтобы карточки отоварить. Однажды Толя простояла в очереди почти до полуночи, чтобы забрать два рациона по пятнадцать килограмм каждый. Пока она тащила их домой, думала — помрет по дороге. Когда она с этой поклажей перебиралась через виадук, соединявший между собой две части гетто, живот справа пронзила острая боль.
Никогда еще в своей жизни она не была серьезно больна, и на этот раз не желала и слышать о враче. Сестра пыталась помочь как могла: обкладывала компрессами, оборачивала холодными полотенцами. Соседка принесла градусник, померили — сорок. Привели врача — тот Толю срочно отвез в госпиталь.
Температура зашкаливала — уже сорок один. Подозревали желчный камень. Лучший хирург в Лодзи доктор Элиасберг объявил сестре, что у Толи аппендицит, и необходима срочная операция. Но девочка по ребячливости своей сестру резать не давала, да сама больная упрямилась и ни в какую. Только не резать! Только не резать! Он ей: «Да ты пойми, глупая, ежели я тебе эту дрянь отрежу, так ты еще, может, жить будешь, а без операции — как пить дать помрешь! Я тебя сам, сам, своими вот руками оперировать буду!» Уговорил.
Через три часа после наркоза просыпается как пьяная. Медсестра держит ее за руки, за ноги, чтобы не дергалась. На тело, чувствует, давит что-то — мешочек с песком. Слабость, тошнит. Лежи, говорят, лежи не шевелись. Тебе еще долго так поправляться.
Через два дня госпиталь затрясло: всех больных потребовали в гестапо. Из палаты в палату переходит зловещий патруль, собирает больных и отвозит куда следует. Толя прыг с постели, завернулась в простыню, втиснулась между оконными рамами, заклеенными затемняющей бумагой, и затаилась.
Между рамами гулял ледяной сквозняк, пробирал до костей, но она выдержала, ни звука не издала, дождалась, пока гестаповцы убрались прочь, и тогда только выбралась. Больных увезли на грузовике. Персонал клиники, потрясенный, растерянный, остался стоять посреди пустой больницы. И тут врачи и нашли Толю: стоит, прижалась между рамами, плачет, трясется, слезть не может, скрючилась вся, еле жива. Ее вытащили наружу, уложили в постель, и все дивились ее чудесному спасению.
Но радовались недолго: едва она оказалась в кровати, как ее всю заколотило, затрясло, зазнобило, температура опять подскочила под сорок. А врачи каждую минуту ждут, что вот гестаповцы вернуться, нельзя девочку здесь оставлять. Тогда ее вынесли, положили в дрожки и тайком отвезли домой. На другой день пришел доктор Элиасберг — больную скрутило от боли, она мечется и извивается на кровати. Живот вспух чудовищно. Воспаление, решил хирург, все, пропала девка — перитонит. Сестра и кузина стали заламывать руки, умоляли доктора, чтобы спас. Но он уже и рукой махнул.
Толя пролежала несколько дней почти при смерти, корчась от боли, пока однажды ночью рану не прорвало, и оттуда, казалось, литрами потекли кровь и гной. Сестра снова привела врача. У больной рана зияла на животе, так что кишки было видно. Врач заявил, что надежды нет никакой, но все равно снова отвез пациентку в госпиталь. Там ей стало лучше, температура упала, через неделю зажила и рана. Толя показывала мне шрамы на животе — огромные. Сестра и кузина потеряли голову от счастья, а выздоравливающая уже рвалась домой, к своим девчонкам. И в один прекрасный день Толя снова оказалась в гетто, еще слабенькая, шатающаяся, но живая: а вот и я! Появилась, когда ее уже перестали ждать.
Дом в гетто был пуст: накануне всех детей до семнадцати лет собрали и увезли неизвестно куда. Толя рухнула в холодную постель и завопила от отчаяния и боли. И зачем только она осталась жива? Лучше б ей умереть! Кому она нужна совсем одна? Куда она теперь без единого родного близкого человека?
Зашла соседка: у нее дочка двенадцати лет, страдает водянкой, матери удалось ребенка спасти, немцы девочку не забрали. Соседкина дочка осталась с Толей — сиделкой.
Доктор Элиасберг выписал Толе больничный: теперь ей надлежало на дрожках регулярно ездить в больницу на сеансы диатермической терапии[133]. После каждого сеанса пациентку мучили сильные боли, она даже есть не могла. Но доктор после шести раз прописал еще шесть, а потом еще столько же, пока, наконец, не счел девочку совершенно поправившейся.
Она начала потихоньку снова прилично питаться: ревеня грамм сто, булочки белой кусочек, морковки, и скоро она уже снова могла есть грубый черствый черный хлеб и ходить на работу. Через несколько недель, правда, один раз снова случился приступ: обморок, кровотечение. И как раз пока Толя снова выздоравливает дома, в гетто набирают новую рабочую силу — пять тысяч человек. Толя снова вышла на работу: как прежде ходила каждый день в свою соломенную мастерскую, вечерами возвращалась в пустое жилище. Работа тяжелая, еда — скверная. Толя снова свалилась с температурой, снова оказалась в больнице, опять поправилась и вернулась на работу. И сквозь горе и одиночество снова стал пробиваться ее жизнерадостный, озорной нрав, и она уже шутила с товарищами по несчастью, которым, как и ей, терять уже было нечего и только и оставалось, что беспричинно веселиться.
Весной 1943-го гетто постепенно стали ликвидировать. Рейды — через день: соберут пару тысяч узников, не разбирая профпригодности, — и в трудовой лагерь или расстреливают на месте. И каждый знает: сегодня не убили — завтра обязательно придет черед[134].
И в литцманнштадтском гетто научились выкапывать самые изощренные подземные убежища. Как только появится полицейское авто — вся семья в подвал. Так оно было надежней, потому что бежать было некуда — во время рейдов улицы перекрывали, кто пытался скрыться — расстреливали.
Толя три дня просидела с другими тридцатью двумя невольниками в таком убежище. Только что пронеслась очередная облава, в укрытии вздохнули с облегчением. Но тут в дом еще раз напоследок занесло одного из немецких ищеек — справить нужду. Одно неосторожное движение — и шум из-под пола выдал укрывавшихся. Их выволокли на свет, скотски избили, изваляли в грязи, швырнули в кузов грузовика и увезли на железную дорогу.
Там всем раздали по ломтю хлеба и рассовали по вагонам — по полсотни в каждый. В теплушках воняло хлором, дышать было нечем, многим стало плохо, хлор ел глаза до слез. Попеременно приникали к вагонному окошку глотнуть воздуха. Прошел день, пролетела ночь, пятеро скончались в дороге, наконец вагоны открыли. Узники оказались в концлагере Освенцим.
Из-за колючей проволоки им кивали наголо бритые люди, будущие товарищи по несчастью. Детей и стариков сразу же отделили от остальных и поместили отдельно.
Их привели в помещение с холодным душем. Измученные люди припадали губами к резиновым шлангам и пили, пили, пили.
Пока мылись, завыла воздушная тревога. Они оказались в темноте, до костей продрогшие, жалкие, жмущиеся один к другому, чтобы хоть как-то согреться. У одной девушки была высокая температура, и к ней, горячей, пылающей, особенно льнули замерзшие узники.
Потом их, голых и мокрых, отвели в комнату рядом с душем и там обрили наголо. Брили четыре немки. В следующем помещении раздали одежу: каждой женщине выдали по робе, кому похуже, кому получше, годится ли, впору ли, нет ли — наплевать. Белья не дали. Их собственную одежду и все остальные жалкие пожитки отобрали и больше не возвращали. Пошли дальше — в следующей комнате распределили обувь — ботинки и деревянные башмаки, тоже не разбирая размера. Потом каждой на платье сзади нарисовали красной краской большое пятно. Толя, увидев свои великолепные черные кудри на полу, горько расплакалась. Она оторвала длинную широкую полосу от своей робы, слишком длинной для девушки, и повязала голову. А из остатков ткани смастерила себе что-то вроде кармана. У этих мучителей верный расчет, черт бы их побрал: человек более всего беззащитен и слаб, когда наг и лыс.
Пока все процедуры прошли, было уже два часа ночи. Тем, кто уже все закончил, велено было ждать во дворе[135]. Наконец, явился эсэсовец и заорал: всем лечь на землю! Остаток ночи узницы провели, трясясь от холода и омерзения, в грязи, на холодном, всем ветрам открытом дворе.
На утро их развели по блокам — длинным деревянным баракам, разделенным на несколько боксов. Посередине возвышалась печь из красного кирпича. В потолке было несколько маленьких окон, открыть их было невозможно. Воздух внутрь поступал только через две двери. Толю поместили в 31-й блок. Им наконец-то принесли поесть — немного теплого мучного супа.
Потом была перекличка. Женщинам приказали построиться в группы по пятеро, их пересчитали. В их блоке оказалось 1300 заключенных. Староста блока вышла с речью: Люша Симанович давно еще была выслана сюда из гетто в Лодзи за растрату. Симанович была тетка упитанная, дородная, привлекательная, хорошо одетая и в полном блеске своей белобрысой шевелюры. Она умела подластиться к немцам, «господа» ее любили и держали на особом положении.
В помощницах у толстой старосты ходила Адель, барышня из Германии, такая же не стриженная. Она как ортодоксальная иудейка что ни пятница ставила на кирпичную печку свечку для шаббата и благословляла, в остальном же ее боялись, как чумы: за малейшую провинность она дубасила всех подряд и еще любила обливать ледяной водой[136].
По утрам будили в четыре часа. Часов до шести — перекличка во дворе. Если все в порядке — обратно в барак и снова спать. Но если не дай бог кого не досчитаются — тогда перекличка затягивалась до бесконечности, пока всех не пересчитают как положено. На завтрак приносили все тот же мучной суп или кофе. В полдень снова перекличка — до двух. Обед: тяжелый котел нужно всякий раз тащить из кухни, это на другом конце лагеря. Толя, еще не окрепшая после болезни, как-то раз отказалась: не поднять ей такую тяжесть. Тогда Люша указывает ей на кирпичные дымовые трубы в отдалении: гляди, говорит, знаешь, что там? А там крематорий — для таких вот больных, вроде тебя. Толя поняла, что лучше ей быстро выздороветь, стиснув зубы, вцепилась в котел и без единого вздоха дотащила его до барака.
Выдавали одну миску на двоих, ложек не было вовсе, приходилось хлебать из миски через край или есть руками. И не просто есть, а мгновенно проглатывать: котел был один на несколько бараков, и в следующем уже выли от голода, пока в этом еще ели. Обед был ничего: брюква с перловкой, горох, свекла, суп из манки. После обеда — мыть посуду. С четырех до шести снова перекличка.
Пересчитывали заключенных старосты бараков в присутствии лагерного начальства. Если одна из женщин случайно неправильно называла свой номер, наказывали: могли на три часа поставить на колени на землю. На ужин — кусок хлеба и два грамма маргарина. Многие не доедали этот хлебный ломтик до конца, припасали на завтра, ведь больше хлеба не дадут весь день до следующего ужина. Прятать было некуда, приходилось всю ночь сжимать его в ладони и брать с собой всякий раз, когда выгоняли на улицу или в туалет.
По нужде выводил всех скопом: в отдельном бараке был устроен сортир — сотня дырок в дощатом полу. Одна присядет — полсотни ждут. А ночью — в ведро.
В восемь — отбой. Оставалось еще немного времени поговорить. Приходила с ведром воды лагеровка[137] Адель. Заключенные спали на голых досках, без всякого покрытия, без матрасов, ботинки или башмаки деревянные — под голову, и тесно-тесно прижавшись друг к другу, так тесно, что не пошевелиться. Работы, как ни странно, не было никакой, не заставляли даже готовить или убирать в бараке. Освенцим не был трудовым лагерем, это был сборный пункт[138].
Через три недели весь блок погнали на дезинфекцию — вшей выводить. Их привели к зданию с кирпичными дымоходами. Там по стенам тянулись трубы, но нигде не видно было ни одного водопроводного крана или шланга. Таких помещений, видимо, там было несколько. В каждое завели по тридцать человек, велели раздеться и сесть на лавки вдоль стен. Нет, это была не баня, здесь не мылись, здесь происходило что-то совсем другое, что-то ужасное, неведомое, чудовищное. И тут догадались: газовая камера! Ну, все, конец.
Вдруг вошел немец в униформе: быстро все на двор! Построиться! Голые, беспомощные, бритые выстроились они в один ряд. Немец шел вдоль и коленом каждую с силой пинал в живот. Всякая, что охнув сгибалась от боли пополам или обнаруживала еще какую-нибудь хворь, отправлялась обратно в «баню». Остальные, сотен пять, получили назад робы, свои прежние или те, что остались от посланных в дом с трубами, и шли назад в барак.
На другой день пошли к железной дороге. Разделили всех на пятерки, в каждую пятерку — краюху хлеба на дорогу. Но ждать пришлось до утра — состав не подали во время. Пить было нечего, и когда вагоны, наконец, прибыли, женщины умирали от жажды. Снова по пятьдесят в каждый вагон. Жара чудовищная, духота. Накануне состав, видимо, перевозил мел или известь — пол был совершенно белый, в воздухе — взвесью белая пыль, которая терзала пересохшее горло. На третий день пути, утром, состав остановился: женщин привезли в другой пресловутый концлагерь — Штуттхоф в Данцигской бухте.
Перекличку устроили сразу по прибытии: с семи до десяти часов под палящим солнцем, на песке, полуослепшие от яркого света и еле живые, они едва выдержали эту мерзкую процедуру пересчета в очередной раз. Затем — мыться. Каждой выдали по полкуска мыла, больше похожего на глину. Помещение для мытья — крошечное, тесное, сразу всем не поместиться, мылись по очереди, подталкивая друг друга. Времени как следует помыться не дали — снова во двор, на солнце. Посередине двора — жестяная длинная посудина с кофе, по одной миска на двоих.
Блоки здесь были поделены на отдельные каморки. Старшей во 2-м блоке, куда определили Толю, была украинка Марушка, бойкая бабенка, говорившая по-русски и по-немецки, настоящая мегера — на весь блок наводила ужас. В каждой каморке тоже была своя староста, отвечавшая за порядок. На каморку приходилось человек 120–130 узниц. На нарах лежали как селедки в бочке — не вздохнуть, не повернуться. Каждой выдали по холщовому тюфяку и велели написать на нем свое имя. Предупредили: кто тюфяк испортит, порвет или еще что — накажем.
На обед давали суп с кашей, свеклу, редиску, редьку или картошку — все в кожуре. Ложек не хватало на всех, пришлось вырезать из деревяшки осколком стекла, выпавшим из разбитого окна. Если в котле посреди двора оставался суп, женщины тайком прибегали и прямо руками вылавливали куски нечищенной картошки или свеклы. И не дай бог застукает старшая из 1-го блока.
Там заправляла Барбара. Марушка по сравнению с ней могла бы сойти за добрячку. Барбара была полька, всего-то восемнадцати лет, но такая сволочь, что из ее блока невольницы готовы были перебежать в блок к Марушке. И убегали, но поскольку там они не были записаны, им там не доставалось ничего поесть, и они принуждены были вернуться к Барбаре.
У польки много грехов было на совести, да и у украинки — не меньше. Первая не расставалась с палкой, вторая не выпускала из рук ремня. Барбара за любую провинность колотила женщин по бритой голове, запихивала их головой в суповой котел и сверху лила воду. Когда разносили тюфяки, она для своего блока от них отказалась — у нее заключенные спали на опилках. Опилки застревали в одежде, впивались в кожу, отчего по всему телу постоянно зудело, ведь белья ни у кого не было, а одна только роба — плохая защита.
Как и в Освенциме, здесь большую часть дня занимали переклички. Работы никакой не было. По ночам женский патруль следил за порядком на территории лагеря. Через этих, охранниц Толя достала себе запасное платье, чтобы выстирать свое прежнее.
Заболевших помещали в лагерный лазарет. Лежачих больных увозили на телегах, в которых, как лошадей, впрягали мужчин-евреев. Куда увозили? Узницы полагали, что в крематорий, недалеко от лагеря. И каждая с тоской думала, что и ее ждет такой же конец.
Так прошло месяца три. Потом вдруг нагрянула ревизия из Германии. Женщин снова раздели до гола и осмотрели, отобрали наиболее здоровых. Куда теперь? На работы — пахать до полусмерти? Толя перепугалась и спряталась среди наваленных тюфяков, но ее нашли и вытолкали на двор — к остальным.
Отобранным предстояло пешком пройти километров десять до сборного пункта. Когда пришли, каждой на руку нанесли чернилами номер. Толя получила 75525. Смывать номера категорически запретили. Выдали каждой по паре панталон, по рубашке, по платью, ватнику и пальто. Везде на спине — пятно, намалеванное красной масляной краской. У Толи это пятно на ватнике сохранилось, еще когда она пришла к нам в Каунасе. На пальто появилась еще и красная звезда. Еще выдали чулки, ботинки или деревянные башмаки и белые платки на голову. Платья были в общем ничего, но для работы не годились: многие были из шелка и шифона. В этом заключенные увидели добрый знак: значит, их пока не собираются уничтожать, они еще нужны. Их снова погрузили в вагоны, всю ночь в дороге, а наутро уже очутились в Шиппенбайле[139].
Здесь лагерь был совсем еще новый, бараки еще достраивали. Раздали мешки, велели набить стружками. Первую ночь они спали на этих самодельных матрасах под открытым небом, на другой день бараки уже достроили. Широкие нары возвышались в три яруса, на каждом умещалось по двое. Хозяйство и здесь было заведено так же, как и в прочих лагерях, но только здесь дали ложки — по одной на пару, у каждой была своя фаянсовая миска и кружка. В 1-м и 2-м блоке поместили 1250 женщин, в 3-м — сотню мужчин из Литвы, в 4-м — больных.
В Шиппенбайле работа с первого дня пребывания нашлась только для тех, кто прибыл из Штуттхофа. В пять утра — подъем и распределение обязанностей: обычно собирали в бригады человек по 100–200 и отправляли пешком до места работы километров пять — в лес, корчевать пни, таскать бревна на железную дорогу, копать и грузить землю лопатами и шпатами в вагонетки. Мужчины наполняли мешки цементом, носили шпалы и рельсы, возводили насыпи, ровняли участки земли. Тяжкий физический труд, изматывающий, совершенно не женский.
Надзирателями были в основном поляки и литовцы — редкостные скоты, самые злобные антисемиты, у которых сердце ликовало, когда евреи мерли как мухи на этой каторге. Стояли над душой, поигрывая дубинкой, и следили, чтобы никто не расслаблялся. Только на разных языках повторяли: «Быстрей! Быстрей!»
Невольники на рукаве носили белые повязки со своими номерами. Обращаться друг к другу по имени им запрещалось. Они больше не люди и пусть забудут, что они когда-то людьми были.
Весь день им ничего не давали есть. В шесть вечера они приплетались в лагерь, их тут же сгоняли на перекличку. Если кого не досчитаются, все стоят ждут, пока пересчитают всех заново. Однажды не вернулась с работ одна девушка — кинулись искать, нашли мертвой на дороге близ лагеря. Когда и как она упала, возвращаясь вместе с другими из леса, никто не заметил.
Больных тоже угоняли на работы после утренней переклички. Если больной свалится совсем, отправляли в лазарет, где служили врач-еврей и две медсестры.
В лагере то и дело вспыхивали дизентерия и тиф, но лечить больных было, собственно, нечем — для них не припасли никаких медикаментов, не предусмотрели, естественно, никакой диеты. Как-то патруль выстрелил в одну из невольниц, когда она по дороге из леса в лагерь попыталась стянуть пару картофелин из овощехранилища. Девушка умерла от заражения крови — в лазарете не нашлось антисептиков.
В другой раз объявили, будто всех больных отвезут обратно в Штуттхоф, и если кто хочет из здоровых — тоже возьмут с собой. Толя, по-прежнему мучаясь от своей тогдашней раны, собралась было ехать, да одна из надзирательниц ей шепчет: ты, говорит, лучше здесь взвали на себя какую угодно самую тяжкую работу, только не езди в Штуттхоф. И Толя осталась.
В лазарете маялись тогда человек пятнадцать, к ним присоединились еще столько же здоровых — все решили вернуться в Штуттхоф. Их всех заперли в бане и два дня не кормили. Потом приказали раздеться. Толе велели помочь. Она стала было отказываться — отстегали дубинками. Но и узники не желали, чтобы Толя снимала с них платья. Надзирательница плюнула и дала им раздеться самим. Они стояли голые, завернувшись в одеяла. Их одежду и обувь тут же отдали в бараки. Двое часовых отвели их, закутанных в одеяла, как привидения, на железную дорогу, где их ждал состав. До Штуттхофа, скорее всего, никто не доехал, их, наверное, ликвидировали всех по дороге.
Пришла осень, работы прибавилось, она стала еще тягостнее, а еда стала хуже, скуднее. Фаянсовые миски понемногу все перебили, жестяные ложки — сломали и ели в несколько смен: одни ели — другие ждали. Как-то раз одна женщина из блока, чтобы один день не ходить на работу, спряталась в котле, где обычно варили гудрон, за это весь блок заставили до полуночи стоять на дворе под проливным дождем без еды. Невольницы стали понемногу сходить с ума, иных охватывало такое отчаяние и тоска, что она сами стали просить на перекличке надсмотрщиков, чтобы застрелили, — и дело с концом! Не выйдет, был ответ, на вас наши пули тратить жалко. Вы нам еще пригодитесь, а то Иваны наступают. Сами помрете.
Однажды в воскресенье прибыла комиссия — несколько упитанных, плотных, дородных таких офицеров в униформе. Прошлись по баракам, проверили нары с тюфяками, попробовали суп на кухне: жидковат, говорят. И в тот же вечер принесли превосходный наваристый суп из десяти килограмм мяса, да еще и с чищенной картошкой. А на перекличке каждой невольнице подарили по новенькому одеялу из бумазеи[140].
Но вообще-то воскресенье из всех дней недели был самый грустный. Работы не было, но если в шесть утра блок еще не был на ногах, в барак врывалась одна из надзирательниц, Гертруда, она же «Трудочка» с дубинкой в руках и орала: «Подъем, свиньи! Хватит дрыхнуть!»
По воскресеньям был банный день: раз в неделю заключенные как следует мылись. Потом убирали в бараке, вычерпывали нужники, выкапывали сточные канавы и еще выполняли все, что приказывало лагерное начальство: кому сапоги почистить, кому еще чего. А когда все эти мытарства были позади, женщины сидели у себя на нарах в промерзшем бараке, плакали, еще больше мучаясь от тоски и безысходности.
Что происходит на войне, никто из заключенных толком не знал — долетали только слухи, будто Красная Армия наступает. И как бы ни мала была их надежда на освобождение, только из-за нее одной они еще и хватались за жизнь.
Однажды посреди ночи привезли четыре вагона брюквы. Тридцать женщин растолкали и выгнали разгружать. На другой день им за это разрешили не ходить на работу и поспать подольше. Они разгружали брюкву голыми руками, перекладывали ее в ящики и уносили в бункер. Радом стояла Трудочка в теплом шлафроке, в ареоле белокурых волос, и подгоняла[141]. Брюквы примерзли друг к другу намертво, работа шла медленно. Тогда к составу пригнали еще группу мужчин, среди них оказался добрый старина Перельманн из Вильнюса. Он нежданно-негаданно обнаружил среди женщин свою подругу Реню и среди этого убожества и страдания ликовал от внезапной счастливой встречи.
Брюкву, промерзшую и подгнившую, женщины стали есть сырой, а потом даже принесли из кухни два ведра — зарыть в снег небольшой запас, чтобы поесть завтра, когда их на целый день освободят от работы, как обещали. Еще до рассвета брюква вся была перегружена на склад, и невольницы собирались уже отправляться спать, как только начальство объявит побудку для остальных, но надсмотрщица и комендант лагеря следили за грузчицами, запас был обнаружен, обещанный свободный день пропал: измученные ночной работой женщины, шатаясь от усталости, еле живые, отправлены были вместе со всеми на работы.
Наступил декабрь — холодный, серый, промозглый. Топить печь в бараке было нечем, узникам ничего не выдали, но разрешили принести из леса немного хвороста. Древесина была сырая, горела туго, а на дворе свалены были отличные деревянные стеллажи и доски. Их вообще-то привезли сюда для оборудования бараков, но комендант счел это ненужной «роскошью», поэтому груды мебели кисли и разваливались под дождем. Толя стала по вечерам тихонько выскальзывать из барака во двор и потихоньку таскать полки и доски на растопку. Одна из заключенных в это время стояла в дверях настороже: стоило ей завидеть часовых, она произносила пароль — «шесть!»[142], и женщины бросались запихивать дерево в печь. Горело превосходно, но как только звучало «шесть!», приходилось сжигать сразу все запасы. Однажды комендант обнаружил остатки досок и сразу обо всем догадался. Кто взял? Никто не признавался. Тогда весь блок наказали — три дня без еды.
Толя собралась уже было признаться. Ее стали отговаривать: лучше, говорят, все вместе голодать будем. Но когда вечером действительно не принесли никакой еды, Толя решилась и рано утром пришла к коменданту. Когда она вошла, комендант первым делом заорал: «Отойди от меня на три шага!» А когда она во всем призналась, пнул ее ногой: «Эта свинья пришла с повинной! Придется наказать как следует!» — и приказал бросить ее в подвал, куда сваливали трупы. Толя заголосила, стала умолять: только не туда, что угодно, только не это! Напрасно: заставили лечь на ледяной пол между двух покойников и время от времени приходили проверить — лежит ли смирно, не встала ли: «Эй ты, жива еще?» Целые сутки пришлось ей выносить смрад разлагающихся мертвых тел, а потом ее выволокли на свет и поставили на колени на цементный цоколь колодца: подними руки и стой так! Но у нее не было сил держать руки кверху, да и стоять на коленях тоже, и сколько ни колотили ее дубинками — не могла подняться с земли. Затем на весь день ее отправили на работы с остальными, а вечером отвели в канцелярию и высекли — двадцать пять ударов. Ступай!
Как ни старалось лагерное начальство, чтобы до заключенных не дошла ни единая новость с фронта, все же в конце 1944-го и в лагерь стали долетать отголоски пушечной канонады, и вспыхнула среди узников новая надежда: как, что дальше? Неужели их всех уничтожат, прежде чем придет освобождение?
И тут комендант отдает приказ: лагерь ликвидировать! 1250 женщин-заключенных расстреляли, две сотни умерли сами. Полторы сотни больных в лазарете изолировали от остальных: эти останутся здесь. Остальные — теперь чуть больше восьми сотен — пусть собираются в путь. Из них отобрали 34 самых крепких и работоспособных — ликвидировать лагерь. Среди них оказалась и Толя. Затесаться среди уходящих не удалось: обнаружили и пинками и побоями отогнали в другую группу. Из сотни мужчин-узников несколько человек умерли, остальных угнали. Дорога лежала на Кенигсберг, марш пешком — 80 километров за три дня. Трех особенно выносливых мужчин также оставили разбирать по частям лагерь, среди них — Перельманна. Двое других были литовские евреи Шимке и Юдель.
Оставшимся отдали приказ: демонтировать бараки подчистую, убрать здесь все так, чтобы никто и не подумал, будто здесь когда-то был лагерь, чтоб и следа не осталось. Опилки из тюфяков вытрясти и сжечь. Эти мешки с опилками свалялись, их пришлось рвать, а потом связывать в большие тюки. Пустые консервные банки, подобранные заключенными во время работ за пределами лагеря, велели собрать в одну кучу. Нары как следует вычистили, как и посуду на кухне, и все, что могло еще пригодиться на новом месте, велели собрать и упаковать. Перельманн, шустрый и сметливый, сумел обеспечить узников пристойным пропитанием: по вечерам давали чищенную картошку с маргарином.
Через три дня комендант лагеря явился снова, на авто: заключенные прибыли в Кенигсберг и ждут свои тюфяки и прочие пожитки. Мерзкая надзирательница как всегда безжалостно гоняла узников, чтобы поторопились. Велела ночью в лазарете у каждого больного забрать тюфяк, а людей уложить на голые доски. Больничные матрасы кишели вшами, особенно те, на которых долгое время лежали уже умершие узники. Тюфяки приказано было тут же вытряхивать. Утром демонтировали больничные нары и упаковали их в дорогу[143].
Появился какой-то незнакомый немец, которого называли «командующий строем». Ему надлежало сопровождать группу заключенных, ликвидировавших лагерь, в Кенигсберг. Кроме него было еще пятеро конвоиров. Узникам выдали в качестве багажа тридцать буханок хлеба, двадцать килограмм маргарина и десять килограмм мармелада. Весь это провиант надо было доставить в Кенигсберг. В дорогу каждому дали еще по одной буханке. Перельманн уволок из лагеря санки, на которые и погрузили продовольствие.
Двинулись в путь. Прошли несколько километров. Догоняет их еще один конвоир из лагеря и к командующему строем: сто пятьдесят больных, докладывает, сожгли вместе с бараком. Уложили их штабелями на нары, облили бензином и запалили.
Шли весь день. Отдохнули немного, перевели дух. И снова шли целую ночь напролет. Строевой, тот, который командующий строем, — на двадцать шагов впереди всех, и с евреями — ни слова. По утрам морозило. Хлеб заледенел — не откусишь. Пытались отогреть его в карманах, но карманы были полны грязи и расползались по швам. Двух узниц постепенно покинули силы. Вслед за ними стали отставать и другие. Всякий раз, как кто-нибудь из заключенных падал, один из конвоиров ждал некоторое время рядом, пока остальные пройдут вперед, а потом пристреливал и догонял строй.
На вторую ночь всех загнали в хлев на одном хуторе, вперемешку набитый домашней скотиной и беженцами. Строевой завалился в крестьянский дом и потребовал ужин и постель. Часовые остались с тридцатью пятью невольниками.
На другой день стало еще холодней. Уже в пять утра поднялись и снова шли, шли, шли[144]. Третью ночь снова провели в стойлах. Крестьянки, тронутые убогим состоянием путников, принесли кофе и хлеба. Строевой выплеснул кофе на землю: не надо моим людям кофе, не просили!
На третье утро их догнал грузовик из Шиппенбайля, груженный тюфяками, кухонной утварью и припасами. Сверху сидел комендант лагеря, а рядом — надсмотрщица Трудочка, закутанная в элегантные меха.
Часовые сами уже еле шагали. Заключенные с трудом тащили санки по занесенной снегом дороге. Повсюду встречались беженцы. Артиллерия грохотала где-то совсем рядом. Порядком поредевший строй заключенных, хоть силы были на исходе, радовались. Внезапно один дерзко запел песню, подхватили, запели все вместе. Конвоиры, простые солдаты, с которыми за три дня пути заключенные уже успели найти общий язык, не стали вмешиваться, а строевой впереди как будто оглох.
Вдруг он дал знак остановиться и свернул в лес. Остальные остались на дороге. Вернулся и отозвал в сторону одного из часовых — поговорить. Потом прозвучал приказ: все в лес! А Перельманн между тем взял да и подговорил заключенных никаких приказов больше не выполнять.
Узники ни шагу не сошли с дороги. Женщины хором бросились умолять строевого, чтобы не убивал. Протягивали к нему руки, рыдали: пожалей! Снежинки таяли у них на ресницах от слез. «Не отдам вас Иванам, — орал в ответ начальник, — и вас застрелю, и сам застрелюсь!»
Солдаты стояли молча, не двигались. Командующий строем понял, что на конвоиров ему больше полагаться нельзя. Вперед идти — там линия фронта, совсем рядом, рукой подать. Низко над головами пророкотал советский самолет. Красная звезда сверкнула, как обещание.
Строевой велел сбросить санки с грузом и поворачивать назад. Километров пятнадцать они прошагали в обратном направлении и снова оказались на крестьянском дворе. Фронт надвигался со всех сторон. Строевой хотел было двигаться ночью[145], да женщины заупрямились: не пойдем, тут останемся! Идти согласились только Толя, Реня и трое мужчин-заключенных. У Перельманна был свой план: он решил строевого живым не отпускать и ждал только удобного случая его укокошить. Трое часовых остались у крестьян вместе с двадцатью девятью узницами. Как потом стало известно, солдаты разбежались, и женщины без их присмотра смогли дождаться освобождения.
Пятеро невольников отправились в путь с командующим и двумя конвоирами. Ночью, пройдя несколько километров, снова оказались на хуторе. Там в помощниках работал пленный поляк, Перельманн быстро с ним поладил. Василь спрятал мужчин в подполе, женщин — в сене, а когда строевой и часовые стали их искать, объявил, что все пятеро сбежали.
Поляк раздобыл для узников новую одежду, — у хозяев украл, — вместо их полосатых хламид и штанов. Повязки с номерами они не стали больше надевать. У девушек понемногу стали отрастать волосы. Василь достал им два красных платка на голову.
После обеда Василь запряг лошадь в санки и отвез хозяев к соседям. Вернувшись, навестил пятерых на сеновале. Немцы все бежали, но бывшем теперь уже узникам страшно было оставаться близ военного тракта, и тогда поляк отвез их к соседям своих хозяев, в усадьбу близ леса. Пока они ехали, над головой пули свистели. К счастью, на телеге было чем укрыться, в чем спрятаться. Так и добрались. Крестьянам Василь наврал, будто бы Перельманн и обе женщины — поляки, а Шимке и Юделя сразу же отправил в укромное место — в конюшню, потому как их еврейские носы ничем было не прикрыть. Так что показываться на глаза хозяевам этим двум не следовало. Им в конюшню принесли молока, яиц, картошки и уложили спать.
Шимке и Юдель оказались в сарае не одни, там много еще ютилось беженцев. Была одна белоруска, которая разбудила всех ночью: ей послышалось, как где-то кричат «Ура!». Высыпали во двор и увидели, как горит небо над городком Ландсбергом поблизости, услышали канонаду. Они находились в самом центре боевой зоны.
К утру поутихло. Стреляли реже и где-то подальше. Василь съездил в Ландсберг, вернулся через час с мешком конфет и добрыми вестями: русские уже в городе. Все обитатели крестьянской усадьбы, и коренные и пришлые, ликовали, обнимались, поздравляли друг друга. Толя и ее спутники признались тогда хозяевам, что они — евреи, что хозяев совершенно не обеспокоило. Позавтракали все вместе, а потом бывшие заключенные распрощались с крестьянами. Второй польский работник, Мишка, достал лошадь, и они отправились навстречу советским войскам.
В Ландсберге встретился путникам один майор-еврей: уходите, говорит, лучше из города — бои идут кругом, и чья взяла, еще вопрос. С сожалением они отправились дальше — по направлению к Бартенштайну, и слава богу, потому что в тот день немцы еще раз, уже последний, на время заняли Ландсберг. Дорога из Ландсберга в Бартенштайн шла через лес и на каждом шагу перегорожена была колючей проволокой, ни пройти, ни проехать.
Наконец набрели на очередной крестьянский хутор, зашли в дом — на стене портрет Гитлера. Толя кинулась, сорвала его со стены и стала исступленно топтать, повторяя в истерике одно и то же: «Это он убил моих родителей! Это он истребил весь наш народ! Он и меня почти на тот свет отправил! Это он! Он! Все он!» Хозяева глядели на нее и только тихо вторили: так его, так его, кончилось, и слава богу, туда их. У хозяйских дочек с рукава сорвали повязки с красной свастикой и кинули в огонь.
Близ Бартенштайна путников задержали, обоих поляков, Юделя, Шимке и белорусскую беженку военные забрали на работы по трудовой повинности. Девушки умолили тамошнего майора отпустить их обеих и Перельманна — сжалился, отпустил. И втроем они отправились дальше. И снова на пути лежал Шиппенбайль. Решили зайти на территорию лагеря: вдруг там еще остался кто-нибудь в больничном бараке, ждут помощи. Но войти не смогли — город занят был русскими, улицы оказались перекрыты.
Трое двинулись дальше, но далеко не ушли: Перельманна все-таки забрали на работы. Реня осталась с ним. Толя пошла в помощницы в оно хозяйство близ Фройденберга. Работать пришлось не разгибаясь, но Толя была теперь свободна, и работа была ей в радость. Реня и Перельманн наведывались в гости. Потом немцы, отступая, увезли с собой всех призванных по трудовой повинности, кто еще мог работать. Остался только один старый сапожник с женой.
Толя заболела — дифтерия. Позвали русского врача, тот впрыснул какое-то средство, дал выпить пронтосил. Больная поправилась, но вскоре ее снова свалил катар желудка. Пролежала несколько недель — есть не могла, мучилась страшно. Но, в конце концов, все-таки выздоровела.
Шло время. Толя снова стала здоровой, цветущей барышней. Теперь у нее предостаточно было и своей одежды, и белья, и обуви, и даже золотые часики. На загорелом личике снова засияли светло-карие глаза, темные кудри отрасли и красиво обрамляли лицо. В лагере у нее выпадали зубы, но теперь эти щербинки совсем не портили ее ровного, красивого прикуса. Такой нашел ее впоследствии Перельманн. Так она выглядела, когда попала к нам в Каунас. Много ей пришлось вынести, бог знает что пережить, прежде чем пришла она в наш дом.
В Бартенштайне, где Реня работала в комендатуре, случился пожар — пропали все Толины вещи. Часы украли. Она снова оказалась совершенно нищей. Перельманна забрали в армию.
В Коршене на регистрации гражданского населения Толе долго не верили, что она еврейка. Ее заподозрили в шпионаже и взяли под арест. Хотели поместить ее в одну камеру с немками, но она закатила скандал, и ей нашли одиночку. Кто такая, выяснить все не могли, и на время перевели девушку в Инстербург. Здесь она делила камеру предварительного заключения № 14 с восемнадцатью другими женщинами — русскими, польками. В соседней камере томилась Реня. Три месяца так прошло. Никак не хотели девушкам верить, будто им, еврейкам, удалось выжить.
Позже, когда Толя пешком пришла через Гумбиннен в Кибартай, ее и там неделю продержали в заключении. После долгих изматывающих допросов ей выдали наконец документ, удостоверяющий ее политическую благонадежность. Что стало с Реней — вышла ли она из тюрьмы в Инстербурге и вернулась ли, как собиралась, обратно в Лодзь, — Толя не знала.
В Польшу не вернулась: нет ей жизни там, где у нее на глазах убили ее родных. Лучше в СССР, в какую-нибудь из республик. Ей бы образование получить, а там видно будет: ей ведь и тринадцати лет не было, когда их отправили в гетто. Девушка успела выучиться только литературному польскому языку — на нем она говорила свободно — и быстрому счету. И ни малейшего понятия не имела ни о географии, ни об истории, ни о грамматике, не владела иностранными языками. Она не знала, как ей утолить этот голод, как восполнить эти пробелы в образовании? Жизненный опыт этой девушки младше двадцати лет — не дай бог никому, ей столько довелось пережить и вынести, но не довелось толком поучиться, получить образование, овладеть какой-либо наукой.
Кто-то в Кибартае дал ей мой адрес, и вот она здесь, у нас, в Каунасе — девочка с трагической судьбой, наивная, простенькая барышня и одновременно умудренная жизненным опытом женщина. По-литовски она не говорила, поэтому мы посоветовали ей ехать в Вильнюс: может быть, она и Перельманна там встретит.
Сначала в Вильнюс отправилась моя Гретхен: с помощью друзей она выхлопотала для Толи надежную работу, такую, чтобы вечером можно было еще и в школу ходить. Моя дочь встретила там Перельманна. Тот теперь был одноногим инвалидом: когда его забрали в армию, он еще немного успел повоевать с нацистами, был ранен в ногу, заражение крови, ампутация.
Спустя некоторое время, проездом из Вильнюса в Москву, где ему обещали протез, Перельманн остановился на пару дней в Каунасе, в военном госпитале. Мы с Толей вместе пошли к нему. И увидели человека с лицом, перекошенным от боли, но с необыкновенно добрыми, светлыми и мудрыми глазами. Друзья очень были тронуты, встретившись снова, и излили друг другу все, что наболело. Перельманн пожаловался Толе, что вот он, немолодой уже человек, остался теперь калекой, и главное — совсем один: Реня не вернулась к нему, и она жила теперь с болью покинутого влюбленного, и боль эта не отпускала. Но он сумел с собой справиться, взял себя в руки и стал по-отечески заботиться о Толе: отдал ей все деньги, что у него были с собой — двадцать червонцев. Ему-то самому много ли надо, — только бы протез приделали, а то уж больно его, одноногого, люди жалеют, жить противно. Ничего, успокаивала Толя и его, и себя, ничего, потерпи, образуется, все хорошо будет.
На другой день она пошла к нем одна. Через день пошла только я: Толя свалилась с жаром и головной болью. Мы думали — грипп, думали — пройдет быстро, но голова у Толи раскалывалась от боли, температура зашкалила под сорок. Приглашенный врач велел ее везти в инфекционный госпиталь: скорее всего, тиф. Так оно и было — тиф. Нашу квартиру продезинфицировали, а я что ни день навещала Толю в больнице, приносила ей то одно, то другое. Температура поднялась у нее еще выше, медсестра сообщила, что больная без сознания и может умереть…[146]
Райнхард Кайзер Послесловие и комментарии
Три тетрадки
25 сентября 1944 года, в понедельник, женщина пятидесяти трех лет, Хелене Хольцман, художница, преподавательница живописи и немецкого языка, владелица книжного магазина, жительница тогда советского, теперь снова литовского города Каунаса, начинает записывать все, что она пережила, вынесла, увидела, услышала, передумала и совершила за прошедшие три года. Пишет карандашом в толстом блокноте.
Восемь недель назад, в конце июня, войска германского вермахта и немецкие гражданские власти, отступая, ушли из Литвы. До окончательной капитуляции Третьего рейха оставалось еще почти восемь месяцев. Но для жителей Литвы и для Хелене Хольцман война кончилась 1 августа 1944 года. В своих записках она дойдет до этого дня, когда в августе 1945-го, когда, спустя одиннадцать месяцев, будет заканчивать уже третью тетрадь.
Страницы первого блокнота — в линейку, двух других — в клетку. Обложки всех трех тетрадей утрачены. Стянутые скрепками бумажные блоки подклеены по краю и закреплены тесемками. Хрупкий клей потрескался и по большей части осыпался. Во многих местах тетрадки расслоились.
Страницы покрыты текстом на немецком языке. Текст правили, правили неоднократно, но фрагментарно: одни эпизоды испещрены исправлениями, другие — не тронуты. Очевидно, что речь идет об оригинальном авторском тексте. Правка была внесена отчасти прямо в процессе письма, отчасти — уже после того как записки были закончены, во время последующего прочтения, ретроспективно. Об этом говорит тот факт, что текст первоначальный и текст исправленный написаны по-разному заостренными карандашами: один более отточен, нежели другой. Следы ластика заметны редко и в основном в третьем блокноте. Между строк остались отдельные формулировки разных фраз, предложения, оборванные на полуслове. Отдельные слова написаны несколько раз поверх других, отчего их крайне трудно прочитать, приходится расшифровывать. Есть зачеркнутые слова и фразы, которые автор пожелал восстановить, — они подчеркнуты точками или пунктиром, такими знаками восстановления вычеркнутого пользуются редакторы выполняя правку текста, например, книги или газеты.
Страницы всех трех блокнотов пронумерованы от руки: в первом — 224 станицы, во втором — 200, в третьем — 216 основного текста и потом еще дополнение, рассказ Толи, — 65 страниц. Всего семьсот пять страниц.
В начале своих записок Хелене Хольцман обозначает дату — 19 июня 1941 года. С описания этого дня и начинаются ее тетради. В тот день она с мужем едет на поезде из Вильнюса, где, кажется, только что подыскали квартиру для всей семьи. Пока же супруги возвращаются в Каунас, где их ждут две дочери-подростки. X. Хольцман описывает встречу родителей и детей после разлуки в несколько дней, когда дочки предоставлены были сами себе, и завершает сцену радости зловещей фразой: «Если бы мы только знали, что это будет последний наш счастливый семейный вечер».
Через три дня после того 19 июня 1941 года война, которую Германия вела в Европе с лета 1939-го, уже охватила и Литовскую Советскую Социалистическую Республику, и город Каунас, и семью Хольцман. Через шесть дней после того 19 июня, в первый же день оккупации Литвы германскими войсками, Макс Хольцман и его старшая дочь Мари были арестованы на улице среди бела дня литовскими «партизанами». Отец и дочь Хольцманы оказались лишь одними из сотен других, точно так же схваченных на улице. Макс Хольцман пропал. Навсегда. Мари, спустя три дня, отпустили. Но в начале августа она снова попала в тюрьму: вопреки запретам матери, она навещала в госпитале немецких солдат и вела «пацифистскую пропаганду». На этот раз девушку больше не выпустили на волю: через двенадцать недель тюремного заключения ее расстреляли в конце октября 1941 года, вместе с несколькими сотнями других заключенных и несколькими тысячами евреев, за день до того отобранных в каунасском гетто и уничтоженных в рамках так называемой «Большой акции».
Хелене Хольцман жива. Она продолжает жить, постоянно подвергая свою жизнь опасности. «Муж — еврей, дочь — коммунистка», — записывает нацистский чиновник при обыске в ее квартире. Но проходит немного времени, как опухоль, рассасывается застывшая внутри первая острая боль, и пропадает страх. Растерянность и отчаяние уступают место решительности и действию: надо спасти не только жизнь младшей дочери Маргарете, надо помочь другим, таким же несчастным, оказавшимся в беде.
Женщина не одинока, она становится частью своеобразного «заговора», кружка, куда вошли и литовцы, и русские, и немцы. В основном это женщины, и у многих из них, как и у Хольцман, в первые же дни оккупации пропали мужья. По мере сил «заговорщицы» стараются помогать узникам гетто — устанавливают новые связи и контакты, налаживают общение через колючую проволоку. Она вдохновляют невольников-евреев на побег из гетто, и тем, кто отважился сделать шаг на свободу, тем, кто рискнул, предоставляют убежище на первых порах, потом достают фальшивые документы, создают новую биографию, подыскивают работу и поддерживают, чтобы бывший изгой мог выжить.
«В подполье прилежно трудилась маленькая отважная группа заговорщиков», — записала Хелене в своих тетрадках. К группе принадлежала и известный в ту пору в Каунасе врач-окулист Елена Куторга, чей сын Виктор был дружен с погибшей Мари Хольцман. Елена вела дневник во время оккупации. В дневнике сохранилось описание Хелене Хольцман, хотя имя и не названо. Доктор Куторга писала о подруге по несчастью сразу же после смерти Мари:
«31. Х. 1941… Сегодня у меня была удивительная женщина — необычайно сильная духом, с несгибаемым характером, волевая и бесстрашная. Ее муж — участник Первой мировой войны (был даже награжден орденом) — пропал в первые дни оккупации, когда евреев хватали прямо на улицах и посылали на расстрел. Старшую дочь, девочку семнадцати лет, только что, на днях, расстреляли в тюрьме. Младшую, наполовину еврейку, хотят упрятать в гетто…. Мать живет теперь под домокловым мечом, но тем не менее помогает другим как может. Она попросила у меня ампулу с ядом: в случае ареста она добровольно сведет счеты с жизнью. Поразительно, как мужественно и твердо, с какой гордостью и достоинством переносит она свою утрату, свою боль… Склоняю голову перед ней в восхищении от ее огромного сердца»[147].
Хелене Хольцман, в отличие от Елены Куторга, не стала вести дневник, скорее, это можно назвать воспоминаниями. Когда женщина впервые взялась за карандаш, она отдавала себе отчет в том, что ей предстоит описывать — три года нацистской оккупации Литвы, со всеми ужасами и мерзостями. Но она знала и другое: она сможет написать и о том дне, когда все это кончится. Такой день настал в начале августа 1944 года, когда рано утром X. Хольцман, стоя над рекой Мемель, наблюдала, как ранним утром на противоположном берегу отступают на запад немцы, а с юго-востока напирают советские войска. Женщина, конечно, не предполагает, что вот сегодня в одночасье прекратятся их несчастья, сгинут их беды, ведь война не заканчивается в один день, и об этом свидетельствует правка в последнем предложении ее записок. Но главное — закончились массовые убийства мирных граждан, расстрелы и истребление, которые за истекшие три года, как это ни чудовищно, превратились в повседневность. Стоя над рекой, Хольцман держит на руках маленького Колю — еще одного спасенного из гетто ребенка, который будет жить, и женщине кажется, будто она — служанка дочери фараона с младенцем Моисеем, принесенным водами Нила.
Как Хелене Хольцман хватило сил и духа вспомнить и описать все, что произошло за три года выживания и борьбы? Очевидно, ее поддерживала мысль об этом эпизоде, которым завершаются ее воспоминания и начинается новая веха в истории ее семьи и нации. Личное переживание окончания оккупации помогло женщине написать о прошедшем, написать трезво, по возможности объективно, спокойно, бесстрастно, точно, не избегая никаких поразительных ужасающих деталей. И воспоминания пронзительны, пропущены через себя и проникнуты этой постоянной борьбой за выживание. И они ощущаются еще пронзительнее, если подумать, каких внутренних усилий стоила автору эта бесстрастность и объективность.
От младшей дочери, тогда девятнадцатилетней Маргарете, не могло ускользнуть, что мать вот уже почти год ведет какие-то записи. Более того, дочь поняла, что именно пишет мать и о чем, но не вмешивалась и читать воспоминаний не стала. Они по-прежнему жили вместе, но одновременно у каждой была своя жизнь. Лишь после смерти матери Маргарете впервые решилась прочитать материнские записки. Дочери при этом вспомнилось, как Хелене, когда писала в тетрадях, порой отрывалась от работы и обращалась к дочери: не подскажет ли, как оно там было — дата, пара деталей, имя. Когда Грете отвечала, мать всякий раз говорила: «У тебя памяти хватит на нас двоих».
Периодически X. Хольцман на полях отмечает даты, когда она что записала. Отсюда не только можно проследить, когда она начала воспоминаниями когда закончила, очевиден становится также и ритм ее повествования: она не описывает день за днем, и в иной день могла исписать две страницы, в другой — четыре-пять, а иногда — до десяти. Особенно интенсивно она работала над воспоминаниями в октябре и декабре 1944-го, а потом еще в июле и августе 1945-го, и был один месяц, когда она не написала ни строчки, — с конца апреля до конца мая 1945-го.
В течение этого месяца происходит многое. Не только заканчивается война для всей Европы: Литва снова становится одной из республик СССР, и начинаются депортации литовских граждан немецкого происхождения и литовских евреев, переживших оккупацию. Мать и дочь Хольцман, среди сотен других, уже почти сели в поезд, отправлявшийся в Среднюю Азию. Им удалось избежать «ссылки» благодаря двенадцатилетней Фруме Фиткин, которую Хольцманы в свое время спасли из гетто и прятали у себя. После окончания войны Фрума осталась у Хелене и Маргарете как приемная дочь, переданная семье на воспитание. В последний момент Фрума бросилась к одному советскому функционеру, рассказала ему историю своего спасения, и тот осмелился сделать для Хольцманов исключение. Именно эти драматические события прервали на месяц работу Хелене над записками.
Ситуация, в которой пребывает автор, — стратегически идеальный наблюдательный пункт: женщина живет в городе, оккупированном немцами, за пределами еврейского гетто, но поддерживает связь с узниками по ту сторону колючей проволоки. По нацистским категориям она считается «наполовину еврейкой», но невольники гетто воспринимают ее как «немку», которая тем не менее их, евреев, союзница абсолютно во всем. По происхождению Хелене Хольцман — немка, гражданство — литовское. Потеряв мужа и дочь, она становится жертвой оккупационного режима, но, не желая оставаться жертвой, становится активной участницей сопротивления. Такое положение позволяет ей выбрать наиболее удачный ракурс и увидеть, осознать, сформулировать и перенести на бумагу происходящее в объективной многогранности, многоликости, со всеми противоречиями, коллизиями и конфликтами, наиболее близко к реальности, одним словом, Хольцман удается написать так, как было.
В центре повествования Хольцман — судьба близких людей, друзей и знакомых, в первую очередь — литовских евреев, однако она не теряет из виду и других: наблюдает и фиксирует, как формируется и меняется отношение литовцев к самозванным «освободителям», как ведут себя возвращенцы из Германии, новые хозяева жизни в Литве, и нацистские партийные функционеры, выбравшие себе роль господствующей касты, что происходит с солдатами вермахта. Не забывает автор и о русских военнопленных, которые вызывают сочувствие даже у узников гетто, хотя, кажется, более тягостного убогого существования, чем за колючей проволокой, и помыслить себе нельзя, но русским приходится в этой юдоли страдания хуже всех.
Терпение и чуткость к деталям, интерес к мелочам уберегли X. Хольцман от опасности: автор избегает клише и шаблонов, не делит людей на немцев, русских, евреев. Есть друзья, и есть враги, есть союзники, и ест противники, свои и чужие. Один раз она пишет: «наши враги — немцы», и тут же отказывается от этой схему, неожиданно дополняя ее: «Наши враги — немцы. И это такие же немцы, как мы сами». Удивительно, как ей удается отказаться от стереотипов, не зацикливаться на готовых формах и определениях, но постоянно схватывать все новые разнообразные нюансы и многочисленные повороты событий и отношений, оттенки настроения и особенности поведения, как сохраняет трезвый взгляд на вещи, людей и их поступки, даже самые низкие и зверские. Удивительно — ведь между собственно событиями и временем, когда Хелене Хольцман переносит их на бумагу, — ничтожно малый срок.
Не менее поразительно, насколько широк обзор и охват событий, представленных в воспоминаниях. У Хольцман не было черновиков[148], перед нами — первый и единственный авторский вариант воспоминаний, и уже здесь, в этом первоначальном, во многом спонтанно возникшем тексте, прослеживается логика, план, продуманность, система, даже конфликты и коллизии имеют выстроенную композицию.
Автор мастерски ведет различные сюжетные линии, прерывая одну в нужном месте другой. Она одновременно владеет разными фрагментами материала, перемежая их один другим, переплетая между собой, связывает воедино. Так в единую систему слагаются история семьи Хольцман, история Гайстов, двух Наташ, Доры Каплан и других. В эту повествовательную ткань вплетены наблюдения по поводу политической обстановки в Литве, замечания о настроении среди литовского населения, в немецких кругах, в гетто, в кружке «заговорщиков-единомышленников».
Дополнительную историческую достоверность и документальность сообщают воспоминаниям X. Хольцман воспроизведение некоторых подлинных свидетельств событий: среди них письма Мари из тюрьмы, и в еще большей степени — записанные обстоятельные рассказы. Таковы, например, исповедь Сони и Бебы, двух евреек, в начале оккупации схваченных во время погрома и вместе с тремя сотнями других женщин содержавшихся в одном из каунасских фортов. Мужчины из этого форта не вернулись, женщинам удалось спастись. Так Анолик рассказывает о терроре в эстонских рабочих лагерях и об ужасах, сопровождавших его избавление из плена. Или Эмма Френкель — о том, как в последние дни оккупации вместе с прочими выжившими узниками гетто была депортирована на запад, Стася — как ее несколько дней пытали в гестапо, но она так и не выдала своего еврейского происхождения. Наконец, особняком стоит рассказ еврейки Толи Шабшевич о своем крестном пути через гетто в Ласке и Лодзи, через лагерь Освенцим и Штуттхоф в Восточную Пруссию, где, может быть, ждет свобода, — кто знает еще, ждет ли, — по ту сторону надвигающейся линии фронта[149]. В отличие от большинства своих сограждан, Хелене Хольцман не стала отводить взгляд в сторону, напротив, она пристально вглядывалась в события военного времени, всматривалась глазами хронистки, которая замечает и запоминает все, что видит. Но заодно и глазами художницы, писательницы. Она не просто составляет репортаж, но пишет историю и истории, создает литературные образы и характеры, и порой, кажется, как будто снимает кино о своей эпохе. Пусть текст, обладающий столь богатой палитрой и оснащенный столь разнообразным художественным арсеналом, остался по сути незаконченным, недоработанным в деталях и стилистике, воспоминания слишком искренны, прочувствованы и проникновенны, чтобы все это могло навредить им. Пятьдесят пять лет Хелене Хольцман, а потом Маргарете Хольцман хранили эти тетради, не открывая их. Теперь же они опубликованы и должны что-то изменить.
Хелене Хольцман: этапы биографии
Она появилась на свет 30 августа 1891 года в Йене — «Лени» Чапски. Отец — Зигфрид Чапски, наполовину немец, наполовину — еврей, мать — Маргерите Чапски. В семье восемь детей, все крещены и воспитываются в христианами. Хелене — третий ребенок из восьми, у нее трое братьев и четыре сестры. Зигфрид Чапски — физик, ученый, ближайший сотрудник Эрнста Аббе[150], директора заводов компании Цейсса[151] в Йене, а после смерти Аббе — некоторое время его преемник. Отец умер в 1907 году в возрасте всего лишь сорока шести лет.
Получив аттестат о среднем образовании, Хелене Чапски начинает изучать изобразительное искусство — сначала в профессиональном училище Анри ван дер Вельде[152], основанном в Йене в 1906 году, потом — в мастерской Эриха Куитханса там же в Йене, наконец, с 1909-го по 1911-й — в Бреслау (Вроцлав), в Государственной Академии Изобразительного и прикладного искусства, где ректором был Ханс Пелциг. Здесь фройляйн Чапски успешно сдает выпускной экзамен и получает диплом преподавателя рисования. После этого она некоторое время работает в мастерской Макса Бекмана в Хермсдорфе и Берлине, и здесь, у Бекмана, знакомится с один из его учеников, Максом Хольцманом, своим будущим мужем. В 1913 Хелене ненадолго уезжает в Париж, где работает самостоятельно, а в 1914 становится преподавателем рисования в художественной школе Оденвальд в Оберхамбахе.
Когда начинается Первая мировая война, Хелене возвращается в Йену и дает частные уроки рисования, в основном — для детей. В своей книге «От Берлина до Иерусалима» Гершом Шолем[153], который учился в 1917–1918 гг. в Йенском университете, писал о своей встрече с молодой художницей:
«Кете Холлендер познакомила меня с подругой своей юности Лени Чапски, молодой художницей, дочерью одного из сотрудников Эрнста Аббе в концерне Цейсса. Предприятие Цейсса, как известно, второй интеллектуальный центр Йены, кроме университета, вокруг которого крутится вся жизнь города. Лени была очаровательным жизнерадостным существом, ребенком от смешанного брака, воспитана христианкой, а благодаря мне впервые соприкоснулась с еврейской культурой. Мы на долгие годы остались друзьями. В 1925 году она с мужем, художником-экспрессионистом Максом Хольцманом, переехала в Ковно (Каунас). Хольцмана убили во время войны, Лени с дочерью выжили и навестили меня в Иерусалиме, незадолго до смерти Лени. В конце мая 1918-го мы с ней в одну великолепную многозвездную ночь возвращались из Веймара, где были в гостях. Она была первым человеком, который написал мой портрет»[154].
Осенью 1917 года Хелене Чапски впервые выставляет свои работы в йенском Объединении художников, вместе с графиком и рисовальщиком Хансом Ляйстиковом (1892–1962). Ляйстиков впоследствии стал сотрудником в команде архитектора Эрнста Мая. Дружба с Ляйстиковом вдохновляет Лени на новое творчество. В 1919-м и 1920-м гг. она много рисует в имении Обра, имении своего деда. Эта земля сначала принадлежала германской империи, потом отошла Польше, воеводство Познань. В то время она часто посещает и Тампадель, имение семьи Ляйстиков в Силезии.
В 1923 г. искусствовед и историк искусства Франц Ро написал о Лени Чапски статью в альманахе «Ежегодник молодого искусства»:
«Позволю себе впервые указать на молодую немецкую художницу, работы которой еще не известны широкой публике. Молодая женщина родилась в Йене… Кажется, эта художница просто призвана стать одной из первых среди молодых мастеров Германии. Она уже, безусловно, одна из наиболее яркихженщин-художников»[155].
Как-то Хелене Чапски, поддавшись нонконформистским настроениям эпохи эмансипе, заявила: «Дети — да, замуж — никогда!» Но Лени была неверна феминистским увлечениям своей юности: в 1922 г. она выходит замуж за Макса Хольцмана и год спустя уезжает с ним в Каунас. В апреле 1922-м появляется на свет дочь Мари, в декабре 1924 — Маргарете. После переезда в Литву Хелене Хольцман пять лет преподавала рисование в каунасской немецкой реальной гимназии.
Макс Хольцман родился 7 октября 1889 г. в Оборнике, воеводство Познань в Польше, в семье королевского участкового судьи Юлиуса Хольцмана и его жены Агнес, урожденной Прибач. В Каунас впервые попал, когда был солдатом в Первую мировую. Его мать записала в семейной хронике:
«16.11.1916 Макс оказался в Ковно (Каунасе), этот город стал его судьбой…. Здесь он стал другим, изменился. Он познакомился с обществом самых достойных и образованных молодых людей. Среди них были несколько востоковедов — Шедер, Шропсдорф, литовец Оселис. Макс стал частым гостем в литературном клубе „Оберост“, заседавшем в одной из офицерских казарм. В Ковно он увидел другой мир. И еще — мир еврейской диаспоры и еврейской культуры, замкнутый, самоцельный и самодостаточный, совершенно не стремящийся выйти за свои пределы. И этот мир показался ему идеальным по сравнению с солдатской военной повседневностью, его окружавшей… Как-то раз полковник поручил Максу написать статью о великолепной артиллерийской батарее на Зеленой горе для ковенской газеты. Макс ловко вышел из положения — как художник: описал батарею и ее расположение с точки зрения живописца. На полях рукописи полковник ему заметил: „Побольше солнечного света! Гармоничнее! Туда самого Гинденбурга повезут!“ Макс послал нам один экземпляр газеты. Читалось неплохо».
Дядюшка Макса, Феликс Прибач, владел во Вроцлаве небольшой, но известной торговой компанией — торговал книгами, учебниками и канцелярскими товарами. Одновременно Феликс Прибач был известен как историк, автор важного исторического очерка по истории Пруссии. После Первой мировой войны дядюшка взял племянника на обучение в свою компанию, Макс Хольцман выучился на книготорговца и с помощью дяди открыл в Каунасе филиал торгового дома под названием «Прибачис». Экономическая ситуация в Литве тех лет весьма благоприятствовала любым торговым начинаниям и предприятиям. После войны Литва, наряду с другими балтийскими государствами, вышла из состава Российской Империи и стала выстраивать новую политику в качестве независимой страны, и Германия рассматривалась в качестве главного западного соседа и важнейшего ориентира внешней политики. В Литве резко возрастает интерес к немецкому языку, литературе и культуре, и, после того, как в 1920 г. Польша аннексировала Вильнюс и прилегающие к нему территории, Каунас на некоторое время стал столицей.
В Каунасе того времени на 120 000 жителей приходилось три магазина, где продавалась литература на иностранных языках. Все три расположены были рядом друг с другом: магазин «Мокслас», обладавший монополией на ввоз книг из СССР, «Немецкая книготорговля», ввозившая только немецкую литературу и после 1933 г. не скрывавшая своих симпатий к нацистскому режиму, и, наконец, магазин Макса Хольцмана «Прибачис» — здесь продавались книги на немецком, английском и французском. Со временем Хольцман отказался от торговли учебной литературой и вместо того сам занялся издательским делом. В его «Восточном издательстве и книготорговле „Прибачис“, Лейпциг и Каунас» в 1930-е гг. вышло большое количество учебников немецкого и французского для литовских школ. Сотрудничество с авторами различного рода литературы нередко переходило в дружбу. Многих из этих людей — друзей и знакомых — Хелене Хольцман упоминает в своих записках: Эдвин Гайст, Казис Бинкис, Хорст Энгерт, Владимир Станкевич (Владимирас Станевичус) и Виктор Цингхаус[156]. Покупатели магазина Хольцманов — интеллектуалы, представляющие разные культуры, говорящие на разных языках.
Элена Балтрушайтис, жена-француженка коренного литовца искусствоведа Юргиса Балтрушайтиса, впоследствии жившего и работавшего в основном во Франции, а в 1939 г. преподавателя каунасского университета, пишет в воспоминаниях:
«Жизнь а Каунасе бурлила. Мы все то и дело встречались в „Прибачис“, как только там на прилавках появлялась очередная новинка. Замечательный был книжный магазин, честное слово. Мы очень любили туда зайти, посидеть часок-другой, полистать книжки»[157].
Однако Хелене Хольцман, кажется, стала понемногу тяготиться жизнью в Каунасе 20-х г.г. Живопись, творчество как-то отошли на второй план: все больше времени и сил уходило на семью, быт, хозяйство, преподавание и на работу для магазина супруга. Нужны были деньги, семья жила не слишком обеспеченно. Рисовать для души было некогда. Маргарете Хольцман вспоминала, как о ее матери говорили знакомые в городе: «Эта женщина никогда не ходит, она всегда бегает».
В 1928 г. Хелене с дочерьми уезжает в Верхнюю Силезию, два с половиной года они живут в поместье Унвюрде близ Лебау, Хелене работает в поместье секретарем в управлении хозяйством. Здесь она снова начинает рисовать, писать картины. Художница надеялась обрести свое место на родине, чего ей не удавалось в Литве, и тогда уже уговорить мужа перебраться обратно в Германию. Но этого не произошло. Задолго до того как к власти пришли нацисты, женщине дали понять, что ей, жене еврея, надеяться особенно не на что: достойного положения в обществе не занять, талантливой художницей ее тоже не признают. Тогда в 1930 г. Хелене с дочерьми снова возвращается в Каунас.
Здесь она работает преподавателем рисования в частной немецкой реальной гимназии. После 1933 г. в Литве набирают силу национал-социалистические настроения и движения. Старшая дочь Хольцманов Мари продолжает посещать немецкую школу, младшая Маргарете по собственному желанию в 1937 г. переходит в литовскую. В 1936-м Хольцманы принимают литовское гражданство, что дает им и дальше возможность беспрепятственно ездить в Германию: к родственникам в Йену, Магдебург и Берлин и на книжную ярмарку в Лейпциг.
В магазине Хольцманов по-прежнему всегда продается литература немецких авторов, покинувших страну, скрываясь от нацистского режима, — литература писателей-изгнанников. В германии ни один книготорговец уже не мог бы себе такого позволить, но Хольцман в Литве еще мог. Сами изгнанные авторы в конце 30-х г.г. и уже в начале войны стали близки этой семье, из них некоторые нашли пристанище в доме Макса и Хелене: Лев, перебравшийся из СССР, Клаус Фейхтвангер, племянник Лиона Фейхтвангера, геолог Рудольф Кауфманн, который три года провел в тюрьме за «осквернение расовой чистоты», после освобождения из Кенигсберга бежал в Литву и надеялся воссоединиться с любимой женой по другую сторону Балтийского моря — в Стокгольме[158].
После того как в 1940 г. Литва была занята войсками Красной Армии и стала одной из республик СССР, магазин «Прибачис» был национализирован и закрыт. Макс Хольцман после долгих отчаянных поисков нашел место государственного антиквара в Вильнюсе. В то же время Мари Хольцман вступает в комсомол. Тем не менее Хольцманы, наряду со многими другими, как «буржуи», согласно политике советских властей, подлежат депортации. Но до «отсылки» не дошло: в июне 1941 г. войска германского вермахта захватили Балтику, и нацистская машина смерти, поддерживаемая литовскими «партизанами», приступила к планомерному, целенаправленному уничтожению евреев на всех захваченных территориях.
После отступления немецких войск из Литвы Хелене Хольцман с ноября 1944-го до сентября 1950-го преподает немецкий в каунасском политехническом училище. Один из ее студентов, Владас Жукас, писал о том времени:
«Начиная с третьего семестра немецкий нам преподавала немка — Хелене Хольцман, высокая, черноволосая женщина, очень образованная и интеллигентная. Она отдалась работе всем сердцем. С теми, кто хорошо знает немецкий, она занимается дополнительно и приглашает даже к себе в гости…На занятиях мы только что изучали повесть Адальберта Шамиссо „Удивительная история Петера Шлемиля“ — читали, переводили, анализировали. Однажды преподавательница порядком отчитала меня прямо в аудитории — то ли отвлекся, то ли не подготовленным пришел на урок. Я встал и молча выслушал все ее упреки, а спустя пару недель я был приятно удивлен: она при всех извинилась передо мной — я оказался совсем не таким, каким показался ей поначалу, и теперь она в этом уверена…. Позже ее уволили из нашего ВУЗа, потому что она поддерживала студентов, считавшихся политически неблагонадежными»[159].
После увольнения из политехнического училища Хелене Хольцман до 1957 г. преподавала немецкий в средней музыкальной школе в Каунасе, а после выхода на пенсию давала частные уроки.
В 50-х г.г. она снова занимается живописью и рисованием. В июне 1965-го после долгих мытарств получает, наконец, разрешение советских чиновников на выезд в Германию вместе с дочерью Маргарете. После краткого пребывания в Тегернзее мать и дочь поселились в Гисене. В 1967 г. обе отправляются в путешествие по Израилю, навещают родных, друзей, знакомых, бывших учеников Хелене. 25 августа 1968 г. Хелене Хольцман погибла в автомобильной катастрофе в Гисене, за несколько дней до своего 77-летия.
От издателя и редактора
Орфография текста Хелене Хольцман была модернизирована в соответствии с новыми правилами правописания немецкого языка. Текст был разбит на дополнительные абзацы, которых нет в рукописном варианте, где текст сплошной. Издатели позволили себе разделить массив текста на смысловые отрывки.
Дополнения и комментарии, оставленные автором на полях, были частично внесены в основной текст там, где автор хотела бы их видеть. Отрывки и фрагменты, которые не вписывались в контекст по смыслу, приведены внизу страницы в сноске.
Даты, которые в рукописи свидетельствовали о хронологии написания воспоминаний, в печатном тексте опущены.
Хронология событий
История Литвы после Первой мировой войны
Сентябрь 1915 — Литва, с 1814 — регион в составе Российской Империи, занята немецкими войсками. Германская империя безуспешно пытается превратить Литву в имперское государство-спутник.
2 ноября 1918 — Литовский парламент (Тариба) в Вильнюсе объявляет о независимости республики Литва. После отступления немецких войск в молодую суверенную республику приходят войска Красной Армии.
5 января 1919 — Вильнюс занят войсками Красной Армии. Правительство Литвы переезжает в Каунас. В следующие несколько месяцев советские отряды были на время вытеснены с территории республики.
12 июня 1920 — В Москве подписан мирный договор, согласно которому советское правительство признает независимость Литвы.
Октябрь 1920 — Вильнюс и прилегающие территории заняты войсками польского маршала Йозефа Пилсудского. В апреле того же года занятые поляками территории будут присоединены к Польше. На два ближайших десятилетия столицей Литвы становится Каунас.
16 февраля 1923 — Литве отходит область по берегам реки Мемель (низовья Немана. По-литовски — Нямунас) и город Мемель, переименованный в Клайпеду. Ранее эти территории принадлежали Восточной Пруссии, позже стали французской подмандатной областью. Присоединив мемельские земли, Литва получила выход к Балтийскому морю.
17 декабря 1926 — На всеобщих выборах в мае 1926 г. в Литве побеждает левая оппозиция, что приводит в военному путчу, в результате чего уходит в отставку президент Казис Гриниус. На его место правое крыло парламента выдвигает Антанаса Сметону. Главой правительства и диктатором становится Аугустинас Вольдемарас.
22 марта 1939 — В секретном пакте Риббентропа — Молотова, заключенном в Москве, Литва среди прочих территорий включается в сферу интересов СССР.
23 марта 1939 — Под давлением руководства Третьего рейха Литва вынуждена снова вернуть мемельские земли Германии.
1 сентября 1939 — Германия начинает Вторую мировую войну захватом Польши. Советская армия в ответ в течение сентября занимает Восточную Польшу.
10 октября 1939 — СССР возвращает Литве Вильнюс и прилегающие области, взамен советское руководство получает согласие литовского на размещение на территории республики своих гарнизонов и баз противовоздушной обороны.
15 июня 1940 — Вся Литва целиком занята войсками Советской армии.
3 августа 1940 — Литва включена в состав СССР как Советская Социалистическая Литовская республика.
13–14 июня 1941 — Около 35 000 литовских граждан депортированы в Сибирь как «буржуи».
22 июня 1941 — Германия нападает на Советский Союз.
Каунас в период немецкой оккупации
1941 год
24 июня — Немецкие войска занимают Каунас и Вильнюс. Вслед за частями вермахта в республику приходят подразделения СС, под влиянием которых литовские партизаны-националисты устраивают погромы по всей республике. Сотни евреев становятся жертвами этих рейдов.
6–7 июля — В VII форте литовские партизаны под командованием Карла Егера, командующего 3-го штаба оккупационных войск, расстреляли около 3000 евреев.
15 августа — до этого дня всем каунасским евреям предписано в обязательном порядке переселиться в гетто, организованное нацистами в предместье Вилиямполе (Слободка). Здесь, на территории, обнесенной колючей проволокой, изначально поселились около 30 000 человек, их число сократилось до минимума: немцы, отбирая самых жизнестойких и работоспособных, регулярно расстреливали остальных.
18 августа — 534 еврея уничтожены в результате акции интеллектуалов.
26 сентября — около 1000 узников гетто расстреляны в VII форте.
4 октября — ликвидировано так называемое Малое гетто, госпиталь на его территории сожжен вместе с больными и врачами. Около 1800 невольников Малого гетто расстреляны в IX форте.
28 октября — Всех жителей гетто сгоняют на площадь для отбора. От общего числа узников (9200 человек) 30 % отсеяны и на следующий день расстреляны в IX форте вместе с евреями-заключенными каунасской тюрьмы. В гетто начинается почти двухлетний период «затишья».
1943
1 ноября — Полномочия гражданских оккупационных властей больше не распространяются на гетто. Гетто переходит под начало командования СС и превращается в концентрационный лагерь.
1944
27–28 марта — В ходе детской акции узников гетто от двенадцати до пятидесяти пяти лет собирают вместе для депортации к месту казни.
8 июля — Красная Армия наступает, немцы, отступая, ликвидируют каунасское гетто. Оставшихся в живых узников увозят в Германию: мужчин — в концлагерь Дахау, женщин — в Штуттхоф близ Данцига. Гетто сжигают дотла. Большая часть тех, кто укрывался в самодельных подвалах-укрытиях, — их в гетто называли «малиной», — погибла.
1 августа — Войска Красной Армии входят в Каунас.
1945
26 апреля — Литовских граждан немецкого происхождения депортируют вглубь СССР.
7–8 мая — Германия капитулирует. Война в Европе окончена.
Благодарность
Издатель и составитель особенно благодарят Фруму Фиткин-Кучинскине и ее мужа Доминикаса Кучинскаса, которые с великим терпением и увлечением помогли в поиске и выяснении фактов, имен, реалий и событий того времени. Большое спасибо также Марии Шмид в Йене, которая после выставки работ Хелене Хольцман в 1991 г. неустанно добивается их публикации. Благодарим также Иохевед Инчиувене за предоставление нам плана города Каунаса тех лет, спасибо Кнуту Стангу в Геттингене за помощь в исследовательской работе, спасибо Рут Кайзер в Фирзене за предоставление нам фотографии вышитого на полотенце послания Мари Хольцман, переданного из тюрьмы матери и сестре.
Райнхард Кайзер Маргарете Хольцман Франкфурт и Гисен, 9 апреля 2000 года.Иллюстрации
Семейные иллюстрации — из собрания Маргарете Хольцман.
19 — из собрания Рут Кайзер, Фирзен.
20, 25, 27, 28, 29 — из собрания Георга Кадиша, Тель-Авив.
21 — Еврейский музей, Вильнюс.
23, 26 — Institute for Jewish Research, Нью-Йорк.
24 — Литовский фото- и видеоархив, Вильнюс.
34, 35, 36, 37, 41 — из архива Софии Бинкиене «Безоружные герои», Вильнюс.
45—60 — Райнхард Кайзер[160].
1. Хелене Хольцман. 1911
2. Ок. 1912
3. У мольберта. Ок. 1914
4. Хелене Хольцман. «Крестьянский рынок в Обре». 1918
5. Хелене Хольцман. «Люди и животные». 1923
6. Хелене Хольцман. «Первое время в Каунасе». Написано во время болезни в 1923
7. Хелене и Макс Хольцман. Каунас, 1927
8. Макс Хольцман. «Хелене кормит грудью дочь Мари». Рисунок. 1922
9. Хелене Хольцман с дочерьми Маргарете (слева) и Мари. Ок. 1929
10. Хелене, Маргарете и Мари Хольцман. Ок. 1938
11. Макс Хольцман. 1930-е
12. Хелене Хольцман. Автопортрет. Фотография. Конец 1920-х, оригинал утрачен
13-15. Хелене, Мари и Маргарете Хольцман на балконе их каунасской квартиры. Конец 1930-х
16. Семья Хольцман в их каунасской квартире. Каунас, 1940. Фотографию изготовил г-н Лёв, эмигрант, долгое время живший в доме Хольцманов
17. Мари и Маргарете с подругой Людмилой Брановицкой
18. Мари и Макс Хольцман. Ок. 1940
19. На этом полотенце Мари Хольцман вышила свое послание. Ей удалось тайком переправить эту надпись вместе с грязным бельем из тюрьмы матери и сестре. Сентябрь-октябрь 1941
20. Девятый форт за пределами Каунаса. Август 1944
21. Дорога к девятому форту. Август 1944
22. Каунас. Берег реки Мемель. 1930-е
23. Каунас на берегу Мемеля
24. Солдаты вермахта на подступах к Каунасу. Июнь 1941
25. Войска вермахта берут Каунас. 24 июня 1941
26. Пешеходный мост, соединявший Малое и Большое гетто в Каунасе. Осень 1941
27. Бригада еврейских рабочих возвращается в гетто
28. Площадь демократии, куда согнали узников гетто для проведения «Большой акции»
29. Отступая, немцы сожгли все постройки, остававшиеся на территории каунасского гетто
30. Первая страница записок Хелене Хольцман
31. 5-я страница второго блокнота: «Этот ребёнок должен жить!»
32. Композитор Эдвин Гайст
33. Лида Гайст
34. Наталия Егорова, она же «премиленькая китаянка»
35. Наталия Фугалевич (Фугалевичуте), «Наталия (Наташа) Федосеевна» или «Наташок»
36. Елена Гуторгене-Буйвидате
37. София Бинкиене, фрау Бинкис
38. Ильзе Кауфманн, урождённая Мозес («Мозичек») после войны в Лондоне с племянницей
39. Гутя Шмуклер «Стася», после войны
40. Соня Гинк Шабад, «Оните», 1950-е
41. Фрау Лида и некоторые из спасенных еврейских детей в Кулаутуве. Стоят: Роза Багрянски, Фрума Фиткин («Дануте»), Витукас Ягминас, Таня.
В центре — Лидия Фугалевич-Голубовене («фрау Лида») и Клавдия Шатунова. На переднем плане — Люда Шатунова, Моше Лафер («Коля»), Витя Шатунов, Рима Шутнова
42. Фрума Фиткин, Хелене Хольцман, Наталия Фугалевич («Наташа»), Гутя Шмуклер («Стася»)
43. Рифка Шмуклер-Ошерович («Регина»), Маргарете и Хелене Хольцман. 1950-е
44. Хелене и Маргарете Хольцман с Фрумой Фиткин-Кучинскене. Конец 1950-х, на балконе дома на улице Вичински в Каунасе
45. Хелене Хольцман в 1950 году
Примечания
1
Видимо, эту фразу можно перевести с латыни как «Жизнь не узнает (не распознает, не замечает, не осознает) смерть». — Прим. пер.
(обратно)2
Перевод реквиема Эдвина Гайста переведен А.Кукес, поскольку не удалось найти ни первоисточника, ни классического перевода. В целом ритмический строй двух строф соблюден.
(обратно)3
Книжный магазинчик, который Макс Хольцман основал в Каунасе в 1923 году как филиал торгового дома «Прибач» или «Прибачис» (Priebatsch, Pribatschis), продававшего книги, учебную литературу, школьные и канцелярские принадлежности, был экспроприирован и национализирован в 1940 году, когда Литву заняли войска Красной Армии. См. послесловие. — Здесь и далее примечание немецкого издателя.
(обратно)4
В то время Хольцманы жили в Каунасе на Зеленой горе, зажиточном, респектабельном, новом квартале близ центра города, на улице Вичински, 22. Дом сохранился до наших дней.
(обратно)5
Вильнюс (Вильно, Вильна), крупнейший город Литвы, некоторое время был резиденцией правительства новой Республики Литвы, только что вышедшей из состава Российской Империи после окончания Первой мировой войны. Однако уже в 1920 г. Вильно и область вокруг него были присоединены к Польше. До 1940 г. столицей Литвы был Каунас. В середине сентября 1939 г. Красная Армия заняла Восточную Польшу, и Вильно с областью снова были отданы Литве, за это СССР получил право на дислокацию своих войск на литовско-польской границе. Летом 1940 г. уже вся Литва была занята советскими войсками. Вильно стал столицей Советской Литовской Республики.
(обратно)6
Автор имеет в виду, конечно, войска Красной Армии.
(обратно)7
Имеются в виду так называемые фольксдойче (Volksdeutsche) — этнические немцы, проживающие на территории других государств, за пределами германского рейха, имеющие ненемецкое гражданство, например поволжские немцы в России, румынские швабы. Такие немцы могли получить германский паспорт.
(обратно)8
Речь идет о еврейских погромах, организованных национал-социалистами по всей Германии 9 и 10 ноября 1938 года.
(обратно)9
Согласно нацистской номенклатуре Макс Хольцман, сын двух еврейских родителей, был «полностью евреем». Хелене Хольцман, дочь еврея-отца и нееврейской матери, считалась «наполовину еврейкой», однако немецкие и литовские органы признали ее «немкой», поскольку она, как и обе ее дочери, была крещена по обряду евангелической церкви.
(обратно)10
Семья Хольцманов получила литовское гражданство в 1936 году.
(обратно)11
Хелене Хольцман иронически обращается к высказыванию политика Конрада Хенляйна, лидера партии судетско-немецкого народа. Хенляйн изрек эту фразу во время судетского кризиса 1938 г., а потом она стала крылатым выражением для сходных ситуаций, как, например, в конфликте вокруг Данцига.
(обратно)12
Формулировка, предположительно, специально смягченная автором записок, чтобы не нанести обиду потенциальным советским читателям: после того, как Красная Армия заняла Литву 15 июня 1940 года, магазин Макса Хольцмана был закрыт. Хольцманы как «буржуи» числились в советских списках тех, кого решено было депортировать в Сибирь. Депортации начались всего за несколько дней до вторжения фашистских войск на территорию Литвы.
(обратно)13
Эдвин Гайст и его жена Лидия были близкими друзьями Хольцманов, значительная часть записок Хелене Хольцман посвящена их судьбе. В словаре «Евреи в музыке» Тео Штенгеля (Берлин 1943 г. Статья 88) есть буквально одна строка об Эдвине Гайсте, упомянутом в связи с именем Херберта Геригка: «Гайст, Эдвин Эрнст Моритц (Нп). Берлин 31.7.1902, комп., музвед., км». Нп — наполовину еврей, комп. — композитор, музвед. — музыковед, музыкальный критик, км — капельмейстер, руководитель хора.
(обратно)14
Вечером во вторник 24 июня 1941 года войска германского вермахта заняли Каунас.
(обратно)15
Литовские партизаны выступили против советских войск и вместе с немецкими оккупационными властями участвовали в операциях по уничтожению еврейского населения. Еще до того как фашистские войска вошли в Литву, партизаны организовали первые еврейские погромы.
(обратно)16
Друг Мари Виктор, сын врача-офтальмолога Елены Куторги, и сама Мари принадлежали к кружку «Толстовцев».
(обратно)17
Во время «советского года» (июнь 1940 — июнь 1941) Мари Хольцман вступила в комсомол.
(обратно)18
В рукописи по ошибке 23 июня. См. сноску 14.
(обратно)19
Аллея Свободы (Laisves Aleja) была центральной улицей Каунаса, местом народных гуляний. В доме № 48 по Аллее Свободы находился книжный магазин макса Хольцмана «Pribatschis».
(обратно)20
«Содыба» («Sodyba») — дословно «Литовский двор». Полугосударственное торговое товарищество, торговавшее овощами, фруктами и медом. Мари Хольцман некоторое время работала секретарем в администрации этой организации.
(обратно)21
Ханс Мульчер (ок. 1400–1467) — художник и скульптор. Его главная живописная работа — «Алтарь страстей христовых» (1447), написанная для храма в Вурцахе. Центральный сюжет — несение креста. Сейчас композиция хранится в Берлине.
(обратно)22
Генерал Стасис Растикис, до войны глава генерального штаба литовской армии, был назначен министром обороны нового литовского правительства. Немецкие оккупационные силы в основном игнорировали полномочия этого кабинета министров.
(обратно)23
В самом конце этой страницы в записках X. Хольцман, на краю листа есть запись, судя по всему, сделанная уже позже. Вероятно, эпизод, рассказанный архитектором Мошинскисом: в Вильнюсе (Вильно) по предписанию оккупационных сил городское руководство издало приказ всем евреям носить на одежде желтую звезду. В Каунасе магистрат пока противится этому решению. В Вильнюсе этот приказ вступил в силу 3 июля 1941 г., в Каунасе комиссар города Крамер ввел его 31 июля 1941 г.
(обратно)24
Автор оставила многоточие вместо числа убитых евреев, видимо, чтобы вписать количество жертв позже. Во время бойни в гараже 27 июня 1941 года погибли около 60 евреев. Немецкие военные были также причастны к расстрелам и даже фотографировались на их фоне. Гараж товарищества «Лиетикус» находился не на Вокзальной улице, как пишет Хелене Хольцман, а на проспекте Витаутаса, ведущем к вокзалу. До того, как Литва стала Советской республикой, здесь находились бензоколонки нефтяной компании «Шелл».
(обратно)25
10 июля литовский военный комендант Каунаса Юргис Бобелис и бургомистр Каунаса Казне Палчяускас выпустили указ, согласно которому все евреи должны были до 15 августа переселиться в гетто в Вилиямполе.
(обратно)26
К моменту начала оккупации в Каунасе проживали около 40 000 евреев. 15 % тех 30 000, которых советские власти депортировали в Сибирь еще в июне 1941 года, были евреи. Поначалу в гетто в Вилиямполе проживали около 30 000 человек.
(обратно)27
Виктор Куторга.
(обратно)28
См. комментарии к понятию «Reichsdeutsche».
(обратно)29
Йордан (Jordan) по-немецки «Иордан». — Прим. пер.
Фриц Йордан, хауптштурмфюрер СА, ответственный по вопросам еврейского населения в гражданской администрации Каунаса. — Прим. издателя.
(обратно)30
Еще до указа от 31 июля 1941 г. носить на одежде желтую звезду, немецкий комендант Каунаса Ханс Крамер 28 июля 1941 г. своим указом запретил евреям ходить по тротуарам. «Еврейскому населению запрещается заходить на тротуары. Евреям надлежит держаться правой стороны проезжей части и двигаться одному за другим в затылок» («Hidden History of the Kovno Ghetto», S. 49).
(обратно)31
15 августа 1941 г. — последний день переселения в гетто.
(обратно)32
Роберт Штендер, первая скрипка Каунасской Оперы. Убит во время «акции интеллектуалов».
(обратно)33
Вероятно, Франц Воцелка, о котором речь еще впереди. Впоследствии он вытащил свою жену из гетто.
(обратно)34
Эти два письма Мари Хелене Хольцман переписала в свою тетрадь. Оригиналы утрачены.
(обратно)35
О пеликане еще в древние времена говорили, что эта птица готова кормить своих детей собственным мясом и поить собственной кровью, лишь бы они не голодали.
(обратно)36
Подруга Греты и Людмилы Белла Файгелович — близкие и друзья звали ее Бекой — вместе с семьей была депортирована в Сибирь в «советском» 1940 году.
(обратно)37
На полях рукописи: Чтобы бежать, нужны были деньги. Мы продали постельное белье, книги, кое-что из одежды и посуды. Продали за бесценок. Но нам они все равно были больше ни к чему.
(обратно)38
Полковник Эрих Йуст был верховным уполномоченным от командования вермахта на территории оккупированных балтийских государств и считается наиболее гуманным представителем германского оккупационного руководства. Может быть также, что речь идет в данном случае о генерал-майоре полиции Хайнце Посте, который в последнюю очередь мог бы прослыть гуманным комендантом. С марта 1942 г. он был назначен командующим охранной полицией, а также шефом оккупационных войск группы А. По свидетельству Аврахама Тори (стр. 251) совет старейшин каунасского гетто пытался наладить контакт с Постом, так как тот до войны был дружен с некоторыми нынешними узниками гетто. Очевидно, в лице Поста евреи в гетто надеялись обрести защитника.
(обратно)39
Так называемая «Акция интеллектуалов». Заключенных расстреляли в IV форте. В большинстве докладов названа цифра 534. Впоследствии в так называемом «охотничьем докладе» от 1 декабря 1941 г. указано иное число жертв акции — 711.
(обратно)40
Марийонас Сенкус.
(обратно)41
Кириллицей фамилию «Хольцман» по традиции русскоязычного транскрибирования и произношения могли бы записать как «Гольцман».
(обратно)42
Долгосрочные гетто, просуществовавшие до конца оккупации, согласно доступным историческим документам, были в трех городах Литвы — Каунасе, Вильнюсе и Шауляе. К началу оккупации было организовано также множество временных гетто в маленьких городах и местечках Литвы.
(обратно)43
Совет старейшин (Йуденрат) был организован по приказу немцев как инструмент внутреннего самоуправления гетто 4 августа 1941 г. Председателем был назначен уважаемый представитель еврейской общины Каунаса врач Эльханан Элькес. В совет старейшин входил также Аврахам Тори (Голуб), чей дневник «Пережить холокост. Дневник каунасского гетто» стал одним из наиболее ценных и богатых свидетельств истории каунасского гетто.
(обратно)44
Их назвали впоследствии «удостоверениями Йордана», по имени их изобретателя — уполномоченного по вопросам еврейского населения в Каунасе Фрица Йордана.
(обратно)45
Предположительно, 26 сентября 1941 г. были расстреляны 1200 человек. Возможно, для Хелене Хольцман эта акция слилась с последующей ликвидацией малого гетто октября, когда погибло около 1800 человек. В «охотничьем докладе» число жертв первой акции 1608, второй — 1845.
(обратно)46
Здесь нарушена хронология событий. Сфабрикованное покушение на коменданта гетто Вилли Козловски послужило предлогом для карательной операции 26 октября 1941 г., о которой X. Хольцман повествует раньше. В дневниках А. Тори см. на эту тему стр. 60.
(обратно)47
Автор имеет ввиду, что немецкие часовые были поражены нетипичной, по их представлениям, «нееврейской» внешностью евреев: в нарушение всяких стереотипов, распространяемых германской пропагандой, вместо горбоносых, черноглазых жгучих брюнетов с густыми черными бровями это оказались светловолосые люди скорее «арийской» внешности. «Штурмовиком» называлась одна из популярных в то время в Третьем рейхе нацистских газет, которая и пропагандировала определенный юдофобский стереотип еврейской внешности. Тем же самым занимался «Еженедельник борьбы за правду», издававшийся Юлиусом Штрайхером.
(обратно)48
См. об этом выдержки из дневников Елены Куторги от 31 октября 1941. Дополнение, стр. 348.
(обратно)49
Здесь X. Хольцман в виде исключения употребляет топоним «Кауен» — так обозначали Каунас оккупационные власти.
(обратно)50
В августе 1941 г. была основана Коллегия генеральных советников, верховный орган городского самоуправления в годы оккупации. Председателем коллегии был назначен Пятрас Кубилюнас. Чиновник, о котором говорит в данном случае Х.Хольцман, — Владас Юргутис.
(обратно)51
Земли Восточной Пруссии к северу от реки Мемель (название нижнего течения реки Неман, литовск. Нямунас) после Первой мировой войны стали французской подмандатной территорией, а в 1923 г. были аннексированы Литвой. В 1939 г. Германский рейх потребовал возврата земель. После Второй мировой войны территории к северу от Мемеля стали частью Советской Литвы. Сегодня они принадлежат к независимой Литве.
(обратно)52
Правильнее должность Ханса Крамера называлась «комиссар города».
(обратно)53
Во время войны города строго-настрого было запрещено освещать по ночам, чтобы не привлекать внимание авиации противника и избежать бомбежек. Уличные фонари не включали, окна в домах занавешивали затемняющими шторами.
(обратно)54
28 октября в каунасском гетто была проведена так называемая «большая акция».
(обратно)55
Ольга Фугалевич (литовский вариант фамилии, который приводит автор — Фугалевичуте).
(обратно)56
«Организация Тодта» была основана в Германии в 1938 году инженером Фрицем Тодтом (1891–1942). В последние предвоенные годы и в последующие годы войны эта инженерно-строительная организация занималась проектировкой и возведением военных инженерных объектов на территории Германии и на оккупированных территориях. Среди наиболее известных сооружений организации Тодта — линия военных укреплений на западе Германии, известная как «линия Зигфрида», Атлантический вал (сев. Франция).
(обратно)57
Лицо не идентифицировано.
(обратно)58
В русскоязычных источниках, прежде всего — в интернете, фамилия Раука не склоняется. — Прим. пер.
(обратно)59
Автор имеет в виду Софию Бинкис. По-литовски ее фамилия звучала как «Бинкиене».
(обратно)60
Юргис Бобелис был не комендантом девятого форта, а военным комендантом Каунаса.
(обратно)61
Идея отпустить на свободу две или три тысячи евреек и их детей, схваченных в первые дни оккупации, принадлежала Вальтеру Штальэкеру и Карлу Егеру, организаторам еврейского геноцида на территории Литвы. Отпуская женщин и детей, Штальэкер и Егер оказали давление на представителей еврейской общины Каунаса и заставили их лично переселить каунасских евреев в гетто в Вилиямполе и взять на себя ответственность за эту акцию. Между тем около трех тысяч мужчин-евреев, арестованных накануне, были расстреляны в VII форте.
(обратно)62
Дата неверна. Речь идет о событиях 5 и 6 февраля 1942 г., когда часть евреев каунасского гетто была отправлена на принудительные работы в Ригу, в Латвию. Различные источники называют число депортированных от 359 до 380 человек. Во время повторной депортации в октябре 1942 г. в Ригу отправили около 370 каунасских евреев.
(обратно)63
В данном случае имеется а виду акция, имевшая место 6 февраля 1942 г.
(обратно)64
Здесь следуют некоторые повторения того, что уже изложено автором.
(обратно)65
Германн Лурье. Его сестра, о которой речь идет на следующей странице, Эстер Лурье, носила прозвище «Реляйн». — Прим. издателя.
«Реляйн» («Rehlein»), видимо, является сокращением уменьшительно-ласкательной формы имени «Эстер» — «Эстерляйн». Одновременно слово может быть уменьшительно-ласкательной формой от «Reh» — «серна», «лань», животное, известное своей осторожностью, чуткостью, трепетностью. — Прим. пер.
(обратно)66
X. Хольцман оставила в этом месте пробел для точной даты, но впоследствии дату так и не указала.
(обратно)67
Имеются в виду немцы, которые вынуждены были перебраться в Германию еще в 1940 г, когда Литву занимали войска Советской Армии.
(обратно)68
То есть для покупки этих вещей не нужны были специальные документы — талоны или карточки. Товары отпускались свободно, в нужном количестве и по заниженным ценам.
(обратно)69
Академического перевода названия сочинения швейцарского писателя Готтфрида Келлера (1819–1890) обнаружить не удалось (возможно, оно никогда не переводилась на русский язык), поэтому мы предлагаем свой. — Прим. пер.
(обратно)70
Дневник и музыкальное наследие Эдвина Гайста после войны хранились у Хелене Хольцман. Когда в 1965 г. она вместе с дочерью переселилась из СССР в ФРГ, архив Гайста пришлось оставить в Каунасе. Дневник, написанный по-немецки, Маргарете Хольцман передала служащему МИД Литовской ССР. Впоследствии писатели Йокубас Склютаускас и Миколас Яцкевичюс превратили дневник композитора в пьесу «Я слышу музыку» («Àš girdžu muzika»), Вильнюс 1973 г. Сегодня дневник Эдвина Гайста так же трудно найти, как и его музыкальные сочинения. В 1973 г. дирижер Юозас Домаркас, гастролируя по ГДР, вручил дневник Гайста Вернеру Раквицу, тогда представителю Министерства Культуры ГДР, а впоследствии — художественному руководителю «Комической Оперы» («Комише опер») в Берлине. Об этом сообщала литовская пресса, например, газета «Tiesa», в марте 1973 г.: «Сочинения Э. Гайста возвращаются на родину». Маргарете Хольцман до последнего времени тщетно пыталась установить местонахождение партитур Гайста.
(обратно)71
Здесь игра слов: «Гайст» по-немецки означает дух, в том числе и Святой Дух. — Прим. пер.
(обратно)72
Личность не установлена.
(обратно)73
X. Хольцман оставила здесь пробел.
(обратно)74
Изначально было написано «губернатора Суматры», потом зачеркнуто.
(обратно)75
Ильзе Кауфманн, урожденная Мозес, по прозвищу Мозичек (от «Мозитхен» — «Mositchen») была женой немецкого геолога Рудольфа Кауфманна, автора многих фотографий Мари и Маргарете Хольцман. Среди друзей его прозвали «братишкой». История его жизни и его связи со шведкой Ингеборг Магнуссон изложена в исследовании «Королевские дети. Настоящая любовь» («Königskinder. Eine wahre Liebe»), автор — Райнхард Кайзер, составитель данной книги. После своего бегства из Германии Кауфманн некоторое время скрывался у Хольцманов, но X. Хольцман нигде не упоминает об этом в своих записках. Объясняется это, вероятно, тем, что после войны, еще в советские времена Кауфманн получил должность геолога и уехал от Хольцманов. Но, по воспоминаниям Маргарете Хольцман, время от времени Кауфманн и Хольцманы встречались и во время гитлеровской оккупации.
(обратно)76
Изначально в рукописи X. Хольцман было: «Наши враги немцы» и ничего более. Позже — исправлено и продолжено.
(обратно)77
Мобилизация «добровольцев» для отрядов СС на Балтике шла особенно интенсивно в начале 1943 г., когда командование оккупационных сил приняло решение о «тотальной войне». Однако в Литве, в отличие от Латвии и Эстонии, большого успеха не имела.
(обратно)78
Агнес Хольцман, свекровь X. Хольцман, урожденная Прибач, в 1920-х гг. покинула г. Оборник близ Познани, где она во время инфляции потеряла свой дом, и перебралась в Йену, в дом Маргериты Чапски, матери X. Хольцман.
(обратно)79
Агнес Хольцман погибла в концлагере Терезиенштадт (он же Терезин) скорее всего в 1943 г.
(обратно)80
Зузе (Зузанне) фон Хёрнер-Хайнтце. Ее роман «Девушки на военной службе. Фрагмент биографии», изданный в Лейпциге в 1934 г., повествует о жизни военных санитарок и сестер милосердия во время Первой мировой войны. Книга пользовалась большим успехом в Германии.
(обратно)81
Водонепроницаемые повязки для компрессов и послеоперационного ухода, изобретенные и введенные в медицинский обиход австрийским хирургом Теодором Билльротом (1829–1894). — Прим. пер.
(обратно)82
Роман народной писательницы Литвы Евы Симонайтите (1889–1978) «Судьба семейства Симонис» (один из вариантов перевода — «Судьба Шимонисов») вышел впервые в Каунасе в 1935 г.
(обратно)83
Дочь профессора от первого брака.
(обратно)84
Согласно дневникам Авраама Тори (стр. 158), Эдвин Гайст был арестован и отвезен в гетто 3 декабря 1942 г.
(обратно)85
10 декабря 1942 г.
(обратно)86
К сожалению, стихи даны лишь в подстрочнике и нуждаются в специальном стихотворном переводе. — Прим. пер.
(обратно)87
Основная часть 6-й немецкой армии капитулировала в Сталинграде 31 января, остальные части сдались 2 февраля 1943 года.
(обратно)88
Далее в рукописи следует фраза, связь которой с контекстом не установлена: «Штютц знал, что у нее не было никакой мебели, и недоверчиво поинтересовался, откуда у женщины два матраса, на которых спят мать и дочь».
(обратно)89
Имеются в виду гетто. — Прим. пер.
(обратно)90
В книге отсутствует текст сноски (прим. верстальщика).
(обратно)91
Зять Бинкисов музыкант Владас Варчикас вместе с Софией Бинкиене спас жизнь многим евреям. Сейчас он живет в Каунасе.
(обратно)92
В феврале 1944 г. около 5000 литовцев были депортированы на территорию Третьего рейха на принудительные работы (так называемые цвангсарбайтеры).
(обратно)93
Зузанне Чапски впоследствии вышла замуж за тележурналиста и публициста Герта фон Паченски. Стараниями супругов фон Паченски Хелене Хольцман и Маргарете Хольцман смогли в 1960-х гг. выехать из СССР в ФРГ.
(обратно)94
Под прозвищем «спец» имеется в виду уже упоминавшийся Воцелка.
(обратно)95
Об этом X. Хольцман уже писала в Тетради второй.
(обратно)96
Этот эпизод отражен у В. Гроссмана в «Черной книге» и в пьесе Йошуа Соболя «Гетто» 1984 г.
(обратно)97
Ода Фридриха Шиллера «К радости» («Обнимитесь, миллионы!») (1785) включена Л. Бетховеном в финал 9-й симфонии — гимн грядущей свободе и братству людей. — Прим. пер.
(обратно)98
Библиотека начиналась с частного собрания книг состоятельного вильнюсского коммерсанта и ученого, известного просветителя и знатока Талмуда Матитьяху Страшуна (1817–1885), который впоследствии передал свою коллекцию еврейской общине Вильнюса.
(обратно)99
«Институт по изучению еврейского вопроса», чье создание планировалось еще в 1938 г., был открыт во Франкфурте-на-Майне в 1941. Основу его научной библиотеки составило собрание книг по иудаике и семитологии из франкфуртской городской библиотеки. Потом собрание пополнилось трофейной литературой с оккупированных территорий. Институт находился в ведении «Высшей школы НСДАП», которую планировали создать в германском партийном руководстве, но не успели.
(обратно)100
Хольцман собственноручно от руки скопировала документ и присоединила к своим записям.
(обратно)101
Изначально в рукописи X. Хольцман речь идет о марте 1943-го, что ошибочно. Восстание в варшавском гетто началось 19 апреля и закончилось ликвидацией гетто 16 мая 1943.
(обратно)102
В Панеряе (Понари) находился один из крупнейших «расстрельных пунктов» Литвы. Сюда свозили евреев главным образом из Вильнюса, но и из других мест тоже, с 1941-го по 1943-й всего здесь погибли около 70 000 человек.
(обратно)103
Александрас-Витаутас Купстас был режиссером театра в Каунасе.
(обратно)104
Имеются в виду немцы-надсмотрщики, следившие за работой евреев-сапожников в бригаде «Башмак». — Прим. пер.
(обратно)105
26 октября 1943 г. из Каунаса были депортированы «минимум 2700» евреев. Трудоспособных и выносливых отослали в лагеря Вайвара и Клоога в Эстонии, детей и стариков — в Освенцим.
(обратно)106
Таких эшелонов было много. Начиная с декабря 1941 г. из Германии и Западной Европы в Каунас и другие балтийские города регулярно приходили поезда с заключенными евреями. Всего в Каунас на расстрел свезли от 10 000 до 15 000 евреев.
(обратно)107
Это был Кама Гинкас, ныне — известный театральный режиссер.
(обратно)108
Беньямин Липцер был шефом еврейских рабочих бригад при штабе гестапо и был вхож в немецкую администрацию. А. Тори пишет, что Липцер пытался перетянуть на себя полномочия шефа еврейской полиции. Но действительным шефом считался Моше Леви.
(обратно)109
На полях: Марианне, хорошо говорившая по-немецки, поступила экономкой в одно немецкое семейство. Хозяева считали женщину русской, и Марианне пользовалась особым расположением и доверием хозяйки, которая на каждом углу готова была трубить о том, какие русские, оказывается, могут быть трудолюбивыми, покладистыми и аккуратными. Высшей похвалой считалось утверждение дамы, будто их экономка спокойно могла бы стать женой немца. Марианне в шутку утверждала, что русские ей совсем безразличны и замуж она готова хоть за негра. Но только не за еврея, совершенно серьезно отзывалась хозяйка, не желавшая даже думать о такой мерзости.
(обратно)110
Другие источники называют цифры 1300 детей до 12 лет и взрослых старше 55 лет.
(обратно)111
Впоследствии Маргарете Хольцман изучала сельское хозяйство в Каунасе и ботанику в Москве. Вплоть до переселения в ФРГ она работала в ботаническом саду Академии наук Литвы, после 1965 г. — в Институте растениеводства и в Аграрном Центре в университете города Гисена. С 1974 г. она работает переводчицей с русского и литовского в Гисене.
(обратно)112
Рим был взят войсками союзников 4 июня 1944 г. 6 июня состоялась высадка другой части союзных войск в Нормандии.
(обратно)113
Минск был взят советскими войсками 3 июля 1944-го, Вильнюс — 13 июля.
(обратно)114
Соллюкс — медицинская лампа с голубым свечением для прогревания в случае мышечного ревматизма, сильных ушибов и простуды.
(обратно)115
4 июля 1944 г. был вторник.
(обратно)116
На полях рукописи: Рубашки женщины рвали на части и шили себе носовые платки, полотенца, лифчики. Великой ценностью считалась швейная игла. С помощью осколков стекла из деревяшек вырезали себе ложки.
(обратно)117
BDM — Bund Deutscher Mädel. Союз немецких девушек (молодежная организация в фашистской Германии). — Прим. пер.
(обратно)118
Фельдфебель войск СС в фашистской Германии. — Прим. пер.
(обратно)119
«Энгель» по-немецки означает «ангел». — Прим. пер.
(обратно)120
Ныне город Илава в Польше. — Прим. пер.
(обратно)121
В рукописи имя пропущено.
(обратно)122
Мать «маленькой Регины» (условное имя Эдит) — это Циля Швабайте, она же молодая литовка Ирена Гайжаускиене.
(обратно)123
«Мамеле» означает «мама» на идиш. — Прим. пер.
(обратно)124
«Французская кампания» — книга И.В. Гете (1792), в которой описывается поход прусско-австрийских войск против французов во время первой коалиционной войны против революционной Франции. Гете описывает решающее сражение этой кампании — артиллерийское сражение при Вальми.
(обратно)125
В стихотворении немецкого поэта Фридриха Рюкерта (1788–1866) «Шел как-то человек из Сирии» погонщик верблюдов вынужден спасаться от разъяренных верблюдов в колодце. В шахте колодца сириец повисает, зацепившись за куст ежевики, и понемногу понимает весь ужас своего положения: наверху — бешеные верблюды, а на дне колодца — злой дракон, а ежевичник, за который несчастный держится, грызут мыши. Далее у Рюкерта так: Погонщик в ужасе и нужде, / Окружен, обложен со всех сторон, как в осаде, / Повис в пустоте — о несчастье! / Он ищет спасения — все напрасно! / И пока он вот так осматривался в поисках спасения, / Видит он веточку, что машет ему / С ежевичного куста, изобилующего спелыми ягодами! / Ну, тут уж он себе не смог отказать хоть в этой радости. — Прим. издателя.
Стихотворение переведено в подстрочнике. — Прим. пер.
(обратно)126
В данном случае это еврейское женское имя, а не сокращение от мужского имени «Анатолий».
(обратно)127
На полях дополнительно: «Палач требует, чтобы парень выбрал из толпы другого еврея: повесим вместо тебя, если жить хочешь. Мальчик отказывается».
(обратно)128
Видимо, от немецкого «Arbeit» — «Работа» — Прим. пер.
(обратно)129
Эта акция относится к августу 1942 г. Число евреев, привезенных из Лодзи, 8000 человек, называет Мартин Гилберт в своей книге «Холокост», стр. 433. Остальные, числом 2500 человек, погибли не в церкви в Ласке, а в лагере смерти Хелмно, в газовых камерах.
(обратно)130
Так с 1939-го по 1945-й по-немецки назывался город Лодзь в Польше.
(обратно)131
Видимо, немцы иронично назвали это предместье «Балутом» по аналогии с одноименным городком в Палестине. — Прим. пер.
(обратно)132
Мастерская, где работают приборы низкого напряжения. — Прим. пер.
(обратно)133
Электротерапия на основе высокочастотного переменного электрического тока. В основе этого метода — глубокое прогревание тканей токами высокой частоты и большой силы. — Прим. пер.
(обратно)134
На полях рукописи: Прежде чем увести, невольникам дают еще время собрать узел — одежда, продукты, всего не более 25 кг.
(обратно)135
На полях: Проволочные заграждения были под напряжением.
(обратно)136
На полях: Кидалась как дикий зверь и колотила. На перекличках толкала дубинкой.
(обратно)137
Жаргонное название лагерной надсмотрщицы.
(обратно)138
Как сегодня известно, Освенцим были и трудовым лагерем, и лагерем смерти.
(обратно)139
Город в польской части бывшей Восточной Пруссии.
(обратно)140
На полях, очень неразборчиво, вероятно: Одеяла распороли, разорвали на полоски, смастерили себе штаны. Через два дня одеял уже не было.
(обратно)141
На полях: Ее ежедневно причесывала молодая еврейка. Ей (Трудочке) шили приданое. Швейная машинка близ склада, трескучий мороз. Самые красивые платья меняла несколько раз в день. Красная ленточка в прическе, перманентная завивка.
(обратно)142
На полях: Как только услышат шаги кожаных ботинок — часовые! Когда в лагерь приходили посылки с одеждой, в комендатуре отбирали себе все самое лучшее, негодные обноски оставляли заключенным евреям.
(обратно)143
На полях: Пальцы в нарывах и ранах. Ноги — в гнойниках. Их не кормили. Они умерли от голода и лежали здесь, разлагаясь. Ножницами разрезали на мертвых одежду. Мертвых в ящики, увезли прочь в грузовике.
(обратно)144
На полях: Всякий раз, как гремел приказ: «Подъем!», узники настораживались: кажется, русские уже близко!
(обратно)145
На полях: В маленьком городке строевой пришел с докладом к коменданту. Не желал сам брать на себя ответственность.
(обратно)146
Здесь обрывается запись рассказа Толи. Толя выжила и после этой болезни, вышла замуж за литовца и в 1960-х гг. эмигрировала в Израиль.
(обратно)147
Елена Кугоргиене-Буйвидайте (Куторга), Дневники. Июнь — декабрь 1941. Об этой женщине и ее записях упоминают Василий Гроссман и Илья Эренбург в произведении «Черная книга. Геноцид советских евреев». Следует отметить, что Мари Хольцман к моменту расстрела было уже девятнадцать, а не семнадцать. Маргарете действительно как «наполовину еврейка» должна была переселиться в гетто, но, как следует из записок Хелене Хольцман, осталась с матерью в городе. — Прим. издателя.
(обратно)148
Имеются черновики и наброски только тех фрагментов воспоминаний X. Хольцман, где рассказ ведется не от ее лица, а от лица других очевидцев событий. Это Эмма Френкель, Стася и, в первую очередь, Толя. Эти черновые наброски представляют собой нечто вроде плана: основные положения схвачены номинативными предложениями, отдельным словами, обрывками фраз. Записи, видимо, делались во время рассказа свидетеля либо непосредственно после. Среди этих заметок, словно историческое послание из бутылки, затесался набросок, не вошедший в текст воспоминаний X. Хольцман, поэтому его следует, пожалуй, привести здесь отдельно: «Брата забрали в 1940-м и вместе с другими мужчинами увезли. Семья уже попрощалась было с ним навсегда, как вдруг через три месяца приходит открытка: „Я в Позене, в трудовом лагере, на стадионе. Здоров“. Родные бросились писать в ответ, пришла втора открытка: „Ответ „pod znaczek!“ (под маркой). Работаю по-прежнему. Все хорошо“. Пленникам в лагерях разрешалось раз в месяц написать родным 10–15 слов по-немецки и в ответ получить столько же. Что могло означать польское слово среди немецких? Отклеили марку — под ней мельчайшим почерком написано: „Регулярные переклички. Каждого десятого расстреливают. Очередь дойдет до всякого“». — Прим. издателя.
(обратно)149
Помимо собственных воспоминаний и устных рассказов Хелене Хольцман, очевидно, использовала также еще и письменные документальные свидетельства, которые во время описываемых событий находились в весьма ограниченном доступе. Кроме тетрадей сохранились три таких документа:
1. Протокол от 18 августа 1944 года — свидетельства некоего Гордона, выжившего узника гетто, о многочисленных убийствах евреев нацистами.
2. Черновой перевод советского коммюнике, напечатанного в «Правде», — отчет советско-польской комиссии по результатам расследования нацистских зверств в лагере смерти Майданек в сентябре 1944 года.
(обратно)150
Эрнст Аббе (Abbe, Ernst) (1840–1905), немецкий физик-оптик, создатель теории формирования изображений в микроскопе и технологии важных разделов оптико-механической промышленности. В 1863-м получил должность приват-доцента, лектора по математике, физике и астрономии в Йенском университете. В 1866-м Карл Цейсс предложил сотрудничество молодому физику. В 1889-м руководимая Аббе фабрика объединилась с предприятием по производству стекла во главе с химиком Ф.Шоттом и превратилась в фирму «Карл Цейс — Йена». — Прим. пер.
(обратно)151
Карл Фридрих Цейсс (Zeiss, Carl Friedrich) (1816–1888), немецкий оптик-механик. В 1846-м открыл небольшую оптическую мастерскую в Йене, где ремонтировал старые и разрабатывал новые приборы для Института естественных наук при Йенском университете. Мастерская быстро разрасталась, и вскоре Цейсс приобрел репутацию конструктора лучших микроскопов, которые нашли широкое применение в медицине и биологии. В 1866-м с Цейссом начал сотрудничать известным оптиком Э. Аббе. — Прим. пер.
(обратно)152
Анри ван дер Вельде, (1863–1957). Лидер модерна в Бельгии, яростный критик эклектики. Постройка собственного дома (1896) позволила ван дер Вельде добиться стилистического единства архитектуры, мебели и убранства. Автор многочисленных интерьеров в Германии (1901–1914). Успех основанных им мастерских побудил Ван де Вельде основать Веймарскую школу искусств и ремесел (1907). В Бельгии он основал Высшую национальную школу архитектуры и прикладного искусства (1926). В 1923 г. издал «Формулы современной эстетики». — Прим. пер.
(обратно)153
Гершом Герхард Шолем (1897–1982), один из наиболее значительных еврейских мыслителей-мистиков. — Прим. издателя.
(обратно)154
Gerschom Scholem. Von Berlin nach Jerusalem. Jugenderinnerungen. Frankfurt a. Main. Suhrkamp 1977. Гершом Шолем. От Берлина до Иерусалима. Воспоминания юности. Франкфурт-на-Майне, Зуркамп. 1977. Стр. 129. Дальнейшая судьба портрета неизвестна. — Прим. издателя.
(обратно)155
Franz Roh. Eine neue Malerin: Helene Czapski. In: «Jahrbuch der jungen Kunst 1923». S. 273. — Прим. издателя.
(обратно)156
В издательстве М. Хольцмана вышли книги Эдвина Гайста «Старинная литовская музыка» — 1938, и «Старина и современность в литовских народных песнях» — 1940, в 1928 был опубликован перевод на литовский сказки о Петере-неряхе (в русском варианте это Степка-растрепка) Казиса Бинкиса. Хорст Энгерт публикует у Хольцмана «Из литовской поэзии. Вольное переложение на немецкий» в 1938. Владимир Санкевич — «Звезда Востока» и «Динамика мировой экономики» в 1937-м. К важнейшим публикациям относятся также: Николай Воробьев «М.К. Киурлионис, литовский художник и музыкант» — 1936, «Рассказы графа Альфреда Кейзерлинга» — 1937. — Прим. издателя.
(обратно)157
Helena Baltruschaitis. Lietus lyja Lietuvoje (В Литве идет дождь). In: «Santara», № 33, S. 97. Kaunas, Winter 1999. Перевод на немецкий — Маргарете Хольцман.
(обратно)158
Райнхард Кайзер писал об этой супружеской паре в книге «Королевские дети. Настоящая любовь» («Konigskinder. Eine Wahre Liebe»).
(обратно)159
Vladas Zukas. Prisiminimu puslapiai (Страницы воспоминаний). Vilnius. Baltos Lankos 1999. S. 58. Перевод — Маргарете Хольцман.
(обратно)160
В книге имеются только 45 фотографий (прим. верстальщика).
(обратно)


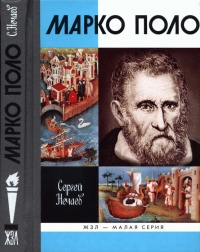
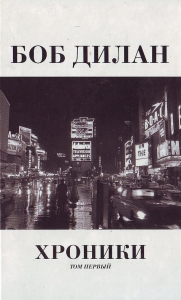

Комментарии к книге ««Этот ребенок должен жить…» Записки Хелене Хольцман 1941–1944», Хелене Хольцман
Всего 0 комментариев