А. СОЛЖЕНИЦЫН
ЛЕНИН В ЦЮРИХЕ
ГЛАВЫ
YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne Ste-Genevieve. 75005 Paris
© World Copyright 1975 A. Soljenitsyne
© 1975, YMCA-PRESS pour l'edition en langue russe
из Узла I
«АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»
Да, да, да, да! это — порок, эта жила азарта, этот напор, когда увлечённый одной линией, вдруг слепнешь и глохнешь к окружающему и простейшей детской опасности не видишь рядом! Как с Юлей Мартовым когда-то (да когда! — едва отмучивши трёхлетнюю ссылку, едва соберясь за границу!) с корзинкой нелегальщины, с химическим письмом о плане „Искры"
— перемудрили, переконспирировали: полагается в пути менять поезда, не подумали, что тот пойдёт через Царское — ив нем заподозрены, взяты жандармами, и только по спасительной российской неповоротливости полиция дала им время сбыть корзину, а письмо прочла по наружному тексту, не удосужилась подержать над огнём — и тем была спасена „Искра"!
Или как потом: в напряжённой годовой внутрипартийной войне большинства из двадцати одного против меньшинства из двадцати двух — пропустили, почти не заметили всю японскую войну.
Так — и эту (и не думал о ней, и не писал, и на Жореса не откликнулся). Да потому что: расползлась всеобщая зараза объединителъства, за последние годы охватила всю русскую социал-демократию — огульное объе дините л ьство, самое опасное и вредное для пролетариата! примиренчество и объединенчество — идиотизм, гибель партии! И перехватили инициативу вожди слюнтявого Интернационала — они нас будут мирить! они нас будут объединять! зовут на пошлейшую объединительную конференцию в Брюссель
— как вырваться?? как избежать?? — Всё вниманье,
всё напряженье ушло туда — и почти не слышал выстрела в эрцгерцога!.. Объявила войну Австрия Сербии — как не заметил. И даже Германия объявила России! — как нипочём... Пустили известие, будто немецкие с-д проголосовали за военные кредиты — финта, нас не надуешь, хотят внести замешательство среди социалистов. Да, да, вот так затягивает, когда хорошо разгонишься в борьбе, трудно остановиться, очнуться. Да, да, да, было десять дней — сообразить своё двусмысленное положение возле самой русской границы и убираться поскорей из этого чёртова Порони- на, уже теперь никому не нужного, и изо всей этой захлопнутой Австро-Венгрии — в воюющей стране какая работа? сразу нужно было мотнуться в благословенную Швейцарию — нейтральную, надёжную, беспрепятственную страну, умная полиция, ответственный порядок! — так нет! даже не пошевельнулся, всё додумывал старые довоенные заботы, тут началась и австро-русская, и на другой же вечер, в дождь проливной, постучался жандармский вахмистр.
Вообще — конечно, должна была быть война! — предсказана, предвидена. Но — не конкретно сейчас, в этом году. И — пропустил... И — вляпался...
Гладко-выбритое, приятное, даже нежное лицо Ганецкого — сейчас такое спокойное, а иступлённо кричал на судью в Новом Тарге! а как на арбе гнал!
— не бросил в беде.
По перрону — до паровоза и назад. До паровоза
— и назад.
Еще и до отправления адски много времени, почти полчаса, и еще всё может случиться. Хотя тут, на станции, надёжно расхаживает жандарм, уже никто не кинется.
Диалектика: жандарм — может быть и плохо, может быть и хорошо.
Большое красное колесо у паровоза, почти в рост.
Как бы ты ни был насторожён, предусмотрителен, недоверчив, — убаюкивает проклятая безмятежность быта, мещанская в сути своей, семь лет подряд. И в тени чего-то большого, не рассмотрев, ты, как к стенке, прислоняешься к массивной чугунной опоре — а она вдруг сдвигается, а она оказывается большим красным колесом паровоза, его проворачивает открытый длинный шток — и уже тебе закручивает спину — туда! под колесо!! И, барахтаясь головой у рельсов, ты поздно успеваешь сообразить, как по-новому подкралась глупая опасность.
Но почему — именно к нему, едва война началась? Сперва даже засмеялся: что ж тут могли заподозрить? — уж перед австрийской полицией он даже непорочен. (Он и в Краков переехал, прослышав от Ганецкого, что австрийские власти будут поддерживать все анти-царские силы.) Обыск. Были русские адреса, конспиративные записи (несчастье такое, всегда они попадаются), но их-то вахмистр-болван как раз и не заметил, а набросился на рукопись по аграрному вопросу: слишком много цифр! шифровано! Забрал рукопись. Жаль, но чёрт бы с ней. Однако, гладит полиция всегда против шерсти и на самой гладкой спине вдруг что-то топорщится: боялся Ленин только за русские адреса, а вахмистр полез, полез — и нашёл браунинг с патронами! Ленин изумлённо смотрел на Надю, он не знал, не помнил этого мерзкого револьвера, он никогда бив руки его не взял, да он и стрелять не умел, да ему бив голову не пришло действовать простым ручным оружием. Откуда??? (Оказывается, какой-то архистарательный русский товарищ, идиот, припёр, а Надежда, недотёпа, взяла.)
Живёшь — сам себя со стороны не наблюдаешь, не понимаешь. И вот, глазом жандармским: поселился близ русской границы; к нему из России приезжают; деньги присылают из России, и не малые; много ходит по горам, наверно планы снимает. В Новом Тарге всех предупреждали: задерживайте подозрительных, делают снимки дорог, отравляют колодцы. Шпион! А тут — и револьвер! Завтра явиться к утреннему поезду, поедем в Тарг.
Кольцо глупости! Стена глупости! Глупейший, простейший, слепейший просчёт — как с Царским Селом тогда. (Да как и в 95-м году — газету готовили, ни одного номера не выпустили, сразу и провалились...) Да, да, да, да! — сесть в тюрьму революционер всегда должен быть готов (впрочем, умнее избежать) — но не так же глупо! но не так же позорно! но не так же не вовремя дать себе спутать руки!! Вон-нючая полицейская камера в Новом Тарге! заплеснелая Австро- Венгрия! — военный суд?!?
Никакая внешняя неудача, поражение, подлость и низость врагов — никогда ничто так не травит сердце, как собственный даже малый просчёт, днём и ночью сжигает, особенно в камере. Своего просчёта нельзя объяснить объективно, потому нельзя загладить, забыть, а только: его могло не быть! могло не быть!! могло не быть!!! — а он был, по собственной оплошности! Сам ошибся! — и не избегаешь за одиннадцать дней по плитчатому полу от стенки до стенки, не отлежишься на визгливой кроватной сетке, а жжёт и палит: могло не быть! —.могло не быть!! — сам наделал! — сам влопался!!
И еще сейчас 23 минуты до отхода поезда, только первый звонок дали, — уж скорей бы уехать!
А Ганецкий — Куба по-партийному, самоуверенно держится, коммерсантская манера, изобретательношнуровая полоска усов, и глаза настойчивые, спокойно-выкаченные, не могут не восхитить. В острейший момент не отстал, не смяк, не сдался, а как бульдог вцепился в жандармские штаны. В первые же минуты после обыска — к нему первому, не к Гришке Зиновьеву, покатил Ленин на велосипеде — и не ошибся. Из достоинства еще старался рассказывать как о пустяке, о смешном досадном случае. (А сам про себя оглушён: ведь время военное, кто будет разбираться? — расстреляют! ухлопают беспрепятственно — и к чертям, по
глупости, вся партия! и — к чертям всемирная социалистическая революция!) Но Куба — понял, как это опасно! не поддержал игры в небрежность, в успокоение, а из себя фонтаном взвил имена — социал- демократов! депутатов парламента! общественных деятелей! — кому сейчас же писать, объяснять, теребить!! добиваться вмешательства!!!
Уже в тот вечер из Поронина слал Ганецкий первые телеграммы, и Ульянов телеграфно просил краковскую полицию подтвердить его полную лойяльность Австро-Венгерской империи. Утром из Нового Тарга Ленин не вернулся, и Ганецкий — днём поезда нет — на арбе погнал к полицейским лицам, к судебному следователю (рискуя же и сам, ведь и Гришку арестовали потом, могли и Кубу), и два десятка писем во все концы, и тут же в Краков, и встречался там (да ведь он любому чиновнику сплетёт историю в одну минуту!), и телеграфировал в Вену. Любой бы славянин на его месте устал, отстал, бросил, но Ганецкий с неиссякаемой настойчивостью, и как о брате родном заботясь — не отставал! А вернувшись из Кракова, прорвался и в тюрьму на свидание, и уже поручал ему Ленин дальше: добиваться сразу выезда в Швейцарию!
От телеграфных толчков Ганецкого с-д депутаты парламента Виктор Адлер и Диаманд обратились к канцлеру и в министерство внутренних дел, дали письменные ручательства за русского социал-демократа Ульянова как врага русского правительства, злейшего, чем сам канцлер Австро-Венгрии. И в краковскую полицию пришло указание: „Ульянов смог бы оказать большие услуги при настоящих условиях". И то не освобождали одиннадцать дней, только 6 августа, хватка...
Но и с тех пор неделя в Поронине после тюрьмы совсем не оказалась спокойной. Что можно было втолковать австрийскому канцлеру и слабоумным австрийским аристократам, того не могли понять галицийские мужики, тупые, как все мужики в мире — в Европе ли, в Азии, в Алакаевке. В глазах поронинских дремучих
И
жителей этот иностранец, хоть и освобождённый, всё равно оставался теперь — шпионом! Поразительно! Непостижимо! Шли из костёла крестьянки и, сами ли по себе или увидя Надю и для неё, расшумелись на всю улицу, что коли начальство отпустило, так они сами выколят ему глаза! сами вырежут ему язык!.. Надя пришла домой бледная, вся тряслась. И испуг её — передавался, захватывал: а что? — и выколют, ничего удивительного. А что? — и вырежут, ничего невозможного! Очень просто: придут с вилами и ножами... Такой колоссальной опасности не подвергался Ленин никогда за всю жизнь. Никогда еще ни от кого ему такое не... Да мало ли знает история вспышек простонародной безобразной ярости! От неё нет гарантии даже в цивилизованном государстве, даже в тюрьме безопаснее, чем от тёмной толпы...
Тревожно настраиваться при угрозах — это не паника, это мобилизация.
Так были затемнены и задёрганы последние дни и часы в Поронине. Два года такой безопасный мирный, посёлок как насторожился к прыжку. Уже и из дому не выходили, плохо спали, плохо ели, нервно укладывались. Ленин пытался отбирать самое нужное из бумаг и книг, но не владел собой, вникнуть не мог, да и набралось тут бумажного пудов шестьдесят. (Да ведь только этой весной переехали сюда из Кракова окончательно!)
Да как вообще он мог медлить, оставаться рядом с русской границей?! Тут и казаки налетят — захватят в один момент.
Только сейчас, перед зелёненьким аккуратным поездом, на платформе, где при жандарме и станционных чиновниках уже никак не могло быть бесконтрольной расправы, — сваливалась тяжесть, наконец. И все веселели. Стояло и утро весёлое, солнечное, без облаков. Не грузили военных грузов, не ехали мобилизованные, перрон и поезд выглядели как в обычное дачное летнее время. Хотя билеты продавали свободно только до Нового Тарга, а до Кракова уже требовалось разрешение полиции.
Оттого вагоны были полупустые. Надя и тёща сидели уже там, выглядывали из окна. Несколько товарищей провожало, стояли под окном. А Владимир Ильич, взявши Якова под руку, снова и снова шли вдоль платформы, оба точно равного невысокого роста, оба широкие, только Ильич от кости, а Куба от жирка.
Когда видишь способность человека на такие дела, следует внимательней прислушиваться и к его словам, какими бы мечтательными они ни казались. Знал Якова давно, со Н-го съезда, но по польским делам, а только этим летом он развернулся с новой стороны и стал самым важным человеком. Он вообще был золото: исключительно исполнителен — и обо всём серьёзном замкнут, слова не вытянет никто чужой. В июне и в июле в окрестностях Поронина они всё ходили с ним на прогулки по нагорью и обсуждали его увлекательные финансовые проекты, целый фейерверк. Может быть из-за своего буржуазного происхождения, Ганец- кий имел к денежным делам поразительный нюх и хватку — редкое и выгоднейшее качество для революционера. Он правильно ставил вопрос: деньги -— это ноги и руки партии, без денег любая партия беспомощна, одно болтунство. Даже парламентская партия нуждается в больших деньгах — для избирательных кампаний, что же сказать тогда о партии революционной, подпольной, которой надо организовать укрытия, явки, транспорт, литературу, оружие и готовить бойцов, и содержать кадры, и в нужный момент совершить переворот?
Да что убеждать! Всем большевикам это было понятно от самого II съезда, от первых шагов самостоятельности: без денег — ни на шаг, деньги решают всё. Первый путь был — выжимать пожертвования из русских толстосумов, из Мамонтова, из „пряника" Коновалова, да Савва Морозов гнал по тысяче в месяц, как раз на содержание Петербургского комитета, но другие отваливали нерегулярно, от купеческого расположения, от интеллигентского сочувствия (Гарин-Михайловский дал десять тысяч один раз) — а там снова ходи проси. Верней был путь — брать самим. Где — наследство вымотать, как у фабриканта Шмидта, членам пратии жениться на наследницах, то в уральских горах обмануть банду Лбова — деньги взять у них, а оружия не привезти. То более систематически — развивать военно-технические средства: в Финляндии готовились печатать фальшивые деньги, уже Красин водяную бумагу доставал, и для эксов готовил бомбы. Эксы пошли исключительно удачно: но на V-м съезде чистоплюйством Плеханова и Мартова запретили их, да остановиться не было сил, и в Тифлисе Камо и Коба триумфально захватили еще 340 тысяч из казны. Но — забылись, голова закружилась, стали хрустящие царские пятисотки менять в Берлине, в Париже, в Стокгольме, надо бы поумеренней, а царское министерство разослало номера, и Литвинов попался, и Сарра Равич попалась в Мюнхене, да неудачно записку послала из тюрьмы, перехватили. Стали искать среди женевских большевиков, взяли тринадцать, а Карпинского и Семашко упекли бы на срок, если б либералы из парламента не помогли. Но хуже всех, но гаже всех с фальшивой лицемерной подлой своей принципиальностью раскудахтался Каутский, какая низменная затея: устраивать „социалистический суд" над русскими большевиками и скудоумно велеть сжигать полутысячные всесильные банкноты! (Только при одном виде его портрета, святенького седенького старичка в вылупленных очках — челюсть поводит брезгливостью, как взял лягушку в рот.) Вам хорошо, немецкие рабочие богатые, взносы большие, партия легальная, а — нам?? (Да не всё сожгли, конечно, не такие дураки.) И еще потом сглупили, сделали злобного старика денежным арбитром между большевиками и меньшевиками (не избежать было манёвра объединения, значит и деньги, вроде, объединять, а меньшевики-то голенькие; всего шмидтовского наследства скрыть было нельзя, часть дали Каутскому на арбитраж — так потом, при новом расколе, не хотел большевикам возвращать).
И вот этим летом Ганецкий захватил Ленина проектом: создать в Европе своё коммерческое предприятие или войти партнёром в уже действующий трест — и пакет прибыли ежемесячно гарантированно передавать партии. И это не было русской маниловщиной, каждый предлагаемый шаг поражал точным расчётом. Не Куба сам придумал, это шло из бегемотской гениальной головы Парвуса, от него письма были Кубе из Константинополя. Когда-то нищий как все социал- демократы, и поехавши в Турцию стачки устраивать, он откровенно теперь писал, что богат, сколько ему надо (по доходившим слухам — сказочно), пришло время обогатиться и партии. Он хорошо писал: для того, чтобы верней всего свергнуть капитализм, надо самим стать капиталистами. Социалисты должны прежде стать капиталистами! Социалисты смеялись, Роза, Клара и Либкнехт выразили Парвусу своё презрение. Но может быть поторопились. Против реальной денежной силы Парвуса насмешки вяли.
Отчасти за этими проектами Ганецкого и прохлопали начало войны.
Их же обсуждали и сейчас, в последние минуты. И как связь держать. Да увидятся скоро: вот Зиновьев поедет за Лениным вслед, а там и Ганецкий, как только отпишется от австрийской воинской повинности.
Тут дали второй звонок. Ильич вскочил на подножку шустро — без шляпы, почти совсем лысый, в поношенном костюме, с заострелым лицом, с неотпустившей его беспокойной оглядкой, отросшая бородка, неаккуратная, — и правда, чем-то похож на шпиона, хотел пошутить Ганецкий, но знал, что Ленин обижается на шутки, и удержался.
Он и сам с печальными осмотрительными глазами, с лицом коммерсанта, а в затёртом костюме, на кого ж и был похож, если не на шпиона?..
Строго стоял дежурный по станции в высокой красно-чёрной фуражке. Ударили в колокол три раза. Начальник поезда затрубил в рожок и побежал.
И помахивали отъезжающим. И помахивали те в открытое окно.
А всё-таки тут жили неплохо. Покойно, размеренно, не то, что Париж суматошный. Сколько по Европе ни мытарился Ленин — а европейцем не стал. Условия жизни должны быть узкими, это лучшее состояние для действия.
И сколько прошло здесь волнений. Радостей.
Разочарований.
Малиновский...
Вместе с платформой, со станцией — оторвало оставшихся. И даже Ганецкий, какой он ни был достойный надёжный партийный товарищ, — сейчас, из следующего этапа жизни, выбывал. Очень может быть, что на каком-то из следующих он снова окажется самым главным нужным человеком, и к нему архисрочно понесутся бессонные письма с двойным и тройным подчёркиванием, но сейчас пока он отлично своё дело сделал — и выбывал.
Никогда никем не сформулированный, существовал непреложный закон революционной борьбы или, может быть, всякого человеческого развития, много раз наблюдал его Ленин: в каждый период выступают, приближаются один-два человека, наиболее единомыслящих именно в данную минуту, наиболее интересных, важных, полезных именно сейчас, вызывающих именно сегодня к наибольшей откровенности, беседам и совместным действиям. Но почти никто из них не способен удержаться в этой позиции, потому что ситуации меняются всякий день, и мы должны диалектически меняться вместе с ними — и даже мгновенно, и даже опережая их, и в этом политический гений! Естественно, что тот, и другой, и третий, попадая в вихрь Ленина, тотчас вовлекаются в его действия, выполняют их в указанный момент с указанной скоростью, всеми средствами, и жертвуя своим личным, — естественно, ибо это делается не для Владимира Ильича, но для властной силы, проявляемой через него, а он — только безошибочный её указатель, всегда точно знающий, что верно лишь сегодня, и даже к вечеру не всегда то, что утром. Но как только эти промежуточные люди упрямились, переставали понимать нужность и срочность своего долга, начинали указывать на противоречия своих чувств или на особенности своей личной судьбы, — так же естественно было отвести их с главной дороги, устранить, забыть, а то изругать и проклясть, если требовалось, — но и в этом устранении или проклятии Ленин действовал волей влекущей его силы.
В такой позиции близости-единомыслия затяжно держались енисейские ссыльные, но лишь потому, что территориально не было никого ближе. В такой позиции рисовался издали Плеханов, но каким холодным жестоким уроком он отрубил это в несколько встреч. В такой позиции, и даже в опасной недопустимой близости находился годами Мартов. Но сдал и он. (От Мартова горько вошло в опыт навсегда: в человечестве вообще не может быть такого типа отношений — „дружба", вне отношений политических, классовых и материальных.) Был близок Красин — пока делал бомбы. Был близок Богданов, пока добывал для партии финансы, но это отпало, а он, не поняв крутизны, еще претендовал направлять — и сорвался. А тем временем в вихрь втягивались новые верные — Каменев, Зиновьев... Малиновский...
Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно и лишь — пока понимал. А миновалась частная срочная задача, и обычно миновалось понимание, и все эти недавние сотрудники оставались безнадёжно врощенными в тупую неподвижную землю как придорожные столбики, и отставали, и отрывались, и забывались, а иногда на новом повороте неслись навстречу остро, как уже враги. А были единомышленники, близкие на неделю, на день, на час, на один разговор, одно сообщение, одно поручение — и Ленин искренне отдавал им всю горячность, натиск необходимого дела, — каждому из них, как самому важному человеку в мире, — а через час они уже и отваливались, и забывалось начисто, кто они и зачем. Так показался близким Валентинов, когда приехал первый раз из России, хотя сразу смутил своей тупостью, что какая-то им сделанная слесарная деталь ему, рабочему, даже важней политической борьбы. И это быстро сказалось: не хватило у него стойкости против Мартова, а значит стал всё равно как и меньшевик.
Поезд катил под уклон, сильно огибая горки — а по ним тропинки и дороги колёсные бежали по склонам и вверх, мимо хуторов, стогов и неубранного, и пока еще видна горная дорожка, по ней успеваешь глазами взбежать, как ногами. Много было похожено вокруг Поронина, а здесь не был.
И — сел на скамью. Думать ли, заниматься — но не размазывать сантиментов.
И семейные, по взгляду, по движению всё поняв, не лезли с мелким бытовым, и не возились лишнего/, смирно сидели на своей скамье.
Все эти изнурительные годы, с Девятьсот Восьмого, после поражения революции, все и были: отход*и отброс людей. Ушли впередисты, отзовисты, ультиматисты, махисты, богостроители... Луначарский, Базаров, Алексинский, Бриллиант, Рожков, Красин, Лядов, Менжинский, Лозовский, Мануильский, Горький... Вся старая гвардия, сколоченная в расколе с меньшевиками. И так уже казалось минутами, что никого не останется, что вся партия большевиков — он один с двумя женщинами да десяток третьестепенных стёртых, кто еще приходил на большевистские собрания в Париже, а вылезешь на собрании общем — своих нет и с трибуны столкнут. Уходили — все подряд, и какая сила уверенности нужна была — не усумниться, не закачаться, не побежать за ними мириться, но, провидя будущее, стоять и знать: сами возвратятся, сами очнутся, а кто не вернётся — и пропади.
Шестой и Седьмой годы — еще было совсем не поражение, еще всё общество кипело, вертелось, втягивалось в воронку, Ленин сидел в Куоккале и ждал, и ждал второй волны. Но вот с Восьмого, когда всю страну захватила реакционная свора, а подполье как будто отсыхало, рабочая жизнь уходила в открытое копошенье, в профсоюзы, в страховые кассы, а вслед за подпольем как будто отживала, становилась тепличной и эмиграция... Там — Дума, легальная печать — и каждый эмигрант старался печататься там...
Вот почему — замечательно, что началась война! Это радость, что началась!! Т а м их сейчас всех зажмут, ликвидаторов, значение легальности резко упадёт, а значение и сила эмиграции, напротив, увеличится! Центр тяжести русской общественной жизни снова переносится в эмиграцию!!
Это всё Ленин оценил еще в Ново-Таргской тюрьме. (Надя! Новый Тарг — проехали? Не заметил.) Уже в камере, побеждая тревогу, не давая личной неудаче заслонить великую всеобщую удачу, он принял в себя и втянул в проработку — всеевропейскую войну. А из всякой проработки в ленинском мозгу рождались готовые лозунги — в создании лозунга для момента и был конечный смысл всякого обдумывания. И еще — в переводе своих доводов на общеупотребительный марксистский язык: на другом не могли его понять сторонники и последователи.
И что отсюда выносилось — после освобождения первому открыл Ганецкому: надо понять, что раз война началась, то не отмахиваться от неё и не останавливать её, но — использовать! Надо переступить через поповское представление, иногда зароненное и в пролетарские головы, что война — несчастье или грех. Лозунг „мир во что бы то ни стало" — поповский лозунг! Какую линию в создавшейся обстановке должны повести революционные демократы всего мира? Прежде всего: необходимо опровергнуть басню, что в поджоге войны виноваты Центральные державы! Антанта будет сейчас прикрываться, что „на нас, невинных, напали". Они даже придумывают, что „для дела демократии" нужно защищать республику рантье. Смять, раздавить это оправдание! Какая разница — кто на кого первый напал? Следует пропагандировать, что виноваты все правительства в равной мере. Важно — не „кто виноват?", а — как нам выгоднее использовать эту войну. „Все виноваты" — без этого невозможно вести работу на подрыв царского правительства.
Да это счастливая война! — она принесёт великую пользу международному социализму: одним толчком очистит рабочее движение от навоза мирной эпохи! Вместо прежнего разделения социалистов на оппортунистов и революционеров, деления неясного, оставляющего лазейки врагам, она переводит международный раскол в полную ясность: на патриотов и антипатриотов. Мы — антипатриоты!
И кончится эта лавочка Интернационала с „объединением" большевиков и меньшевиков! Назначили дальше мирить — на венском конгрессе в августе, — а в июле уже пылало пять фронтов! Уж теперь не заикнутся. Теперь зазияла трещина так трещина, уже не помиришь! А в июле как прихватили, прямо клещами за горло: не видим разногласий, достаточных для раскола! присылайте делегацию — мириться! С меньшевистской сволочью мириться! А уж теперь, за кредиты проголосовали — так умер и ваш Интернационал! Теперь уж вам не подняться, мёртвое тело! Еще долго будете корчить из себя живых, но надо вслух объявить: мертвы! На этой Инессиной поездке к вам в Брюссель — последняя наша с вами встреча, хватит!
Тут спохватилась тёща, что один чемодан забыли! Бросились переглядывать, пересчитывать, под лавками и на верхних сетчатых полках — нет! Что за позор! Как с пожара. Владимир Ильич расстроился. Без порядка в семье и в доме — невозможно работать. Смешно выразиться, но и домашний порядок есть часть общепартийного дела. Не смея выговаривать Елизавете Васильевне — она ответить умела, и они друг друга уважали, даже мелкими подарками задабривал её, — строго высказал Наде. Какой уж от нее порядок, если она пуговицы пришить хорошо не может, пятна вывести, он сам — лучше. Носового платка ему, не скажешь — не сменит.
Ошибок он вообще не прощал. Ничьей ошибки он не мог забыть никогда, до смерти.
Отвернулся в окно.
Изгибался поезд и скатывался постепенно с гор. То серым, то белым паровозным дымом проносило иногда мимо окошек. Надоели уже и горы эти за эмиграцию.
А в Надю всё уходило, как в подушку: ну, забыли/** ну, не возвращаться. Из Кракова напишем, перешлют почтой.
Надя прочно знала, много раз уже применяла: если брать на себя, не упрекать, что и он виноват, — Володя успокоится и отойдёт. Больней всего ему, если окажется, что он — тоже виноват.
Постаревший, насупленный, с наросшей неподстриженной усо-бородой, с обострёнными рыжими бровями, темнолобый, он смотрел в окно, но косо, ничего там не различая. Все выраженья на его лице Надя хорошо знала. Сейчас не только нельзя было перечить, но и вообще: ни обратиться к нему ни с чем, ни отвлечь его ни словом, даже сказанным с матерью. Надо было датЬ ему вот так посидеть, углубиться в себя, от всех страданий очиститься молчанием — и от новотарг- ского бешенства, и от поронинских угроз, и от чемодана. В такие часы уходил ли он один гулять или молча сидел и думал — от думотни, в полчаса, и в полчаса, лоб его — перевёрнутый котёл, и окруженье глаз переглаживалась от мелких сердитых складок — к большим и крупным.
Международный раскол социалистов давно назрел, но только война проявила его и сделала необратимым. И — архивеликолепно! Хотя от массовой измены социалистов как будто ослабляется пролетарский фронт, а нет: и хорошо, что они изменили! Тем легче теперь настаивать на своей отдельной линии.
А что было говорить месяц назад? как выкручиваться? Догадка: послать в Брюссель — Инессу вместо себя! Главой делегации!! Инессу!!! С ее прекрасным французским языком! С ее несравненной манерой держаться! — холодно, спокойно, немного презрительно. (Французы в президиуме будут сразу покорены. А немцы будут плохо тебя понимать — и очень хорошо! А ты от немцев требуй после каждой речи — перевод!) Вот это ход! Вот растеряются, ультрасоциалистические ослы!.. И — захват: скорей! писать! узнать: поедет ли? может ли? На Адриатике отдыхает с детьми? — чепуха, для детей кого-то найти, расходы оплатим из партийной кассы. Занята статьёй о свободной любви? — не говоря обидного (стопроцентной партийкой женщина никогда не может быть, обязательно какие-нибудь штучки): эта рукопись подождёт. Я уверен, что ты — из тех людей, которые сильней, смелей, когда одни на ответственном... Вздор, вздор, пессимистам не верю!.. Превосходно ты сладишь!.. Я уверен, ты сможешь быть достаточно нахальна!.. Все будут злиться (я очень рад!), что я отсутствую, и, вероятно, захотят отомстить тебе, но я уверен: ты покажешь свои ноготки наилучшим образом!.. А назовём тебя... Петрова. Зачем открывать свое имя ликвидаторам? („Петров" — и я, никто не помнит, но ты-то помнишь. И так, через псевдонимы, мы выйдем на люди слитно — открыто и не открыто. Ты действительно будешь — я.) Дорогой друг! Я бы просил тебя согласиться! Ты едешь?.. Ты едешь!.. Ты едешь!! Да, конечно, надо спеться детальнее. И архиспешить. Ликвидаторам надо просто врать: обещай, что может быть мы потом примем общую резолюцию. (А на деле мы конечно никогда ничего не примем! ни одного их предложения!) И: о болезни детей, ври о болезни детей, что из-за них не можешь задерживаться. Европейских социалистов, эту сволочь обывательскую, надо убедить, что большевики — наиболее реальная партия из русских. Подпусти им там профсоюзов, страховые кассы — на них это архи- влияет. Задающих вопросы — сразу отсекай, отклоняй, отбивай! Всё время — наступательная позиция! Розу — тяни за язык, докажи, что у нее нет реальной партии, а реальна — оппозиция Ганецкого. Ты всё поняла! Ты едешь!.. Крепко жму руку! Very truly... Твой...
Тут подпортил Ганецкий — поставил ультиматум (вообще-то справедливый): 250 крон на поездку в Брюссель, иначе не едет. А партийную кассу надо беречь. (Да один ли Ганецкий! — есть много людей, кого можно бы утилизировать, но нельзя разбрасывать денег...) А без Ганецкого паршивая польская оппозиция изменила, пошла на гнилое идиотское примиренчество с Розой и Плехановым.
...Всё равно, ты провела дело лучше, чем мог бы я. Помимо того, что языка не знаю, я еще непременно бы взорвался! не стерпел бы комедианства! обозвал бы их подлецами! А у тебя вышло спокойно, твёрдо, ты отпарировала все выходки. Ты оказала большую услугу партии! Посылаю тебе 150 франков. (Вероятно, слишком мало? Дай знать, насколько больше израсходовала. Вышлю.) Пиши: очень ли устала? очень ли зла? Почему тебе „крайне неприятно" писать об этой конференции?.. Или ты заболела? Что у тебя за болезнь? Отвечай, иначе я не могу быть спокойным.
Инесса — единственный человек, чьё настроение передаётся, потягивает, даже издали. Даже — издали больше.
А вот что: с военной цензурой теперь покинуть надо это „ты“. Может дать повод для шантажа. Социалист должен быть предусмотрителен.
Нарушилась переписка с начала войны, прийдут теперь письма в Поронино. Но, по всему, отправив детей в Россию, должна Инесса вернуться в Швейцарию. Может быть — там уже.
Женщины тихо разговаривали, как обойтись в Кракове. Надя предложила, чтобы мама с Володей посидели с вещами, а она — к той хозяйке, у которой останавливалась Инесса: удобно было бы там и стать сегодня.
Сказала — а сама смотрела как бы мимо Володиной щеки в окно. Он не изменился, не повернулся, не отозвался, а всё-таки, по движениям жилок и век, Надя убедилась, что — слышал и — одобряет.
Удобно, быстро, не искать — да. Но и необходимости останавливаться именно в Инессиной комнате — не было. Только то еще, что Володя не любил привыкать к новому, да на короткий срок. Только то и было оправданием перед матерью.
Перед матерью — было всегда унизительно. Прежде — больше, теперь — меньше. Но и теперь.
Однако, Надя воспитывала в себе последовательность: не отклонять с пути Володю ни на волосок — так ни на волосок. Всегда облегчать его жизнь — и никогда не стеснять. Всегда присутствовать — ив каждую минуту как нет её, если не нужно.
Однажды выбрав, надо держаться. Запрягшись — уже тянуть. О сопернице — не разрешить себе дурного слова, когда и есть, что сказать. Встречать её радостно как подругу — чтобы не повредить ни настроению Володи, ни его положению среди товарищей. На прогулки брести и усаживаться читать — втроём...
Когда это всё началось, даже раньше, когда студентка Сорбонны с красным пером на шляпе (как никогда не осмелилась бы ни одна русская революционерка), хотя и с двумя мужьями и пятью детьми за спиной, Инесса первый раз вошла в их парижскую квартиру, а Володя только еще привстал от стола, — как от удара ветра открылось Наде всё, что будет, всё, как будет. И своя беспомощность помешать. И свой долг не мешать.
Надя первая сама и предложила: устраниться. Не могла она взять на себя быть препятствием в жизни такому человеку, довольно было препятствий у него всех других. И не один раз она порывалась — расстаться. Но Володя, обдумав, сказал: „Оставайся". Решил. И — навсегда.
Значит — нужна. Да и правда, лучше её никто бы с ним не жил. Смириться помогало сознание, что на такого человека и не может женщина претендовать одна. Уже то призвание, что она полезна ему среди других. Рядом с другой. И даже — во многом ближе её.
А оставшись — осталась никогда не мешать. Не выказывать боли. Даже приучиться не ощущать её. А чтоб эта боль выжглась и отмерла — последовательно не щадить её, колоть, жечь. И вот если практически удобно было остановиться в недавней Инессиной комнате, то в ней и надо было остановиться, и не перетравливать, когда, сколько, как Володя пробыл тут.
Только вот на глазах матери...
Скоро и Краков. Володя светлел. Значит, мысли его хорошо продвинулись.
Нет, замечательно ты съездила в Брюссель, не жалей. Единственное жаль — не успела затеять переписки с Каутским, как я тебе... (Ты бы переписывалась от своего имени, а письма тебе приватно готовил бы я.) Какая он подлая личность! Ненавижу и презираю его — хуже всех! Какое поганенькое дряненькое лицемерие!... Жаль, жаль, не начали эту игру, мы б его разыграли!
Повеселел, даже посвистел Володя чуть-чуть. И, чемодана больше не вспоминая: поедим? И — перочинный нож вынул, всегда с собой.
Простелили салфетку, достали цыплёнка, крутых яиц, бутылку с молоком, галицийского хлеба, масло в пергаментной бумаге, соль в коробочке.
И Володя даже расшутился, что тёща у него — капиталист и пятнает его революционную биографию.
А действительно, надо было денежные дела решать, и проворно. В краковском банке лежали большие деньги — кто ж мог ждать эту войну! — наследство новочеркасской надиной тёти, сестры Елизаветы Васильевны, больше 4000 рублей. И теперь должны были секвестровать как имущество враждебных иностранцев, вот маху дали! Надо было вырвать деньги во что бы то ни стало, найти нужного ловкого человека. И перевести их в надёжное — в золото, можно часть в швейцарские франки. И увозить с собой.
И сразу — в Вену, не задерживаясь. И кончать с визами и поручительствами в Швейцарию, надо скорей туда, Австро-Венгрия — воюющая страна, мало ли что случится. Y тёщи законный русский паспорт, у Нади тоже, хоть и просроченный. Но у Ленина нет вообще никакого.
В чём всё-таки этот оппортунистический Интернационал себя оправдывал — никогда не отказывал в личной помощи. И в каждой стране у них — чуть не свои министры. Сейчас вот, настаивал Куба, надо нанести визиты Адлеру и Диаманду (хотя уже телеграфировал сердечную благодарность), и еще лично благодарить за освобождение и ни в коем случае не дерзить. Улыбался Володя криво, в крошках желтка и белка: да, вот такой деликатный поворот: трухлявые ревизионисты, сволочь обывательская, а надо ехать любезничать. И в конце концов это справедливо: не способны на принципиальную линию, так пусть хоть в жизни помогают. Конкретная реальная платформа для временного тактического соглашения с ними. И дальше, в Швейцарии, не обойтись без этой своры: без поручительства не впустят, а кто ж другой поручится?
Роберт Гримм — мальчишка, в прошлом году познакомились в Берне, когда ты в больнице лежала.
Не царапали Ленина насмешки, не гнули унижения, ничего он не стыдился, — а всё-таки тяжело в сорок четыре года кланяться молодым, ото всех зависеть, не иметь собственной силы.
Не уехали б в 908-м из Женевы в Париж — не надо б сейчас и в Швейцарию добиваться, уж как бы там сидели прочно и безопасно — и со своей типографией, и со связями, и со всем. Скажи, кой чёрт нас тогда потянул в Париж?
(Не поехали бы в Париж — не узнал бы Инессы.)
Да даже в прошлом году, когда лечили твою ба- зедку у Кохера и узнали, что такое настоящая медицина (Володя и сам тогда книги по базедовой читал, проверял), — вот бы нам сообразить и остаться сразу в Берне. А что? Если нужно пережить царизм, а возраст — уже не двадцать пять, то здоровье революционера становится тоже его оружием. И партийным имуществом. И надо поддерживать его всеми партийными финансами, не жалея. Надо жить при отличных врачах, и даже ближе к первоклассным знаменитостям — где ж, как не в Швейцарии? Не у Семашко же лечиться, смешно!.. Наши революционные товарищи как врачи — ослы, неужели им доверить своё тело ковырять?
А ты — и сейчас не выздоровела. Надо тебе ближе к Кохеру.
Но, Володя, но в Швейцарии ужасен мещанский дух, ты вспомни, как нам там было затхло! Ты вспомни, как от нас шарахались после тифлисского экса! — у них, видите ли, право стоит так непорочно, они не могут потерпеть преступлений против собственности!.. И это — социал-демократы?!
Всё правильно, но в Швейцарии вот так не попадёшь, как я в Новом Тарге. А Семашко и Карпинского мы освободили шутя.
И какие библиотеки там, как заниматься хорошо!
— и прежде, а сейчас-то, во время войны! Исключительная культивированность и удобства жизни.
Чистая вымытая страна, приятные горы, приветливые пансионы, прозрачные озёра с плавающей птицей.
Отстойник русской революции.
И при нейтральности страны только оттуда и можно будет держать международные связи.
Обдумывать, обдумывать: что же за радость — невиданная всеевропейская война! Такой войны и ждали, да не дожили Маркс и Энгельс. Такая война — наилучший путь к мировой революции! То, что не разожглось, не раздулось в Пятом году — само теперь раздуется! Благоприятнейший момент!
Раскручивалось и предчувствие: вот оно, то событие, для которого ты жил, чтоб его разгадать! Двадцать семь лет политического самообразования, книги, брошюры, партийная перебранка, холодное неудачное наблюдение первой революции, для всех в Интернационале — нарушитель порядка, зарвавшийся сектант, слабая малая тающая группка, называемая партией, — а ты ждал, сам не зная, вот этого момента, и момент пришёл! Крутится тяжёлое разгонистое колесо
— как красное колесо паровоза, — и надо не потерять его могучего кручения. Еще ни разу не стоявший перед толпой, еще ни разу не показавший рукой движения массам — какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но — не как увлекает их сейчас, а — в обратную сторону?
Краков.
Одевались, собирались.
В рассеянности собирался, не вполне понимая, что вот — Краков, и что делать надо.
Понесли вещи сами, без носильщика.
Оглушенье от многолюдья, отвыкли, а тут еще — особенное, военное. Людей на перроне — впятеро больше, чем может быть в будни, и впятеро озабоченнее, и спешат. Монахини, которым бы делать тут нечего — толкаются, всем суют образки и печатные молитвы. Ленин отдёрнул руку как от гадости. Y пассажирской платформы, не на месте — товарный вагон, и в него несут, несут какие-то большие ящики; написано: порошок от блох. Толкаются военные, штатские, железнодорожники, пассажиры. Через густоту перрона — медленно, трудно, чуть не локтями. А по стене вокзала — крупный плакат, жёлтая ткань и красными буквами:
Jedem Russ — ein Schuss ! 1
Совсем это не к ним относилось, а нельзя вовсе не вздрогнуть.
В зданьи вокзала — набито и душно. Нашли местечко — в тени, на возвышении, у боковой стены, углом на площадь. Тут еще больше густела толпа и много женщин. Посадили тёщу на скамейку, вокруг неё все вещи. Надя поехала к Инессиной хозяйке. Владимир Ильич побежал купить газет и шёл назад, читая их по дороге, обталкиваясь со встречными, тут присел на твёрдый чемодан, зажимая газетный ворох между локтями и коленями.
В газетах не было особенно радостно: и о галицийской битве и о Восточной Пруссии писалось уклончиво, значит русские были не без успеха. Но — бои во Франции! но — война в Сербии! — кто это мог мечтать из прежнего поколения социалистов?
А — растеряются. Выше „мира! мира!" не поднимутся. Кто не „защитники отечества", те в лучшем случае будут вякать и тявкать „прекратить войну!"
Как будто это возможно. Как будто кому-то посильно — схватиться руками за разогнанное паровозное колесо.
Помойные слюнявые социалистики с мелкобуржуазной червоточинкой, чтобы захватить массы, станут болтать за мир и даже против аннексий. И всем покажется, что это натурально: против войны — так значит „за мир"?.. По ним-то первым и придётся ударить.
Кто из них имеет зрение увидеть, имеет волю переступить в это великое решение: не останавливать войну — но разгонять ее! но — переносить ее! — в свою собственную страну!
Не будем прямо говорить „мы за войну" — но мы з а нее.
Тупоумный предательский лозунг „мира"! Для чего же пустышка никому не нужного „мира", если не превращать его тотчас в гражданскую войну и притом беспощадную?! Да как предателя надо клеймить всякого, кто не выступит за гражданскую войну!
Самое главное — трезво схватить расстановку сил, трезво понять — кто теперь кому союзник? Не с поповской глупостью вздымать рукава между фронтов. Но увидеть в Германии с самого начала — не равно-империалистическую страну, а — могучего союзника. Чтобы делать революцию, нужны ружья, нужны полки, нужны деньги, и надо искать, кто заинтересован дать их нам? И надо искать пути переговоров, тайно удостовериться: если в России возникнут трудности и она станет просить о мире — есть ли гарантия, что Германия не пойдёт на переговоры, не покинет русских революционеров на произвол судьбы?
Германия! Что за сила! Какое оружие! И какая решительность — решительность удара через Бельгию! Не опасаются, кто и как заскулит. Только так и бить, если начал бить! И решительность комендантских приказов — вот уж, не пахнет русской размазнёй. (И даже та решительность, с какой хватают и кидают в камеру Нового Тарга. Тем более — с которой освобождают же.)
Германия — безусловно выиграет эту войну. Итак — она лучший и естественный союзник против царя.
A-а, попался хищный стервятник с герба! — схвачена лапа, не выдернешь! Сам ты выбрал эту войну! Об-корнать теперь тебя — до Киева! до Харькова! до Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! Только и способен давить других, ни на что больше! Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделение! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу отделение! Чтоб ты подох!..
Площадь загудела, нахлынула сюда, к перронной решётке, дальше не пускала полиция. Что это? Подошёл поезд. Поезд раненых. Может быть, первый поезд, из первой крупной битвы. Толпу раздвигали — для вереницы ожидающих санитарных карет и автомобилей, чтобы где развернуться им. Здоровенные нахмуренные санитары быстро выдавали от поезда к каретам носилки за носилками. А женщины напирали, продирались со всех сторон, и между головами и через плечи смотрели с жадным страхом на кусочки серых лиц между бинтами и простынями, ужасаясь угадать своего. Иногда раздавались вопли — узнавания или ошибки, и толпа сильней сжималась и пульсировала как одно.
С возвышения, где сидели Ульяновы, было видно хоть издали, но хорошо. И еще из этого положения Ленин встал и пошёл к парапету ближе.
С каретами и носилками была нехватка, а тем временем, поддерживаемые сёстрами милосердия, выходили с перрона и на своих ногах — фигуры белые, в серых халатах и в синих шинелях, перебинтованные толсто по головам, по шеям, по плечам и рукам, и двигались, кто осторожнее, кто смелей, — и вот уже к ним, теперь к ним уже! бросались встречающие, теснилась толпа, и тоже кричали, режуще и радостно, и обнимали, и целовали, то ли своих, то ли чужих, отбирали от сестёр, подносили их мешочки, — а еще выше, над всеми головами, плыли к раненым из вокзального ресторана на поднятых мужских руках — кружки пива под белыми шапками и в белых тарелках жаркое.
Y парапета стоял освежённый, возбуждённый, в чёрном котелке, с неподстриженной рыжей бородкой, с бровями, изломанными в наблюдении, с острыми щупкими глазами, и одна рука тоже выставлялась с пальцами, скрюченными вверх, как поддерживая большую кружку, а на горле его глоталось и дрожало, будто иссох он в окопах без этой кружки. Глаза его смотрели колко, то чуть сжимаясь, то разжимаясь, выхватывая из этой сцены всё, что имело развитие.
Просветлялась в динамичном уме радостная догадка — из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь! Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровяной и лекарственный запах от площади — и как с орлиного полёта вдруг услеживаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце, и орлино рухаешься за ней, выхватываешь её за дрожащий хвост у последней каменной щели — и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь её как ленту, как полотнище с лозунгом: ...ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!.. — и на этой войне, и на этой войне — погибнут все правительства Европы!!!
Он стоял у парапета, возвышенный над площадью, с поднятою рукою — как уже место для речи заняв, да не решаясь её начать.
Ежедневно, ежечасно, в каждом месте — гневно, бескомпромиссно протестовать против этой войны! Но! —
(имманентная диалектика:) желать ей — продолжаться! помогать ей — не прекращаться! затягиваться и превращаться! Такую войну — не сротозейничать, не пропустить!
Это — подарок истории, такая война!
из Узла II
«ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО»
Кегель-клуб называли их собрания в ресторане Штюссихоф, хотя кегельбана не было там.
— ... Швейцарское правительство — управляющее делами буржуазии...
„Кегель-клуб" — из насмешки: что не будет толку с их политики, а много шуму.
— ... Швейцарское правительство — пешка военной клики...
Но и сами усвоили название с удовольствием: будем сшибать мировых капиталистов как кегли!
(Он — воспитал их. Он излечил их от религии. Он внедрил в них понимание насилия в истории.)
— ... Швейцарское правительство бесстыдно продаёт интересы народных масс финансовым магнатам...
Это уже несколько лет, как завёл Нобс — дискуссионный стол в ресторане, на площади Штюссихоф. Собирал молодых, активистов. Постепенно стал ходить сюда и Ленин.
(В этой чванной Швейцарии — сколько унижений надо перенести. Бернские с-д вообще смотрели на Ленина свысока. Переехавши в Цюрих прошлой весной, собирал-было русских эмигрантов, лекции им читать — растеклись, не ходили. Тогда перенёс усилия на молодых швейцарцев. Казалось бы, в 47 лет обидно: вылавливать и обрабатывать безусых сторонников по одному — но не надо жалеть часов и на одного, если отрываешь его от оппортуниста Гримма.)
— ... Швейцарское правительство раболепствует перед европейской реакцией и теснит демократические права народа...
Простоватый широколицый слесарь Платтен (слесарь — для большей пролетарности, а, руку сломав, чертёжником стал) по ту сторону стола. Он — вбирает, всем лицом вбирает говоримое, такое трудное. Напряжён его лоб и в усилии собраны пухлые мягкие губы, помогая глазам, помогая ушам — слова не пропустить.
— ... Швейцарская социал-демократия должна оказать полное недоверие своему правительству...
Удлинённый стол — на хорошую швейцарскую компанию. Без скатерти, обструганный, с ямками выпавших сучков, локтями и тарелками обшлифованный лет за сто. Поместились просторно все девятеро, на двух лавках, и еще одно место отобрано столбом. Кто с малой закуской, кто с пивом — для ресторанной видимости, да швейцарцы и не умеют иначе, каждый платит за себя. А со столба — фонарик.
Самое энергичное лицо, треугольное, удлинённое,
— у Вилли Мюнценберга, эрфуртского немца — под распавшимися на бок непослушными волосами. Он воспринимает легко, ему этого мало даже, беспокойными длинными руками он протянулся бы взять еще, он на митингах и сам это звонко выкрикивает.
(Повезло в Цюрихе с молодыми. Сейчас их шестеро здесь — и всё вожди молодёжи. Не то, что в Четырнадцатом: посылал Инессу к швейцарским левым
— Нэн рыбу ловил, а Грабер бельё вешал, жене помогал, и никому нет дела.)
— ... Надо научиться не доверять своему правительству...
Ленин — на углу, у столба, столбом прикрыт его бок. А Нобс — осмотрительный, вкрадчивый кот, — на другом дальнем углу, искоса. Подальше от опасности. Сам это всё затевал — не сам ли теперь жалеет? По возрасту — он с ними, тут все вокруг тридцати, но по партийным постам, но по солидности и даже по животику — отошёл, отходит.
Над каждым столом — фонарь своего цвета. Над кегель-клубом — красный. И аловатый цвет на всех лицах — на крупной открытости Платтена, на чёрном чубе и крахмальном воротнике фатоватого уверенного Мимиолы, на растрёпанной нечёсанной курчавости Ра- дека с невынимаемой трубкой и никогда не закрытыми влажными губами.
— ... В каждой стране — возбуждение ненависти к своему правительству! Только такая работа может считаться социалистической...
(Только над молодёжью и стоит работать, здесь нет унижения, это дальновидность. Впрочем, не стар и Гримм, на 11 лет моложе Ленина, но — схватился уже за власть. Не глуп, а не поднимается до теории. Вооружённого восстания не хочет, а что-нибудь левое клюнуть ему хочется. Когда в Четырнадцатом въехал в Швейцарию именем Грёйлиха и устроился здесь поручительством Гримма, — виделся с ним, проговорили полночи. Тот спросил: „А что б вы считали нужным в положении швейцарских с-д, вот сейчас?" Щупая, на что он способен, блеснул ему: „Я бы — провозгласил немедленно Гражданскую войну!" Перепугался. Да нет, подумал — шутка...)
— ... Нейтральность страны есть буржуазный обман и пассивное подчинение империалистической войне...
В мускульных сдвигах, в мучительном усилии плат- теновский лоб и в усилии и в растерянности глаза. Как это трудно, как это трудно — постигать великую науку социализма! Как не складываются грандиозные формулы с твоим ограниченным скудным опытом. И война — обман, и нейтральность — обман, и нейтральность — всё равно, что война?.. А на товарищей покосишься — всё понимают, и стыдно признаться, и делаешь вид.
(А это — не легкомысленная фраза была: по дороге через Австрию он всё это выносил воодушевлённо, в Берне закрепил как тезисы, потом перелил в Манифест ЦК, потом отстоял в лозанской схватке с Плехановым. Можно тысячу раз знать марксизм, но когда грянет конкретный случай — не найти решения, а кто находит — тот делает подлинное открытие. Осенью Й-го, когда 4/5 социалистов всей Европы стали на защиту отечества, а 1/5 робко мычала „за мир", — Ленин, единственный в мировом социализме, увидел и всем показал: за войну! — но другую! — и немедленно!!)
Кружка пива и перед Лениным, хоть терпеть не может он этот тип — швейцарских политиков за пивным столом, но таков обряд. Вронский — сонный, как всегда, не возмутимый ничем. А Радек, чёрные бачки круговые от уха до уха пропущены под подбородком, в очках роговых, со вглядом быстрым, зубы торчат из- под верхней губы, и перекладкой, и перекладкой веч- но-дымящей чёрной трубки — всё это слышал, всё это знает, тесно и мало ему, и медленно.
— ... Мелкое стремление мелких государств остаться в стороне от великих битв мировой истории...
Про себя барахтается ’Платтен, стараясь* не проявиться наружно. Очень понятна задача мировой революции, — но как трудно применить её к своей Швейцарии. Ум — согласен: если миновали мировую бойню, надо не успокаиваться, надо звать в социальные бои. А душа неразумная: и как хорошо — мирно живут, крестьянские дома, прилепились на горных уступах, все мужчины — дома, и четырежды в лето снимаются травы с лугов, как бы ни были откосы круты, и сенным запасом полнеют до крыш высокие сараи, и полными днями с отрога на отрог перезваниваются сотни колокольцев, коровьих и овечьих, как будто горы сами звенят.
— ... Узколобый эгоизм привилегированных маленьких наций...
Медлительный ход пастухов. Изредка — бич оглушительный по каменистой дороге — и несёт его эхо за повороты холмов. Длинные, коров на двадцать, водопойные чаны под горными родниками. Перемены ветров по всколыхнутым травам, перемены туманов, курящихся над лесистыми ущельями, а когда солнце прорвёт дожди, так бывает и радуге развернуться негде, встаёт она просто столбом из горы. И на отеле пустынном, вершинном, тихая надпись: „Хранит живущего одеяние родины".
— ... Промышленность, связанная с туристами... Ваша буржуазия торгует прелестями Альп, а ваши оппортунисты ей в этом помогают...
Не удержал, не спрятал сомнения Платтен, отразилось доверчиво, бесхитростно.
И Ленин — заметил! И с угла стола, средь молодых единственный старый, ему на вид куда за пятьдесят, — живо, подвижно, искоса, как метким ударом шпаги, меткое слово — ключ агитации:
— Республика лакеев! — вот что такое Швейцария!
Радек зароготал, ловко, весело трубку перекладывает, да каждый раз по-новому пальцами, с серьёзностью сосёт свой важный дым. Вилли — весело ловит взгляд Учителя, руки длинные выкручиваются в нетерпении — дай еще! дай еще!
Платтен — разве спорит? Платтен — только в недоумении. Страна, пожалуй, и похожа на украшенную готсиницу, но лакеи бывают подобострастны, суетливо-податливы, а* швейцарцы — медленны, самоуважительны. Да даже и жёны министров не держат лакеев, выбивают сами ковры.
(Впрочем, не было в Швейцарии случая, чтобы письмо пропало. И библиотечное дело отлично поставлено: в дальние горные пансионы высылаются книги бесплатно и тотчас.)
— ... Подачки послушным рабочим в виде социальных реформ, только бы не свергали буржуазии...
С этим совещанием три недели хлопотали, наконец вот, собрали, 21-го в пятницу вечером — уж перед самым, как раз, накануне партийного съезда. И очень помог, пригодился Радек.
(Радек если когда хорош, так хорош, архидружбд. Сегодня жить бы без него нельзя. И по-немецки — что говорит, что пишет, и любой поворот с ним лёгок, не надо втолковывать. Негодяй, но блестящий, такие очень нужны. А бывал — омерзительным, в Берне даже не встречались, переписывались по почте, с февраля — порвали навсегда, в Кинтале выступал совершенно провокационно.)
— ... Швейцарский народ голодает всё ужаснее и рискует быть втянутым в войну, и убитым за интересы капиталистов...
Y Нобса — скептический янтарный мундштучок, сам на губе держится.
(И как же было, во всей Европе одному, начинать борьбу за обновление Интернационала, нет, за разгром его и постройку Третьего? То — соскрести своих большевиков-заграничников, кто прйедет. То, помощью Гримма, — женщин десятка три, Интернациональную Социалистическую Женскую Конференцию, а самому неудобно присутствовать, а надо их направить, — так в том же Народном доме просидеть три дня в кафе, а Инесса, Надя и Зинка Лилина бегали ему докладывать и спрашивали инструкции.)
— ... Идти на бойню за посторонние чужие интересы? Или принести великие жертвы за социализм, за интересы девяти десятых человечества?..
(То — интернациональную социалистическую конференцию молодёжи, и полутора десятка не набрали, в основном — кто дезертировал от воинского призыва и наверняка против войны, — и опять три дня сидеть в том же кафе, а Инесса с Сафаровым прибегают за инструкциями. Вот тут и появился Вилли.)
Двадцать семь лет тебе — ас семнадцати это кипение молодёжное: встречи, организации, конференции, демонстрации... И среди равных в себе открывая голос и удаль, и удачу — слушаются! — как на помост, по ступенькам, чтобы лучше видели — поднимаешься, поднимаешься, и вот уже ты — постоянный оратор, делегат, секретарь... И вожди партии уже стараются притянуть тебя к себе и настраивают не слушать вот этого азиата с его дикими идеями, а ты как раз от него, от него и зажигательного Троцкого, узнаёшь всё правильное и важное!
— ... „Защита отечества" есть обман народа, а вовсе не „война за демократию". И со стороны Швейцарии тоже...
Двадцать семь лет! — да пройти через раннюю смерть матери, побои мачехи, побои отца, прислужничество в отцовском трактире, с гостями в карты играть и говорить о политике, потом у мачехи близ прачечного корыта, всегда страдать от своей рваной одежды, ботинок не по размеру, и сапожным подмастерьем затянуться в пропаганду и уже в двадцать лет эмигрировать в Цюрих, чтобы здесь, аптечным дрогистом, пройти все классовые бои...
Под красноватой лампой полно веры и ожидания преданное решительное лицо Мюнценберга. В узком остром подбородке его заострилась проверенная воля. Брови готовно сдвинуты навстречу революционным мыслям. Уже многое он делал, как Ленин говорил, и хорошо получалось. Созывал молодёжный день на Цюрихберге, больше двух тысяч, и потом с „Интернационалом", красными флагами и „долой войну" повёл их через город. И в Кинталь — уже был позван, и вместе с Лениным подписал резолюцию левых.
— ... „Защита отечества" — лицемерная фраза. Она подготовляет бойню рабочих и мелкого крестьянства...
Нескладный Шмидт из Винтертура недоумевает с дальнего края скамейки, заглядывает через весь ряд:
— Но нашу страну война не может затронуть, мы нейтральны...
— Да вступленье Швейцарии в войну возможно в любой момент!
Нобс пережёвывает янтарный мундштучок под светлой усовой пушистостью. Улыбка у него котя- че-приятная, а глаза недоверчивые и хохолок с сомнением.
— Конечно, отказ от защиты отечества ставит необычайно высокие требования к революционному сознанию!
(Всю жизнь — лидер меньшинства, всю жизнь с горсточкой против всех — нужна и тактика острая. Тактика такая: побольше вытрясти из резолюции большинства — и всё равно её не принять: или включайте наше мнение в протокол или уходим!.. Но вы — меньшинство, почему вы диктуете?.. Тогда — уходим! разрыв! скандал! позор!.. Так было на всех этих конференциях, и не было большинства, которое бы не ослабело. Ветер всегда дует с крайнего лева! — и нет в мире социалиста, который мог бы этим пренебречь. В том была и неуверенность Гримма, отчего он и поспешил собирать Циммервальд.)
— ... Ни одного гроша на постоянное войско даже в Швейцарии!..
— Как, и в мирное время?
— Даже в мирное время обязан социалист голосовать против военных кредитов буржуазного государства!
(Долго не было Ленину приглашения в Циммервальд, и он изнывал, боясь, что Гримм не позовёт — а навязываться было совсем неприлично. Да и что там будет за конференция? Соберётся куча говна и будет „за мир и против аннексий". За мир — слышать он не мог этих слов!.. Между тем тайно влиял, чтоб натянуть в депутаты побольше своих сторонников: кто против своего правительства — это и будет ядро левого Интернационала!.. Но стянули таких только 8 человек: сами трое с Гришкой и Радеком, Платтен, один латыш и три скандинава. Да и весь-то „старый" Интернационал через 50 лет после своего основания, поместился в четырёх фурах, какими извозчики повезли конференцию в горы, чтоб не привлекать внимания властей, а власти и не заметили: ни — как приехали депутаты в Швейцарию, ни — как разъехались по домам, только из иностранных газет и узнали.)
— Но особенности Швейцарии...
— Да никаких особенностей! Швейцария — такая же империалистическая страна!
Платтен — откинулся, лоб нараспашку, лоб застигнутый перегоняет морщины. Сопротивляется чувство непросвещённое: хоть и крошечная наша Швейцария — а разве не особенная? И от первого союза трёх кантонов — мы кого же силой захватили? Но — напряжением ума заставляет себя, заставляет принять передовую мысль. Крупные сильные беззащитные руки ладонями вверх на столе.
(Через этого одного Платтена, благодарный материал, можно бы повернуть всю цюрихскую организацию. Если б он больше работал над самообразованием.)
— Итак, среди нас, среди левых циммервальдис- тов, теперь установлено полное единодушие: мы — отвергаем защиту отечества!
Косолапым не всем понятно:
— Но, отвергая защиту отечества, мы оставляем страну беззащитной?
— В корне неправильная постановка вопроса! А правильная: или мы дадим себя убивать в интересах империалистической буржуазии или ценой меньших жертв совершим социалистический переворот в Швейцарии — единственное средство освободить швейцарские массы от дороговизны и голода!
(В Циммервальде почти не выступал, направлял своих левых из тени. Это — самый верный расчёт сил. Уж Радек ли не выступит! — остроумно, находчиво, развязно, самоуверенно. Обязанность же вождя — сплачивать своих немногих. Враг — это еще полврага.
Но кто был с нами и вдруг от нашей линии отви- хивается — это двойной враг! вот по таким — первый удар! А лучше — предусмотреть, и между заседаний накачивать своих на сепаратных совещаниях.)
— ... В том и весь позор пацифизма, что он мечтает о мире без социалистической революции.
Y Радека — весёлая легкоподъёмность: все карманы у него оттопырены газетами, книгами, на первый день есть, если бежать на революцию — так прямо отсюда. А — интересно как!!
(Но — следить за мошенником: в любую минуту переметнётся, изменит. То — путал, мирил Гримма и Платтена, когда их надо всячески ссорить.)
— ... Переворот — абсолютно необходим для устранения всех войн...
А Вронский — как дремлет. Вронский мог бы тут и не сидеть, он — для счёта всегда. Когда нужно — проголосует. А когда нужно — и скажет, что нужно.
(Да — глупый он. Но — так мало нас, пригодится каждый в своё время.)
— ... Социалистический строй один избавит человечество от войн...
Нобс — как будто одобрителен, и в глазах и в губах — сочувствие, а ушки — покойно на месте, а лоб не взморщится. Да ведь — главный редактор главной газеты левых и мягко продвигается по партии на председательские места. Он очень, очень нужен им тут всем.
Нужны — и они ему, Нобс отлично понимает, что ветер всегда дует слева. Вот — их кучка, вот — их несколько человек, а ведь могут повернуть всю швейцарскую партию? Да только не дать им на шею сесть.
— ... Это непоследовательно: стремиться к окончанию войны и отвергать социалистическую революцию...
(Но вскочил Ленин и крикнул на письмо Либ- кнехта Циммервальду: „ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА —
ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНО!" Осторожность хороша на 9/10, а в 1/10 надо переступать. Идти в окопы с пролетарским лозунгом: братание! В войсках проповедывать классовую борьбу! Обращать оружие — против своих! ЭПОХА ШТЫКА НАСТУПИЛА! Конечно, рискованно так эмигранту в нейтральной стране, но — всегда обходилось. А в Циммервальде гнусный подлый немец Ледебур: „Вы здесь подпишете — вам не опасно, а тем? Езжайте в Россию — и подписывайте о т - туда!" Уровень аргументов!..)
— ... Швейцарская партия упорно остаётся в исключительно легальной колее и не готовится к революционной массовой борьбе...
От стойки с двумя пузатыми старыми бочками и десятками цветных горлышек, официант с нетёсанным швейцарским лицом медленно носит к столам золотистые кружки, бордовые бокалы и стаканы. Другой от кухонного окошка — дощечки жёлтые с наструганными бурыми копчёностями, да тарелки с жарким и рыбой — непомерно изобильные швейцарские порции, как четверные, неторопливо убирают швейцарские животы. И еще на огоньках подле каждого обжоры подогревается вторая половина порции.
— ... Социалистическое преобразование Швейцарии вполне осуществимо и настоятельно необходимо. Капитализм вполне созрел для превращения в социализм — и немедленно!..
(На последнем заседании Циммервальда от полудня и всю ночь левая бушевала на каждой поправке, каждый раз требовала „особого мнения" в протоколе — и так заметно сдвигала резолюцию влево. Ни Гражданской войны, ни Нового Интернационала не провели, конечно. Но создалась циммервальдская левая как международное крыло, и Ленин — вождь её, а не какой-то русский сектант. Руководство же осталось за центристами, и слава конференции — за Гриммом, во всех мировых газетах. Чуть старше тридцати, а — в Исполкоме Интернационала, потому что с оппортунистами заодно. Двадцать лет, как Ленин по Швейцарии то ездил, то жил — никакого Гримма и слышно не было.)
Втягивающее, узкое лицо Вилли. Он — согласен, согласен со всем, но, главное, точно ему понять: как делать? с чего начинать?
— В Швейцарии необходимо будет экспроприировать... максимум... всего не больше 30 тысяч буржуа. Ну, и конечно, сразу захватить все банки. И Швейцария — станет пролетарской.
От столба, искоса наблюдает Ленин, всем душевным напором, взглядом толкающим, лбом котловым наклонённым, — и успевает проверить, насколько в кого втолкнулось. Оскудевшая рыжина на куполе выступает сильней под красным фонарём.
— Подрубать корни современного общественного строя — на практике! И — теперь же!
Вот этот шаг и труден всем социалистам мира. Сощурился Нобс как от боли. Даже винтертурский пролетарий что-то крив на рот. И Мимиоле давит шею высокий обруч крахмального воротника.
Хорош наш Ульянов — но слишком уж крайний. Уж крайних таких — не то что в Швейцарии, не то что в Италии — но и во всём мире нет.
Трудно им, трудно. Переменчиво-бегло осматривает Ленин все эти разные, уже свои, а еще не взятые головы.
А они все боятся попасть под уничтожающую издёвку его.
(Есть такой приём: когда трудно входит — навалить еще тяжелей, и тогда прежнее трудное уже Входит легче.)
И, через весь стол, на шестерых швейцарцев, по всем шести линиям сразу вмешался, послал, голосом напряжённым, но не полного звука, в груди ли, в гортани, во рту неизменно теряя его и прихрамывая на „р":
— А путь для этого — только раскол! Это — мещанское кривлянье, будто в швейцарской социал-демократии может господствовать „внутренний мир"!
Вздрогнули. Замерли.
А он:
— Буржуазия вскормила себе социал-шовинистов, своих сторожевых псов! И какое же с ними единство?
(А уже начав — в одно место, в то же место, в ту же точку, чуть меняя слова, это главный принцип пропаганды и преподавания:)
— Это болезнь — не только швейцарских, не только русских, но всех социал-демократов мира: раски- сляйская склонность к „примирению"! Для фальшивого „единства" все готовы поступиться принципиальностью! А между тем без полного организационного разрыва с социал-патриотами невозможно продвинуться к социализму — ни на шаг!!!
Как бы ни замерли, что б ни подумали — но уверенность учителя против класса: даже если весь класс не согласен — прав учитель, всё равно. И — еще гортанней, и еще нетерпеливей и нервней:
— Вопрос о расколе — основной вопрос! Всякая уступчивость в нём — преступление! Все, кто в нём колеблются, — враги пролетариата! Истинные революционеры — никогда не боятся раскола!
(Раскалываться — всегда! Раскалываться — на всех этапах движения! Раскалываться до тех пор, пока станешь хоть в самой малой кучке — но Центральным Комитетом! И пусть в ней останутся самые средние, даже самые ничтожные люди, но — единопослушные, и можно достичь — всего!!!)
— В международном масштабе — раскол вполне созрел! Уже есть превосходные сведения о расколе среди немецких социалистов. И пришла пора — рвать с каутскианцами своей страны и всех стран! Рвать со Вторым Интернационалом — и строить Третий!
(Это всё проверено — еще на заре века. Так прорезал и убил экономистов лучом Что-Делать, замыслом конспиративной профессиональной кучки. Так стряхнул раскачкой Шаг-Два шага хлипкий липкий мешок меньшевизма. Не власть нужна ему, но не может он н е управлять, когда все другие управляют так беспомощно. Не может он дать искиснуть, изгнить
— несравненным способностям руководства.)
И это всё — как тут родилось, вот сейчас за столом, как откровение единомгновенное и покоряющее: раскол своей партии — и через то победа революции!!
И замер Нобс — от сладкого страха, не мурлыкнув. Отвергнешь — тоже потеряешь? Быть может — и лучшее место здесь, за краешком этого стола?
И лапа Платтена замерла в охвате пивной кружки. О, сколько же тяжёлого еще будет на пути социалиста!
И Мимиола победил сжимающий воротник, вырос, вырос из него. Но хмурясь.
И — просветлённо и удивлённо полуулыбался Вилли. Он — готов. И он — поведёт молодёжь. Он — всё повторит это им с трибуны.
И — лбом котловым, когда стенка пробита, дотал- кивая, доталкивая:
— В моей книге „Империализм" окончательно доказано, что во всех индустриальных странах Европы неизбежна скорая революция!
Там — еще двое, они верить хотят, но — как это? Живя в своей обычной комнате, вот выйти утром между знакомыми зданиями — и делать революцию?
— как?.. Кто бы показал? Ведь никогда не видано.
— Но в Швейцарии...
— А что — в Швейцарии? Прекрасная стачка в Цюрихе в Девятьсот Двенадцатом! А — этим летом? Прекрасная демонстрация Вилли на Банхофштрассе! крещение кровью!
Да, это гордость Вилли:
— И сколько раненых!
Не так даже первого августа, как третьего, в защиту павших.
Мнутся:
— Но всё-таки... в Швейцарии?..
Ему — как не поверить? Он с каждым молодым
— как с равным себе, во всю серьёзность, не как отмахиваются от незрелых едва поднявшиеся вожди, но на каждого сил не жалея, собеседуя, донимая, донимая вопросами до петли...
— Но всё-таки — в Швейцарии...
Радек за это время, что разъясняли тут, из своих набитых карманов две газеты прочёл, одну книгу перелистал, а они всё не поняли?
Тычет им черенком трубки:
— Да собственный ваш прошлогодний партсъезд... Резолюцию ж приняли, о революционных массовых действиях! Ну! И — что?
И — что?.. Мало что, приняли. Принять не трудно.
— Потом и Кинталь!
Их — пятеро здесь, кто были в Кинтале — уже и Нобс и Мюнценберг, пятеро здесь, а там их было
— двенадцать, из сорока пяти. И снова грозили взрывать, уходить, покидали зал и возвращались. И большинство поддавалось меньшинству, и сдвигали, сдвигали резолюцию всё левей, всё левей: только завоевание политической власти пролетариатом обеспечивает мир!
Всё — так, но мало ли что в резолюциях...
— А у нас в Швейцарии...
Да какое ж терпение не взорвётся с этими лбами корявыми! И в новом взрыве непостижимого откровения, — сухим полётом, сиплым шелестом прорвавшегося голоса:
— Да знаете вы, что Швейцария — революционнейшая страна в мире??!
Как — ссунуло всех со скамей, со стола, вместе с кружками, тарелками, вилками, и фонарик на столбе качнулся от ветра голоса, и Нобс подхватил мундштук рукой, выранивая...
???????????????
(А он — видел! Он видел в Цюрихе — вот, близкобудущие баррикады — пусть не на банковской Банхофштрассе, но — к рабочему району, у Народного дома на Хельвециа-плац!)
И — выплеском взгляда разящего из монгольских глаз, и голосом, лишённым сочной глубины, зато режущим, ближе к сабле калмыцкой (только выщербинки на ,,р“):
— Потому что Швейцария — единственная в мире страна, где солдатам отдаётся на дом, на руки — и оружие! и амуниция!
И?..
— А что такое революция — вы знаете? Революция это: захватить банки! вокзал! почту-телеграф! и крупные предприятия! И — всё, революция победила! И что же для этого нужно? То л ь- к о оружие! И оружие, вот — есть!
Что только слышал Фриц Платтен от этого человека, своего рока и судьбы своей! — леденило кровь иногда...
А Ленин не убеждал уже, он требовал резко — у ослушников, у растяп неспособных:
— И чего же вы ждёте? Чего не хватает вам? Всенародного военного обучения? Так пришло время и потребовать! Для этого...
Импровизировал. Соображал между фразами, разглядывал между мыслями, а голос не прерывался:
— Офицеры — выборные народом. Любые... сто человек могут потребовать военного обучения! С оплатой инструкторов за казённый счёт. Именно при гражданских свободах Швейцарии, её эффективном демократизме — колоссально облегчается революция!
Он налегал на стол, он был как косо-крылатый, и взлетев отсюда, из зальчика ресторана Штюссихоф, — вот взмоет сейчас над площадью пятиугольной, замкнутой, средневековой, сама-то величиною с хороший зал, пронесётся над фигурой комичного фонтанного воина с флагом, завьётся спиралью мимо нависающих балконных выступов, фрески двух сапожников, выстукивающих на своих табуретках на уровне третьего этажа, гербов на фронтонах у пятого, — и над черепичными крышами старого Цюриха, над нагорными пансионами, разукрашенными шале республики лакеев:
— Немедленно начать пропаганду в армии! Разъяснять войскам и призывной молодёжи — неизбежность и законность применять оружие для освобождения от наёмного рабства!.. Издавать летучие листки за немедленный социалистический переворот в Швейцарии!
(Для беспаспортного иностранца несколько опрометчивые советы, но это — та самая 1/10, без которой не победишь.)
— Уже сейчас захватывать в свои руки все правления во всех союзах рабочего класса! Требовать от парламентских представителей партии — публичной проповеди социалистической революции! принудительного отчуждения фабрик, заводов и сельхозучастков!
Прямо идти — и у людей имущество отбирать? Без
— закона? Швейцарцы косолапые промаргивать не успевают.
— Для усиления революционных элементов в стране — натурализировать беспошлинно всякого иностранца! При малейших шагах правительства к войне
— создавать нелегальные рабочие организации! А в случае войны...
Отвагой полны вожди молодых, Мюнценберг и Мимиола:
— ... Отказываться от военной службы!
(Впрочем, Мюнценберга и Радека, как дезертиров
тех армий, выслать в Германию и Австро-Венгрию закон запрещает.)
Нич-ч-чего не поняли! Насмешка, но не злая, пронеслась по ленинскому лицу. Делать нечего, — снижаясь, опять снижаясь, мимо сапожников, рабски-старательно вколачивающих свою работу, над голубою фонтанной колонной, и — нырь в ресторан, сюда опять:
—- Да ни в коем же случае не отказываться, что же вы поняли?! Именно в Швейцарии: дают оружие
— брать!! Требовать демобилизации — да, но — сохраняя оружие! С оружием — и на улицу! И — ни часу гражданского мира! Стачки! Демонстрации! Формирование рабочих отрядов! И — вооружённое восстание!!!
Широколобый Платтен — как откинутый, в лоб ударенный:
— Но во время всеобщей войны... соседние державы... потерпят ли революцию в Швейцарии? Вмешаются...
А здесь-то и было зерно ленинского замысла! — в исключительной неповторимой особенности Швейцарии:
— Вот это и замечательно! Пока вся Европа воюет — а в Швейцарии баррикады! А в Швейцарии — революция! А у Швейцарии — три главных европейских языка! И по трём языкам в три стороны па-льё- тся революция по Европе! Расширится союз революционных элементов — до пролетариата всей Европы! Сразу вызовется классовая солидарность в трёх приграничных странах! Уж если вмешаются — то революция вспыхнет по всей Европе!!! Вот почему ШВЕЙЦАРИЯ — ЦЕНТР МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ СЕГОДНЯ!!!
Опалённые красным пламенем сидели кегель-клуб- цы, кого в каком положении застало. Мюнценберг выдвинул узкий треугольник бесстрашного лица — вперёд в огонь. Подпалило и Нобсу пушистость. Мимиола
— и галстук сорвёт, и своих темпераментных итальянцев поведёт через все развалины. Вронский в лукавой меланхолии делает вид, что тоже к бою — готов. Радек — поёрзывает, губы облизывает, запрыгал задор за очками: да если б так — это же штук каких наколоть можно!
(Кегель-клуб — зародыш III Интернационала!)
— ... Вы — лучшая часть швейцарского пролетариата!..
А резолюция для завтрашнего съезда швейцарской партии у Радека уже лежит готовая. Вот если б Нобс её напечатал...
Гм-м-м...
А — кто её на съезде предложит?..
Гм-м-м...
Уже и ресторану скоро закрываться, расходились.
На площади Штюссихоф горели три фонаря на столбах, и много окон из домов со всех сторон. И можно было легко прочесть табличку, как бургомистр Штюсси погиб тут недалеко в битве в 1443 году. А дом семьи его „на ветру" стоял на 60 лет старше. Да Штюсси и был, наверно — посреди фонтана вот этот комичный швейцарский воин в латах и в голубых чулках. Тонкие струи слышно лились в голубоватый водоём. Было сухо и, по-здешнему, холодно.
Расходились, еще договаривая на площади, измо- щённой малыми камешками подгладь. Площадь — как замкнутая, и если не знать щелевых улиц — кажется, всё, тупик, никогда не выберешься. Одни уходили вниз по откосу, мощёному коревато, и дальше переулком к набережной. Другие — мимо пивной „Францисканец". А Вилли провожал учителя по той же улице в другую сторону, мимо кабаре „Вольтер" на следующем углу, где всю ночь бушевала богема, и им встречались на узкой мостовой еще невзятые проститутки. А от вольтеровского кабаре — круто вверх под фонарь престариннейший на чугунном столбе, по переулку-лестнице, почти можно обеих стен достать раскинутыми руками, едва рядом вдвоём, — и всё вверх и вверх.
Ленин — крепкими альпийскими каблуками по камням.
Вилли еще и еще хотел набраться уверенности от учителя. Он не забыл летнюю драку на Банхбф- штрассе, — но ведь опять всё смыло, подмело, и всё те же витрины сверкают, и всё то же мещанство гуляет, а рабочие спокойно слушают своих уговорчивых вождей.
— Но народ ведь — не подготовлен?..
На крутом повороте переулка из-под тёмной шапки, в слабом свете чьих-то верхних неспящих окон — голос тихий, но с тем же прорезающим лезвием:
— „Народ" конечно не подготовлен. Но это не значит, что мы имеем право откладывать начало.
И даже зная свою трибунную удачливость, и испытавши вопли молодёжных сходок:
— Но нас — такое малое меньшинство!
И из темноты, остановясь, чего не открыл даже лучшим, собранным в Кегель-клубе:
— А большинство — всегда глупо, и ждать его нельзя. Решительное меныниство должно действовать — и после этого становится большинством.
*
* *
На другое утро открылся съезд — в Купеческом зале, на той стороне реки. Ленин, как вождь иностранной партии, был приглашён приветствовать. А Радек, как от польской социал-демократии, тоже. Двое наших один за другим.
В первое утро делегаты съехались еще не все, это не было многолюднее, чем хороший реферат. (Ленин и не привык многолюдно, он и не знавал, что значит говорить тысяче сразу; один раз на митинге в Петербурге, так язык отнялся.)
И едва он поднялся над залом — осторожность овладела им. Как и в Циммёрвальде, как и в Кинтале, он не рвался высказать тут главное — нет, вся пылкость убеждения естественно приберегалась на закрытое совещание единомышленников. Здесь — он конечно не призывал ни против швейцарского правительства, ни против банков. Стоя перед этой, формально социал-демократической, а по сути буржуазной массой самодовольных мордатых швейцарцев, рассевшихся за столиками, Ленин сразу ощутил, что его тут не воспринимают, не воспримут, да ему почти и нечего им сказать. Даже напомнить им их собственную прошлогоднюю весьма революционную резолюцию — как- то не выговаривалось, да и можно всё испортить.
И его приветствие было бы совсем коротко, если б он болезненно не зацепился за выстрел Фрица Адлера (две недели назад секретарь австрийской с-д партии убил премьер-министра Австро-Венгрии, во время войны — главу имперского правительства!). Это убийство заняло воображение всех, об этом много говорили, и сам Ленин для себя тоже искал оценку, а для того выспрашивал обстоятельства: чьё это влияние (не русская ли эсерка его жена)? И потаённо связанный с проработкой этого вопроса (их вечный спор с эсерами), Ленин тут, на съезде, половину своего выступления неуместно посвятил террору... Он сказал, что заслуживает полной симпатии приветствие террористу, посланное ЦК итальянской партии, если понять это убийство как сигнал социал-демократам покидать оппортунистическую тактику. И подробно защищал, почему русские большевики могли спорить против индивидуального террора: лишь потому, что террор должен быть действием массовым.
А швейцарцы жевали, мычали, попивали — не понять их.
Но нет! субботнее заседание пошло хорошо, подало надежду! Аплодировало Платтену большинство, и папа Грёйлих 75-летний, в пышных сединах, стал шутить, что „партия нашла новых любимчиков". (Да то ли еще будет, последним швм^евским ругательством вас покрыть! Да мы вас — повесим, когда к власти придём!) Шло, шло на лад! Ленин приободрился и ощутил себя как старый армейский конь в боевой суматохе. А дальше — Нобс оглядчивый не отказался выступить с резолюцией Кегель-клуба (радековской): съезду — следовать Кинтальским решениям. (Туцова- тые швейцарцы могут из моды проголосовать, сами толком не зная, в чём там кинтальские решения, — а и попались потом! Потом — их же решением — их и клевать. Гримма клевать!)
Мелочь? Нет! — именно так и движется история: от одной завоёванной резолюции к другой, натиском меньшинства — сдвигать и сдвигать все резолюции — влево! влево!
И следующий шаг: вечером в субботу, по замыслу Кегель-клуба, собрали отдельно и тайно (индивидуально приглашая), в другом, не съездовском, доме, приватно — всех молодых депутатов съезда: ставка на то, что молодость всегда сочувствует левому. План был простой: вместе с ними выработать (предложить им готовую, Радек уже принёс) резолюцию, которую они завтра, в воскресенье, от себя предложат съезду и протолкнут.
На этом приватном совещании молодых председательствовал, конечно, Вилли — со всей свободой призывающих рук вожака, весёлого бодрого голоса и волос распавшихся, — а рядом Радек стал, как обмазанный курчавостью, в боевых весёлых очках, читал свою резолюцию, разъяснял, отвечал на вопросы. (И оратор хорош, но — перо! но перо! — нет ему цены!) А Ленин, как всегда, как любил, сидел в ряду, незаметно, и лишь внимательно слушал.
И всё было бы хорошо: молодые депутаты прислушивались к русско-польскому товарищу и соглашались.
Всё было бы хорошо, но случилась крайняя неприятность: не подумали, не догадались запереть дверь. И в незапертую вошли, да их и не заметили сразу — две сплетницы, две гадкие бабы: госпожа Блок, приятельница самого Гримма, и Димка Смидович, приятельница Мартова. А зашли бабы — не выгонишь, будут визжать, скандал! И не уйти всему собранию в другое помещение! Да уже слышали, видели — Ра- дека как докладчика, и всё поняли, конечно, что резолюцию швейцарскому съезду — готовят русские.
Ах, какая дьвольская досада! Ах, какая грандиозная неудача! Что за мерзавки бабы, мизерная интрига! Конечно, тут же бросились — и нашептали Гримму. А он, нахал и сволочь, скотина последняя, поверил глупому бабью! И заварил пошлую склоку, в своей „Бернер Тагвахт" напечатал гнусные намёки, абсолютно непонятные 99/100 читателей: какие-то несколько иностранцев, рассматривающие наше рабочее движение через свои очки и абсолютно равнодушные к швейцарским делам, хотят в порыве своего нетерпения искусственно возбудить у нас революцию!..
Ахинея! Архипошлость помойная! И это — рабочий вождь?
И на съезде высмеяли резолюцию Нобса. Где предлагал он постановить впредь выбирать в парламент только таких депутатов, которые против защиты отечества, Грёйлих возвеселился: если пошлём таких депутатов, они по пылкости могут оказаться на кегельбане.
И съезд — хохотал.
И рассмотрение кинтальской резолюции тоже отложили — на февраль Семнадцатого.
Что ж за трагическая судьба?! Сколько вложено сил, вечеров, убеждения, ясности, революционного динамита! — и только обломки пошлости, глупости, оппортунизма, серая вата, чердачная пыль.
И в затхлой Швейцарии торжествует бацилла мелкобуржуазного тупоумия.
А буржуазный мир — стоит, не взорванный.
Ульяновы жили точно посередине между кантональной и городской библиотеками, а до Централь- штелле социальной литературы лишь чуть подальше, и куда ни иди — среднего ходу пять-семь минут. Все они открывались в девять, но сегодня толкнуло уйти из дому минут за сорок: глупо, унизительно убежать от этого лохматого оборванца, племянника Землячки, себя же поберечь — не вскипятиться от его нахальных разговоров и тем не испортить себе целого дня.
Объективо говоря, такие фигуры в революционной эмиграции неизбежны — эти неопрятные юноши с блуждающими глазами, недоразвитые, а с апломбом по каждому вопросу, чтоб только иметь мнение. Они вечно голодны, без гроша, брали бы вот зарабатывать перепиской, в Цюрихе совершенно некого посадить за переписку, сколько тревоги было с копией пропавшего „Империализма", — так нет, у них ни грамоты, ни почерка, а стремятся сразу и только в редакторы! Их постоянная мысль — как бы бесплатно где-нибудь поесть. А и это при бюджете Ульяновых тоже недопустимая нагрузка, у лупит два яйца да еще четыре бутерброда. От обедов его твёрдо отстранили, так стал являться по ранним утрам, всегда под ничтожным предлогом, вернуть или взять книгу, газету, а с расчётом к завтраку. (Сейчас, уходя, сказал Наде: ни в коем случае не кормить, скорей отвыкнет!) Да хоть если бы скромно поел и уходил, нет, считает нужным отблагодарить — фонтаном надёрганных идеек, выяснять
принципиальные вопросы, и всё с нападением и многознайством.
От таких визитов, от этой улыбочки знания и превосходства у сопляка Владимир Ильич с утра делался больным. Вообще всякая неожиданная бытовая неурядица, а особенно несвоевременный незваный гость, бесцельная потеря времени — больше всего изводили и выбивали из рабочего состояния. Обидней всего бесцельно тратить нервы и силу доводов не на конференции, не в брошюре, не в споре с важным партийным противником, а просто так, на губошлёпа, который и не думает серьёзно того, что говорит. Эмигранты считают свои пятаки, а битый день проваландаться — для них не потеря. А Ленин — заболевал от одного потерянного часа! И даже встреча, разговор, дело, которые потом осознаются как важные и нужные, — в момент их внезапности, если не были заранее предвидены, вызывают раздражение.
Но есть этика эмиграции, и ты беззащитен против таких посетителей, ты не можешь просто указать им на дверь или не пустить: среди эмигрантов сразу закрутится сплетня и сильно повредит твоей репутации, ты моментально будешь обвинён в заносчивости, в барстве, в патрицианстве, вождизме, диктатуре... Эмиграция — это злое гнездо, которое всё время шевелится и шипит. И вот приходится этих нахалов, каждого, кто только изволил выехать из России, (а из Сибири ничего не стоит бежать, и все бегут заграницу, а тут их содержи за счёт партии) не только принимать, но еще и придумывать им дело. И, смотришь, такая скотина через год действительно становится сотрудником журнала, хотя б тот и вышел всего один раз.
Так же вот и Женечка Бош, природная интриганка, — отчего в Россию не едет, ведь собиралась? А здесь ей дела никакого нет, но она выдумывать будет, и чтоб ей выдумывали. Страшное эмигрантское бедствие — выдумывать дело для эмигрантов.
Конечно, начнись революция, — в её широком разливе каждому из этих мальчишек и девчонок найдётся дело, и даже каждый станет незаменим, и будет их нехватать. Но пока революции нет, тесно, скудно — мальчишки эти невыносимы.
Изматывающее состояние. Уже сколько? Девять лет, как бежали из России от поражения? Шестнадцать от несчастной первой встречи-стычки с Плехановым? Двадцать один от неумелого петербургского завала? Это изводящее состояние, когда вытягивает все жилы к действию, когда сдвигал бы горы или континенты, столько накопилось, напряглось, а применения силам нет, нет приложения от концов пальцев и к людям, не подчиняются партии, толпы и континенты, но разнохарактерно и бестолково толкутся и кружатся, не зная куда, — а ты один знаешь! — но зря вся твоя энергия, и замыслы зря, перегорает вся сила на убеждение полудесятка молодых швейцарцев в Кегель-клубе. Да хорошо — хоть их, а когда раньше на собрания являлись два швейцарца, два немца, один поляк, один еврей, один русский и сидели анекдоты рассказывали — швах, пигмейство, бросать эту игру!
Уже спустясь на набережную Лиммат, можно было считать* что племянничек по дороге не встретился, теперь — не застал. И*постепенно уходило защитное предупредительное раздражение.
Серые, но разорванные, с беловатыми боками тучи давали дню холодный строгий свет.
Большими цельными стёклами выставлялись на набережную сплошь витрины с наглым показом на сукнах и бархатах всех изделий безделья — ювелирные, парфюмерные, галантерейные, бельевые, — не знала республика лакеев, как вызывней повыставить свою роскошь, не тронутую войной.
С отвращением отходя от этих золотых, атласных и кружевных выворачиваний — он ненавидел и вещи эти, но еще больше — людей, кто эти вещи любит, — Ленин выждал, пока трамвай пройдёт, перед самым трамваем собака перебежала, уцелела, — перешёл набережную и пошёл вдоль реки.
Y Фраумюнстерского моста переждал автомобиль, дрожки, велосипедиста с длинной корзиной за плечами, — и прямо же перед ним была городская библиотека, и сейчас бы туда и зайти, да закрыто.
Дальше — обходить, между библиотекой и водой прохода нет: здание её, бывшей церкви Вассеркирхе, за то и названо было так, что выдвинуто в воду. Еще 400 лет назад решительный Цвингли отобрал её у попов и передал в гражданское пользование.
Вот и сам он стоял впереди реквизированной церкви, на чёрном мраморе в несколько постаментов, со вздёрнутым носом, с книгой и мечом, упёртым между ног. Всегда на него Ленин покашивался с одобрением. Правда, книга та — библия, а всё-таки для XVI века превосходная решимость, сегодняшним социалистам бы подзанять. Отличное сочетание: книга — и мечь. Книга, продолженная мечом.
Клаузевиц: война — это политика, где перо сменено, наконец, на меч. Всякая политика ведёт к войне, и только в этом её ценность.
В холодный воздух утра от реки еще доливалась влажность. Говорят, никогда не замерзает. Как-то соединилось: Россия — зима, эмиграция — всегдашняя беззимность. Переклонился через решётку. Здесь, в расширенном устье, у обоих берегов, наставлено было лодок — мачтовых, безмачтовых, с кабинами или под брезентом, в несколько рядов. Мачты — покачивались.
Кескула жалуется: кто-то из близких к ЦК просто украл деньги, выданные печатать брошюру. Пришлось второй раз давать. Безобразие!
Вода — тёмная, но вполне прозрачная. И видны серые камни дна.
Три стороны войны по Клаузевицу: действия рассудка достаются правительству, свободная духовная деятельность — полководцам, ненависть — народу.
На аккуратных квадратных камешках набережного тротуара — густо кленовые листья (нарочно не сметают). А на каком-то дереве задержались колючие шишечки-плоды.
Всё дорожает безумно, скоро жить будет не на что. И бумага первая как дорожает! А Шляпников совершенно не умеет потребовать, вырвать денег — от Горького, от Бонча. Надо клещами вытаскивать. Пусть платят, и побольше.
Всю жизнь выручала мама, из семейного фонда — в заграничных поездках, в Петербурге, сколько б ни перетратился, о заработке думать не надо было, в тюрьме мог жить на правильном питании, обойти этапы, не знать пересыльных тюрем, из эмиграции в любую минуту попросить, — как чудом, всегда умела прислать. Но с этого лета — мамы нет, уже никогда не попросишь.
Стая чёрных уток с белыми головками качалась, качалась — вдруг разом взлетела, расплескивая, — перелетела над самой водой — опустилась. И — опять собрались. И поплыли смирно назад.
Но хотя как будто Клаузевиц и разъяснил самые общие законы всех войн, а вот нельзя понять закона войны, которая идёт. И закона войны, которую надо начать.
Как бы хоть шведам займа не отдавать? Это — Шляпников должен бы Брантингу намекнуть: представитель России, ему удобней.
Профессиональный революционер должен быть освобождён от обязанности думать, на что жить. Партийная касса должна намного вперёд гарантировать партийную „диету" для главных членов ЦК.
С большого моста сыпали бюргерши уткам хлебное крошево. Утки быстро стягивались, и еще другие: зеленоголовые, с жёлтыми носами. И сизые.
Чтобы печатали в „Летописи" — надо раскалывать блок махистов с окистами. Там, вокруг Горького, интриганы работают против нас.
А две-три утки перепархивают над самой водой, друг за дружкой гоняются, крыльями и ногами воду бурлят.
Ждать от Горького денег — и еще унизительно просить этого телёнка архибесхарактерного, чтоб извинил за выпады против Каутского, угождать ему и выбрасывать — да самые важные и самые сладкие удары во всей книге!
Что хорошо бы — на лодке погрести, погонять. Ни разу не собрались, а ведь говорили. Теперь уж — до весны. В горах — карабканьем и ходьбой, в Цюрихе — прошагиванием улиц только и разгонял, успокаивал Ленин это потягивание в себе неприменённых жил. Но оставалось в плечевом поясе, и вот его бы — греблей.
Еще эта пропажа рукописи „Империализма", посланной летом, очень-очень тревожила. Самое загадочное, что в ответственном почтовом ведомстве нельзя найти концов — как кануло! Английская цензура дошла до дикости, французская стала бесстыдна, и не удивляться, если „Империализм" обратил на себя внимание, и автор его — уже не рядовой эмигрант, каких тут тысячи и на кого полиция внимания не обращает. Может, уже и следят. Может, и сейчас посматривают, на набережной. А — чем он тут держится? Да по первому (ну, по второму) жесту русского или французского послов могут ему учинить военный суд или высылку из Швейцарии, за нарушение нейтралитета. Одну только речь в Кегель-клубе послушать, с соседнего стола.
Он тянулся, плёлся вдоль решётки, над самой водой, по теченью, в вытертом котелке, истёртом пальто, как скуднейший цюрихский обыватель, с сумкой клеёнчатой, в какой носят провизию (а у него — тетради, конспекты, вырезки). И, дойдя до большого моста, терпеливо пропускал богатый чей-то фаэтон, и медленные четырёхлошадные грузовые возы, и однолошадную конку в три больших зеркальных окна, с кучером в униформе на передней площадке.
Оттого приходится черняки опасные сжигать, важные документы хранить у респектабельных швейцарцев, опять подписываться каким-нибудь Фреем, а в письмах между Цюрихом-Берном-Женевой порой пользоваться и химией. Это в нейтральной стране! Как у себя под жандармами... А переписанный второй раз „Империализм" заделывать в переплёт книги, чтоб дошёл.
Пересек большой мост. Вышел к озеру, на широковымощенную набережную, опять с несметённым насыпом кленовых побуревших листьев.
От озера еще шире несло водяным, свеже-холодным.
Тут плавали лебеди — белые и сизые. Не плавали — скульптурно сидели на воде. А то, на мелководьи, ныряли по одному: клювом в глубине доставали что- то, а лапами барахтались, и белый задок торчал кверху. Потом долго отряхали змеиные шеи.
Слева за спиной, из-за оперного театра, выступало бледное солнце. Но оно было холодное, свет не грел.
А — успокоение от этой воды. От простора. Отступает от груди сжатие. Когда отступает, отпускает — только тут и замечаешь: в каком же сжатии и гонке постоянно живёшь.
Просторное озеро. В разных местах рыбаки стоят на якорях. Во весь тот берег и налево, сколько озеро уходит — продолговатая, пологая лесистая Ютлиберг. Кое-где на ней — белые пятна: был лёгкий снег наверху и задержался, не стаял.
Просторное озеро, напоминает Женевское.
Свежий плеск Женевского озера — на всю жизнь останется. Там пережито самое тяжелое крушение жизни: разбился кумир.
С каким еще молодым восторгом и даже влюблённостью ехал он тогда в Швейцарию на первое свидание с Плехановым, получить от него корону признания. И, посылая дружбу свою вперёд, в письме из Мюнхена — тому, „Волгину", в первый раз придумал подписаться „Ленин". Всего-то нужно было — не почваниться старику, всего-то нужно было одной вели-
кой реке признать другую и вместе с ней обхватить Россию.
Молодые, полные сил, отбывши ссылку, избежав опасностей, вырвавшись из России — везли им, пожилым заслуженным революционерам, проект „Искры" и журнала, совместной работы, раздувать революцию! Дико вспомнить — еще верил во всеобщее объединение с экономистами, и защищал даже Каутского от Плеханова — анекдот! Так наивно представлялось, что все марксисты — заодно, и могут дружно действовать. Думали: вот радость им везём: мы, молодые, продолжаем их.
А натолкнулись — на задний расчёт: как удержать власть и командовать. Решительно безразличен оказался Плеханову этот проект „Искры" и раздувание пламени по России — ему только нужно было руководить единолично. И для того он хитрил, и представлял Ленина смешным примиренцем, оппортунистом, а себя — каменным революционером. И преподал урок преимущества в расколе: кто требует раскола — у того линия всегда твёрже.
Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Везенац — сошли с женевского парохода с Потресовым как высеченные мальчишки, обожжённые, униженные, — ив темноте расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя, — а по ночному небу над озером и над горами ходили молнии, ходили молнии кругом, не разражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться. И чёртовский холод опускался на сердце.
С той горькой ночи Владимир Ульянов переродился. Только с той ночи и стал как он есть, стал истинным собой.
Строго наученный в тот раз, на всю жизнь усвоил Ленин: никому никогда не верить, ни к кому никогда ни мазка сантиментальности.
Кто-то рядом стал чайкам бросать — и они взлетали с воды, жадно, нетерпеливо кидались, делали круги, хватали налету, крякали, дрались — и уже лезли сюда, на парапет, чуть не в лицо, и к соседям тоже.
Отмахнулся от одной. Пошёл дальше.
Как прицепчива память к случайным совпадениям, к сантиментальным воспоминаниям. То самое Женевское озеро разделяло их, только оно, еще незнакомых, когда он, входя в силу, принимал делегатов Н-го съезда, и каждого старался изучить, прощупать, захватить себе в поддержку, а она — рожала пятого ребёнка, уже от младшего мужа, — и впервые читала незнакомого Ильина „Развитие капитализма", еще ничего не предполагая.
И — пять лет еще прошло, они всё не познакомились, хотя она в Женеве бывала не раз. И в той же Женеве на незабываемой „Даме с камелиями" пронзила его тоска — первое сомнение о своей жизни. А у неё в Давосе как раз в эти дни умирал муж. И всего через несколько месяцев, в Париже, — она пришла.
Здесь изрядно холодный замечался ветер, и от него шла хмуроватая рябь.
Поставил сумку около набережной решётки, поднял воротник, и стоял так, носом в озеро. Совсем уже холодно. Даже по глупому российскому календарю уже 25 октября, по-европейски 7 ноября. А Инесса всё сидела на даче в Зёренберге и мёрзла там, чтобы простудиться. Или сердить его.
Или наказать.
Даже пропускала ожидаемые сроки писем. Лишала вестей о себе. Не ответит раз, опоздает второй. И уж так выбираешь выражения: конечно, если у вас нет охоты отвечать... или есть охота не отвечать... я надоедать вопросами не буду...
Во всех отношениях, со всеми людьми, Ленин всегда добирал свою высоту, занимал достойную. А здесь — не мог, здесь — не было высоты. Он мог только — скрывать за шутками смущение. Просить.
Научиться бы выдерживать встречное молчание. Ждать, пока ответит. Но это — труднее всего: именно, когда не видишься, особенная потребность писать, делиться! Да и дела же требуют.
Просто бы вот сейчас, не дожидаясь её ответа, написать ей несколько не обидчивых ласковых строк. (Ласковых — нельзя, крылышка ласки нельзя показать, письма военного времени все подцензурные, пишешь как перед полицейским, за казённым столом. Нельзя дать оружия против себя.)
Да, он — зависел от её наказаний. Инесса была единственный человек на земле, от кого он — чувствовал, признавал свою зависимость. Наименьшую, когда жгла очередная схватка. Наибольшую — когда они бывали вместе.
Нет, — когда не бывали...
Всё, что он в жизни ел, пил, надевал, и всякий кров и обиход — всё это было совсем не для него, хоть даже и не нужно, а лишь как средство поддерживать себя для дела. И летние месячные отдыхи и горные прогулки, в Карпатах или от Зёренберга на Ротгорн, альпийский вид глазам или на Цюрихберге плитка шоколада, съеденная на откосе в растяжку, или присланные мамой волжские балыки — не были баловством, просто удовольствием для тела, а — способом привести себя в лучшее мозговое рабочее состояние, здоровье — сила революционера.
И только встречи с Инессой, когда и деловые, — получались будто просто для него, просто для счастливо-бессмысленного, лёгкого, весёлого, мычащего какого-то состояния, хотя бив сторону отвлекали, и сил лишали, и рассеивали.
Всех мужчин и женщин, которых когда-либо Ленин встречал, он примерял только к делу, только по их отношению к делу, — и соразмерно отвечал им: так, как требовало дело, и до того момента, пока оно требовало. Лишь одна Инесса, хоть и вошла в его жизнь через то же дело, иначе быть не могло, никакая посторонняя не могла б и приблизиться, — но существовала как будто для него одного, просто для него, существо для существа.
Инесса открывала ему такое, о чём он и думать не мог, не предполагал никогда и прожил бы, не зная. Спорили с ней о „свободе любви" — и уж какую ясную непробиваемую логическую сетку выставил он против её неопред ел ённостей — не проскользнёшь? Что там! Как эта тёмная вода из озёрного недра свободно вливается и проливается через рыбачью сеть, так и Инесса со своим пониманием „свободной любви" никак нигде не задерживалась классовым анализом: была остановлена — и проходила свободно, была опровергнута — и непобедима.
Тем и сотрясла она его когда-то, что в мире измеренном, оцененном, закономерном, — велела ему переступить и идти за ней, в этом самом мире, а как будто в другом, никогда и не предположенном, и он шёл неуверенным и восхищённым первоклассником, боясь потерять её ведущую руку — и ребячески благодарный ей, до синеватых жилок на тонкой ступне, собачье благодарный ей за то, что она это всё ему открыла — и длила, пока милость её была.
Как раз с того направления, с юго-запада, из Зёрен- берга, через морщь осеннего озера, в посвистывании даже ноябрьского ветра — разве вот не прилетало к нему помахивание её милости? колебание прищуренных век? узкий просвет зубов?
Зачем наказывала? Зачем не спускалась в Кларан, в тепло? В Зёренберге в прошлом году снег выпал в начале октября. Очень холодно.
Над крышей театра с рассыпанной по ней мифологией, фигурами трубатыми и крылатыми, вдруг проступило солнце в полную силу — такое холодное здесь, и оранжеватое там, на вершине Ютлиберг, куда уже набежало оно, а внизу, где громоздились здания и зеленовато-серый купол с колокольней, оставалось пасмурно.
Счастливые дни — лонжюмовские, брюссельские, копенгагенские, краковские... Да и в Берне. Счастливые годы. Семь лет.
Пяти минут не умея провести впустую, чтобы не раздражиться, не отяготиться бездельем, — с Инессой он проводил и по многу часов подряд. И не презирал себя за то, не спешил отряхнуться, но вполне отдавался этой слабости. И вот высшая степень: когда всё без исключения доверяешь ей, когда хочется ей всё рассказывать — больше, чем любому мужчине. Живость отклика её и живость совета! — как не хватает их эти пол года. С апреля. С Кинталя...
Что-то сломалось в Кинтале? Он не заметил тогда.
Из Берна уехать было необходимо: там доминировало влияние Гримма, никогда бы не собрать круга единомышленников. Это был правильный отъезд. Но, уезжая, отчего бы можно было подумать, что больше они не будут встречаться?
В Кинтале это было незаметно. В Кинтале был такой замечательный шестидневный бой!
Единственный человек, которого обидеть непоправимо: можно потерять навсегда. Это соотношение, не пережитое ни с кем, ставит даже в смешные положения. Считаться с её несчастной страстью писать теоретические статьи. В критике их не говорить прямо, как думаешь, а выражаться очень осторожно, иногда и лгать: что ж я могу иметь против помещения твоей статьи? я, конечно, за, — а уж потом подставлять внешнюю причину, которая помешала. Упрёки ей и даже политические поправки сводить по мягкости почти до похвал. Терпеть её самовольство с переводами: она вдруг не переводит ленинский текст, но — исправляет смысл! но — цензурует даже: какая мысль ей не нравится — выбрасывает! Кому ж это можно позволить? А её — только мягко, предупредительно упрекнуть. В предупредительности к ней — заискивать. Написал ей длиннее обычного — сразу оговориться: я, кажется, наболтал с три короба?..
Но даже и заискивание перед ней — не унижение. Ничто не унижение перед ней.
Она вот как может наказывать, не писать. Не отвечать.
А если упрётся, что чего-нибудь не сделает — не уговоришь.
Отошёл белый пароход от пристани и нагнал сюда волны. На волнах раскачивались два немёрзнущих белых лебедя, изогнутые шеями как застыло, навсегда.
Холодно. Взял сумку, пошёл дальше вдоль решётки.
Насколько подле Инессы он даже волю свою вывихивал, настолько в отдалении мог достичь почти полной от неё свободы.
В строго точном свете переменного пасмурно-солнечного осеннего утра над холодным озером.
Сколько помнил себя, столько знал он в себе существование защитной пружины. От неудач, от потерянного времени, от проявленной слабости — она сжимается, сжимается — и вдруг отдаёт, швыряет в деятельность с такою силой, которой ничто уже сопротивляться не может.
Сэкономив на бездельных нежностях, не даёшь застаиваться делу.
В отдалении — к нему возвращалась осмотрительность. Осмотрительность не разрешала ко всем напряжениям его жизни добавить еще. Соединиться с Инессой навсегда? — не была бы жизнь, а суматоха. Слишком она разнообразна, отдельна, отвлека- тельна. Да еще ведь и дети, совсем чужая жизнь. Еще на этих детей уклонять, удлинять свой путь — он никак бы не мог, права не имел.
Жить с Надей — наилучший вариант, и он его правильно нашёл когда-то. Была Якубова и живей, и лицом милей, — но не помогала бы так никогда. Мало сказать единомышленница, Надя и по третьестепенному поводу не думала, не чувствовала никогда иначе, чем он. Она знала, как весь мир теребит, треплет, раздражает нервы Ильича, и сама не только не раздражала, но смягчала, берегла, принимала на себя. На всякий его излом и вспышку она оказывалась той же по излому, но — встречной формы, но — мягко. И как переимчива! Был Радек мерзавцем — она была с ним суха и каменна, на порог не пускала, если являлся под предлогом; стал Радек отличным партийным товарищем, дружным союзником — и как же приветлива и радостна с ним. Она не готовится к этому, не вырабатывает, тогда б и ошибиться можно, — но чувствует за Ильича с постоянной верностью. Жизнь с нею не требует перетраты нервов.
Инесса и не бережлива, что тоже не пустяк, не умеет вести разумного скромного образа жизни, чудачествует нередко. Вдруг возьмёт да модно оденется. Надя же — в методичности, в бережливости не имеет равных. Она действительно нутром понимает, убеждать её не надо, что каждый лишний свободный франк — это лишняя длительность мысли и работы. А еще, что так редко для женщины, никогда не пробалтывается, не хвастает, не выносит из дому ни словечка, о чём предупреждено ей не говорить. Да и сама верно знает, где молчать.
И перед всем этим было бы непристойно революционеру стесняться на людях, что жена некрасива, или ума не выдающегося, или старше его на год. Для внешнего успеха требуется наименьшее внутреннее разделение, наименьшее отвлечение в сторону, наибольшая плотность усилий, ведущих к цели. Для существования Ленина как политической личности союз с Крупской вполне достаточен и разумен.
Правда, всё втроём, втроём — в лесу ли бернском, сойдясь из соседних улиц; на горных прогулках у Зёренберга по альпийские розы или грибы (только в дальние спальные хижины иногда с Инессой вдвоём);
у пансиона в тени над книжками сидя — он и Надя, а Инесса — у рояля часами; или на тёплом горном откосе на пнях — он и Надя постоянно с книгами, а Инесса — просто изогнувшись, нежась на весеннем солнце, как девчонка среди старших; наконец, и долгие те часы, когда он рассказывал обеим женщийам о своих идеях, планах, будущих статьях, — сколько раз приходилось вбирать в один взгляд несравнимое и даже удивиться, не поверить неправдоподобности, невозможности: чтобы так держалось годами — а ведь держалось! Если кому писала Надя длинные подробные дружеские письма — то именно Инессе. Если о ком говорила всем окружающим, всем товарищам с неутомимою похвалой — то об Инессе. И только в письмах Володиной матери (уж Надина-то видела всё), в письмах свекрови, описывая весь их с Володей быт и все прогулки, — единственно в этих письмах писала так, будто они всегда вдвоём. Очень тактично.
А тут и умерли матери одна за другой: Елизавета Васильевна — после инфлюэнцы прошлой весною в Берне, Мария Александровна — этим летом в Петербурге. В горный пансион их, около Флюмса, почта была — вьючными осликами, и так с опозданием принесли телеграмму о смерти — как раз во вторую годовщину войны, в день Швейцарского Союза — один из бесчисленных суматошных здешних праздников, когда на всех вершинах зажигают костры, пускают ракеты и стреляют. Сидели вечером, смотрели на эти костры, под эти салюты и проводили мать. Да пожалуй и легче так, когда издали.
Если обоим под пятьдесят. И вот умирают матери обе, от чего становитесь вы еще старей. Дружней. И — революционеры оба. То, пожалуй, и...
Наискось по озеру, как раз оттуда, со стороны Зёренберга, шла моторная лодка — быстро, вскинув нос, распахивая воду, за собой покидая треугольное поле пены и металлическим стуком разбивая тишину.
Что-то было в ней! — неслась и распахивала, оттуда прямо сюда неслась и распахивала, разрезала, и нос выставляла безжалостный — прервала размышления, ход мысли резким стуком — и мысль перескочила — и через весь социальный анализ, через все аргументы — просто-просто-просто, как не виделось до сих пор почему-то:
так ведь если свободную любовь отстаивать теоретически, не дать себя убедить, — отчего ж её не осуществлять?..
Все-все пункты буржуазно-пролетарских отношений он осмотрел, предвидел и перечислил ей, — и только одно вот это упустил: если после Кинталя они не виделись, — а так близко! — и она пол года не едет, и его не зовёт, и вот уже почти не пишет —
так она это лето... с кем-нибудь?..
Почему ж он всё время представлял, никак иначе не думал, что она — одна?..
По эту сторону еще было солнце блеклое, но с той стороны через Ютлиберг переваливали, переваливали быстро густые сизые тучи — и пёрли вниз туманом. Быстро заволакивало гору, склон, колокольню и подбиралось к тому берегу Цюриха.
Да как же просто..? И почему он — все стороны охватил, обдумал — только не эту?..
Да быть не может! Товарищ и друг! Как славно бились в Кинтале с центристами?..
За холодную решётку схватился руками — через решётку, через озеро, через Ютлиберг, через все-все горы, какие по дороге — завыть: Инесса! Не оставляй! И-несса!..
Написать, сейчас, не стыдясь унижения, что-нибудь, — только вызвать ответ. Да ведь и почтамт открыт, прежде библиотечнаго часа — ах, не догадался! почтамт открыт с восьми, надо было пойти и написать! А теперь уже поздно.
А теперь уже поздно: лупили, лупили в колокола как бешеные, как дурные! — по всему городу будто железо ремонтировали. Долбали колокола Фраумюн- стера над почтамтом, долбал двойной Гросс-Мюнстер, выше вывесок на всех этажах Бель-Вю, — да сколько еще церквей по Цюриху!
Туман и туча с той стороны озера накатились уже и на эту сторону, стало пасмурно.
Закоченевшими пальцами вытащил из жилетного кармана часы — ну да, раз колотят в свои вёдра — значит девять, десятый. И на почтамте не был, и время упустил, и зашёл далеко — теперь и самым гонким ходом он намного опаздывал к открытию кантональной. Плохо начал день. Хотел хорошо, начал плохо.
Ладно уж, письмо потом, надо работать.
Пошёл как покатил — широкий, невысокий, почти не уворачиваясь от встречных. Городская была вот она, рядом, можно и сюда, но журналы и книги к сегодняшней работе отложены в кантональной. Гнал и гнал по мерзкой буржуазной набережной, где выпахивались из дверей гастрономические и кондитерские запахи, щекотать пресыщенных, где изворачивались предложить двадцать первый вид ветчины и сто первый сорт печенья. Мелькали витрины шоколадов, Табаков, сервизов, часов, античности... На этой чистенькой набережной так трудно вообразить будущую толпу с топорами и факелами, дробящую эти стёкла в дребезг.
А — надо!
Всё тут слишком устоялось и вжилось — дома, двери, звонки, запоры на дверях.
А — надо!
Колотили в колокола со всех концов города — бешено и мертво.
С почти пролетарской решимостью и здесь размахнулся Цвингли: на Церингер-плац Проповедническую церковь рассек пополам между шпилей, показывая нам пример, и вот в половине её который век — библиотека. Доставляло особенное удовольствие, что обе главные библиотеки Цюриха торжествовали над религией.
Вошёл в тишину. Девять узких окон с угло-овальными верхами подымались на высоту пяти-шести этажей. Еще выше, в недостижимой высоте, угло-овальные стрелы сводов сходились по несколько в узлы.
Но вся эта высота пропадала почти впустую: только два этажа деревянных хоров прилеплены были по стенам. В простенках же и между книжных шкафов навешаны были многочисленные тёмные портреты — в камзолах и жабо надутые городские советники и бургомистры, ни разглядывать их, ни подписи прочесть никогда не оставалось времени.
Еще из тяжёлых дверей Ленин увидел, что его любимое место на хорах у центрального окна и еще другое удобное — оба уже заняты. Опоздал. Нескладно начался день.
Расписался в книге посетителей, — а дежурно-улыбчивый библиотекарь в очках, недоумевая, никак не мог найти одной из трёх отложенных стопок.
Одна мелкая досада, наворачиваясь на другую, могут украсть часы работы.
Удача или неудача рабочего дня зависит иногда от мельчайших мелочей, как начнёшь. Вот — опоздал. А у них до перерыва и полудня нет, всего три часа, и их теперь нет.
„Империализм" был уже давно отработан по двадцати тетрадям, и написан, и потерян, и переписан — а еще стопку на ту же тему Ленин брал. Как будто нужно было что-то еще. А будто и не нужно. Все
выводы книги были Ленину ясны еще и до двадцати тетрадей. Последнее время так обострилось предвидение — он видел выводы своих книг исключительно рано, еще не садясь их писать.
Самые сладкие удары во всей книге — и снять их? Мерзкий гнусный святочный дед! Более гадкого подлого лицемера не бывало во всей мировой социал- демократии!
Стопка не находилась — по Персии. Он уже начал делать выписки по Персии. Восточное направление ни у кого не продумано, а его надо готовить.
Ладно, по Каутскому удары не пропадут — в другом месте где-нибудь вставим.
А еще он готовил, писал подробные важные тезисы для швейцарских левых — методически исправлять, чего не добились на съезде. Но это даже удобнее было в Центральштелле, а не здесь.
Да нет, она всё время помогает и переводит. Вот спустится в Кларан — может приедет. Почему надо думать плохо? Это неправильная была мысль.
А еще пришёл он с ощущением недоделанности, недосмотренности статьи против разоружения. Она уже написана (ив сумке тут была), но что-то царапало по памяти. Все главные мысли были на месте: разоружение — требование отчаяния; разоружение — это отречение от всякой мысли о революции; тот не социалист, кто ждёт социализма помимо революции и диктатуры; в будущей гражданской войне у нас будут воевать и женщины и дети с 13 лет. Всё верно, но оставалось чувство, что где-то есть не вполне защищённые фразы. А надо быть архиосторожным, никогда не допустить цитирования против себя — ко всем опасным фразам пристраивать оборонительные придаточные предложения, все фразы должны быть во всех боках защищены, оговорены и противовешены — чтоб никто не мог выбрать незащищённую.
Итак, можно было (и даже он начал) просматривать. Да вот и сразу, написано в пылу: „Мы поддерживаем применение насилия массой". Накинутся! Пристроить: „...массой — против её угнетателей".
Впрочем, это можно и не в библиотеке, время уходит.
Стал смотреть тезисы для левых швейцарцев. Тут еще много было работы. Нужно детально-детально им всё разжевать: листовки — кому разносить по домам? беднейшим крестьянам и батракам. Какие сельхозучастки подлежат принудительному отчуждению? Скажем, свыше 15 гектар. После какого срока пребывания требовать для иностранца швейцарского подданства? Скажем — через три месяца, и важно, чтобы без всякой уплаты. Что значит „революционно высокие ставки налогов"? Общие слова, надо составить им конкретную таблицу: на имущество свыше 20 тысяч франков, свыше 50 тысяч — какой процент? И как облагать гостей пансионов? Тоже написать им конкретную шкалу, ведь ни у кого никогда не доходят руки до конкретности: если платит 5 франков в день — это наш брат, один процент, а если платит 10 франков — с этого сразу 20 процентов...
А из груди так и поднимается, стоит изжогой, последняя подлость Гримма и Грёйлиха. Ах, поганые оппортунисты, подлейшие мерзавцы, ну, подождите, мы вас пристегнём к позорному столбу!
Что-то всё раздражения лезли, сбивали. Так бывает: им дашь разойтись — и невозможно сосредоточиться, невозможно работать по системе, даже на стуле усидеть.
А еще не улёгся, сколько сил отобрал и до сих пор мешает работать этот иступлённый недоспоренный спор с „японцами". Уже было написано несколько статей и две дюжины писем, и конфликт как будто преодолён — а вот не подавлен до конца!
Никогда не удаётся все усилия собрать только в одном главном направлении, всегда открываются противники на побочных, сейчас как будто бы совсем не важных, но неважных не бывает, наступит момент, когда и эти побочные направления станут главными,
— и приходится теперь же оборачиваться и с полной энергией огрызаться на эти побочные укусы. Не „японцы" одни (Пятаков со своей Бошихой, с тех пор как бежали из Сибири через Японию), с ними и Бухарин. Не имея ни капли мозгов, доводили себя вместе с Радеком до групповой глупости, до верха глупизма — то на „империалистическом экономизме", то на самоопределении наций, то на демократии. Все эти молодые поросята, новое партийное поколение, очень самодовольны, самоуверены и готовы брать руководство хоть сегодня, а срываются и срываются на любом повороте любого вопроса, ни у кого нет готовной гибкости
— на этих поворотах мгновенно, предусмотрительно иногда брать где влево, а где вправо, заранее предвидя, куда угрожает ссунуть извилистая дорога революции.
Так и с демократией. Y Бухарина примитивная молодая недооценка её. Открыто пишет: в период взятия власти придётся отказаться от демократии. А — нет! Вообще социалистическая революция невозможна без борьбы за демократию, и поросятам это надо зарубить на розовом носу. Но, конечно, не терять из виду: в конкретной обстановке, в известном смысле, для известного периода. А наступит и такой период, что всякие демократические цели способны только затормозить социалистическую революцию. (Это — подчеркнуть двумя чертами!) Например, если движение уже разгорелось, революция уже началась, надо брать банки — а нас позовут: подожди, сначала узаконь республику!?.
Разъяснял им Ленин по многу страниц — нет, воротили носы прочь! А пришлось так долго возиться с такими склочниками и интриганами потому, что у „японцев" были деньги на журнал, без них не начали бы „Коммуниста". Но и союз с ними имел смысл лишь пока у Ленина было большинство в редакции, а дать равенство глупцам? — никогда! к дьяволу! идиотизм и порча всей работы! лучше ошельмовать дурачков перед всем светом. Не хотели мирного исхода — набьём вам морду!
С Бухариным не довёл до публичности, объяснился в письмах. А перед его отъездом такая злость на него взяла — не ответил ему. Теперь в Америку поехал
— небось, обиделся.
В глубине признаться — он очень умён. Но раздражает постоянным сопротивлением.
Всякая оппозиция всегда раздражает, особенно — в теоретических вопросах, от которых — претензия на руководство.
Но уж Радека, Радека, говённую душу, было очень полезно высечь для общей наглядности. Верх подлости Радека в том, что он исподтишка натравливал поросят, а сам прятался за циммервальдскую левую. (Да и в Кинтале пытался поссорить Ленина со всеми левыми, а с Розой и поссорил.) Радек держится в политике как наглый нахальный тышкинский торгаш, исконная политика швали и сволочи! За то, как он выпер Ленина и Зиновьева из редакции „Vorbote" — вообще бьют по морде или отворачиваются. Кто прощает такие вещи в политике — того считают дурачком или негодяем.
В данном случае правильно было — отвернуться. Тем более, что разногласия с Радеком — не всеобщие, а только в русско-польских делах. А по делам швейцарским Радеку выхода нет, как идти против Гримма, он вынужден примкнуть союзником, да каким!
Но в этой истории сподличал и Зиновьев, предлагал уступить „японцам". Так шатаются все, нельзя на самых близких положиться.
Чтобы покончить эти все бухаринские выверты — необходимо было перенести спор также и в саму Россию и добить „японцев" на русской почве. Об этом велено Шляпникову. Но Шляпников и сам путаник, особенно его Коллонтайша. (Кстати, не забыть: хорошо бы подсунуть её на скандинавскую конференцию нейтралов, ну, хотя бы переводчицей при делегате,
— и так вынюхать планы нейтралов!)
Да сколько их, псевдосоциалистических путаников во всех странах, и воюющих, и нейтральных, и у нас. А разве лучше Троцкий с его благоглупостями — „ни победителей, ни побеждённых"? Вздор какой. Нет это сбор дешёвой популярности, а ты попробуй, чтоб царизм был всё-таки побеждён, не дай ему вырваться из этой свалки! Нельзя быть „против всякой войны", социалист перестаёт быть социалистом.
Где сейчас Шляпников — неизвестно: еще ли в Стокгольме? или уже в Россию поехал? До Швеции письма проходят с оказиями, через Кескулу и его людей, — а дальше Швеции? Там вообще темнота, регулярности никакой. Y Шляпникова на всё вечные задержки, в Россию ездит редко, каждый раз подолгу, очень неповоротливый. А скажешь ему — обижается. А если б не ездил — так и никого нет. Так что для придания важности пришлось кооптировать его в ЦК.
Тут подошёл к столу Ленина библиотекарь и, топотом извиняясь и прикланиваясь в извинение, положил ему стопку о Персии.
Спасибо! Каких-нибудь полчаса до перерыва, так теперь Персия! А что ж, взяться и за неё?
Конечно, до ЦК он никак не дорос, по развитию — не Малиновский. Но место его — занял, от звания „член ЦК", „председатель Русского Бюро" голова кружится, вошёл во вкус. То лезет в международные переговоры с социалистами, оттирая Литвинова. То с дурацкими советами чуть не в каждом письме: почему не переезжаете в Швецию? Самоуверен надоедно, а отрезать нельзя, реальное действующее лицо, приходится отвечать ему и даже по форме с почтением.
Что-то плохо врабатывался. Слишком кипел мозг, не мог сосредоточиться, не уходил в медлительную феодальную персидскую экономику.
Ах, Малиновский, Малиновский! Несостоявшийся русский Бебель. Как работал! Как обращался с массами! Что это был за тип, за лицо! — самозарождён- ный рабочий вожак, собранный символ российского пролетариата. Именно такого рабочего вождя и не хватало Ленину в партии — под правую руку, в дополнение, чтоб идеи приводить в массовое действие. За то и любил его Ленин, что так он влился на предназначенное место, и всегда с такой готовностью, никогда не оспаривая — но как ярко и сильно выполнял! По буржуазным понятиям было у него так называемое уголовное прошлое — несколько краж — но это только оттеняло его пролетарскую непримиримость к собственности, да и яркость натуры. И хотя чересчур подозрительные товарищи стали клепать на него — Ленин только утверждался в доверии: представить его провокатором? — невозможно! (Да и сейчас невозможно.) Какие зажигательные речи произносил в Думе, как маневренно раскололся с меншевиками во фракции. Не только самого его с радостью включил Ленин в ЦК, но довольно было Малиновскому кого- нибудь посоветовать, там Сталина, — включал и того. Когда жили в Поронине, не было из России приятнее гостя, чем Малиновский. Кроме последней страшной майской ночи, когда вдруг появился он после своего самовольного внезапного ухода из Думы — но ведь появился же, не сбежал! если б он не был чист —: неужели бы смел появиться?.. И целую ночь это объяснение шло. Доказать против Малиновского всё равно было нельзя (да и — полезно ли?). Кто может поверить этой глупой версии, что охранка сама сочла „неудобным" иметь осведомителя в лучших думских ораторах — и велела ему уйти? Вздор какой, что ж охранка — глупая, сама против себя?.. Собрали с Кубой и Гришкой как бы партийный суд — и оправдали Романа Малиновского. И за верность его поручились перед Международным Социалистическим Бюро.
Однако, расстались пока, тихо. По личным причинам.
Такого помощника у Ленина уже не будет!.. Шляпников? не-ет.
А тут — перерыв наседал. И когда они проголады- ваться успевают, швейцарцы, в 12 часов уже подавай им обедать?
Впрочем, замечал Ленин, что сегодняшний библиотекарь не всегда ходит обедать. Подошёл к нему, спросил. Не пойдёт. А нельзя в перерыв остаться? Можно.
Вот это удача. Не столько того обеда, сколько рассеяния. На пустой желудок лучше работается. И лишний час.
Теперь можно было заниматься, не торопясь. А даже вот что лучше — сейчас уже запастись газетами. Экономя деньги, Ленин ни одной не покупал и не подписывался, да их тридцать-сорок надо читать, все „Arbeiter—" и все „—Stimme".
Набрал, какие есть, принёс на стол.
Чтенье газет — из главных ежедневных работ, это вход в жизнь мира. Чтенье газет настраивает к ответственности, к упорству и к бою, даёт живое ощущение врагов. Рассыпанные по всему миру социалисты, социал-патриоты и центристы, не говоря уже о всех буржуазных ослах, все как будто сталпливаются вокруг тебя в читальном зале, и размахивают руками, гудят, кричат каждый своё, а ты выхватываешь — и отражаешь, замечаешь слабые места — и тут же бьёшь по ним. Читать газеты — значит, и конспектировать их. По аналогии, по ассоциации, по противоположности, по несоединимости и вовсе по непонятной связи высекаются и высекаются искры мыслей, разлетаются под углами вправо, влево, на отдельные бумажки, в линейчатые строки тетрадей и на свободные поля, и каждую мысль, пока не погасла, надо успеть огненной нитью вплести в бумагу, чтобы тлеть ей там и ждать своего часа, иную — в конспект, иную — сразу в письмо, начатое тут же, чтобы не терять горячего движения фразы. Одни мысли — для выяснения самому себе, другие — для спора, укола, удара, третьи — как лучшая форма разжевать и архиразжевать для глупеньких, четвёртые — для теоретической спевки, особенно с теми, кто удалён и даже в России.
Вандервельде и Брантинг, Гюисманс и Жуо, Плеханов и Потресов, Ледебур и Гаазе, Бауэр и Бернштейн, два Адлера, даже Паннекук и Роланд Гольст, — всех их Ленин ощущал как своих досягаемых раздражающих оппонентов, где б они ни гнездились — в Голландии, Англии, Франции, Скандинавии, Австрии или Петербурге, — ощущал их на дистанции видимости, на слышимости голоса, он связан был с ними со всеми единым пульсирующим нервным узлом — во сне и в бодрствовании, за чтением, за едой и на прогулке.
А читателей — уже и не было, уже оказывается наступил перерыв. Библиотекарь ушёл за стеклянную дверь в глубину хранилища. Лампочки на всех столах погасли, храм-читальня грандиозно высился в полусерости и гробовой тишине. И пользуясь необычным этим случаем, еще и еще разряжаясь от избыточной натяжки нервов, Ленин взялся быстро ходить по прямой, по самой длинной центральной прямой здесь — от входной двери под деревянной галереей — до двух поперечных каменных длинных ступенек, перед бывшим алтарём. Пoлyчaлoqь шагов пятьдесят, не перегороженных ни полками, ни столами.
Вся проходка его бывала на улицах и в горах, а жил он всегда в комнатках тесных, маленьких, не расходишься. Теперь в этом быстром настигающем хождении, шагом охотника, расталкивая, расталкивая Гиль- фердингов, Мартовых, Грёйлихов, Лонге, Прессманов и Чхеидзе, не давая им фразы высказать связно, тут же обрывая, осекая, ставя на место и рассеивая их, именно в этом колебании бешеного маятника — он отбивался, отбивался от врагов.
Освобождался от врагов.
И всё больше был готов к методической работе.
И пришёл момент — на полупроходке ощутилось: довольно!
И сел работать.
Неправильная эта мысль об Инессе. Нет оснований так думать.
Нет! Не за тем столом сидел. Теперь это всё — книги, газеты, тетради, перенести на хоры, за свой привычный стол. В два приёма пришлось нести.
Слегка поскрипывали ступени в готической серой тишине.
И что-то вдруг устал-устал. Как свалился в свой стул.
В голове как-то...
А голода от пропущенного обеда не ощущал никакого. Ему — можно было и мало есть, в нём энергия вырабатывалась почти и без еды.
Y самого окна, без лампы пока. Но день сумрачный.
Читал газеты. Читал — об общем военном положении. И было безрадостно.
Ну, не так плохо, как в августе, страшный момент, когда внезапно выступила свежая Румыния, гигантски укрепив союзников, и казалось — теперь Россия вывернется. Но нашлась в Германии сила разбить и Румынию как бы мимоходом, это изумительно, этого нельзя было предсказать два месяца назад. А тем не менее, также вопреки всем предвидениям, Германия не выигрывала целой европейской войны. На Западном фронте закупорилось прочно и безнадёжно. И на Восточном — вот поразительно, и на Восточном никакой победы не принёс Шестнадцатый год. Год назад был царизм уже сотрясён, уже почти повергнут — а вот опять стоял и не уступил ничего! Величайшая надежда, величайшая победа — растеклась, расплылась, ушла.
В одном местечке, всего в одном местечке головы, около левого виска, образовалась как бы пустота. Плохо. Перевозбудился.
И все народы даже от третьего года такой кровавой войны — не видно, чтобы просыпались. Но, как всегда, безнадёжнее всех — русский народ. Именно он нёс главные обильные потери, именно русские тела штабелями наваливались против немецкой организации и техники. О Восточном Фронте вообще пишут невнятно, неточно, корреспондентов там нет, знают мало и интересуются мало, да пресса Антанты и стыдится такого союзника, стараются меньше писать, но часто приводят цифры потерь. Эти цифры русских потерь всякий раз находил и ногтём отмечал Ленин — с удовлетворением и удивлением. Чем крупней были цифры, тем радостней: все эти убитые, раненые и пленные вываливались как колья из самодержавного частокола и ослабляли монархию. Но и эти же цифры приводили в отчаянье, что нет на Земле народа покорней и бессмысленней русского. Границ его терпению не существует. Любую пакость, любую мерзость он слопает и будет благодарить и почитать родного благодетеля.
Или свет зажечь? Как будто буквы поплыли.
Невоспламеняемые русские дрова! Отошли в историю лучшие костры — соляные, холерные, медные, разинский, пугачёвский. Разве только на захват соседнего поместья, всем видимого и известного, а то ведь никакой пролетариат и никакие профессиональные революционеры никогда не раскачают чёрную мужицкую массу. Развращённая, расслабленная православием, она как будто потеряла страсть к топору и огню. Если уж такую войну перенести и не взбунтоваться — куда годен этот народ?
Проиграно. Не будет в России революции.
Закрыл глаза ладонями и сидел так.
Внутри — как будто обвисало. То ли от усталости, то ли от тоскй.
Читатели уже собираются. Стулом двинули. Книга упала. Лампочки зажигают.
А может случиться и еще хуже: царизм уже выбирается из капкана? Через сепаратный мир?? (Подчеркнуть тремя чертами.) И Германии, когда она не может выиграть войны на двух фронтах — что остаётся ?
Вот — страшно. Вот — не может быть хуже чего. Тогда проиграно — всё. И мировая революция. И революция в России. И — вся жизнь Ленина, все усилия двух десятилетий.
Такое сообщение — о подготовке сепаратного мира, о тайных переговорах, уже официально идущих между Германией и Россией, и что в главном обе державы уже столковались, — недавно напечатала газета Гримма „Бернер тагвахт". Подпись была — К.Р. Не надо спрашивать плута Радека, чтоб догадаться, что это — он. (Но как мог Гримма убедить!) И достаточно зная его шипучую находчивость, можно догадаться, что он не подслушал разговора 'дипломатов, не подглядел тайных бумаг, и даже слушка такого не подхватил нигде, а, залежавшись на полдня в постели, газеты на одеяле, газеты под одеялом и книги под кроватью, он иногда сочиняет что-нибудь такое „от нашего собственного корреспондента" из Норвегии или Аргентины.
Но не в том дело, как родилось именно это сообщение. И не в том, что русский посол в Берне опровергает — а что ж ему иначе?.. Дело — в пронзительной верности: для царя это действительно верный выход! Именно так и надо! Именно так и сделал бы Ленин на его месте!
И поэтому надо — ударить! Еще ударить в это место! Бить тревогу! Остановить! Предупредить! Не дать ему вытащить из капкана все лапы целыми! •
Конечно, от Николая II и его правительства следует ждать всего самого глупого. Ведь и этой войны нельзя было ждать от них, если б сколько-нибудь были разумны -г- а начали! „а — сделали нам такой подарок!
Так что, может быть, и сейчас еще можно их напугать разглаской — и отвратить?
Сепаратный мир! Конечно, исключительно ловкий выход. Но всё-таки: не по их уму.
А всё равно уже: в России ничего не сделать. Кто там читает „Социал-Демократа" ? А за Милюковыми и Шингарёвыми все следят. В России слышно — одних кадетов. И вон как встречали делегацию их на Западе. Царь додумается, потеснится немножко, уступит министерства Гучкову да кадетам — и уж тогда их совсем не возьмёшь, не пробьёшь.
И что ж можно вымесить из российского кислого теста! И зачем он родился в этой рогожной стране?! Из-за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этой четвертушки привязала судьба к дрянной российской колымаге! Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями нисколько он не состоял в родне с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной. Ничего не знал Ленин противнее русского амикошонства, этих трактирных слёз раскаяния, этих рыданий якобы загубленных натур. Ленин был — струна, Ленин был — стрела. Ленин с первого полувзгляда оценивал дело, обстоятельства и верное и даже единственное средство к цели. И что ж его связывало с этой страной? Да не хуже, чем этим полутатарским языком, он овладел бы и тремя европейскими, потрудясь больше. С Россией — двадцать лет конкретных революционных связей? Ну, только вот они. Но сейчас, после создания Циммервальдской левой, он уже достаточно известен в мировой социалистической сфере и может перешагнуть туда. Социализм — безнационален. Вот уехал Троцкий в Америку — правильный выбор. И туда же Бухарин. Наверно и надо, в Америку.
Нет, что-то сегодня не то в нём самом. Не так день начался, не так завертелся. Как будто тело его, самый корпус, грудь не успевали за быстрой головной проработкой — и у левого виска была пустотка, и какое-то дупло усталости проявилось в нутре, — и вся оболочка тела как будто стала оседать по дуплу.
Многое сошлось сразу, и вдруг он ощутил, что не вытянет сегодня хорошего рабочего дня, но катится под гору раздёрганный, неудачный, даже тоскливый.
Вообще, политик — это тот, кто совсем не зависит от возраста, от чувств, от обстоятельств, в ком во всякое время года и дня есть постоянная машинность — к действиям, к речам, к борьбе. И у Ленина есть эта отличная бесперебойная машинность, неиссякающий напор, — но даже у него раза два в год выдавалась дни, когда этот напор опадал — до уныния, до изнеможения, до прострации. И такие дни уже до вечера нельзя исправить, только раньше лечь и крепко спать.
Кажется отлично владел Ленин своей головой, своей волей — но против этих накатов безнадёжности был бессилен даже он. Безусловная истина, твёрдая перспектива, проверенная расстановка сил* — вдруг начинало всё оплывать, сереть, сползать, всё оборачивалось к нему серым тупым задом.
А внутри сидящая, вечно сторожащая болезнь, вдруг выпирала углами, как камень из мешка.
К виску выпирала.
Да. Всегда он шёл путём неприятия компромиссов, несглаживания разногласий — и так создавал побеждающую силу. Уверен был, предчувствовал, что — побеждающую. Что важно сохранить как угодно малую группу и из кого угодно, но — централизованную строго. Примиренчество и объединенчество уже давно показало себя как гибель рабочей партии. Примиряться — с разоруженцами? примиряться с нашесловца- ми? примиряться с русскими каутскианцами? с мерзавцами из меньшевистского ОК? идти в лакеи к социал-шовинистам? обниматься с социалистическими 'Иванушками? Нет, к чёрту! — малое меньшинство, но твёрдое, верное, своё!
Однако; постепенно он оказывался почти в одиночестве, преданный и покинутый — а всяческие объ- единенцы или разоруженцы, ликвидаторы или оборонцы, шовинисты или безгосударственники, помойные литераторы и вся паршивая перемётная обывательская сволочь — все собирались где-то там тесным комом. И до того иногда доходило его меньшинство, что и вовсе никого вокруг уже не оставалось, как в тоскливом одиноком 908-м, после всех поражений — тоже здесь, в Швейцарии, самый страшный тяжёлый год. Интеллигенция панически покидала большевистские ряды — тем лучше, по крайней мере партия освобождалась от мелкобуржуазной нечисти. Среди этой мерзкой интеллигентщины Ленин чувствовал себя особенно унизительно, ничтожно, потеряно, отчаяние было ощутить себя утопающим в их болоте, идиотство было бы походить на них. Каждым жестом и словом, даже ругательствами — только бы не походить на них!.. Но уж совсем никого не оставалось, уж до того дошло, что хоть десять-пятнадцать сторонников надо было задержать, оставить! — и для этого одного, в охоте за пятнадцатью большевиками, чтоб не отдать их махистам, гонять за материалами в Лондон и писать триста страниц философского труда, которого и не прочёл никто, но Богданова — опозорил! сбил с руководства! И потом сырой осенью всё ходить, ходить зябко вдоль Женевского озера и бодро повторять, что мы не упали духом и идём к победе.
И вот с умнейшими, как Троцкий и Бухарин, не находится общего языка. И в немногих, кто остался вблизи, как Зиновьев, тоже нельзя быть уверенным вперёд дальше месяца — так слабы его нервы, так непрочны убеждения. (Да никаких убеждений у Гришки нет.)
Сила — не создалась. Весь его курс, 23 года непрерывных боевых кампаний — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма, вся эта твёрдая судьба под градом ненависти — к чему привела его, кроме изоляции? Он по инерции продолжал свою линию — разрывов, клеймлений, отмежеваний, но сам утомлённо понимал, что на том и завяз, что настоящего успеха — уже никогда не будет.
Одиночество.
И даже рассказать, поделиться, свой голос послушать — вот, не с кем...
Ну, день... Всё вываливалось и отвращалось, бесплодно он просиживал часы.
Стопки книг, стопки газет... А за годы эмиграции — целые колонны бумаг, кип, дестей — прочитанных, просмотренных, исписанных...
Когда он был молод — носилось свежее ощущение близкой революции, простота и краткость ожидаемого к ней пути. Он всем повторял: „Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции!“ Счастливое ожидание!
Но вот, последние девять лет, после второй эмиграции — чем же наполнены, набиты, напрессованы? Одними бумагами, конвертами, пакетами, бандеролями, перепиской рутинной, срочной — сколько же, сколько времени уходит на одни письма (да и франков на марки, но это из партийной кассы)? Почти вся жизнь, половина каждого дня — в этих нескончаемых письмах, никто не живёт рядом, единомышленники рассеяны по всем ветрам, и надо издали держать их, стягивать, управлять ими, давать советы, расспрашивать, просить, благодарить, согласовывать резолюции (это — с друзьями, а всё ж это время не прекращать острейшей борьбы с толпами врагов!) — и именно сегодняшнее, се-часовое письмо всегда кажется самым срочным и важным (а через день иногда — и пустым, и опоздавшим, и ошибочным). Обсылаться проектами статей, корректурами, возражениями, поправками, рецензиями, конспектами, тезисами, чтеньем и выписками из газет, целыми повозками газет, иногда выпусками своих журналов, по несколько номеров, не дальше, — и никакого настоящего дела, и не поверить и не представить, что через мир, заваленный ворохом бумаг и бандеролей, способно пробиться общественное движение — к заветной задуманной государственной власти и там понадобятся,от тебя качества иные, чем эту дюжину лет в читальных залах.
Кончал он свой сорок седьмой год — жизни нервной, однообразной, всё чернилами, чернилами по бумаге, в однодневных, однонедельных вспышках вражды и союзов, споров и соглашений — архиважных, архитактичных, архиискусных — и всё с политиками настолько мельче себя, и всё в бездонную бочку, без задержки, без памяти, без результата. Всё дело его подвижной, поворотной, переносной жизни билось, билось и упиралось в непроходимый хлам.
И вот — обвисали руки, и спина не держалась, и кажется — всё, выдохся весь до последнего.
А болезнь — грузнела внутри, иногда расхаживала и скребла. Она звука не подавала, она в спор не вступала, а сильней её — не было оппонента.
Беда, вошедшая навсегда.
Единственно, к чему он был призван — повлиять на ход истории, не было ему дано.
И все его несравненные способности (теперь-то оценённые и всеми в партии, но сам он знал их еще верней и выше), вся его находчивость, проницательность, хватка ума, всё его бесполезно-ясное понимание мировых событий, не могли ему принести не только политической победы, но даже положения хоть члена парламента игрушечной страны, как Гримму. Или даже — успешного адвоката (впрочем, адвокат — отвратительно, в Самаре он проиграл все суды). Или хотя бы журналиста.
Оттого, что он родился в проклятой России.
Но со своим обычаем честно выполнять самую кропотливую неблагодарную работу, он всё еще пытался составлять свои подробные учительные тезисы швейцарским левым циммервальдистам. По дороговизне, по невыносимому экономическому положению масс. Какой установить предельный максимум жалованья для служащих и чиновников. И как следить за партийными органами печати. И как выживать из партии реформистов-грютлианцев...
Нет! Не строилась работа... Ушла полнота из рассчитанного распорядка и осталось дупло. Голова заболевала. Дышалось плохо. Противно стало даже смотреть на бумаги. К утру должен был приступ миновать, но сейчас такое ко всему отвращение, что хоть на пол лечь.
И — преступно не досидев рабочего дня (впрочем, не так уж много и оставалось), он через силу скидывал тетради, рукописи в свою провизионную сумку, собирал, захлопывал книги, стягивал газеты в пачку, что ставил на полки, что понёс библиотекарю, осторожно ногами по ступенькам, чтоб не грохнуться с этой кипой.
Y двери натянул тяжёлое пальто, насадил котелок как попало, побрёл.
Каждый день одна и та же дорога не задавала задачи ни ногам, ни глазам: шлось само.
К сумеркам уже было, и еще туман. В окнах магазинов и ресторанов уже горело электричество.
По узкому переулку катили широкую бочку, за ней — тачку. Не обойдёшь.
Легко, легко не выбраться из этой стиснутой, маленькой, закисшей мещанской Швейцарии, так тут и кончить жизнь при Кегельном клубе.
Y гастронома, видно через окно, никелированная машинка равномерной подачей резала ровные пластинки привлекательной ветчины. И видами мясного завалена была витрина. Бакалейщик, самодовольный по-швейцарски, вышел на порог своего заведения и одному прохожему за другим — знакомым, не знакомым? — отвешивал своё бесплатное „грётци!". На третьем году войны магазины оставались навязчиво изобильны, только сильно подпрыгнули все цены от подводных лодок. А буржуа стояли и — перебирали.
По холоду хоть не стали выставлять столиков из кафе на тротуары — а то сидят, развалились, на прохожих глазами лупают, а ты их обходи, чертыхаясь. И во всё своё эмигрантское время ненавидел Ленин кафе — эти обкуренные гнёзда словоизвержения, где заседало 9/10 революционного словоблудия. А за войну, тут близко военная граница, натянуло в Цюрих еще новой мутной публики, из-за них и комнаты подорожали, авантюристы, дельцы, спекулянты, студенты- дезертиры и болтуны-интеллигенты, философскими манифестами и художественными протестами якобы бунтующие, сами не. зная, против чего. И все — по кафе.
Да такая же благополучная, наверно, и Америка. Везде верхушка рабочего класса предпочитает богатеть и не делать революции. Ни там, ни здесь никому не нужен был его динамит, его взмах топориный.
Способный весь мир раскроить, взорвать и перестроить — он слишком рано родился, только себе на муку.
Середина Шпигельгассе — сильно горбатая, на своей отдельной горке. От себя — в какую сторону ни иди — размашисто вниз. К себе, откуда ни возвращайся — круто вверх. Когда разогнан или бодр — не замечаешь. Но сейчас еле-еле тащился. Не шёл, а ногами заскребал.
Узкая крутая лестница старого дома с многолетними запахами. Уже темно, а лампы не зажгли, на- ощупь ногой.
Третий этаж. Всеязычный галдёж, тяжёлые запахи квартиры.
И своя комната как тюремная камера на двоих. Две кровати, стол, стулья. Печка чугунная, в стенку труба, нетопленная (а пора бы). Перевёрнутый ящик из-под книг как посудный столик (из-за вечных переездов не покупали мебели).
При последнем дневном свете Надя еще писала за столом. Обернулась. Удивилась.
Но, привыкшая к этому свету, разглядела жёлтобурую кожу на шестидесятилетием лице Ильича, тяжёлый мёртвый взгляд — и не спросила, отчего так рано.
Уж знала она у него приход этих упадков до прострации — иногда на дни, а то — на несколько недель. Когда он слишком вырабатывался в возбуждении, или когда в борьбе надламывалось даже его железное тело. После II съезда был такой упадок нервный, после „Шаг-два шага", после V-ro, да не раз.
Котелок утомлял голову, старое пальто утомляло плечи. С трудом их с себя сдирал... Надя помогла снять... Потащил по комнате ноги и сумку с тетрадями.
Нашёл силы посмотреть, что Надя писала, к глазам поднёс. Расходы.
Набирался, набирался столбик цифр удручающий.
В 908-м году хоть и мрачно было, хоть и одиноко, так денег завались, после тифлисского экса. Счёт в „Лионском кредите". С тоски ходили в концерты по вечерам, ездили в Ниццу в отпуск, путешествовали, гостиницы, извозчики, в Париже сняли тысячефранковую квартиру, зеркало над камином.
Сел на кровать.
Сел — и осел, уменьшился. И в пружинах утоп, и голова утопла в плечи, совсем не осталось шеи: оттяжка темени — на спине, подбородок — на груди.
И одной рукой, впереди себя, держался за край стола.
Один глаз был полузакрыт. А рот полуоткрыт. С губы торчала бесформенная щетинка крупноволосых усов. И нос придавленным своим передом выставлен вперёд.
Так сидел. Минуту. Другую. Третью.
— Ляжешь? Раздеть? — своим мягко-деревянным голосом спрашивала Надя.
Молчал.
— Ты что ж в обед не пришёл? Зазанимался?
Кивнул, с усилием.
— Сейчас будешь? — Но голос её не обещал густого плотоядства, так никогда и не научилась готовить.
То ли было в Шушенском! И натоплено, и наварено, и нажарено, на неделю баран, разносолов кадушки, дупеля, тетерева на столе, молоком залейся, и до блеска всё вымыто девчонкой-прислугой.
Уж совсем облысел купол Ильича, только и оставались волосы задние, тоже не густые. (Ещё попортили и сами в 902-м: на врача денег пожалели, по совету русского медика недоучившегося сыпь на голове йодом лечили, и посыпались волосы.)
Надя переступила ближе. Тихо, осторожно пригладила.
Несколько глубоких длинных морщин пролегли через весь, весь лоб его, вдоль.
Ильич вздохнул толчками тяжёлыми — как в оглоблях, с силой некабинетного человека. И нисколько не подымая голову из утопленья, не видя жену, а — перед собой, над столом, заморённо-заморённо:
— Кончится война — уедем в Америку.
Да он ли это?
— А циммервальдская левая как же? А новый Интернационал? — стояла печальной распустёхой.
Вздохнул Ильич. Глухо, хрипло, без силы в голосе:
— В России ясно к чему идёт. К кадетскому правительству. Царь — с кадетами сговорится. И будет пошлое нудное буржуазное развитие на двадцать- тридцать лет. И — никаких надежд революционерам. Мы — уже не доживём.
А что? И уехать. Она приглаживала его дальние редкие волоски.
Тут — постучала хозяйка: кто-то к ним пришёл, спрашивает.
Ну, только! Ну, нашли время! Надя и не советуясь пошла — отказать и выгнать.
А вернулась в недоумении:
— Володя! Скларц! Из Берлина...
С кем угодно можно установить прочную тайную связь, никогда не встречаясь прямо, если составить цепочку из постоянных посредников — двух, а лучше трёх. Твой посредник встречается кроме тебя еще с двадцатью человеками, и только один из них — следующий в цепи; тот встречается еще с двадцатью —■ уже четыреста возможностей, это проследить не может никакая полиция и никакой Бурцев.
Y сверхосторожного Ленина существовало таких несколько линий.
Прошлым летом, после встречи с Парвусом в Берне, Ленин отпустил к нему Ганецкого в Скандинавию — директором его торгово-революционной конторы. Так развернул своё коммерческое призвание неутомимый изыскливый Ганецкий, и так установилась прямая неостывающая связь с Парвусом. Однако, провисла линия между Копенгагеном и Цюрихом — и посредником определили Скларца, берлинского коммерсанта, тоже пайщика парвусовской конторы, который свободно мог ездить и в Данию и в Швейцарию. Но условлено было, что когда приедет в Цюрих, всё по тому же правилу промежуточных звеньев он не должен встречаться с Лениным сам, а здесь подошлёт Дору Долину, подружку Бронского. И то, что он вот пришёл прямо на квартиру сам, значило или нарушение конспиративной дисциплины или чрезвычайные обстоятельства.
Как же некстати! Не только — сил, но даже не было ясного соображения в голове, но даже перебои
в груди. И отказывать поздно: уже всё равно пришёл, видели его на улице, на лестнице, в квартире.
Навстречу Скларцу подняться надо было не с кровати, надо было ослабевшими ногами подать вверх одуплевшее тело как будто через целый колодец — туда, наверх. И лишь там, высунутой головой увидеть этого маленького энергичного еврея из юго-западных.
Однако, с большим самозначением, всё богаче одетого, и пальто такое, и шляпа (на единственный обеденно-письменный стол положил, нахал, а впрочем куда её деть тут?), и в руке — коммивояжёрский лёгкий баул из кожи крокодиловой или бегемотовой, как её.
Спасибо, хоть без этих церемонийных немецких „Wie geht's?", без натянутой улыбки радости от встречи. Деловито поклонился, протянул маленькую ручку с важностью. Огляделся насчёт безопасности, свидетелей. А уже — и Надя вышла, никого.
Почему же всё-таки — прямо, сам?
А — вот. Из глубокого внутреннего кармана — конверт.
Богатой, бледнозелёной бумаги, с гербом продавленным. И толстый, пузатый.
Как не стесняется Парвус и в мелочах показывать богатство! Вот — конверт. А приезжал в Цюрих — останавливался в самом дорогом „Бор-о-ляке". В Берне по дешёвой студенческой столовой (обед — 65 рап- пенов) шёл, ища Ленина, и пыхал самой дорогой сигарой.
И с этим человеком начинали когда-то в Мюнхене „Искру"!..
Ну так что, что письмо? Нельзя было через Дору? Эти визиты-мелькания приходится объяснять товарищам.
Скларц даже удивляется, как это плохо воспитан господин Ульянов. Дела — так не делаются. Сказано: уничтожить, не уходя.
И показывает пальцами: мол, чирк — и к конверту.
Удивил! Мы иначе и не делаем. Уж мы-то в жизни сожгли!..
Значит, читать. Ситуация для подпольщика привычная. Ленин и сам должен обеспечить, чтобы его ответное письмо не сохранилось после прочтения. Такой один клочок бумажки может быть смертелен для целой жизни политического деятеля.
Ни ножа, ни ножниц под рукой, стол голый. А Надя на кухне. Оторвав уголок, Ленин всунул толстый указательный и повёл как разрезным ножом. Рвалось с лохматыми закраинами в одну и в другую сторону, как собака зубами — и чёрт с вами, вот так вашему богатству! Насколько приятней держать в руках самый дешёвый конверт, писать — на самой дешёвой бумаге.
Вынул. Оттого и толстый, что бумага — еще богаче и толще. И написано — с размашистыми прописными буквами, разведёнными строчками, да с одной стороны. Вот так-то дела и не делаются. Уже забыл, как „Искру" посылали в Россию — на сверхтонкой бумаге.
Внимание. Стянуть нервы, прояснеть головой (так и не ел ничего после утреннего чая). Вникнуть.
Скларц — не хочет мешать, нет, он не развязен. Не болтая, пальто не снимая, идёт к тому стулу у окна. И только шляпу мягкую серую, с фигурно продавленной тульей, оставил на столе.
Да свой баул не донёс до окна, опустил посередине комнаты на пол.
Вежливо-то вежливо, но в пасмурный день как раз и читать бы там, у окна. А Скларц уже занял тот стул, достал из кармана помятый иллюстрированный журнал, развернул важно.
А тут, что ж, лампу зажечь? Спичек не видно. И Надя на кухне.
Ба, лампа уже горит! Сбоку шляпы — стоит и горит малым прикрученным фитилём. Надя? Как будто не зажигала. Разве когда чиркнул Скларц? Так он же...? Странно.
Толстая веленевая бумага с гербами. А всего — три страницы. И — строчка на четвёртой, пустая четвёртая.
И ничего не было особенного — враждебного, властного или наглого, в почерке Парвуса, и вполне безлична подпись — „д-р Гельфонд".
Но из письма как током била в горячеющие руки, вливалась в жилы, сплескивалась с ленинской кровью и боролась с ней бегемотская кровь Парвуса. Дальше локтей не пуская её, Ленин обронил письмо на стол, как тяжёлое. И сам опустился в стул, еле держась.
За двадцать лет своей жизни-борьбы переиспытал Ленин все виды противников — высокомерно-ироничных, язвительных, хитрых, подлых, упорных, стойких, уж там не считая риторично-захлёбчивых, дон-кихот- ствующих, вялых, ненаходчивых, слезливых и всякого дерьма. И с некоторыми возился по многу лет, и не всех сбил с ног, не всех уложил наповал, но всегда ощущал неизмеримое превосходство своего ясного видения обстановки, своей хватки и способности в конце концов перевалить любого.
И только перед этим одним не ощущал уверенности. Не знал, устоял ли бы против него как против врага.
А Парвус и не был противником почти ни дня, он был естественным союзником, он много раз за жизнь предлагал, навязывал, настаивал себя в союзники, и год назад особенно, и вот, конечно, сейчас.
Но и союза этого почти никогда Ленин принять не мог.
Читал. Ходили глаза по строчкам, но почему-то смысл никак не вкладывался в голову. Плохое состояние.
Всех социал-демократов мира знал Ленин или каким ключом отомкнуть или на какую полку поставить, — только Парвус не отмыкался, не ставился, а дорогу загораживал. Парвус не укладывался ни в какую классификацию. Он никогда не был ни в большевиках, ни в меньшевиках (и даже наивно пытался мирить их). Он был русский революционер, но в девятнадцать лет приехал сюда из Одессы — и сразу избрал западный путь, стать чисто-западным социалистом, в Россию уже не возвращаясь, и шутил: „Ищу родину там, где можно приобрести её за небольшие деньги". Однако, за небольшие он её не приобрёл, и 25 лет проболтался по Европе Агасфером, нигде не получив гражданства. И только в этом году получил германское — но слишком большой ценой.
Случайно скосились глаза на скларцев баул — тяжёлый, набитый, как он его таскает? Сам маленький, зачем?
А, вот что, света мало, потому и не читается. Подвинул лампу к самому письму.
Тут в конце два отдельных пункта ясны. Две жалобы. Одна — на Бухарина-Пятакова за их чересчур усердное следствие о немецкой сети в Швеции, нельзя же распускать дураков-мальчишек, надо сдерживать. И вторая — на Шляпникова: очень своеволен, сотрудничать не хочет, отбивается, а в Петербурге нашим силам нужно единство. Пусть не отвергает наших представителей, напишите ему.
Он назвался Parvus — малый, но был неоспоримо крупен, стал — из первых публицистов германской социал-демократии (был работоспособен — не меньше Ленина). Он писал блестящие марксистские статьи, вызывая восторг Бебеля, Каутского, Либкнехта, Розы и Ленина (как он громил Бернштейна!), и подчинил себе молодого Троцкого. Вдруг — покидал свои газеты, завоёванные публицистические посты, уезжал, бежал, то начинал торговать пьесами Горького (и обокрал его), то опускался в ничтожество. Y него был острый дальний взгляд, он первый, еще в XIX веке, начал борьбу за 8-часовой рабочий день, провозгласил всеобщую стачку как главный метод борьбы пролетариата, — но едва предложения его превращались в движения, находили сторонников, — он не организовывал их, а отлипал, отпадал: он умел быть только первым и единственным на своём пути.
Всё письмо прочёл до конца, а не воспринял даже, на каком оно языке — на немецком или на русском? На обоих, фразы — так, фразы — так. Где на русском — с орфографическими ошибками.
И многое в Парвусе противоречило. Отчаянный революционер, не дрожала рука разваливать империи — и страстный торговец, дрожала рука, отсчитывая деньги. Ходил в обуви рваной, протёртых брюках, но еще в Мюнхене в 901-м году твердил Ленину: надо разбогатеть! деньги — это величайшая сила! Или: еще в Одессе при Александре III сформулировал задачу, что освобождение евреев в России возможно только свержением царской власти — и тут же утерял интерес к русским делам, ушёл на Запад, лишь раз возвращался нелегально, и то спутником врача, эксперта по голоду, напечатал: „Голодающая Россия, путевые впечатления." И как будто весь ушёл в германскую социал-демократию. Но едва началась японская война, почти не замеченная в женевских эмигрантских кругах, — Парвус первый объявил: „Кровавая заря великих событий!"
Света мало. Фитиль выкручивал — а он только калился и коптил. A-а, пустая, керосина нет, не налила.
И в том же 904-м предсказал: промышленные государства дойдут до мировой войны! Парвус всегда выскакивал — нет, по грузности тела его выступал — предсказать раньше всех и дальше всех. Иногда очень верно, как то, что промышленность взорвёт национальные границы. Или: что в будущем неразлучны станут война — и революция, а война мировая — и революция мировая. И об империализме он, по сути, успел сказать всё раньше Ленина. А иногда — чушь какую-нибудь: что вся Европа ослабнет и зажмётся в тисках между сверхдержавами Америкой и Россией; что Россия — новая Америка, ей только не хватает школ и свободы. То, пренебрегая самой сутью марксизма, предлагал не национализировать частную промышленность, будто окажется это невыгодно. Или чудовищно бредил, что социалистическая партия свою выигранную власть может обратить против большинства народа и подавить профсоюзы. Но и в удачах и в неудачах всегда необычностью своей позиции и массивностью своей слоноподобной фигуры, он загораживал половину социал-демократического горизонта и, как-то оказывалось, всегда загораживал Ленину — не всю дорогу, не весь истинный путь, но половину его, так что нельзя было обойти Парвуса, не столкнувшись. Он был — не противник, он всегда был союзник, но такой, что, смотри, не обомнёт ли тебе бока. Он был единственный на Земле несравненный соперник — и чаще всего успешливый, всегда впереди. Никак не враг, всегда с протянутой рукой союзника — а руку принять не бывало возможно.
Что за баул? Величиной как будто со свинью.
Да между ними многое пошло бы иначе, если бы не Девятьсот Пятый. Во всей революции Пятого года не участвовал Ленин и не сделал ничего — исключительно из-за Парвуса: тот топал всю дорогу впереди и топал верно, не сбиваясь, — и отнял всякую волю идти и всякую инициативу. Едва прогремело Кровавое Воскресенье, Парвус тут же объявил: создавать р а- бочее правительство! Эта быстрота взгляда, эта стремительность предложения перехватила дыхание даже у Ленина: не могло решаться уж так быстро и так просто! И он возражал Парвусу во „Вперёде", что лозунг — опасный, несвоевременный, нужно — в союзе с мелкой буржуазией, революционной демократией, у пролетариата мало сил! А Парвус и Троцкий скропали брошюрку и кинули её женевской эмиграции, большевикам и меньшевикам вместе, как вызов: в России нет парламентского опыта, буржуазия слаба, бюрократическая иерархия ничтожна, крестьянство невежественно, неорганизованно, и пролетариату даже не остаётся ничего другого, как принять руководство революцией. А те социал-демократы, кто удалятся от инициативы пролетариата, превратятся в ничтожную секту.
Но вся женевская эмиграция осталась на месте, коснея, как будто чтобы сбылось над ней это пророчество, и только Троцкий кинулся в Киев, потом в Финляндию, всё ближе для прыжка, а Парвус ринулся по первому сигналу всеобщей октябрьской стачки, какую опять-таки он и предсказывал еще в прошлом веке. Не большевики и не меньшевики, они оба были свободны от всякой дисциплины и дерзко действовали вдвоём.
С большую свинью. Напрягся, перегородил комнату. А Скларц у окна как будто уменьшился?
Ну что ж, чего не выразишь печатно и не скажешь на самой узкой конференции: да, я тогда ошибся. И вера в себя и политическая зрелость, и оценка обстановки приходят не сразу, лишь с возрастом, с опытом. (Хотя и Парвус только на три года старше.) Да, я тогда ошибся, не всё видел, и дерзости не хватило. (Но даже близким сторонникам так нельзя говорить, чтоб не лишить их веры в вождя.) Да как было не ошибиться? Тянулись месяцы, месяцы того смутного года, всё бродило, погромыхивало вокруг, а настоящая революция не разражалась. И ехать было всё еще нельзя, и отсюда, из Женевы, разбирало негодование: что они там, олухи, не поворачиваются, что они революции как следует не начинают? И — писал, писал, посылал в Россию: нужна бешеная энергия и еще раз энергия! о бомбах полгода болтаете — ни одной не сделали! пусть немедленно вооружается каждый кто как может — кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога! И пусть отряды не ждут, никакого отдельного военного обучения не будет. Пусть каждый отряд начинает учиться сам — хотя бы на избиении городовых! А другой пусть убьёт шпика! А третий взорвёт полицейский участок! Четвёртый — нападёт на банк! Эти нападения, конечно, могут выродиться в крайность, но ничего! — десятки жертв окупятся с лихвой, зато мы получим сотни опытных бойцов!..
Нет, не бралось усталым умом несвоевременное письмо, не понималось. Читал — и не понимал.
...Казалось так ясно: кастет! палка! тряпка с керосином! лопата! пироксилиновая шашка! колючая проволока! гвозди (против кавалерии)! — это всё оружие, и какое! А отбился случайно отдельный казак — напасть на него и отнять шашку! Забираться на верхние этажи — и осыпать войско камнями! и обливать кипятком! Держать на верхних этажах кислоты для обливания полицейских!
А Парвус и Троцкий ничего этого не делали, но просто приехали в Петербург, просто объявили и собрали новую форму управления: Совет Рабочих Депутатов. И никого не спрашивали, и никто не помешал. Чисто рабочее привительство! — и вот уже заседало! И всего-то приехали на каких-нибудь две недели раньше остальных — а всё захватили. Председателем Совета был подставной Носарь, главным оратором и любимцем — Троцкий, а изобретатель Совета Парвус управлял из тени. Захватили слабенькую „Русскую газету" — однокопеечную, вседоступную, народную по тону, и стал тираж её полмиллиона, и идеи двух друзей полились в народ.
Скларц у окна в своём стуле сидел всё дальше, всё мельче, как птица с опущенным носом, в иллюстрированный журнал.
В последние женевские дни Ленин писал, писал пером торопливым — всю теорию и практику революции, как он находил её в библиотеках по лучшим французским источникам. И гнал, и гнал в Россию письма: надо знать, по сколько человек создавать боевые группы (от трёх до тридцати), как связываться с боевыми партийными комитетами, как избирать лучшие места для уличных боёв, где складывать бомбы и камни. Надо узнавать оружейные магазины и распорядок работы в казённых учреждениях, банках, заводить знакомства, которые могут помочь проникнуть и захватить... Начинать нападения при благоприятных условиях — не только право, но прямая обязанность всякого революционера! Прекрасное боевое крещение — борьба с черносотенцами: избивать их, убивать, взрывать их штаб-квартиры!..
И, нагоняя последнее своё письмо, сам поехал в Россию. А там — ничего похожего. Никаких боевых групп не создают, не запасают ни кислот, ни бомб, ни камней. Но даже буржуазная публика приезжает послушать заседания Совета Депутатов. И Троцкий на трибуне взвивается, изгибается и самосжигается. И будто для этой открытой жизни и родясь, они с Пар- вусом блещут по всему Петербургу — в редакциях, политических салонах, всюду приглашены и везде приняты под аплодисменты. И даже создавалась какая-то фракция „парвусистов". И не то, чтобы тряпку обмачивать в керосин и красться за углом здания, — но Парвус готовил собрание своих сочинений или закупал билеты на сатирическое театральное представление и рассылал своим друзьям. Хороша тебе революция, если вечерами не чеканка патрулей по пустынным тротуарам, но распахиваются театральные подъезды...
Пробежаться бы до окна и назад — так чёрный раздутый баул стоял как сундук, не пройдёшь. Да и сил нет в ногах.
В ту революцию Ленин был придавлен Парвусом как боком слона. Он сидел на заседаниях Совета, слушал героев дня — и висла его голова. И лозунги Пар- вуса повторялись и читались, правильные вполне: после победы революции пролетариат не должен выпустить оружия из рук — но готовиться к гражданской войне! своих союзников-либералов рассматривать как врагов! Отличные лозунги, и уже не с чем выступить с трибуны Совета самому. Всё шло почти как надо, и даже настолько хорошо, что вождю большевиков не оставалось места. Вся жизнь его была спланирована к подполью — и не было сил в ногах — подняться на открытый свет. Он не поехал и на московское восстание, уж там восставали по его ли женевским инструкциям, или не по его. Упала уверенность в себе — и
Ленин как продремал и пропрятался всю революцию: просидел в Куоккале, — 60 вёрст от Петербурга, а Финляндия, не схватят, Крупская же ездила каждый день в Петербург собирать новости. Даже сам понять не мог: всю жизнь только и готовился к революции, а пришла — изменили силы, отлили.
А тут еще Парвус выдвинул из тени (он всегда старался действовать из тени, не попадать на фотографии, не давать пищи биографам) и подсунул Совету безымянно, как бы его, Совета, резолюцию — Финансовый Манифест. Под видом заскорузло-стихийных требований неграмотных масс — программу опытного умного финансиста — единый удар по всем экономическим устоям российского государства, чтоб рухнуло проклятое разом! Не откажешь — величайший, поучительный революционный документ! (Но и правительство поняло и через день арестовало весь петербургский Совет. Случайно Парвус не был на заседании, уцелел, и тут же создал второй Совет, другого состава. Пришли арестовывать второй — а Парвус снова не попал.)
Керосина в лампе не было — а горела уже час, не уменьшая света.
Надо было годам пройти, чтобы рёбра, подмятые Парвусом, выправились, и вернулась уверенность, что тоже на что-то годишься и ты. А главное, надо было увидеть ошибки и провалы Парвуса, как и этот слонобегемот опрометчиво ломил по чаще, и обломки прокалывали ему кожу, как он оступался в ямы на бегу, исключался из партии за присвоение денег, занимался спекуляцией, открыто кутил с полными блондинками — и наконец открыто поддержал немецкий империализм: откровенно высказывался в печати, в докладах, и явно поехал в Берлин.
Шляпа позади лампы — качнулась, показав атласную подкладку.
Да нет, лежала спокойно, как оставил её Скларц.
Через Христю Раковского из Румынии, через Давида Рязанова из Вены уже доходили до Ленина слухи, что Парвус везёт ему интересные предложения, так развязно не скрывался он. Но слава открытого союзника кайзера опередила Парвуса, пока он вёз эти предложения, пока кутил по пути в Цюрихе. Все привыкли бедствовать годами, а тут прежний товарищ явился восточным пашой, поражая эмигрантское воображение, раздавая впрочем и пожертвования. И когда нашёл он Ленина в бернской столовой, втиснулся непомерным животом к столу и при десятке товарищей открыто заявил, что им надо беседовать, — Ленин, без обдумывания, без колебания, в секунду ответил резкими отталкивающими словами. Парвус хотел разговаривать как вояжёр мирного времени, приехав из воюющей Германии?? (и Ленин хотел! и Ленин хотел!) — так Ленин просил его убраться вон! (Верно! Только так!)
На бауле ручка перекинулась с одной стороны на другую — хляп!
Но увидеться — надо было! Не бумагами же всё переписываться, какая-нибудь да попадёт к врагам. И Ленин шепнул Зифельду, а тот нагнал толстяка, по какому адресу ему идти. (А Зифельду Ленин потом сказал: нет, отправил акулу ни с чем.) И в спартансконищей комнатке Ульяновых, толстозадый Парвус с бриллиантовыми запонками на высунутых ослепительных манжетах, сидел на кровати рядом и не помещался, и наваливался, толкал Ленина к подушке и к спинке железной.
Тр-ресь!! — распёрло наконец баул, — и освобождая локти и выпрямляя спину, разогнулся, поднялся в рост во всю свою тушу, в синей тройке, с бриллиантовыми запонками — и разминая ноги, ступ- нул, ступнул сюда ближе.
Стоял — натуральный, во плоти — с непотяга- емым пузом, удлинённо-купольная голова, мясистобульдожья физиономия с эспаньолкой — и блеклым внимательным взглядом рассматривал Ленина. Дружелюбно.
Да ведь и правда! — давно же надо поговорить. Всё мельком, всё некогда, или в отрыве или в противоположности, и так трудно встретиться, следят враги, следят друзья, нужна тайна глубочайшая! Но уж если пробрался, какие тут письма, пришёл момент критический, поговорить накоротке:
— Израиль Лазаревич! Я удивляюсь, куда вы растратили свой необыкновенный ум? Зачем всё так публично? Зачем вы поставили себя в такое уязвимое положение? Ведь вы же сами закрываете все пути сотрудничества.
Ни — „здравствуйте", ни — руки не протянул (и хорошо, потому что и у Ленина не было сейчас сил подняться и поздороваться, рука как в параличе, и „здравствуйте" тоже горло не брало), — а просто плюхнулся, да не на стул, а на ту же кровать, впри- тиску, неуклюжей тяжестью навалившись, боком вытесняя Ленина по кровати.
И наставляя прямо к лицу бледно-выпуклые глаза, речью неясной, не оратора, но собеседника ироничного:
— Удивляюсь и я, Владимир Ильич: вы всё агитацией да протестами заняты? Что за побрянчушки? — конференции какие-то, то тридцать баб в народном доме, то дюжина дезертиров?
И толкал бесцеремонно по кровати, нависал болезненно раздутой головой:
— С каких пор вы вместе с теми, кто хочет мир изменить пером рондо? Ну что за дети все эти социалисты с их негодованием. Но вы-то! Если серьёзно делать — неужели же прятаться по закоулкам, скрывать, на какой ты воюющей стороне?
Хотя горлом речь не выходила, но прояснела голова как от крепкого чая. И без языка было всё взаимопонятно.
Ну конечно же, это был не жалкий Каутский — демонстрировать „за мир", а в войну не вмешиваться.
— Мы же оба не рассматриваем войну с точки зрения сестры милосердия. Жертвы, кровь и страдания неизбежны. Но был бы нужный результат.
Ну, конечно же, Парвус был основательно прав: надо, чтобы Россия была разбита, а для этого надо, чтобы Германия победила, и надо искать поддержки у неё — всё так! Но — только до этого пункта. А дальше — Парвус зарвался. Увлекшись своими успехами, он оступается, это не первый раз.
— Израиль Лазаревич, если у социалиста что-нибудь реально имеется, то это — честь. Чести — мы не можем терять, мы тогда всё теряем. Говоря между нами, по расположению наших с вами позиций — ну конечно союз. И конечно, мы еще очень понадобимся и поможем друг другу. Но по вашей теперь политической одиозности... Один какой-нибудь Бурцев найдётся — и всё погибло. Так что придётся допустить между нами публичные разногласия, газетную полемику. Ну, не настойчивую... спорадически так, иногда... Так что если,... — Ленин никогда не смягчал и в глаза, Жёстче сказать, крепче будет, — ... если там, например... морально опустившийся подхалим Гинденбурга... ренегат, грязный лакей... Поймите сами, вы же не оставляете другого выхода...
— Да смешно, да пожалуйста, — горькая усмешка перерезала одутловатое лицо Парвуса. — Вот я весной в Берлине получил миллион марок, из того миллиона сразу перевёл Раковскому, Троцкому с Мартовым, да и вам в Швейцарию, не получали? Ах, не вникали? Проверьте, проверьте у своего кассира, если не растратил... И Троцкий деньги принял, — а от меня уже и отрёкся публично: „политический фальстаф"... Написал мне живому — некролог. Я ничего не говорю, это можно конечно, я понимаю.
И застыло-стеклянно смотрел из-под поднятых редковолосых бровей.
Разошлись они с Троцким раньше, на перманентной революции. А любил он его как младшего брата.
Но на Ленина — он очень надеялся, и толкал, толкал его по кровати своею массивной рыхлостью, заставляя двигаться к подушке, уже локтем ощущать спинку сзади.
— А ваши лозунги голые не лопнут без денег, а? Нужно деньги в руках иметь — и будет власть! А чем вы будете власть захватывать? — вот неприятный вопрос. Да хотя позвольте, в 904-м на III съезд и на „Вперёд" вы же, кажется, приняли деньги, очень похожие на японские, — ничего, пошли? А я теперь
— лакей Гинденбурга? — пытался смеяться.
Всё было — точно, как прошлый раз, или это и было — прошлый раз?.. — в комнате бернской мещанки? или в комнате цюрихского сапожника? или
— ни в какой комнате? Как будто всё это говорилось уже раз, и вот по второму. Ни стола, ни Скларца, — а только кровать железная швейцарская массивная с ними могучими двумя — плыла над миром, беременным революцией, ожидавшим революции от них двоих, с ногами свешенными, — неслась по тёмному кругу, опять. И ровно столько было невидимого света, чтобы видеть собеседника, и ровно столько звука, чтобы слышать его:
— Ничего, это можно... Я понимаю...
Он — презирал мир. Тамошний, далеко внизу, под кроватью.
— А по-моему, если *войну превращать в гражданскую — так любой союзник хорош. Ну, у вас сейчас
— сколько? — издевался. — Не спрашиваю, не принято. А у меня — не у меня, а для дела — вот, миллион весной получил, этим летом еще пять миллионов получаю. И будет еще не раз. Как?
Вместе с Парвусом они всегда презирали эмиграцию за призрачность, за недельность, за интеллигентскую слюнявость, всё слова, слова. А деньги — это не слова. Да.
Душила Ленина его самоуверенность. И восхищала реальность силы.
Вытаращивал бледные глаза, похлопывал губой с неровными усами:
— План! Я составил единый великий план. Я представил его германскому правительству. И на этот план, если хотите, я получу и двадцать миллионов! Но главное место в этом плане я отвёл — для вас. А вы...
Дышал болотным дыханием, близко в лицо:
— А вы?., ждать?.. А я...
Этот купол — не меньше ленинского, пол-лица — голый лоб, пол-головы — темя со слабыми волосами. И — беспощадный, нечеловеческий ум во взгляде:
— А я — НАЗНАЧАЮ РУССКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НА 9 ЯНВАРЯ БУДУЩЕГО ГОДА!!!
48
Как рождаются простые и великие планы? Подсознательным вынашиванием мыслей, когда еще никуда определённо не предназначаешь их. Потом элементы давно известные, может быть и не тебе одному, вдруг проступают дружно к центру и именно в твоей голове соединяются в единый план — и до того же простой и ясный, что удивляться надо, как он не сложился ни у кого прежде.
Как не сложился прежде у германского генерального штаба, хотя ему-то и думать бы первому?
Правда, у них не хватало понимания России. И от осени 14-го года, после Марны, осознав неудачу быстрой победы, они до осени 15-го всё надеялись на сепаратный мир с Россией, тыкались попытками контактов, никак не думали, что Романовы всё отвергнут. Это их и отвлекло.
А Парвус, отъединённый от главных событий, отброшенный в бронзово-голубой Константинополь, достигнув жажданного богатства, а с ним — всех вообразимых телесных нег на Востоке, умеющем насытить мужской дух и мужские желания, в стороне от великой битвы („в социалистическом резерве", как советовал ему Троцкий) и обеспеченный никогда не узнать последствий этой битвы, — ни в каком насыщении, ни в каком расслаблении ни на миг не покидал своего поиска, рождённого в дальней юности тут же, на черноморском берегу, по диагонали.
Он не покидал его, еще когда ехал на Балканы, где книги его читались шире, чем Маркса и Энгельса. Не забывал, когда кормился в константинопольских притонах и собирал портовых голодранцев на первомайскую демонстрацию. Тем более не забывал, возвышаясь при младотурках, обратив свой финансовый гений из топора, подрубавшего русский ствол, в лопату садовника, подпитывающего турецкий. Не ошеломил- ся, не забыл и от миллионов, так наплывно, и для всех таинственно, понесших его. Не забывал, основывая банки, торгуя с Одессой-мамой и с мачехой Германией. Он как хлыстом был протянут от сараевского выстрела: обладал Парвус сейсмическим чувством недр и уже знал, что — поползут пласты! что — попадётся старый глупый медведь! Наконец-то она пришла, наступила Великая, Мировая! Он давно её предсказывал, называл, вызывал — самый мощный локомотив истории! самую первую колесницу социализма! Пока там, по всей Европе, бушевала социал-демократия вокруг военных кредитов — Парвус ни речи не произнёс, Парвус ни строчки не напечатал, он не тратил времени, минуты не ждали, он сновал своими тайными ходами, убеждая правителей, что только на стороне Германии вырвется Турция из нескончаемых своих капитуляций, он спешил доставать оборудование и запасные части для турецких железных дорог и мельничного дела, снабдить зерном турецкие города, обеспечить, чтобы Турция осенью не просто объявила войну, но как можно скорей могла бы начать реальные боевые действия на Кавказе. (И такие же заботы нагоняли его с Болгарией, он успел подготовить к войне и её.) Лишь после этих существенных свершений мог позволить себе Парвус откинуться в заброшенную любимую публицистику, в балканскую прессу, с лозунгом: „ЗА ДЕМОКРАТИЮ! ПРОТИВ ЦАРИЗМА!"
Это надо было объяснить, обосновать, чтоб убедить как можно многих, — и неотупевшее перо легко разбрызгивало искры: не надо ставить вопроса о „виновниках войны" и „кто напал", мировой империализм десятилетиями готовил эту схватку, и кто-то должен был напасть, неважно. Не надо искать этих пустых причин, но надо думать социалистически: как нам, мировому пролетариату, использовать войну, значит: на чьей стороне сражаться? Y Германии — самая мощная в мире социал-демократия, Германия — твердыня социализма и поэтому для Германии эта война — оборонительная. Если социализм будет разгромлен в Германии — он будет разбит везде. Путь к победе мирового социализма — военное укрепление Германии. А то, что царизм на стороне Антанты, еще более открывает нам, где истинный враг социализма: значит, победа Антанты принесёт новое подавление всему миру. Итак, рабочие партии всего мира должны воевать против русского царизма. А советовать пролетариату принять нейтралитет (Троцкий) — значит само- исключиться из истории, революционный кретинизм. Итак, задача мирового социализма — уничтожающий разгром России и революция в ней! Если Россия не будет децентрализована и демократизована — опасность грозит всему миру. А Германия несёт главную тяжесть борьбы против московитского империализма, и революционное движение в ней должно на время прекратиться. А потом победа в войне принесёт и классовые завоевания пролетариату. ПОБЕДА ГЕРМАНИИ — ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА !
На эту публикацию первые приехали к Парвусу посовещаться — „Союз вызволения Украины" из Вены (среди них были знакомые по „искровским" временам), потом армянские, грузинские националисты, — всем борцам против России открывались двери его константинопольского дома.
Так напряжённый поиск Парвуса магнитно притягивал опыт других, а сопоставленный этот опыт, социалистов и националистов, стянутый во взрывную точку, рождал и План. До сих пор болтали социалистические программы всё об автономии — нет! Только разрывом и расчленением России можно было свалить абсолютизм, дать нациям сразу — и свободу, и социализм.
Пока проваливались первые экспедиционные группы украинцев и кавказцев (второпях набрали и хвастунов и авантюристов, конспиративная затея вдруг разгласилась в эмигрантской прессе, и Энвер-паша остановил экспедиции), в раздутой ёмкой голове Парвуса досовершалось магнитное соединение железных элементов в единый План. Как любит механика треугольные скрепы за их устойчивость к деформациям, так элементам националистическим и социалистическим не хватало третьего союзника — германского правительства: цели всех троих ближайшие — совпадали!
Вся предыдущая жизнь Парвуса была как нарочно состроена для безошибочного создания этого Плана. И оставалось теперь ему — тому счастливому, чем Парвус был, скрещению теоретика, политика и дельца, — сформулировать план по пунктам в декабре Четырнадцатого, в январе приоткрыть его германскому послу, получить гостеприимный вызов в Берлин, на личном свидании поразить верхушку министерства (19 лет эта страна не кинула ему простого гражданства закрывала его редакции, гоняла из города в город, могла выдать русской охранке, — теперь высшие правительственные глаза предусмотрительно засматривали в его пророческие), в марте Пятнадцатого представить окончательный подробный меморандум и получить первый миллион марок аванса.
План был: собрать под единое руководство все возможности, все силы и все средства, вести из единого штаба — действия центральных держав, русских революционеров и окраинных народностей. (Он знал этого быка — но и обух достойный готовил ему.) Никаких разрозненных частных импровизаций. План убеждал настойчиво, что никакая германская победа не окончательна без революции в России: неразрезанная Россия останется неугасающей постоянной угрозой. Но и никакая отдельная сила не может разрушить русскую крепость, а только единонаправленный их союз: совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке. Опыт революции 1905 года (уж автор- то знал её! и в глазах имперского правительства гарантией солидности советчика то и было, что он — не приблудный коммерсант, но Отец Первой Революции) позволяет видеть, что все симптомы повторяются, все данные для революции сохранились и даже, в условиях мировой войны, она потечёт еще быстрей, но если умело её толкнуть, воздействием извне ускорить катастрофу. Центрами социального восстания будут подготовлены Путиловский, Обуховский и Балтийский заводы в Петербурге и кораблестроение в Николаеве (на юге России у автора особо прочные связи). Назначается дата, уже есть такая наболевшая в России: годовщина Кровавого Воскресенья, сперва только — для однодневной забастовки в память погибших, для одноразовой уличной манифестации — 8-часовой рабочий день, демократическая республика, но когда будут разгонять, то оказать сопротивление, прольётся хотя бы малая кровь — и огонь побежит, побежит по всем бикфордовым шнурам! Однодневные стачки сливаются во всеобщую забастовку „за свободу и мир!" Листовки на главных заводах — и к тому времени уже подготовленное оружие в Петербурге и в Москве! В 24 часа будет приведено в действие сто тысяч человек! К забастовке тотчас присоединяются железнодорожники (подготовлены будут и они), останавливается всякое движение на линиях Петербург-
Москва, Петербург-Варшава, Москва-Варшава и на югозападных. Для всеобщности и дружности взрываются некоторые мосты, как бывало в 905-м. В нескольких местах взорвать мосты и на сибирской магистрали, для чего послать туда экспедицию из опытных агентов. О Сибири отдельная часть плана: дислоцированные там войска чрезвычайно слабы, города под влиянием ссыльных настроены революционно. Это облегчает устройство диверсий, а когда уже беспорядки начнутся — произвести массовое перемещение ссыльных в Петербург, чтобы впрыснуть в столицу тысячи действенных агитаторов, успеть захватить пропагандой миллионы русских рекрутов. Пропаганда будет вестись и всей левой прессой в России и поддержится потоком пораженческих эмигрантских листовок (их печатанье нетрудно развернуть например в Швейцарии). Будет полезна всякая публикация, которая ослабляет волю к сопротивлению у русских и указывает на социальную революцию как выход из войны. Остриё пропаганды будет направлено в действующую армию. (Рисовалось и восстание в Черноморском флоте. Проезжая Болгарию, уже Парвус завязал связи с одесскими моряками. Он сильно подозревал всегда, что „Потёмкина" сделали японцы.) Опытные агенты посылаются также и — поджечь нефтяные промыслы в Баку, что не представляет трудности при их слабой охране. Динамика социальной революции должна быть усилена и финансово: с немецких самолётов разбрасывать русскому населению фальшивые рубли, одновременно — пустить в международное обращение, в Петербург и в Москву — банкноты с одними и теми же номерами и сериями — подорвать международный курс рубля и создать панику в столицах.
Со всеми их Клаузевицами, Мольтке-старшим и Мольтке-младшим, со всей их самоуверенной стратегией и надменной чёткостью штабов — никогда не вырастали узкие прусские лбы до такого размаха! до такого замысла!!!
Никогда не имела Германия такого советчика по России, по всем слабостям её. (Настолько никогда не имела, что даже и теперь оценить не могла.)
И это же — далеко не всё! Одновременно начнётся революция национальная. Главный рычаг — украинское движение, без украинской подпоры быстро опрокинется русское здание на бок. Украинское движение перебросится дальше на кубанских казаков, а может заколеблются и донские. Естественно сотрудничество и с наиболее созревшими, почти уже свободными финнами: легко посылать им оружие, а через них — в Россию. Польша — всегда за пять минут до антирусского восстания и только ждёт сигнала. Между восставшими Польшей и Финляндией всколыхнётся и Прибалтийский край. (По другому варианту предусмотрел Парвус, что остзейские губернии охотно присоединяются к Германии.) Националисты Грузии и Армении — уже и сегодня в реальном и денежном сотрудничестве с правительствами Центральных держав. Кавказ — раздроблен и возбудить его будет трудней, но посредством Турции, через мусульманскую агитацию, подымем его на газават, священную войну. И в том окружении вряд ли терские казаки захотят класть головы за царя, а не отделиться тоже.
И централизованная Россия — рухнет навсегда! Внутренняя борьба сотрясёт Россию до основания! Крестьяне станут силой отбирать землю у помещиков! Солдаты толпами побегут из окопов обеспечивать свою часть в земельном разделе. (Восстанут против офицеров, перестреляют генералов! — но эту часть перспективы прикрыть, она может вызвать у пруссаков неприятные предчувствия.)
Однако (захватывая дыхание) — и это не всё! и это — не всё! Сотрясши Россию разрушительной пропагандой изнутри — обложить её и извне враждебностью мировой прессы! Антицаристскую кампанию поднимут социалистические газеты разных стран — однако, захватывая слева направо, эта травля увлечёт затем и либеральную, то есть подавляющую прессу всего мира. Газетный крестовый поход на царя! И особенно важно при этом — захватить общественное мнение Соединённых Штатов. А разоблачением царизма будет одновременно демаскирована и подорвана вся Антанта!
Вот что предложил Парвус Германии: вместо безнадёжной пехотно-артиллерийской мясорубки — одним только впрыскиванием денег, без немецких жертв — в несколько месяцев из Антанты вырывался многолюднейший член её! Еще бы не схватилось германское правительство за эту программу!
Да в этом Парвус не сомневался. Он тревожился, как примут её другие в Берлине: социалисты. Как примет его проект мачеха-партия, которой идеи его и всегда были слишком глубоки, чтобы применить их для массовой агитации, слишком залётны вперёд, чтобы казаться реальными даже вождям; партия, где колотился он 19 лет, рассыпая идеи — и не получил никогда ни единого партийного поста, ни на одном съезде не имел права голосовать. Короткое время он был в ней героем — вернувшись из Сибири, и все зачитывались его мемуарами „В русской Бастилии". Затем измазался он в несчастном горьковском деле, и тайная партийная комиссия обрекла его на изгнание — и пятно не отмылось даже теперь, 5-летней отлучкой. Но главное — необъяснимое легендарное, в один год, обогащение, которого по ограниченности не могут простить люди, а соци — особенно. (Странная психология: будь это же богатство наследственным — никто б и не укорил никогда.) За одно богатство должны были его возненавидеть и отвергнуть — но нашли для возмущения более благородный повод: он стал пособником империалистов! Уж конечно там Клара и Либ- кнехт, но — Роза! когда-то близкая женщина (впрочем, и в близости стыдилась — его наружности? — всегда скрывала связь) — и Роза показала ему на дверь. Бебель за это время умер, Каутский и Бернштейн — отъединились, слабели, новое же самодовольное руководство искало слабостей в позиции перекатного социалиста: а как поведёт себя пруссачес- кое правительство после победы? а почему оно от русской революции смягчится и подобреет к социализму? а не накроет оно заодно и демократию Англии и Франции?..
И в возражениях этих — истина была, и сомнения
— лежали там, — но никому из них не доставало той захватывающей цельности, которая одна и сотрясает миры и творит их! Никто, почти никто в Европе не мог перескочить и увидеть: что ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России! всё остальное — второстепенно.
А социалисты Антанты уже поднимали против Парвуса разоблачительную кампанию.
Острота социалистических упрёков ему отравляла всю радость успеха, хотя большинство социалистов Европы не были ни люди науки, ни люди реального дела. Они не могли ни подняться на высоту обзора, ни смекнуть живой поворот действия по живому повороту дела. Это были уже — чиновники от социализма, заклиненные в коридорах догм как в гробах: они даже не ходили, не ползали по этим коридорам, но — лежали вдоль них и не смели представить себе никакого поворота. Первые же открытые призывы Парвуса помогать Германии вызвали у них девственный ужас. Как хорошо бы им просидеть войну в невинной нейтральности и отделываться моральным негодованием
— на войну и на тех, кто смелость имеет вмешаться в неё!..
Но — решительна для Плана была роль социалистов русских, и им отводилась в Плане существенная разработка, представленная германскому правительству. Они все раздроблены, рассеяны на мелкие группы, бессильны — а ни одну из них нельзя упустить, всех использовать. Для этого надо привести их к единству — устроить объединительный конгресс, удобно в Женеве. Одни группы, как Бунд, Спилка, поляки, финны, безусловно поддержат План. Но нельзя создать единства, не помирив большевиков и меньшевиков. А всё это будет зависеть — от вождя большевиков, живущего сейчас в Швейцарии.
Тут могли быть разные трудности, и даже та, что часть русских социалистов окажется патриотами и не захочет раздела русского царства. Но была и обеспеченность: нищие эти эмигранты десятилетиями нуждались в деньгах: и для обычной простой жизни, что-то класть в рот, а заработать они не умели никогда; и для своих непрерывных поездок и съездовой для своих нескончаемых брошюрных-журнальных-газетных писаний. Не устоят они перед протянутым набитым кошельком. Уж если крепкие легальные западные партии и профсоюзы всегда податливы на денежную поддержку, скажем для своих трудящихся, всё равно, — кому в мире не хочется жить сытей, теплей, нарядней, просторней? (незаметная тихая помощь скромно живущим вождям тоже очень укрепляет с ними дружбу)
— как могут отказаться эмигранты?
Однако, едучи в Швейцарию, более всего предсма- ковал Парвус успех от встречи с Лениным. Давно состарилось их мюнхенское сотрудничество, годами не виделись они, — но зоркий глаз Парвуса никогда не упускал этого единственного неповторимого социалиста Европы — совершенно непредвзятого, свободного от предрассудков, от чистоплюйства, в любом повороте дела готового принять любой нужный метод, приносящий успех: единственного жестокого реалиста, никогда не увлечённого иллюзиями, второго реалиста в социализме после Парвуса. Чего не хватало Ленину
— это широты. Дикая, нетерпимая узость раскольника гнала попусту его огромную энергию — на дробление, отмежеванье, мелкое шавканье, перебранку, драчку, газетные уколы, изводила его в ничтожной борьбе, в кипах исписанной бумаги. Эта узость раскольника обрекала его быть бесплодным в Европе, оставляла ему только русскую судьбу, но значит и делала незаменимым для действий в России. Сейчас!
Сейчас, когда младший сподвижник Троцкий, сердца кусок, отрёкся навсегда, когда Троцкому изменила жизненная сила и точность взгляда, — как призывно вспыхивала Парвусу жестокая ленинская звезда из Швейцарии: независимо, он высказывал всё то же: что не надо искать, кто первый напал; что царизм — твердыня реакции и должен быть сокрушён первым; что... По оттенкам побочных замечаний, потерявшихся в придаточных предложениях и не заметных более никому, Парвус видел, что Ленин не изменился ни в своей нетребовательности, ни в своей требовательности, что он не перекривится взять в союзники хоть и Вильгельма, хоть и сатану — только бы сокрушить царя. Оттого уже заранее слал Парвус ему вести об интересных предложениях: что союз заключится — сомнений не было. Лишь вот эти несчастные придуманные разногласия с меньшевиками, где Ленин был особенно глупо-непреклонен. Но и миллионы марок в поддержку — весили же что-то? В меморандуме германскому привительству Парвус прямо назвал Ленина с его подпольной организацией по всей России — как свою главную опору. Взять Ленина своею правой рукой, как в ту революцию Троцкого, — был верный успех.
На верный успех и ехал Парвус в Берн, и шёл по столовой с сигарой во рту, и был удивлён шумным отказом, но потом оценил разумную тактичность. И на скудной кровати теснил, теснил легковатого Ленина — своими пудами:
— Да вам капитал нужен! Чем вы будете власть захватывать? Вот неприятный вопрос.
Эт-т-то-то Ленин понимал прекрасно! Что на одних голых идеях не прошагаешь, что революцию нельзя делать без силы, а в наше время начальная сила — деньги, а уже из денег рождаются другие виды силы — организация, оружие и люди, способные этим оружием убивать, — всё верно, кто ж возразит!
Со своей бесподобной схватчивостью ума, без нужды на обдумывание, со своими мгновенными переменами в лице, вот уже усмешка соучастника обещающего, безо всякого задора отступая, прикартавливая:
— Почему — неприятный? Когда к деньгам относятся партийно — партии это приятно. Неприятно, когда из денег делают оружие против партии.
— Ну, да впрочем, у вас же там что-то сочится, дружелюбно-усмешливо вспоминал Парвус, — на что- то же „Социал-Демократ" выпускаете. Или, — фаль- стафовский живот его подрагивал от смеха, — или вы, положим, швейцарским налоговым агентам пишете, что, наоборот, живёте гонорарами с „Социал-Демократа"?..
Усмешка — часто была у Ленина, улыбка — очень редко, — вместо того он прищуривался, еще пряча, пряча природой запрятанные глаза. И осторожно выбирал слова:
— Филантропические фонды всегда откуда-нибудь идут. Принимать благотворительность — вполне партийно, отчего же?
(Да денег не так уж скудно, можно бы всем жить посвободнее, как по бесстыдству и делают некоторые, через кого течёт. До неприличия швыряет деньгами Багоцкий, и никто не возьмётся проверить австрийские деньги у Вейсса. Но тут — нельзя давить, можно всё испортить. Уж как течёт.)
Глазу не на чем остановиться — ни на обтрёпанном ленинском пиджаке, ни на латанном воротнике, ни на скатерти протёртой, ни в голой комнате, где вместо книжной этажерки — два ящика один на другой. Но Парвус — ничуть перед ним не стыдился своих бриллиантов, ни — шевиота, ни английских ботинок: всё это ленинское нищенствование — игра, партийная линия, чтоб задавать тон, служить примером, „вождь без упрёка". В этой задуманной, много лет исполняемой роли — в ней-то и ограниченность, и убогость мышления. Но она — поправима, и Ленину тоже можно будет придать размах.
(А — нет! а — нет! По внутреннему протесту, по противоположности вело Ленина — самому во всяком случае и всегда отгородиться от всякого доступного близкого избытка. Достаток — другое дело, достаток
— разумен, но избыток — начало разложения, и Пар- вус на этом попался. Деньги пусть текут и миллионами, но — на революцию, а самому — держаться в границах необходимого, самому считать даже раппены и гордиться этим. Совсем не для маскировки и лишь отчасти для примера другим, кого нельзя заставить.)
Быстрым взглядом искоса, снизу вверх, Ленин не враждебно, не обиженно:
— Израиль Лазаревич! Ваша вечная вера во всевластие денег — вас и подвела. Поймите, подвела.
(То ли при малых тратах — как в замкнутой комнате, как при полной секретности: ничто не утекает, твёрже себя чувствуешь, никогда не распустишься, всё сковано и связано. А богатство — подобно распущенной болтовне. Нет! Дисциплина во всём, и в этом тоже. Только в ограничениях развивается и движется настоящий напор. И даже: залог за то, чтобы жить в Швейцарии, основа безопасности и всей деятельности, 1200 франков — есть, но: нет! не платить!
— хлопотать — писать — подавать заявления о несостоятельности — просить персонального снижения в 10 раз — тратить золотое время на проходки к поли- цейпрезиденту и даже вместе с Карлом Моором, у кого свой бумажник в кармане раздутый и только руку протянуть, ассигнацию вытянуть. И получив наконец снижение до трёхсот — уплатить только сто и еще потом долго торговаться, а переехавши в Цюрих
— и вовсе не платить, но писать и просить, и переписываться с Берном: ту сотенку перевести в здешний кантон. Это умел Ленин: сжиматься — умел. Только сжатый — дышал хорошо.)
Смысл каждой беседы: себя без надобности не открыв — собеседника понять, понять до дна.
Колким прощупывающим взглядом, с усмешкой скептической:
— Ну — зачем вам собственное богатство? Ну, скажите! Ну, объясните.
Вопрос ребёнка. Из тех „почему", на которые даже отвечать смешно. Да для того, чтобы всякое „хочу" переходило в „сделано". Вероятно, такое же ощущение, как у богатыря — от игры и силы своих мускулов. Утверждение себя на земле. Смысл жизни.
Вздохнул:
— Да это просто человечески: любить быть богатым. Неужели вы не понимаете, Владимир Ильич?
И — посмотрел. И вдруг в этой плешатё, и старой коже на висках, и уж слишком заострённом, уж слишком напряжённом изломе бровей заподозрел: а — не понимает, не притворяется. Всепронизывающий взгляд, а сбоку — совсем не видит.
Помягче ему:
— Ну, как вам сказать... Как приятно иметь полное зрение, как приятно иметь полный слух — вот так же и богатство...
Да разве Парвус из головы придумал, да разве это было его теоретическое убеждение — стать богатым? Это была — врождённая потребность, а порывы торговли, гешефта, не упустить возникающую в поле зрения прибыль, были не планомерным программным, а почти биологическим действием его, происходящим почти бессознательно — и безошибочно! Это был — инстинкт его: всегда ощущать, как вокруг происходит экономическая жизнь и где возникают в ней диспропорции, несоответствия, разрывы, так сами и просящие, кричащие — вложить туда руку и вынуть оттуда прибыль. Это было настолько его существом, что все свои разнообразные финансовые дела, теперь уже раскинутые на десять европейских стран, он вёл без единой бухгалтерской книги, весь подвижный дебет-кредит — в одной голове.
(Ну, в конце концов, личное богатство — это Privatsache, частное дело, верно. Но глаза бурлили и добывали: вообще ли он — социалист? Вот догадка: 25 лет социалистической публицистики — а социалист ли он?..)
Но если ближе к предмету разговора:
— Я же говорю вам! богатство — это власть\ Пролетариат к чему стремится — к власти? Имя — у меня было 25 лет, и побольше вашего, и оно ничего мне не дало. А богатство — открывает все пути. Да хоть вот и эти переговоры. Какое же правительство поверит нищему — и даст ему миллионы на проект? А богатый — себе не возьмёт, у него свои миллионы.
Несоразмерная, несимметричная голова доверчиво свисала на бок, и дружелюбно, мирно смотрели на Ленина бесцветные философские глаза:
— Не теряйте момента, Владимир Ильич. Такие предложения жизнь подносит — один только раз.
Да, это понятно. Еще в первые дни войны, испытав непривычное удобство — благоприятствующее, подхватывающее крыло (тогда — австрийское), во мгновение перенесшее, куда заказано (не было к Швейцарии пассажирского движения — понёс семью Ульяновых воинский эшелон), захвачен был Ленин открытием такого преимущества: не зависать, не плавать среди слов и понятий, слов и понятий, но раз навсегда покончить с беспомощным зябким эмигрантством, прильнуть и соединиться с движением настоящих материальных сил. Как всегда и во всём — ив этом Парвус опять его опередил.
— Чтобы сделать революцию — нужны большие деньги, — убеждал Парвус, налегши плечом на плечо, дружески. — Но, чтобы к власти придя, удержаться — еще большие деньги понадобятся.
С другого конца — а поражало верностью.
По высшему центру своей мысли Парвус был несомненно прав.
Но по высшему центру мысли своей — несомненно прав был Ленин.
— Вы подумайте, если соединить мои возможности — и ваши. И при такой поддержке! При вашем несравненном таланте к революции! — сколько ж можно околачиваться по этим дырам эмигрантским? Сколько ж можно: ждать революцию где-то там впереди, а когда она уже вот пришла, за плечо берёт — не узнать?..
Э, нет! Ничем! Ничем — ни совместной радостью, ни жаркой надеждой, ни уж, конечно, лестью, нельзя было на пелену ослабить зоркость ленинского взгляда! Самая узенькая трещина расхождений замечалась им прежде и больше, чем массивы сдвинутых платформ. Пусть — отодвинутый, пусть — неудачник, но во всех удачах Парвуса, и в пророчествах Парвуса постоянно зная: нет, не так! или: нет, не полностью так! А хоть я — ничего не достиг, а правота у меня!
Да Парвусу — смешно, сотрясает смех грузное тело, любящее бутылку шампанского натощак и ванну принять и с женщинами поужинать, когда ревматизм не куёт к одру:
— Так и дальше думаете — деньги через налётчиков добывать? Теперь — „Лионский кредит" будете грабить? Так вас же в Каледонию сошлют, товарищи! На галеры!
Смех одолел.
В несогласии тонко шевельнулись брови Ленина. Но взгляд испытующий — беспристрастно смотрит на проблему.
Налетать на банки еще прежде законной всеобщей экспроприации капиталов — теоретически здесь никакой ошибки нет, это — как бы взять взаймы у самих же себя из будущего. А практически — ну, как удастся. В чём за революционные годы большевики несомненно успели — так именно в эксах. Начинали с налётов на билетные кассы, на поезда. А уж первые 200 тысяч из Грузии преобразили жизнь партии. А если бы в 907-м взяли в Берлине в банке Мендельсона 15 миллионов (Камо по пути арестовали, сорвалось) — так о-о-о! Метод рискованный, но очень эффективный, и во всяком случае не марает партию, как связь с иностранными штабами.
— Марает? Попасться боитесь? — тоже в щёлки сдвинул глаза, нарочно, стыдит, презирает и поучает Парвус. — А я вам скажу из верного опыта: на больших... предприятиях — никогда не попадётесь. А вот кто на маленьких жмётся — вот тот и попадается.
Толстокож! Что говорят — ему наплевать, прёт по миру тумбами-стопами, давит.
Косит у Ленина правый глаз. Сердится.
Парвус — в сочувствии. Он студенистыми руками берёт Ленина за обе руки, неприятная манера, он говорит как глубокий друг (с ним когда-то чуть не стали на „ты"):
— Владимир Ильич, не упускайте анализировать! Надо же проанализировать: отчего вы уже проиграли одну революцию? Не от ваших ли собственных недостатков? Это важно на будущее. Смотрите, не проиграйте вторую.
Да откуда эта наглая самоуверенность?! Какого чёрта лезет в учителя? Опять себя навязывает в новые вожди? Уже ослеп от самолюбования!
Вырвал руки! И — с усмешкой, с прорезающей своей усмешкой при вздёрнутых бровях, в издевательской естественной стихии усмешки, когда краснеет радостно в глазах, наслаждённый торжествующей издёвкой:
— Израиль Лазаревич! Вы бы больше — свои недостатки анализировали. Ту революцию я не проигрывал, потому что я её не вёл. А проиграли её — в ы ! Как же вы сорвались?
И еще тут — ничего не сказано, деловой аргумент, еще остановиться можно. Но всё задыханье от этой туши, давившей рёбра столько лет, но сама стихия издёвки прорывает дальше нужного (и что у него кроме честолюбия? кроме жажды власти? кроме богатства?):
— А в Петропавловке — что вы так быстро упали духом, от одиночки, от сырости? Что за жалость над своим трупом? Что за патетический дешёвый дневничок на вкус немецкого филистера? Да бред об амнистии! Да без пяти минут жалоба царю? Да разве это похоже на вождя революции? Какой вы вождь революции!
А сам? — маленький, плешатый, остробровый, остроглазый, с движеньями ёрзкими, суетливыми?
Но кроме них двоих — никому не оставалось быть.
Парвус никогда не краснел, как будто не было в нём той приливающей жидкости красной, а — водо- зеленистая, и такая же кожа. И — никак бы ему сейчас не гневаться, но когда Ленин выпячивался в издевательскую насмешку и еще подрагивал при этом, и еще подрагивал — бросало забыть о всех его достоинствах! И неразумно отбрить:
— Можно подумать — вы дрались на баррикадах! Можно подумать — вы хоть один раз прошлись в уличной демонстрации, когда ждались нагайки! Я по крайней мере бежал со ссыльного этапа! А вам — зачем бежать, если вы по ложному свидетельству вместо севера Сибири получаете Сибирскую Италию?
(Да тут чего только не вырвется: хорошо вам призывать к войне, из нейтральной Швейцарии да всю жизнь без воинской повинности!)
Если вот такое оскорбление выслушать публично
— то надо политически убивать, шельмовать до уничтожения. Когда непублично — можно разные решения принять. Может быть, допустить и сочувственность в этой критике. Может быть, и сам забрал острее нужного, такая дискуссионная привычка.
Ах, неразумно было так говорить! Не за тем ехал в Швейцарию, чтобы ссориться.
Парвус — очень может быть полезен, занял исключительные позиции, зачем же ссориться с ним?
Ленин — основа всего Плана. Если он отшатнётся
— кто же будет революцию делать?
И — опять усмешка ленинская, но совсем другая, не кусачая, а — проницательнейшая между умнейшими в мире людьми, и руку на плечо, и полушопотом:
— А знаете? А хотите знать вашу главную ошибку Пятого года? Из-за чего проигралась революция?
Со встречной самоотверженностью учёного, готовый любое тяжкое признание принять:
— Финансовый Манифест? Поторопился?
Между сдвинутыми их головами — покачал Ленин,
покачал пальцем, и улыбнулся как калмык на астраханском базаре, хваля арбуз:
— Не-ет! Финансовый Манифест — гениальный! Но ваши Советы...
— Мои Советы — объединяли весь рабочий класс, а не дробили его как социал-демократы. Мои Советы уже постепенно становились властью. И если б мы добились тогда 8-часового рабочего дня, только его одного! — в подражание нам начались бы восстания по всей Европе — и вот вам перманентная революция!
Ленин хитро, щёлками глаз смотрел, как самолюбие Парвуса само себя выгораживало, и не торопился перебивать. Еще эта проклятая путаная перманентная революция всех их троих рассорила: в разные годы, как по карусели, друг другу в затылок, они занимали её положение, а выйдя из тени её — настаивали, что двое других неправы. Двое других всегда были или еще или уже несогласны.
— Да нет! — отмахивался Ленин заговорщицким шопотом, и всё с тем же хитро-добродушным азиатским оскалом. — Вы же сами так верно писали тогда: непрекращаемая гражданская война! пролетариат не должен выпускать из рук оружия! — а где ж было ваше оружие?
Парвус насупился. Никому не нравится вспоминать свои промахи.
Всё так же держась за плечо собеседника, приклонясь, со щёлками глаз и проницанием (он много думал об этом! да больше всего об этом и думал он!), и в расположении теперь поделиться:
— Не надо было ждать никакого Национального Собрания, еще другого, помимо Советов. Собрали Петербургский Совет — вот вам и Национальное классовое собрание. А надо было...
Еще доверительней, вперёд как на конус, как в фокус, всем острым лицом, и взглядом, и мыслью, и словами:
— А надо было со второго дня завести при Совете
— вооружённую карающую организацию. И вот — это было бы ваше оружие\
И — замолчал, в свой конус упёртый. Уже больше ничто не казалось ему столь важно.
Особенность кабинетного мыслителя, мечтателя — он думал годами, и вот открыл, и вот ничто не казалось ему и через десять лет сравнимо по важности. Разрушительное эмигрантство, далёкое от действия, от истинных сил! — жалкая участь. Вся энергия лет и лет ушла на раздоры, на споры, на расколы, на грызню — и вот распахивал ему Парвус всемирное поле боя! — а он сидел на кровати сжатым сусликом и усмехался в конус.
Второй по силе ум европейского социализма — погибал в эмигрантской дыре. Надо было спасать его
— для него же самого.
Для дела.
Для Плана.
— Да вы — план понимаете мой? Вы — План мой принимаете?!?
Пробить это его окостенение: он задремал? он коркой покрылся? он ничего не воспринимает.
Еще придвинулся — и вплотную к уху, должен же вобрать:
— Владимир Ильич! Вы — в союз наш вступаете?
Как глухонемой. Глаз — не прочтёшь. Язык не отвечает.
Рукой повиснув на его плече:
— Владимир Ильич! Пришёл ваш час! Пришло время вашему подполью — работать и победить! Y вас не было сил, то есть не было денег, — теперь я волью вам, сколько угодно. Открывайте трубы, по которым лить! В каких городах — кому платить деньги, назовите. Кто будет принимать листовки, литературу? Оружие перевозить трудней — но повезём и оружие. И как будем осуществлять центральное руководство? Отсюда, из Швейцарии, удивляюсь, как вы справляетесь? Хотите, я перевезу вас в Стокгольм? это очень просто...
Навязывал, вкачивал свою бегемотскую кровь! Вывернул из-под него плечи.
49
Прекрасно он всё слышал и всё понимал. Но заслонка недоверия и отчуждения перегородила грудь Ленина для откровенности.
Довольно он уже ему о Девятьсот Пятом годе раскрыл.
Еще бы мог он не оценить этого Плана, кто же бы другой тогда мог оценить? Великолепная, твёрдая программа! Удары — осуществимы, избранные средства — верны, привлечённые силы — реальны.
Теперь уже можно было признать: такого третьего сильного ума, такого третьего проницающего взгляда — не было больше в Интернационале, только их два.
Так пятикратно осмотрительным надо было быть. В политических переговорах на самом даже гладком месте — подозревай! ищи западни.
Что ж, Парвус — опять впереди? Нет, теоретически, в общем виде, Ленин это самое и сформулировал еще в начале войны. В общем виде — Ленин так и хотел, того и добивался. Но у Парвуса поражали деловые конкретности. Финансист.
Против этой грандиозной программы Ленин *не мог выдвинуть ни довода неверности, ни довода нежелания.
Всё так. По простому расчёту — главный враг моего главного врага — первым союзником во всём мире оказывалось правительство кайзера. В допустимости такого союза Ленин и не колебался ни мига: последний дурак, кто пренебрегает серьёзными средствами в серьёзной борьбе.
Союз — да. Но выше союза — осторожность. Осторожность — не как предупредительная мера, но как условие всего действия. Без архи-архи-осторожности — и к чёрту весь ваш союз и к чёрту весь ваш план! Нельзя ж было давать ахать и плеваться хору социал-демократических бабушек по всей Европе. Подпускал и Ленин осторожно, что там, Франция — республика рантье, её не жалко. Но он всегда знал меру, где не договорить и сколько запасных выходов оставить. А Парвус — афишированно кинулся и безвозвратно потерял политическое лицо.
Вот когда Ленин понял слабость его и своё превосходство. Парвус всегда успевал выйти на открытие первым, и топал впереди, загораживая дорогу. Но у него не хватало выдержки на дальний бег: он не мог вести Совет больше двух месяцев, переубеждать немецких соци больше двадцати лет — срывался, отваливался. А Ленин чувствовал в себе выдержку — на вечный бег, никогда не сорвать дыхания, бежать, сколько помнил себя — и до гроба, и в гроб свалиться, никуда не добежав. А — не сорваться.
Союз — да, охотно, пожалуйста. Но в этОхМ союзе быть переборчивой невестой, а не настойчивым женихом. Пусть ищут — тебя. Держаться так, чтоб и при слабости иметь позицию преимущественную, независимую. Даже кое-что такое Ленин уже и сделал в Берне. Конечно он не пошёл стучаться к немецкому послу Ромбергу, как Парвус в Константинополе. Но Ленин разглашал свои тезисы, отлично зная, чьим ушам они могут понравиться — и тезисы до ушей дошли. И Ромберг сам прислал к нему революционного эстонца Кескулу на переговоры, узнать намерения. Что ж, оставаясь в пределах своей истинной программы — свержение царизма, сепаратный мир с Германией, отделение наций, отказ от проливов — допустимо было чуть-чуть и подмазать: не изменяя себе, не искажая линию, можно было пообещать Ромбергу и вторжение русской революционной армии в Индию. Измены принципам тут не было: ведь надо же штурмовать британский империализм, и кому ж еще другому? когда-нибудь и вторгнемся. Но, конечно, была уступка, подачка, извив, колёса затягивали, однако случай не опасный. Да и Кескула был со взглядом и повадками волчьими, характером и деловитостью куда посильней размазанных российских с-д, — но и тут не чувствовал Ленин опасности: Эстонию так и так отпускать, как и все народы, из российской тюрьмы, искривления линии не было: каждый использовал другого, не оступаясь. Вставили в цепочку Артура Зифель- да и Моисея Харитонова, Кескула уехал в Скандинавию, и очень-очень там помог, особенно в издательской деятельности, находил деньги на наши брошюры, помог наладить связь со Шляпниковым, а значит — и с Россией.
Во всём этом не было грандиозности парвусов- ского плана, но малая тихая верность — была. А зато политическое лицо — чистое.
Что появилось в Парвусе — это нетерпение (вот еще его недостаток). Уже видя, что разговор идёт не так, он кандидата своего упускает, — с горечью, с презрением (а это помочь не может):
— Значит — и вы?.. Как все? Боитесь носик замазать? Ждёте?
А он так надеялся на Ленина! — уж этот-то, думал, с ним! А если и с этим не сойтись — то с кем же еще?
И вытягивая последние доводы, волновался, потерял своё миллионерское самодовольство:
— Владимир Ильич. Не отставайте от времени. Кому бы-кому, но вам это непростительно. Неужели вы не видите, не поняли: эпоха революционеров с пачкой нелегальщины или с самодельной бомбой — отошла безвозвратно. Такие — ничего уже сделать не могут. Новый тип революционера — это гигант, как с вами мы. Он взвешивает миллионами — людей, рублей, и ему должны быть доступны те рычаги, какими государства переворачиваются и ставятся. А к тем рычагам дойти нелегко, вот приходится попасть и в шовинисты.
Тоже верно. Верно. Но...
(Можно бы спросить: а что заплатит русская революция за немецкую помощь? Не спросил, избежал, только выхватил для себя, для памяти. Было бы наивно ожидать бесплатно.)
Но... Вступая в союз, прежде всего не доверяй союзнику. На зыби дипломатических игр — в каждом союзнике прежде всего подозревай обманщика.
Ленин нисколько не дремал — он взвешивал. Если кто дремал — только не он, может быть Парвус в берлинских переговорах? Ленин вот открыл глаза и насылал допытчивую тревогу. И допрашивал, как до- стукивался в барабан:
— Да разве захочет правительство Вильгельма свергать русскую монархию? Зачем это им? Им нужен только мир с Россией. А с русской монархией они будут охотно и дальше жить и дружить. И все наши забастовки им только нужны, чтоб напугать царя и вынудить к миру, не больше.
Да Па-арвусу ли надо объяснять! Это вид у него такой — богатый, упитанный, холёная эспаньолка с оплывшего двойного подбородка. А если сказать откровенно (а когда-то же, кому-то же и откровенно), тень сепаратного мира замучала все его переговоры с германским правительством. Русско-германский мир был бы могилой всего Великого Замысла. Всё время это подозрение, что они вот уже и деньги платят на революцию, а в душе только и думают о сепаратном мире с царём, кого-то невидимого посылают на контакты. Глухо, тайно такие попытки роются и надо о них догадываться — и вовремя высмеять, опрокинуть: да царь уже и не в состоянии заключить мир! если он, вдруг, и заключит с вами мир — то тогда власть в России может перенять сильное национальное правое правительство, которое не посчитается с обязательствами царя — и вы только усилите их позиции!.. Втолковывать пруссакам: нет уж, нет, реальный мир с Германией может подписать только правительство народного доверия. Дайте же миру быть первым лозунгом революции, первой заботой нового правительства! Ему будет и легче идти на уступки: потому что оно не виновно в войне. От такого правительства
— Германия получит значительно больше...
Он уже видел тот договор, и готов был бы сам его подписать, обгоняя время.
И перехватил вспышку ленинского взгляда, что и он видел.
Всех подробностей не скажешь (не надо!): там есть разные направления, у немцев. Большинство-то склоняется, что Англия — главный враг, и готовы к миру с Россией. И, по несчастью, даже статс-секретарь Ягов, пруссак из пруссаков, хотя считает натиск славянства большей опасностью, чем Англия, но ему, видите ли, неприятен план разложить Россию революцией. (Этого совсем объяснить нельзя, выверты аристократической традиции, скептическая интеллектуальная расслабленность, он не скрывает брезгливости к дипломатии агентов, доверенных лиц и маклеров. Что таков
— глава министерства иностранных дел, конечно, задерживает очень.)
Но при своём изысканном уродстве Парвус умеет и покорять людей. И германский посол в Копенгагене граф Брокдорф-Рантцау — это уже взятый человек, очарованный несравненностью парвусовского ума.
Всеми аргументами против катастрофы сепаратного мира! Напряжённо убеждать: революция в России неизбежна, брожение пошло уже по всей стране, оно уже и в армии, затронуло и офицерство, а образованное общество всё кипит, что ж говорить о рабочих, и даже военной промышленности, — довольно бросить спичку и всё взорвётся! Вот можно даже назначить точную дату — и выполнить её!
Но головастый, лбастый, маленький, юркий, усмешка почти не стирается с губ, а убеждённый, кажется, еще меньше Ягова, безжалостно:
— Так соглашения у вас там — и нет? Недоговорённость? Видимость?
Всевечное преимущество того, кто не действует: переспрашивать, быть недовольным, указывать недостатки.
Гребущими движениями обеих рук, как бы мешку туловища не опрокинуться назад, выравнивается Парвус:
— Не на бумаге с гербами, конечно! Оно всё в динамике! — и надо в каждый момент видеть все контуры и направлять его.
Направлять даже и стратегические удары. Объяснять, уговаривать, напряжённо советовать: только не наступление на Петербург! Этим бы создался патриотический подъём, Россия бы объединилась, а революция заглохла. Но и — никаких военных успехов не давать царю и особенно важно не допустить до Дарданелл, то было бы непоправимое укрепление его престижа. А самый верный удар — на южном фланге: через союзную Украину, отнять донецкий уголь — и Россия кончена.
А еще они боятся, как бы это землетрясение да не отдалось в Берлине. И еще приходится убеждать, что русская революция не перекинется в Германию.
— Как это? как это? — дёрнулся маленький, всё же и поталкивая брюхатого, всё ж отвоёвывая себе место на кровати. — Да вы что?! Вы — примирились, что революция ограничится одной Россией? Вы — и в самом деле так думаете? — остро, колко, допытчиво, исследовательски досматривал, проверял, нет, уже и с возмущением, как привык он ради принципа никогда не сдерживаться в оценках: — Так это ж — предательство!
(Нет, Парвус — просто не социалист, он кто-то другой!)
Никуда не вылезая из Швейцарии, никакого дела нигде не коснувшись, он опять был прав, атаковал, порицал:
— Вот и куцо! Вот и не хватает предвидения! Да разве может революция устоять в одной стране?
Ну да, это всё была та самая перманентная, та заклятая бесконечная карусель, на которой обречены они были кружиться, кружиться, всё меняя места и разя друг друга попрёками вчерашними или завтрашними, и никто никогда не прав.
Он — и не хочет германской революции? Он к ней — и не стремится? Ну, не серьёзно же пишут о нём, что он стал немецким патриотом?
Но Парвус — уже не мальчик, на той карусели кружиться. Революционер нового типа, революционер- миллионер, финансист-индустриал ист, может себе позволить выражаться и откровеннее:
— Мировая революция сейчас недостижима, а социалистический переворот в России — достижим. Именно против царизма должны сплотиться все рабочие партии мира!
Откровеннее — не значит откровенно. Деликатная проблема, её нельзя открыто выразить в публичной дискуссии социалистических кругов. Но вот и с глазу на глаз единомышленнику не каждому скажешь.
Этот шароголовый, перекатчивый, колкий — почти неуловим. Почти никогда нельзя предсказать его лозунга — удивляет всех и всегда. И совсем никогда не узнать, что он думает. Особых задач социализма в России — он не понимает? Или не принимает? Y него — вообще ослаб специфический интерес к России?
Даже с Брокдорфом эту проблему легче обсуждать. (Парвус вообще заметил, что с дипломатами всё обсуждать и прямее и проще, чем с социалистами.)
И остаётся только настаивать по поверхности:
— Любым путём уничтожить сейчас — именно царизм, надо думать об этом только!
И — к главному: как уничтожить? Весь смысл приезда и весь смысл этого разговора в том и есть: какие столичные, какие провинциальные подпольные организации согласен Ленин поставить сейчас на подготовку восстания? Кто и где эти люди в их железной связи и в их непобедимой готовности? Знал же Парвус, кого рекомендовал германскому правительству как самого неистового русского революционера! Знал, за каким союзником теперь приехал! Десятилетиями казалось: безумный раскольник! Он отметал всех союзников, раздроблял все силы, не хотел слышать о партии профессоров, не хотел слышать о плавном экономическом развитии, всегда — подполье! только — подполье! партия профессиональных революционеров! В мирную эпоху это казалось дико — и Парвусу, и всем, — но вот, при войне, прорисовалось, наконец, какой же он запасливый догадливый умница! Но вот когда, наконец, пришла пора использовать его могучую тренированную скрытую армию! Вот когда, наконец, пригодится, что она есть. В расчёте на неё и велись переговоры в Берлине, в расчёте на неё и составлен План.
Но Ленина так не собьёшь, не повернёшь, он — своё видит и своё настойчиво ведёт:
— И как вы так примитивно переносите революционную ситуацию Пятого года на ситуацию нынешнюю?
Ну, это же ясно: война — разрушительней, длительней, изнурение и горечь масс — несравнимы, революционные организации — сильней, либералы — и те сильнее, а царизм нисколько не укрепился.
А Ленин всё — своё, его глаза как будто не прямо смотрят, а — по кривым линиям заворачивают:
— Хорошо. Но как вы отсюда так смело назначаете дату начала?
— Ну, Владимир Ильич, ну какую-то же надо назначить — как цель, для единства действий. Ну предложите другую. Но 9 января — наилучшая, символическая, все помнят, и многие даже без нашего сигнала начнут. Легче на улицу выйдут. А — лишь бы первые вышли, а там — пойдет!!
Что-то жмётся, жмётся Ленин. Ну, понятно: излюбленное подполье открыть — значит, отдать. Неохотно.
Уже то, что Парвус так горячо настаивает, — показывает, что хочет тебя использовать.
— Так как же, Владимир Ильич? Пришло время действовать!
(О, понятен ваш план! Вы выступите сейчас объединителем всех партийных группировок плюс ваша финансовая сила плюс ваш теоретический талант, и вот вы — вождь единой партии и Второй революции? Снова?!)
Но — из глаз невычитываемых, но с губ непро- шевельнувших, но через лысоту непроницаемого котла, — с проницанием тоже нерядовым, вырвал Парвус ленинские мысли, развернул, прочёл и ответил с бокового захода:
— Почему и предлагаю я вам ехать в Стокгольм: чтоб вы сами руководили от начала и до конца. Вы можете мне никого не называть, ничего не открывать — только берите деньги, листовки, оружие — и посылайте! Я, — вздохнул Парвус с ослаблением, измотаешься ж в этих политических переговорах, — я, Владимир Ильич, — не тот, что десять лет назад. Я — в Россию не поеду. Я — считаю себя немцем теперь.
(Тем подозрительней. А что ж он всё — о России?)
— Мне только нужно, чтоб выполнен был План.
...Только может быть и План — мы понимаем
неодинаково?..
Ртутно-неуловимый, ни в руки, ни в аргументы:
— Это значит — как и вы, открыто измараться о германский генштаб? Революционер-интернационалист этого себе позволить не может.
Раза два еще загребя, загребя обеими руками, привалился к собеседнику непробиваемому:
— Да не марайтесь! Не надо! Эту грязь — я беру, я взял на себя. А вам — даю чистые миллионы. Только — подайте мне трубы, по которым их лить. Только сплетём наши подземные, подводные, тайные нити — и мы взорвём Вторую русскую революцию!! А??
И глазами, где ум не потратил себя ни на радугу красок, ни на ресницы, ни на брови, — бесцветным концентрированным умом — проникал, хотел понять: отчего же — отказ?
Но в ленинские глаза, бурящие, выкапывающие, нельзя было войти, как нельзя войти в шило.
Двумя шильцами, двумя шильцами и с усмешечкой косенькой — недоверчивой, угадчивой и опровер- жительной, встретил Ленин такой заман:
— И для этого, вы сказали, — шелестел его голос ехидно, — примирительная конференция в Женеве? Будем примиряться? С меньшевичками? — И откинулся, как отброшенный, еще б и дальше, да спинка кровати держала: — Да вы что?!? Что значит — примиряться? Уступить меньшевикам ??? — Встряхами головы как бил, как бодал: — Ник-когда! Низ-зачто! С меньшевиками? Да пусть лучше царизм стоит еще тысячу лет, но меньшевикам — не уступлю ни миллиметра!
Да он вообще — социалист ли?!.
А Ленин еще доканчивал молча удары головой. Добивал кого-то. Договаривал что-то — со всею яростной мимикой, но — беззвучно.
Нич-чего Парвус понять не мог. Всё-таки, ехал — такого не ждал. Великий неутомимый и самый крайний революционер при самой лучшей ситуации, при всех выстланных ему услугах — и не хотел делать революцию??.
Уже теряя надежду, уже так просто:
— Но для чего же тогда двадцать лет этих теоретических сражений, разграничений? Где же ваша последовательность? Вы готовили подполье? Вот ему лучшее применение, другого такого не наступит во всю вашу жизнь! Что же вы, роль играли?
А у того — не замкнутся губы, аргументы всегда в десятках: '
— Будем ли упрекаться в непоследовательности? Вы тоже говорили: кучка не может принести революцию массе. А сейчас?
Свесился, свесился Парвус, подбородком с головы, головою — с шеи, шеей — с туловища, руки между колен.
— Да-а-а-а...
Отказом Ленина Великий План казался почти разрушенным.
— Ну что ж... Хорошо... Плохо... Времени осталось мало... Значит, буду создавать собственную организацию.
Просчитался Ленин! Пожалеет когда-нибудь.,
— Хоть уступите мне кого-нибудь? Нашего общего друга?
(Рвать мостов не надо, ссориться не надо, Парвус еще ого как пригодится.)
— Кого это?
—: Ганецкого.
— Берите.
— Чудновский, Урицкий — у меня уже там. Бухарина?..
— Не-ет, Бухарин не для этого.
— Так. А — сами в Скандинавию? Быстро перевезу.
Шилыда-глаза:
— Нет. Нет, нет!
Тяжело-тяжело мешку себя таскать. Тяжело вздохнул, от души:
— Да-а-а... А еще была, всей жизни моей мечта, и вот теперь по средствам доступно: выпускать свой собственный социалистический журнал. — Силился гордо закинуть одутловатую голову, повторить отважного, горячего, с кого пошло: — „Колокол"!
Yx-хнула, бух-хнула кровать их четырьмя ножками, опустясь на сапожников пол.
50
Удачливый подпольщик — не тот, кто прячется под полом, как мышь, избегает света и общественного движения. Удачливый находчивый подпольщик — самый деятельный участник всеобщей естественной жизни с её слабостями и страстями, он — на виду, в жизненном кипении, и занят чем-то понятным для всех, и допустимо ему тратить на эту повседневную деятельность большую часть времени и сил, — а главная тайная деятельность его течёт рядом и тем успешней, чем она органичнее связана с открытой повседневной. В этом высшая простота: тайное дело делать в простой связи с открытым.
Так это понимая (у Парвуса невелик был опыт подполья — несколько месяцев 1905 года, после разгрома Совета и до ареста, потом после ухода из ссылки и до ухода заграницу), а еще более понимая, что естественно заниматься человеку именно тем, к чему его влечёт, в чём его призвание и дарование, — Парвус после разрушительного отказа Ленина в мае 1915-го делать революцию совместно и берясь теперь за всё то один, придумал, да даже не придумал, а как дыхание это к нему пришло: что он и его сотрудники будут заниматься в первую очередь и главным образом коммерцией — а революция будет к ней пристёгнута.
И тем же летом он создал в нейтральной Дании, сохранившей первую привилегию свободного западного государства свободно торговать, — Импортно-Экспортное бюро, которому и естественно было теперь начать торговлю с фирмами любого другого государства — Германии, России, Англии, Швеции или Нидерландов, брать где что выгодно и продавать, куда выгодно. Коммерческим директором этого предприятия Парвуса тотчас и стал, с согласия Ленина, Ганецкий. Соединение двух таких огненных коммерсантов, есть не удвоение коммерческой мощи, но умножение её. А затем к ним примкнул и третий, мало чем уступающий двум первым — Георг Скларц (нельзя сказать, чтобы нанесла его судьба-случайность, но был он дружественно прислан на сотрудничество от разведки германского генерального штаба). Этот Скларц (после войны много погремевший в Германии, даже и в судебных процесах, где еще и артистом выдающимся выявил себя), оказался самый наинужный третий к ним двоим — тоже гений коммерции, находчивый, сообразительный, молча и быстро готовый к любому поручению и любому обороту дела, изо всякого выйти успешливым. (А за собою он вёл и еще двух братьев Скларцев: Вольдемара, который стал работать непосредственно в их торгово-революционной конторе, и Генриха, — тот под псевдонимом Пундик уже вёл в Копенгагене с Романовичем и Догопольским тайное бюро, ловя для германского генштаба незаконный экспорт из Германии.) Задуманное соединение хозяйственной и политической деятельности быстро оправдывало себя: гешефт работал на политику, а политика создавала льготы для гешефта. Поддержкой германских военных властей деятельность парвусовской конторы облегчалась и делалась еще более доходной.
Едва возникнув, Импортно-Экспортное бюро за несколько месяцев расцвело, и покупало, продавало и перевозило, не ища себе скрупулёзной специализации — медь, хром, никель, резину, из России в Германию особенно — зерно и продукты, из Германии в Россию особенно — технические приборы, химикалии, лекарства, а были в ассортименте и чулки, и противозачаточные средства, и сальварсан, икра и коньяк, и подержанные автомобили (в России удалось договориться, чтоб они не подлежали далее у покупщиков военной мобилизации). В западной торговле много и других подобных контор толкалось рядом локтями, но в торговле с Россией, на главном для себя направлении, контора Парвуса заняла монопольное положение. Часть товаров везлась открыто, по легальным экспортным лицензиям, другая — по фальшивым декларациям или даже контрабандой, это требовало изобретательности в упаковке и погрузке, кому-то приходилось попадаться и отвечать, — но во всём этом и вертелись Ганецкий со Скларцем, позволяя Парвусу покойно оставаться в излюбленной им тени и вести большую политику.
Гениальность соединения торговли и революции в том и состояла, что революционные агенты под видом торговых, во главе с петербургским адвокатом Козловским, ездили от Парвуса совершенно легально и в Россию, и по России, и назад. Но высшая гениальность была в отправке денег: кажется, неосуществимая задача — беспрепятственно и быстро переливать деньги германского правительства в русские революционные руки, осуществлялась торговой конторой с лёгкостью: она везла в Россию лишь товары, только товары, но — с избытком против закупленного в ней, — а выручка сотрудничающих фирм, вроде Фабиан Клингслянд, по общепринятому порядку поступала в банк (Сибирский банк в Петербурге), а там дальше было внутреннее дело конторы — забирать её из России или нет, даже для России выгоднее, чтобы деньги оставались в ней. Петербуржанка Женя
Суменсон, посредница Ганецкого, в любое время любую сумму вынимала и передавала в революционные руки.
Вот был гений Парвуса: импорт товаров, таких нужных для России, чтоб вести войну, давал деньги выбить её из этой войны!
Тем же своим настойчивым методом соединения тайного и явного Парвус набирал и революционных сотрудников конторы. Для этого он создал в Копенгагене еще одно подсобное учреждение — Институт по изучению последствий войны, и для набора сотрудников его открыто и много встречался, знакомился, беседовал с социалистами. И всякий раз, когда кандидат проявлял желание и способность нырнуть в глу- оину — он нырял и становился тайным. А если оказывался неспособным или неподатливым — ничто ему не разъяснялось, и разговор был натурален, и можно было оставить его легальным сотрудником легального Института: Институт тоже не был фикцией, он тоже отвечал прилегающей страсти Парвуса к теоретическим экономическим исследованиям, как и издаваемый в Германии, хорошо оплаченный „Колокол" удовлетворял его социалистической страсти. (Очень рвался в этот Институт — Бухарин, и, действительно, не было для него лучшего места, а для такого института — лучшего сотрудника, но разборчивый и чистоплотный Ленин запретил своему молодому однопартийцу связываться с этим тёмным Парвусом, как и Шляпникову — прикасаться к этому двусмысленному Ганецкому.)
Всё это Парвус решил блистательно — ибо всё это было в его природной стихии. Куда трудней было дальше: кому же передавать в России те деньги? и как вызвать революцию в огромной России дюжиной торговых агентов, да несколькими западными социалистами вроде Краузе? Легче всего было в Петербурге, много связей, тут и Козловский бесподозренно мог вести адвокатский приём и вербовать нужных из заводской среды, тут и действовала рьяная группа меж- районцев, не признающая ни меньшевиков, ни большевиков, как раз исконное направление Парвуса, и через их единомышленника Урицкого был в эту группу действенный вход. Несмотря на раскол социалистических сил в Петербурге, там у Парвуса сколотился хороший актив, и особенно — на Путиловском заводе. Но хотя и верно замечено, что революции в государствах совершаются одними лишь столицами,
— для надёжности первичного толчка такой обширной стране непременно нужны были волнения и в провинции. А собственные живые связи были у Парвуса только в Одессе и из Одессы в Николаев. Всю эту немую косную необъятную страну некем; было поднимать: несколько агентов, даже денег не жалея, в несколько оставшихся месяцев не могли создать сети. А Ленин свою готовую — предательски скрыл.
Но отлично понимал Парвус, но помнил по Пятому году и: как волнения рождаются. Для забастовки, для возбуждения, для выхода на улицу не только не требуется согласное решение большинства, но даже и одной четверти массы, но даже и одну десятую избыточно подготавливать. Одиночный резкий выкрик из толпы, один оратор на проходной, два-три молодца, поднявших кулаки или палки, бывают вполне достаточны, чтобы дать импульс целой заводской смене не идти по цехам или выйти на улицу. А еще оставались
— осуждающие власть разговоры с соседями, передача пугающих слухов (такой слух как электрический разряд ударяет дальше без усилий), а еще оставался разброс листовок по заводским уборным, по курилкам, под станками, — для всех этих первых толчков на пятитысячный завод довольно и пяти человек, а таких пять человек всегда можно если не по убеждениям найти, то купить в соседнем трактире: кто из трактирных попрошаек не хочет привольных денег?
И — отдельных заводских толчков было бы недостаточно в обстановке иной, но на втором году войны, уже проглотившей стольких, при внезапно подступившем голоде, при поражениях армии, при всеобщем брожении и после уже одной испытанной этим поколением революции — таких нескольких толчков достаточно, убеждён был Парвус, чтобы породить сползание лавины. Его стратегия была — лавина от нескольких снежков. Без помощи Ленина за оставшиеся месяцы он не мог успеть больше. Но и в самой дате
— 9 января — уже таился рок для царизма: даже безо всяких агентов и без единого рубля от Жени Суменсон
— этот день не мог пройти спокойно. Но хорошо было
— подтолкнуть его.
И так, безраздельно очаровав графа Брокдорфа- Рантцау, едва не диктуя ему его копенгагенские донесения в министерство иностранных дел, Парвус уверенно обещал русскую революцию — 9 января Шестнадцатого года.
Он — надеялся, что будет так. Избалованный даром своих далёких пронзительных пророчеств, он, оставаясь человеком Земли, не всегда отделить умел вспышку пророчества от порыва желания. Разрушительной русской революции он жаждал настолько яро, что простительно было ему ошибиться в порыве.
Но не было это простительно перед германским правительством, а особенно — перед статс-секретарём Готтфридом фон-Яговым. И всегда — иронист, презиравший этого социалистического грязного миллионера, Ягов теперь заключил, что Парвус надувал германскую империю, никакой революции реально не готовил, а взятые миллионы скорее всего положил себе в карман. По правилам разведок за такие расходы не спрашивается бухгалтерский отчёт. Но далее в Шестнадцатом году из министерства иностранных дел Парвусу не заплатили более ни пфеннига.
Это — не было поражение полное и даже внешне
— совсем не поражение. Импортно-Экспортное бюро продолжало вращаться и обогащаться. На замену министерству иностранных дел сочувственно влился генштаб. Институт по изучению — что-то собирал и изучал. Парвус деятельно вмешался в снабжение Дании дешёвым углем, привлёк датские профсоюзы, сошёлся на равных с вождями датских, а затем и немецких социалистов. Он получил, наконец, немецкое гражданство, которого искал и просил с 1891 года — и теперь при первых же послевоенных выборах несомненно выходил бы в лидеры социалистического парламентского крыла. Его „Колокол" продолжал выпускаться, зовя Германию к патриотическому социализму. Его собственное избыточное богатство росло, капиталы были вложены пакетами акций почти во всех нейтральных странах и уж, конечно, в исходных своих Турции и Болгарии. В аристократическом квартале Копенгагена его особняк был обставлен диковинностями нувориша, охранялся лютыми собаками, а на выезд ему подавался элегантный „Адлер". И даже влияние на графа Брокдорфа ему удалось сохранить ненарушенным — этому постоянному собеседнику впечатать в сознание всю сложность революционной задачи и всю механику затруднений. И через Брокдорфа, сколько позволял такт, — мешать возобновившимся германским поискам сепаратного мира с Россией.
И казалось бы: вереница успехов на прямом пути этого человека могла бы вполне насытить его. Но нет! — таинственным образом беспокойство так и не выполненной задачи, — хотя в т у страну он никогда уже не собирался возвращаться, — томило и тянуло его. И в долгих ужинах с прусским аристократом он варьировал и пояснял в применении к немецкому взгляду эту свою скорей уже не программу теперь, но — политическое завещание, но — зыбкий очерк будущего. Как революция, едва начавшись, должна набирать свой размах подобно Великой Французской — судебным преследованием и казнью царя: только такая первичная жертва открывает революции безграничность! Как должен быть рассвобождён крестьянам самовольный раздел поместий — и только этим откроется подлинный размах анархии. А когда анархия достигнет своего высшего взлёта и широчайшего разлития — именно в этот момент Германия военным вмешательством могла бы при самых ничтожных потерях и самых огромных выгодах навсегда освободиться от глыбной восточной опасности: потопить её флот, отобрать её вооружения, срыть укрепления, навсегда запретить армию, промышленность военную, а то и, лучше, всякую, ослабить её отсечением всего, что только можно отсечь, — и оставить её выкатанной гладкой доской, пусть забудет десять веков своих мерзостей, и начинает свою историю снова!
Парвус никогда не забывал зла.
Но сегодня не видел, что хмог бы сделать еще.
А имперское привительство позорно искало сепаратного мира с этой неуничтоженной державой.
А здоровье статс-секретаря фон-Ягова всё подтачивалось, всё подтачивалось — и поздней осенью Шестнадцатого года он счастливо ушёл в отставку, уступая пост деятельному Циммерману, не перенявшему от своего предшественника устарелого пренебрежения к тайным доверенным лицам и политическим маклерам.
И — взмыли новые планы действовать! И — естественно поднялся старый укор Ленину: что же он!! что же он??.
Кровать — ударила четырьмя ножками о сапожников пол, — и Парвуса выдавило, поставило на ноги- тумбы. И он, тяжело разминаясь, переступил, неся мешок своего изнеженного тела. Обошёл, сел по ту сторону стола, не брезгуя измазать белоснежные манжеты о нечистую клеёнку Ульяновых.
И усмехался — уже не как сильному, уже не как равному, но жалковатому норному зверьку:
— Н-ну?.. Так говорите: Циммервальд?.. Кинталь?.. И хорошо голосуют левые?.. А что же сделала великая партия за два года у себя на родине?.. Почему — ни пузыря на российской поверхности?
Ленин так и сидел на кровати, утанывая, и клонилась тяжёлая голова без ответа.
— Вы же говорили — денег вам не надо?
Ленин отвечал потерянно, еле слышно:
— Мы — так никогда не говорили, Израиль Лазаревич. Деньги — оч-чень нужны. Чертовски нужны.
— Да я же предлагал! А вы отказались!
Ленин — с пересыхающим усилием:
— Почему — отказались? От разумной нетребовательной помощи — мы никогда не отказываемся. И даже охотно...
— В детские игры вы тут играете, в Швейцарии,
— хотела бы туша торжествовать, да торжества не было: Россия не проигрывала войны, Германия не выигрывала, их общий главный союзник сдавал.
Ленин еле выводил фразы из горла:
— А за крупные игры надо крупно платить и самим.
Y него был — больной взгляд. Открыл глаза доступней обычного — глаза больные, и как будто чтоб от этой боли отвлечься, лишь для этого, но, по болезни, и без напора:
— Да ведь и ваша революция, Израиль Лазаревич
— тоже тю-тю, мыльный пузырь... Да и наивно было ждать другого.
Заколыхался возмущённый Парвус, и огонь фитиля, повторяя его дыхание, закачался, запрыгал, закоптил:
— Да сорок пять тысяч бастовало в Петербурге! А ну-ка, подняли б вы отсюда еще своих сорок пять?!
Не давал Ленину возразить, что в тех сорока пяти
— и его были.
— ... Путиловский у меня по сроку сбился — а молодчина, как забурлил! А вот Невская Застава меня подвела — что ж вы её не подняли? В Николаеве — я прекрасную разыграл стачку — 10 тысяч! и с условиями — невыполнимыми, обеспечено было восстание! — так тоже на четыре дня опоздало. Отсюда не так легко там к одному дню стянуть. А Москва вообще
не шелохнулась? Что же ваш московский комитет?!.
(Хотел бы Ленин и сам это знать!)
А Парвус — разошёлся, хвастался, как богатством, на пальцах загибал:
— Екатеринославский металлургический — я поднял! И Тульский меднопрокатный! И Тульский патронный!..
Все эти стачки, действительно, прогрохнули в январе, не 9-го, но — кто их там поднял, кто их там вёл? Отсюда не видно, не доказать, и каждый себе приписывает, меньшевики тоже.
— Совсем немного оставалось — где же ваши были? Межрайонцы мне помогли беззаветно, огневые ребята, да кучка их. А вы с меньшевиками — всё мячики перекидываете? Может — вашими листовками, не моими, Россия завалена, а?.. А — „Императрицу Марию" я взорвал — не заметили? — громыхал, глаза вычудились. — Броненосец на Чёрном море — не заметили??!
Руки белые холёные подкинул — вот этими руками броненосец взорвал!
— Почему ж не хотели вы соединиться, Владимир Ильич? Где же ваши стачки? Где же ваши восстания? На каких заводах вы можете обеспечить забастовку в назначенный день?.. С какими национальными организациями вы работаете?..
Неужели не понимает?.. Со всем его умом? Так это удача, хороша маскировка, значит и дальше так держаться.
Почему не соединились!.. Конечно, как-то можно было заманеврировать меньшевиков. И как-то можно было бы разделить руководство (хотя вот это, вот это, вот это больней и невозможней всего!). А...
А... ограничено уменье каждого. Ленин — писал статьи. Брошюры. Читал рефераты. Произносил речи. Агитировал молодых левых. Всеевропейски сек оппортунистов. Он, кажется, досконально успел узнать вопросы промышленный, аграрный, стачечный, профсоюзный. Теперь, после Клаузевица, и военный. Он понимал теперь, что такое война, и как ведётся вооружённое восстание. И с настойчивой ясностью мог это всё разъяснить, кому угодно.
И только одного он не мог — сделать. Только не мог он — взорвать броненосца.
— Но даже и сейчас не потеряно, Владимир Ильич! — утешал, подбодрял Парвус через стол. Он вынул часы золотые из жилетного кармана, кивнул им одобрительно. — Революцию — переносим на 9 января Семнадцатого года! Но только уж — вместе! Но в этот раз — вместе?
Ну, почему — не вместе?? Не понимал проницательный Парвус.
А — не из чего было кроить разговор. А — не из чего было ответить. В позиции, скрываемо, почти ничтожной — в какой там союз можно было вступать или не вступать? Надо было только достойно утаить своё бессилие: что никакой действующий организации у него в России нет, никакого подполья — нет. Если что есть — оно там шевелится само, неподвластно ему и в неподвластные сроки.Что там есть — он просто не знает, у него нет бесперебойной связи с Россией, нет возможности послать распоряжение или получить ответ. Он рад бывает, если единственный Шляпников перекинет через границу пачку „Социал-Демократов". С Аней, сестрой, переписывались химическими чернилами — и это оборвалось. Какие там еще национальности поднимать? — тут бы партии своей сохранить хоть кусочек...
А Парвус, из скрипящего стула вывешиваясь в обе стороны, еще великодушно:
— А как там ваши сотрудники русскую границу пересекают? Неужели — своими ногами да в лодочке? Да это же старьё, XIX век, это забывать надо! Пожалуйте, сделаем им хорошие документы, будут ездить первым классом, как мои...
Парвус, может, и уродлив, но, там, для женщин или на трибуну выйти. А глаза его бесцветные, водянистые — неотвратимо умны, уж это Ленин мог оценить.
Только бы — уйти от них. Только бы не догадался.
Что именно делать — Ленин не мог. Всё остальное — умел. Но только не мог: приблизить тот момент и сделать его.
А Парвус со своими миллионами, вероятно оружием в портах, со своей конспирацией, уже надёжно захватя Путиловский, — схлопывал белые пухлые руки, однако умеющие делать, и допытывался:
— Да чего же вы ждёте, Владимир Ильич? Почему сигнала не даёте? До каких же пор ждать?
А Ленин ждал — чтобы случилось что-нибудь. Чтобы какая-нибудь попутная материальная волна перекинула бы его челночёк — в уже сделанное.
Как на посмешку, все ленинские идеи, на которые он жизнь уложил, вот не могли изменить ни хода войны, ни превратить её в гражданскую, ни вынудить Россию проиграть.
Челночёк лежал на песке как детская игрушка, а волны не было...
А письмо на дорогой зеленоватой бумаге лежало и спрашивало: так что же, Владимир Ильич? Участие ваших — будет или нет? Ваши явочные адреса? Ваши приёмщики оружия?.. Что у вас есть реально, скажите?
Что есть — Ленин как раз и не мог ответить, потому что: не было ничего. Швейцария была на одной планете, Россия на другой. У него было... Крохотная группа, называемая партией, и не все учтены, кто в неё входит, может и откололись. У него было... Что- Делать, Шаг-Два шага, Две Тактики. Эмпириокритицизм. Империализм. У него была — голова, чтобы в любой момент дать централизованной организации — решение, каждому революционеру — подробную инструкцию, массам — захватывающие лозунги. А больше не было ничего и сегодня, как полтора года назад. И потому — из военной предусмотрительности и из простой гордости — не мог он обнажить своё слабое место Парвусу и сегодня, как полтора года назад.
А Парвус — нависал через стол, с насмешливорыбьими глазами, со лбом, не меньше накатистым, чем у Ленина, и ждал и требовал ответа.
Он так хорошо перехватил инициативу: спрашивать, спрашивать, тогда не надо объяснять самому. Но у него тоже были причины — почему он молчал полтора года, а именно теперь обратился?
Избегая нависшего недоумённого взгляда из-под вскинутых безволосых бровей, Ленин катал и катал шар головы по письму, ища, как благовиднее отказать в помощи, а не потерять союзника, как скрыть свою тайну и угадать тайну собеседника. Обходя, что было в письме, и ища, чего в письме не было.
Встречную слабость как всякую трещинку выхватывал Ленин прежде всего.
Не было: почему обращается Парвус снова так настойчиво? Значит — сил не хватило? А может — и денег? Ослабела агентура? А, может, немецкое правительство не так уж и платит? Ох, тяжела эта служба, когда увязла лапа...
Как хорошо быть независимым! Э-э, мы еще не так слабы, мы не последние по слабости.
Правая рука с карандашом привычно шла по письму, размечая для ответа — чертами прямыми, волнистыми, хвостиками, вопросительными, восклицательными... А левая быстро-быстро потирала лбину, и лбина набирала аргументы.
Упрекал Троцкий своего бывшего наставника в легкомыслии, нестойкости, и что покидает друзей в беде — это всё сантиментальная чушь. Это всё недостатки простительные и не мешали бы союзу. Если бы не делал Парвус грубых ошибок политических. Нельзя было так бросаться на мираж революции, открывая себя публично. Нельзя было делать из „Колокола" —
клоаку немецкого шовинизма. Вывалялся бегемотина в гинденбурговской грязи — и погибла репутация! И — погиб для социализма навсегда.
А — жаль. А — какой был социалист!
(Погиб — но ссориться, всё-таки, не надо. Еще
— ой-ой, как может Парвус помочь.)
От самой бумаги, от обреза стола, Ленин осмелело поднял голову — посмотреть на своего неутомимого соперника. Контуры головы его, и без того бесформенной, рыхлых плеч — расплывались и колебались.
Колебались — как качались от горя. Что даже с Лениным не умел он объясниться начистоту.
И, потеряв черты лица, уже больше как облако синеватое — печально оттягивался, клонился, переходил, перетекал в окно.
Но пока еще было не совсем поздно, Ленин выкрикнул вдогонку, без торжества, но для истины:
— Дать связать себя в политике? Ни за что! Вот в чём вы ошиблись, Израиль Лазаревич! Взять от других нужное? — да! Но себе связать руки? — нет!!! Союз с кем-нибудь нелепо понимать так, чтобы связали руки нам\
Утянуло всё дымом, не оставив осадком ни Склар- ца, ни баула. И шляпа опоздавшая сорвалась со стола
— и швырнулась вослед.
Оказался Ленин дальновиднее! Пусть он не делал никакой революции, пусть он был беспомощен и безрук, но знал он свою правоту, не сбивался: идеи долговечнее всяких миллионов, без миллионов можно и перетерпеть. Ничего, ничего, и эти конференции с бабами и с дезертирами — они тоже все оправдаются. С алым знаменем Интернационала можно и еще 30 лет переждать.
Сохранял он главное сокровище — честь социалиста.
Нет, рано сдаваться! И рано бросать Швейцарию. Еще несколько месяцев настойчивой работы — и можно будет швейцарскую партию расколоть.
А тогда вскоре — начать здесь революцию!
И отсюда зажжётся — всеевропейская!
из Узла III
«МАРТ СЕМНАДЦАТОГО»
Л-1
Эта минувшая зима была наполнена архидраматической борьбой и могла бы завершиться пролетарской революцией в Швейцарии, а через неё и во всей Европе, — если б не подлая измена шайки вождей, измаравших, оплевавших, заблудивших всю швейцарскую партию, а прежде и гаже всех — из-за негодяя, интригана, политической проститутки Гримма. И старой развалины Грёйлиха. И других грязных мерзавцев.
Поверхностному филистерскому взгляду — а таков взгляд большинства людей и даже революционеров, свойственно не замечать крохотных трещин в колоссальных горных массивах и не понимать, что через такую трещинку при умении можно развалить весь массив. Напуганному обывателю, наблюдающему всеевропейскую войну миллионных армий и миллионы снарядных разрывов, невозможно поверить, что остановить этот железный ураган (изменить его направление) доступно самой малой кучке, но предельно решительных лиц. Для того необходимо, правда, событие огромное — всеевропейская же революция. Но для европейской революции может достаточна оказаться революция в маленькой нейтральной, но трёхязычной, но в сердце Европы, Швейцарии. А для того надо овладеть швейцарской социал-демократической партией. А если ею нельзя овладеть, то её нужно расколоть и выделить боеспособную часть. А для того, чтобы расколоть такую партию, как швейцарская, — не поверят оппортунисты и книжные теоретики! — нужно всего человек пять решительных членов этой партии да человека три иностранца, способных дать местным товарищам программу, готовить им тексты и тезисы выступлений, писать для них брошюры.
Итак, чтобы перевернуть Европу, достаточно меньше десятка умелых неуклонных социалистов! Кегель- клуб.
В Кегель-клубе обдуманное осенью, вокруг Кегель- клуба и завязалось начало этой работы. После неудачи на ноябрьском съезде швейцарской партии, сперва как бы лишь для психологического реванша молодых, Ленин составил им реальные практические тезисы — об их задачах в их борьбе. Углубление многих месяцев, даже чтение ничтожных швейцарских газет — всё пригодилось тут. Потом вокруг тезисов стал собирать разъяснительные заседания с молодыми левыми. Пустили тезисы течь по всей Швейцарии. Замысел был: хотя бы одна самая крохотная местная партийная организация приняла бы их — и тогда законно можно было бы требовать, чтобы социалистические газеты их опубликовали — и так тезисы потекли бы в обсуждение еще шире. Искали, как напечатать тезисы листовками, как распространить их несколько тысяч (все — говоруны, безрукие, кто хандрит, кто притворяется — никто не может толком распространить).
Начать вообще самостоятельное издание листовок? Но главная опора, вождь молодёжи, Мюнценберг ворчал, что литературы и без того хватает. (Как будто такая литература бывала у них когда!) Слабы швейцарские левые, дьявольски слабы.
И нетерпеливый взгляд революционера заметил другую желанную трещину, она обещала больше и быстрей: приближался* новый съезд швейцарской партии, назначенный на конец января и специально посвящённый (верхушку вынудили обещать) отношению к войне. Замечательная это была возможность, чтобы растрепать, расколотить всё оппортунистическое руководство и на глазах швейцарских масс расстрелять его
неотклонимыми жизненными вопросами: допустимо ли довести Швейцарию до войны? допустимо ли потомкам Вильгельма Телля умирать за международные банки? допустимо ли... и т. д., и т. д., тут можно много наработать. Такой съезд был еще потому особенно опасен для оппортунистов, что в сентябре будущего 17-го года предстояли выборы в парламент, и как бы теперь ни постановили они — за отечество или против — партия на выборах неизбежно расколется или даже перестанет существовать — а то и нужно нам!
Оппортунисты смекнули и стали маневрировать: нельзя ли вообще отложить опрометчиво обещанный съезд, нельзя ли вообще никак не решать военного вопроса, пока, мол, Швейцария еще не воюет, или уж решать военный вопрос, когда кончатся все войны?
И они еще не знали, как будет нанесен им удар, как будет поставлено: не просто „за отечество" или „против милитаризма", но — с беспощадной решительностью: невозможно бороться против войны иначе как через социалистическую революцию! Голосовать, по сути, уже не по поводу войны, а: за или против немедленной экспроприации банков и промышленности! В Кегель-клубе деятельно готовилась резолюция для съезда — Платтен написал, слабо, Ленин пересоставил от имени Платтена. (Работа нелёгкая, но благодарная. Надо было всеми интернациональными силами помочь швейцарским левым.) Надо было заострять по всем направлениям: немедленно демобилизовать швейцарскую армию! защита Швейцарии — лицемерная фраза! именно швейцарская политика мира — преступна! Успех мог быть колоссален: такая резолюция швейцарского съезда вызвала бы самую восторженную поддержку рабочего класса всех цивилизованных стран!
Но — оппортунисты зашевелились. Конфиденциально узналось, что верхушка готовит отложить съезд, каковы наглецы! В таких случаях — предупреждающий удар! отнять инициативу! И поручили Вронскому на собрании цюрихской организации выставить резолюцию — „против тайной закулисной агитации за отодвигание съезда! признаки впадения в социал-шовинизм, осудить! “ А была возможность подправить подсчёт голосования — и сделали так, что резолюция принята! Хор-роший удар по центристам! — они ведь боятся прослыть шовинистами.
Но так обнаглела их шайка, что и этого не испугались: через день же собрали президиум партии и сбросили маску. (На президиуме были и Платтен, и Нобс, и Мюнценберг, так что всё известно достоверно.) Старый Грёйлих полез порочить всю цюрихскую партийную организацию: в ней, мол, много дезертиров, мы за них поручались, и можно бы ожидать, что именно в вопросе защиты родины они будут... А другой кричал: если партия будет так мараться, мы, сент- галленцы, выйдем из неё! эти товарищи невысокого мнения о швейцарских рабочих (и даже с намёком, что это иностранцы мутят) ... Еще один закатился до шовинистической истерики: идите вы с вашими формулами международных конгрессов! Обсуждение военного вопроса во время войны — безумие! в такие минуты всякий народ, мол, соединяется в общности судьбы. (Со своими капиталистами...) Как же демобилизовать армию, если она защищает наши границы? Да, если Швейцарии возникнет опасность, то рабочий класс пойдёт её защищать! (Слушайте, слушайте!) Но бесстыднее всех вёл себя Гримм. Председатель Цим- мервальда, Кинталя — и такой подлец в политике: что ж, война начнётся — а нам поднимать восстание?.. Делал гнусные намёки против иностранцев и молодых. И, соединясь с шовинистами, 7 против 5, с ничтожным перевесом именно его, гриммовского, центристского голоса — отложили съезд на неопределённое время (считай — до конца войны)... Неслыханно позорное решение! Полная измена Гримма.
Ах, мошенник, скотина, предатель, бешенство берёт! Так тем более теперь развернуть в партии войну как никогда! Оставалось одно: сбить Гримма с ног!
Всё упиралось в Гримма — и важно было сейчас же ошельмовать его, разоблачить, сорвать маску.
Как в драке ищет рука, какой предмет подсобнее схватить и ударить, так и мозг политического бойца выхватывает молниевидные извилины возможных ходов. Первая мысль была: Нэн! Необычно, что Нэн, не очень-то левый, голосовал за нас. Значит: выгоднее всего опрокидывать Гримма через Нэна! А как? Написать в газету Нэна открытое письмо, публично назвать Гримма мерзавцем и что невозможно дальше оставаться с ним в одной Циммервальдской организации!.. Нет, не так, пусть все пишут открытые письма в газету Нэна, все, кого только найдём, — и под этой лавиной открытых писем и резолюций протеста похоронить Гримма навсегда! Каждая минута дорога, повсюду собирать левых — и направлять против Гримма!
Драматический момент. В Шо-де-Фоне присоединился верный Абрамович. В Женеве колебались Бриллиант и Гильбо.
А в Цюрихе вечер за вечером собирались левые и молодые, вырабатывали методы нападения. И стало понятно: открытых писем — мало. Надо совершить политическое убийство — чтобы Гримм уже не встал никогда.
И вот какая форма. Не теряя часа, подхватились вместе с Крупской, Зиновьевым, Радеком, Леви, все силы, какие были в тот момент, — и за много кварталов пошли к Мюнценбергу на квартиру. И тут, когда все решительные собрались — Вилли позвонил по телефону и вызвал к себе Платтена, не объясняя ему, в чём дело, а — срочно! Надо было взять его в западню, неожиданно. Платтен последнее время явно боялся — и Гримма, и раскола, не хотел учиться интернациональному опыту, проявлял себя слишком швейцарцем, ограниченным швейцарцем, как впрочем и Нобс. (Если вспомнить — откуда взялись они? В Цим- мервальде они просто записались в „левые"...) Так вот, надо было взять Платтена врасплох, за горло.
Он вошёл — и когда увидел не одного Мюнцен- берга, как ожидал, а шестерых, плотно сжатых в комнатушке, трое впритиску на кровати, и все мрачные — на большелобом открытом его лице, не приспособленном играть, выразилась растерянность, тревога. Хоть одного бы он искал себе в союзники или ободрительного! — но не было ни одного. Затолкнули, посадили efto в угол — дальше от двери и за комодом, в тупик, а вшестером — еще надвинулись, кто на стульях, еще нагнулись, кто на кровати. И Мюнценберг (так по ролям) — звонким дерзким голосом объявил: м ы , вот все мы, наша группа, решили немедленно и окончательно рвать с Гриммом и опозорить его на весь свет! Платтену — выбор: или с нами, цли с Гриммом. Платтен заёрзал — а подвинуться некуда, заволновался, переглядывал лица, искал, кто помягче, но и Надя смотрела как застывшая ведьма. Платтен лоб вытирал, мял подбородок свой бесхарактерный, просил отсрочки, подумать, — он говорил, а все шестеро не шевелились, хмуро молчали и смотрели на него, как на врага (это забавник Радек всё придумал) — и это было самое страшное. Платтен растерялся, подавался, он предлагал: не надо же так сразу! послать Гримму предупреждение, предостережение... Нет!!! Всё — решено!!! И остаётся Платтену только выбор: или — с нами, в честном интернациональном союзе, или — со своим швейцарским предателем, и опозорим обоих вместе! И отвечать — сейчас же!
Двумя руками схватился Платтен за голову. Посидел.
Сдался.
Брошюру на опозорение поручили Радеку писать. И он — в ту же ночь, в одну ночь, искуривая трубку свою, без всякого труда мог написать, лентяй. Но — не написал. И еще много часов пришлось Ленину ходить с ним по Цюриху, уговаривать и поджучивать, чтоб написал, да похлеще, как он один умеет. Всё-таки, журналист — несравненный!
Следующий шаг — напали на Гримма в заседании Интернациональной Социалистической Комиссии. Сам Ленин не пошёл, чтоб не выставляться, а Зиновьев, Радек, Мюнценберг и Леви напали, что деятельность Гримма в Швейцарии — преступление,. бесчестие, педерастия! — а потому он должен быть исключён из Циммервальдского руководства! (Свергнуть с престола.) Тут же напали на Гримма и в мюнценберговском молодёжном Интернационале. Тут же возникла идея добиваться внутрипартийного референдума — устроить съезд теперь же, в марте! А мотивировка референдума была (пришлось самому написать) лучшее во всей кампании: что отсрочка съезда есть поражение социализма!
Что поднялось! Какая буча и пыль! Ч-чудесно!!! Вожди партии заревели от негодования, кинулись в опровержения! — кто ж может выстоять в социализме против смелого резкого принципиального обвинения слева?! Один обвиняющий голос может свалить тысячу оппортунистов!
Ч-чудесно! Это — удалось! Это — и нужно было!
Еще на кантональном партсъезде удалось собрать за резолюцию левых одну шестую часть голосов — это было крупной победой!
Но и — высшей точкой кампании. Стала она спадать.
Гримм бешено напал на референдум — и испугал наших молодых.
Лисьи-осторожный Нобс публично отмежевался ют референдума.
А Платтен — а Платтен смолчал, раскисляй... Вот так и строй на нём борьбу. Нет, он безнадёжен. Он не хочет учиться, как организовать революционную партию.
И даже брошюру Ра дека — отказались печатать: „Напечатаем — выгонят из партии/' Ну и левые\ Ну, и вояки!..
А Гримм, почувствовав нашу слабость, собрал архичастное совещание и пригласил левых. Мюнценберг и Вронский конечно не пошли. А Нобс и Платтен поплелись... к хозяину.
Нет, они на три четверти уже свалились к социал- патриотизму. Нет, левые в Швейцарии — архидрянь, бесхарактерные люди.
Запутывать, замазывать разногласия вместо того, чтобы их заострять — какая ж это подлость!
А тут совершилась возмутительная история с Вронским. На общегородском собрании выбирали правление, несколько избранных отказались, поэтому список спустился ниже — и счастливо захватил Вронского, Вронский вдруг попал! Так обнаглевшие правые заявили, что с Вронским дружной работы не будет, они отказываются. А Нобс был председателем — и согласился выборы аннулировать!
И Платтен — скушал эту оплеуху...
Ленин сидел на собрании — молча, но вне себя! И уже на минуту не заснул в ту ночь.
Вообще от этих ежедневных собраний — нервы швах, головные боли, сна нет.
Да вся швейцарская партия — насквозь оппортунисты, благотворительное учреждение для мещан. Или чиновники, или будущие чиновники, или горстка, запуганная чиновниками.
Разбежались левые от нашей помощи — ив Цюрихе, и в Берне. Y одного Абрамовича хороши дела, но он далеко. А Гильбо и Бриллиант колеблются.
И вожди молодых, даже острый резкий непреклонный Мюнценберг — потянулись на компромисс. Мюн- ценберг! — и тот отклонил брошюру Радека! (И уехал Радек в Давос, подлечиться, тоже замучился.)
Было бы смешно, если бы не так гнусно. Видимо, в Цюрихе — конец возни с левыми...
Но — не надо жалеть, хоть и проигрыш. Знал всегда, как гнилы европейские социалистические партии. Теперь и на практике сам испытал.
Не надо жалеть. Что было сделано — не пропадёт совсем бесследно. После нас, преемники наши — а создатут левую партию в Швейцарии!
23 февраля назначено было собрание левых — и даже не состоялось: просто не пришли, никому не нужно. Собирался Ленин доклад делать — сходил впустую, вернулся в бешенстве. В бешенстве на всю ночь.
Он завидовал — Инессе, Гришке Зиновьеву, как они там где-то ездили, выступали с рефератами: там видишь перед собой не социалистических мещан, а
— свежих людей, рабочих, толпу, и влияешь сразу на массу.
Тут много было и других расстройств. С Радеком
— вперемежку дружба и ссоры (он невыносим, когда в академизм лезет), а Инесса и Гришка восприняли их разлад тяжело. То ссора с Усиевичем. (А с Бухариным и не вылезали из ссоры, хорошо хоть не вынесли на публичность.) То Шкловский растратил партийную кассу. То Инесса вздумала „пересматривать" вопрос о защите отечества — и сколько же лишних убеждений пришлось потратить.
В письмах. Так и не приехала в Цюрих ни разу.
Скоро год...
То — слух, что Швейцария на днях втянется в войну, жутковато, и быстрые расчёты: самим остаться в полосе немецкой оккупации, а Инесса пусть едет в Женеву, её там захватит Франция — и так мы улучшим связь с Россией. То отлегло: не будет войны. То Надя болела — бронхит, жар, бегал за врачом, вся жизнь в расстройстве.
Однако, не скдадывать же бездеятельно руки. А что если прямо самим, безо всяких швейцарцев, — да взбунтовать швейцарскую армию? И вырос такой замысел: написать листовку („разожжём революционную пропаганду в армии! превратим опостылевший гражданский мир в революционные классовые действия!") — но в абсолютной скрытости (за это можно сильно пострадать, из Швейцарии вышлют) — а подписаться „швейцарская группа циммервальдских левых" (пусть думают на кого из них, хоть на Платтена)
— и распространять стороной, как бы не от себя.
Инесса быстро переведёт на французский. Только абсолютно секретно, сжигая черняки. (А почта писем не проверяет, убедились.)
Стали делать. Но отсюда новый замысел: а не сделать ли опять-таки нам самим, а подписать от других, такую листовку: поднять весь европейский пролетариат на всеобщую стачку 1 мая? Отчего бы нет? Неужели пролетариат не отзовётся? А в разгар войны — какая это была бы силища! Какая демонстрация! А от стачки, смотришь, сами собой начнуться и массовые революционные действия?! Одна хорошая листовка — и поднята вся Европа, а?! Только надо спешить, до 1 мая не так много времени — скорей переводить на французский, скорей издавать, скорей распространять, скорей рассылать эту листовку. (И — совершенно конспиративно!)
Но не успела всеевропейская стачка хорошо обду- маться, только еще готовили переводы листовки — пришло внезапно письмо от Коллонтайши, вернувшейся из Америки в Скандинавию. И к пороху — новый огонь: оказывается — раскол на съезде шведской партии!
Какая внезапная удача! Да как же было забыть своих верных циммервальдских соратников? И какие же там у шведов в головах сейчас, наверно, разброд и путаница дьявольские!
Как же бы повлиять? Как помочь? Осветилось: так вот она где задача ожидаемая, самая важная и благородная: не в Швейцарии надо революцию делать, а в Швеции! Оттуда начинать!
Дальше писала Коллонтай: решили шведские молодые собрать 12 мая съезд для основания новой партии на „циммервальдских принципах". Ах, юнцы-птенцы, искренние и неопытные, да кто ж вам разъяснит: преданы принципы Циммервальда-Кинталя! преданы, в болоте потоплены почти всеми партиями Европы! умер Циммервальд, умер и обанкрутился! Но вы — искренни и чисты, и во что бы то ни стало еще д о съезда нужно вам помочь разобраться в пошлости каутскианства, в гнусности циммервальдского большинства. (Ах, что ж я не с вами там?!.) Пришла пора обрезать когти Брантингу! Надо немедленно послать вам на помощь мои тезисы! Морально и политически мы все ответственны за вас. Решительный момент в скандинавском рабочем движении!
И весь тот временный пессимизм и ту опущенность рук, какие овладели после неудач с дрянными бесхарактерными безнадёжными швейцарскими левыми — перехлестнуло теперь радостным нетерпением поджечь Европу с севера!!! А сроки остались короткие, а дел — уйма, а переписка через Германию идёт с затруднениями. Но — энергичная, деятельная, осмысленная борьба! Возродилась жизнь! Новым светом осветились сумрачные своды цюрихских церковных читальных залов, газетные кипы и шершавые брошюрки в Центральштелле: к 1 мая — листовку! к 12 мая — тезисы и спеться! Все силы — на европейскую стачку и на шведский раскол! Только над молодёжью и стоит работать! Нам уже никогда ничего не сделать и не увидеть. Но им еще взойдёт багровое солнце революции!
2-го марта кончал дома обедать, вдруг стук. Вронский. Что-то не вовремя. (В этой неудаче с левыми так много было на Вронского ставлено, и эти выборы-невыборы, что видеть Вронского сейчас было малоприятно. А к новым проектам его еще не приспособили.) Вошёл — и не садясь, в своей вялой манере, как он всегда, меланхолически немножко:
— В ничего не знаете?
— А что?
— Да в России — революция... будто бы... Пишут...
Еще манера у него — никогда голоса не повысить,
растяжка эта, как от неуверенности, — поднял Ильич глаза от тарелки с варёной говядиной, суп уже доел, посмотрел на тихого Вронского — не больше было впечатления, чем сказал бы он, что килограмм мяса подешевел на 5 раппенов. В России? революция?
— Чушь какая. Откуда это известно?
Ел дальше, резал кусок поперёк, чтоб и мясо и жир. Откуда ни с того, ни с сего? Такое ляпнут. Макал куски в горчицу на отвале тарелки. Еще неприятно, когда сбивают еду, не дадут спокойно.
А Вронский стоял, не снимая пальто, и шляпу мокроватую фетровую, которую очень берёг, — мял. Это для него уже было большое волнение.
И Надя, по бокам своего серо-клетчатого платья провела руками, как вытирая:
— Что это, Моисей? В каких газетах? Где вы читали?
— Телеграммы. Из немецких.
— Ну! Немецкие да про Россию! Врут.
Доедал спокойно.
О России в европейских газетах писали скудно и всегда переврано. Не имея своих верных сведений, с трудом надо было оттуда истину отделять. А письма оттуда почти не приходили. Вот промелькнуло двое свежих русских, бежавших из немецкого плена, — бегал на них посмотреть, поговорить, интересно. Приходилось Россию поминать в докладах, но не больше, чем Парижскую Коммуну, которой давно уже не было на свете.
— И как же именно там сказано?
Вронский попытался повторить. И по обычному свойству большинства людей — а профессиональному революционеру стыдно! — не мог повторить не только точных выражений, но и точного смысла.
— В Петербурге — народные волнения... толпы... полиция... Революция... победила...
— А в чём именно победа?
— ...Министры... в отставку ушли, не помню...
— Да вы ж сами читали? А — царь?
— Про царя — ничего...
— Про царя — ничего? А в чём же победа?
Чушь какая. Может, Вронский и не виноват, а
само сообщение такое неопределённое.
Надя перебирала в рубчики на груди заношенное платье, еще заношенней от малого света в комнате — на улице моросил дождь с утра:
— А всё-таки — что-то есть, Володя? Откуда?
Откуда! Обычная буржуазная газетная утка, раздувание малейшего неуспеха у противника, сколько раз за эту войну всё вот так раздувалось.
— Разве о революциях — так узнают? Вспомни Женеву, Луначарских.
Шли январским вечером с Надей по улице — навстречу Луначарские, радостные, сияющие: „Вчера, девятого, в Петербурге стреляли в толпу! Много убитых! !“ Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции! — помчались в русский ресторан, все собирались туда, сидели возбуждённые, пели, сколько сил добавилось, как все сразу оживились... Длинный Троцкий, еще вытянув руки, носился с тостами, всех поздравлял, говорил, что едет немедленно. (И поехал.)
— Ладно, чаю давай.
Или — не пить?
Идти опять в читальню и продолжать регулярную работу — кажется, тоже не получится: что-то всё-таки зацепилось, мешает. Надо бы выяснить. Какая-то помеха всем планам.
Но газеты с сегодняшними телеграммами будут в читальнях только завтра.
А на Бель-Вю в окне « Neue Ziircher Zeitung » вывешиваются экстренные.
Ладно, сходим.
Надя еще мало выходила после февральского недавнего бронхита и осталась дома. И Йльич натянул тяжёлое старое подчиненное пальто, насадил старый котелок как на болванку — пошли.
„Здесь жил поэт Георг Бюхнер..." на соседнем доме. Сырым узким переулком, где рыхлый намоклый снег еще не вытаивал у стен — быстро пошли под гору, как покатили. Сокращая переулками и туда ближе к Бель-Вю.
. По швейцарской манере все ходили с зонтиками, еле разминаясь в переулках, чуть не выкалывая друг другу глаза. Но Ленин не любил его таскать: когда пригодится, а когда нет. Да и старое всё на себе, не жалко. Шёл и Вронский так.
В витринах нашлось примерно, как говорил Вронский. Только министры будто бы арестованы. Арестованы?.. И еще: у власти — члены Думы. А — царь? Ни слова о царе. Так ясно тогда, что царь — на свободе, с войсками, и сейчас задаст им баню.
Если вообще это всё не брехня.
Да нет, такое невозможно в сегодняшней России.
И у витрины не толпились, кроме них двоих и не было никого.
Мелкий дождь моросил на площадь, на озеро. Равномерно было заволочено всё над озером, и в молочно-сизой пелене Ютлиберг по ту сторону. Ехали извозчики с тёмными верхами, равномерно шли зонтики тёмные. Какая там революция!..
А всё-таки бы выяснить до конца.
Пошли на Хайм-плац в газетный киоск, может быть что-нибудь попадётся. Газет Ленин никогда не покупал, но для такого случая можно было, из партийной кассы.
Однако, простодушный киоскер признался, что ни в одной ничего такого нет — и ни одной не купили.
Оборвать этот вздор, идти в читальню и работать. А Вронский расслабился, потерялся и готов был, кажется, теперь не отставать, таскаться по улицам или ждать под дождём у витрины следующих телеграмм
— размывчивость людей без направления. Отчитал его
— и расстался. И опять, опять, тысячу раз пройденными переулками, не замечая ни домов, ни витрин, ни людей — пошёл к кантональной читальне.
Но перед самыми стрельчатыми окнами — замялся.
Что-то не пускало. Как будто должен был в двери застрять. Как будто разбухло что-то внутри за эти полчаса — и не пускало.
Между тем дождь прекратился.
Постоял, сердясь. Конечно, мог себя заставить, и мог бы до вечера высидеть, а... Прямая ясная работа звала — для шведов, а... Отвлекало вот, некстати. И выписки — „марксизм о государстве"... А не шлось.
Напротив, вывернулась чужая, несвойственная, даже преступная мысль: пойти в русскую читальню. Гнездо эсеров, анархистов, меньшевиков и всякого просто русского сброда. Как гнездо змей, старался его миновать всегда, не ходить по Кульманштрассе, не дышать этим воздухом, никого не встречать, не видеть. А сейчас подумал: ведь там, наверно, собрались, собираются... Знают, не знают, а — говорят, поговорят. Что-то можно услышать. Своего не сказать, а — что- то выведать.
И — нарушая все свои правила, но потягиваемый в это отвратительное место — пошёл.
Кульманштрассе была совсем не рядом, надо было заметно взять вверх по горе. Пошёл.
Действительно, в небольшую натопленную комнату набилось уже человек двадцать с холодной сырости и в сырых одеждах, кто сидел, кто и не думал присесть — но никто не молчал, все сразу говорили, гудели, галдели, и общий рокот как волнами бил по комнате. Ну, еще бы! — российская любовь излить душу.
Только в одном ошибся: думал — на него вскинутся, удивятся, встретят враждебно, — нет. Кто заметил его приход, кто не заметил, но все восприняли так естественно, будто он был здесь привычный гость.
Ленин ответил кому-то (так, что и не ответил). Прямо ни у кого ничего не спросил. Сел на край скамьи в углу комнаты, снял котелок. И сидел слушал, как он один умел: то подозреваемое выбирая, чего другие и не слышали.
Оказывается, никто не знал больше всё тех же телеграмм, только вот: „после трёх дней борьбы" победила, после трёх дней, — кто-то принёс. В этом был какой-то признак достоверности, да — и ахали, и уж совсем не сомневались. Не счёл Ленин нужным вслух возразить: что ж тогда эти три дня ничего не сообщали? В общем, никто не знал больше телеграмм, но множеством слов заливали всё возможное пространство вокруг этих сведений.
Один (никогда его не видел) с оттянутым сбитым галстуком, подбегал к тому, к другому, хлопал руками как петух крыльями, и не договорив и не разборчиво
— дальше. А одна, высокая, только знала-нюхала букетик снежных колокольчиков: кто что ей ни скажет
— а она только качалась изумлённо и нюхала.
Презрение ощущал Ленин к этим разглагольствованиям будто бы революционеров, как они звонко рассуждали о свободе и революции, нисколько не охватывая всех шахматных возможностей, при каких эти события умеют идти и какие враги и как ловко умеют их перехватывать на ходу и даже при начале. Рассуждали как о всеобщем празднике, будто уже всё произошло и случилось (а что случилось? а что надо, чтобы случилось? — кто из них понимал?). Но что делает царь? и какая контрреволюционная армия идёт на Петербург? и как уже наверно трусит Дума и спешит сговориться с реакцией? и как еще слабы и неорганизованы пролетарские силы? — об этом не думали, этих ответов и не искали. А вдруг все как будто помирясь и забывши межпартийные разногласия, эти оживлённые дамы с лентами вокруг шляпок, несли друг другу какую-то радостную околесицу, и вот, за час-за два уже перестав ощущать себя вынужденными жителями Швейцарии, но — „едино русскими", строили едино российские и беспочвенно российские догадки, как теперь всем вместе добираться скорей в Россию.
Н-ну!..
С этими амикошонскими ухватками и маниловскими проектами совались и к Ленину, подсаживались, одни — зная, кто он, другие — не зная, тут была и не политическая публика. Смотрел он сощурясь на этих рукомахалыциков, пьяных без вина, на этих дам щебечущих, — никому не ответил резко, но и ничего не ответил.
Они вот что придумывали: всем эмигрантам теперь объединиться без различия партий (мелко-буржуазные головы, набитые трухой!) и создать общешвейцарский русский эмигрантский комитет для возвращения на родину. И... и... и как-то возвращаться, но как — никто не знал, а предлагали всякое. И даже сегодня на вечер уже созывали подготовительную комиссию!
Возвращаться, когда неизвестно, что там делается. Может быть, уже у всех стен расстреливают революционеров.
Снаружи добавлялось еще людей, но — не идей. И все друг у друга опять проверяли новости — и опять же никто не знал больше ни слова. И от пустопорожней их болтовни Ленин вышел так же малозаметно, как и вошёл.
На улице не только не было дождя, но посветлело, облака сильно поредели. Подсыхало, а холодно — так же.
Пошли было ноги вниз, в сторону библиотеки и домой.
Правильно было — пойти бы домой.
Вообще теперь неизвестно, куда было идти.
Остановился.
Лишь два часа назад, к обеду, так было всё ясно: раскалывать шведскую партию и что для этого надо читать, писать и делать. Но вот пришло со стороны недостоверное, невероятное и ненужное событие и как будто даже не задело, не столкнуло — а вот уже сталкивало. Уже отвлекало силы и ломало распорядок.
И вернуться в библиотеку — оказалось нельзя.
И домой не хотелось. Как-то стало с Надей за последний год скучно всё обговаривать: растяжно и важно она произносит в ответ уж такое ясное, что и произносить не надо. Никаким откликом свежим, оригинальным, не мог он себя на ней поправить.
А потягивали ноги на то, чтобы походить.
Но — и не по улицам, надоели, видеть невозможно. А не подняться ли на Цюрихберг, уж вот рядом?
Чуть ветер поддувал — холодный, но не сильный. Дождя не только не будет, но еще светлело, вот-вот и разорвёт.
В пальто, почти просохшем в читальне, Ленин пошёл теперь круто вверх. В горах и ноги разряжаются и мысли устанавливаются, что-то можно понять.
Чем круче, короче переулок — тем быстрее туда, наверх. Ноги были сильны, как молодые. Спешили мальчишки туда же, с заспинными ранцами, с послеобеденных занятий — Ильич от них не отставал. И задышки не было, и сердце выстукивало здорово.
Всё бы так. Но — голова... Но голову носил Ленин как драгоценное и больное. Аппарат для мгновенного принятия безошибочных решений, для нахождения разительных аргументов — аппарат этот низкой мстительностью природы был болезненно ц как-то, как будто, разветвлённо поражён, всё в новых местах отзываясь. Вероятно, как прорастает плесень в массивном куске живого — хлеба, мяса, гриба, — налётом зеленоватой плёнки и ниточками, уходящими в глубину: как будто и всё еще цело и всё уже затронуто, невыскребаемо, и когда болит голова, то не всю ощущаешь её больную, но такими отдельными поверхностями и ниточками. Можно думать так: болит, как у всех, выпить порошок, боль пройдёт. Но если подумаешь иногда иначе — что болит особенным образом, невозвратимо, что порошок — только обман на несколько часов, а там прорастает глубже ниточками, то стискивает ужас как в новотаргской тюремной камере: вырваться невозможно! От этой головы отделаться — некуда. Всё в мире ждёт твоих оценок и решений! всё в мире можно направить твоею волей! — а сам ты уже стиснут, и вырваться — невозможно!
Здоровое сердце, лёгкие, печень, желудок, руки, ноги, зубы, глаза, уши — перечисляй и гордись. Но перед природой, как перед неумолимым зорким экзаменатором ты что-то пропустил в перечислении, да всего не перечислить — а болезнь уже заметила пропуск и тайными лазейками разрушения поползла, поползла. А достаточно всего одной червоточины, чтобы развалить всю статую здоровья.
И этим ослаблялось сожаление об их размолвках, недоумениях — всё почему-то непоправимей, когда усиливаешься сблизить. За год — можно и отвыкнуть. Она — нужна была ему. Нужна. Но — так ли нужен ей он?
Из такой близи не приехать за год!?
Да, конечно, С кем-то...
Но полумёртвым примирением окутывало.
От кантонального госпиталя он поднимался нагорной частью, витыми подъёмами, где швейцарские бюргеры побогаче, карабкаясь над городом, ближе к лесу и небу, с обзором на озёрные дали, выстраивали себе особняки, маленькие дворцы буржуа. Каждый придумывал, как украситься — кто фигурной кладкой, кто изразцовыми плитами, кто шпилем, кто воротами, верандой, каретной, фонтаном, или назвать „Горной розой", „Гордевией", „Нисеттой". И подымались дымки из труб — конечно, камины топили для уюта.
Это устроение своей красоты и удобств, отгороженное заборами, решётками, нотариальными актами и удобными швейцарскими законами, повыше, отделясь от массы, — отдавалось в груди взбурливающим раздражением. О, как бы славно привалить сюда снизу толпой, да погромить эти калитки, окна, двери, цветники — камнями, палками, каблуками, прикладами винтовок, — что может быть лучше, веселей? Неужели настолько погрязла, опустилась масса обездоленных, что уже никогда не поднимется на бунт? не вспомнит пылающих слов Марата: человек имеет право вырвать у другого не только излишек, но необходимое. Чтоб не погибать самому, он имеет право зарезать другого и пожрать его трепещущее тело!
Вот это славное якобинское мироощущение никак не проснётся в пролетариате лакейской республики, потому что падают куски со стола господ, nqjx- кармливают. И паутиной опутывают его гриммовские оппортунисты.
А — в Швеции?
А — что теперь в России?..
В России многое могло бы быть, да некому направить. Уж наверно сегодня там и проиграно всё и топят в крови — но из телеграмм узнается только послезавтра.
Не потому, что на гору выше, а потому что про- яснивалось — становилось всё светлей. Под ногами уже сухи были чистые, никогда не в пыли, не в грязи гладкие вбитые камешки тротуаров и мостовых. От колеса проехавшего экипажа если и брызнет из лужи, то — чистой водой. На улицах горного склона — много деревьев, а выше — гуще, а выше — лес.
Тут уже и просто гуляли, не по делу шли. Одна, другая прошла буржуазная чинная медленная пара, с собранными зонтиками и с собаками на ремешках. Потом — две старых дамы, по-швейцарски самодовольно-громко разговаривая. Еще кто-то. Наслаждались своими кварталами. Тут — разрежение было от прохожих и разрежение ото всей жизни.
Уже под самым лесом одна улица шла ровно по горе, не спускаясь, не подымаясь. Она выходила на смотровую площадку, огороженную решёткой, и отсюда положено было, впрочем через ветки деревьев изнизу, любоваться дальним видом озёрной губы и всем городом в сизой дымке низины — шпилями, трубами, синими двойными трамваями, когда они переходили мосты. И сюда же всплывал от однообразно серых церквей опять этот механический металлический холодный звон.
И — бульварчик тут был, под большими деревьями, гравийный, со скамейками, а всего-то в десять шагов, всего и ведший к одной единственной могиле, для неё и устроенный. Когда бывали с Надей на большом овальном Цюрихберге, то поднимались с других улиц и в другие места, а сюда не забраживали. Подошёл теперь к этой могиле на высоком обзорном месте.
Высотой от земли по грудь стояло надгробье из неровного, корявого серого камня, а на вделанной в камень металлической гладкой плите было выбито: „Георг Бюхнер. Умер в Цюрихе с неоконченной поэмой Смерть Дантона..."
Даже не сразу понялось: откуда-то известное имя это, Георг Бюхнер?.. Но все известные ему были — социал-демократы, политические деятели. А — поэт?..
Кольнуло: да — сосед. Жил — Шпигельгассе 12, рядом, стена к стене, три шага от двери до двери. Эмигрант. Жил — по соседству. И умер. С неоконченной „Смертью Дантона".
Чертовщина какая-то. Дантон — оппортунист, Дантон — не Марат, Дантона не жалко, но не в нём и дело, а вот — сосед лежит. Тоже, наверно, рвался вернуться из этой проклятой сжатой узкой страны. А умер — в Цюрихе. В кантон-шпитале, а может быть — и на Шпигельгассе. Не написано, отчего ухмер, может быть вот. так же болела голова, болела...
Что, правда, делать с головой? Со сном? с нервами?
И что вообще будет дальше? Не может одного человека хватить на борьбу против всех, на исправление, на направление — всех.
Неприятная какая-то встреча.
Весь Цюрих, наверно четверть миллиона людей, здешних и изо всей Европы, там внизу густились, работали, заключали сделки, меняли валюту, продавали, покупали, ели в ресторанах, заседали на собраниях, шли и ехали по улицам — и всё в разные стороны, у всех несобранные, ненаправленные мысли. А он — тут стоял на горе и знал, как умел бы он их всех направить, объединить их волю.
Но власти такой не было у него. Он мог тут стоять над Цюрихом или лежать тут в могиле — изменить Цюриха он не мог. Второй год он тут жил, и все усилия зря, ничего не сделано.
Три недели назад ликовал этот город на своём дурацком карнавале: пёрли оркестры в шутовских одеждах, отряды усердных барабанщиков, пронзительных трубачей, то фигуры на ходулях, то с паклевыми волосами в метр, горбоносые ведьмы и бедуины на верблюдах, катили на колёсах карусели, магазины, мёртвых великанов, пушки, те стреляли гарью, трубы выплёвывали конфетти — сколько засидевшихся бездельников к тому готовились, шили костюмы, репетировали, сколько сытых сил не пожалели, освобождённых от войны! — половину бы тех сил да двинуть на всеобщую забастовку!
А через месяц, уже после Пасхи, будет праздник прощания с зимой, тут праздников не пересчитать, — еще одно шествие, уже без масок и грима, парад ремесленного Цюриха, как и в прошлом был году: преувеличенные мешки с преувеличенным зерном, преувеличенные верстаки, переплётные станки, точильные круги, утюги, на тележке кузня под черепичной крышей и на ходу раздувают горн и куют; молотки, топоры, вилы, цепа (неприятное воспоминание, как когда- то в Алакаевке заставляла мама стать сельским хозяином, отвращение от этих вил и цепов); вёсла через плечо, рыбы на палках, сапоги на знамёнах, дети с не- чёными хлебами и кренделями, — да можно б и похвастаться этим всем трудом, если б это не выродилось в буржуазность и не заявляло б так настойчиво о своём консерватизме, если б это не было цепляние за прошлое, которое надо начисто разрушать. Если б за ремесленниками в кожаных фартуках не ехали бы всадники в красных, белых, голубых и серебряных камзолах, в лиловых фраках и всех цветов треуголках, не шагали бы какие-то колонны стариков — в старинных сюртуках и с красными зонтиками, учёные судьи с перувеличенными золотыми медалями, наконец и маркизы-графини в бархатных платьях да белых париках, — не хватило на них гильотины Великой Французской! И опять сотни трубачей и десятки оркестров, и духовые верхом, всадники в шлемах и кольчугах, алебардисты и пехота наполеоновского времени, их последней войны, — до чего ж резвы они играть в войну, когда не надо шагать на убойную, а предатели социал- патриоты не зовут их обернуться и начать гражданскую!
Да и что за рабочий класс у них? Бернская квартирная хозяйка, гладильщица, пролетарка, узнала, что они мать в крематории сожгли, не хоронили, не христиане — выгнала с квартиры. Другая только за то, что они днём электричество зажгли, Шкловским показать, как ярко горит, — тоже выгнала.
Нет, их не поднять.
Что ж может сделать пяток иностранцев с самыми верными мыслями?..
Обернулся с бульвара и пошёл круто вверх, в лес.
Облака редели даже до нежных светложёлтых, можно было угадать, где сейчас вечернее солнце.
Вот и в лесу. Неразделанный, а где и с аллейками. Вперемежку с елями — какие-то сизо-беловатые стволы, не берёз и не осин. Мокрая земля густо застелена старой листвой. Тут и грязно и поскользнёшься, но в альпийских ботинках, нелепых на городском тротуаре, здесь как раз хорошо.
Круто поднимался, с напряжением ног. Был один. В сырости и по грязи аккуратные пары не гуляли.
Останавливался отдышаться.
На голых деревьях черно мокрели еще пустые скворечники.
Нет подъёма трудней, чем от нелегальности к легальности. Ведь не случайное слово подполье: себя не показывая, всё анонимно, и вдруг выйти на возвышение и сказать: да, это я! берите оружие, я вас поведу! Почему так и трудно дался Пятый год, а Троцкий с Парвусом захватили всю российскую революцию. Как это важно — придти на революцию вовремя! Опоздаешь на неделю — и потеряешь всё.
Что сейчас Парвус будет делать? Ах, надо было подружественней ответить ему.
Так — ехать? Если всё подтвердится — ехать?
Вот так сразу? Всё — бросить. И — по воздуху перелететь?
За первым хребтом горы местность уваливалась в сырой тёмный ельник, и там на дороге совсем было грязно, размешано. А можно было без тропинки идти по самому хребту — он сух, в траве и под редкими соснами.
Вот, еще на пригорок.
Отсюда опять открывался вид, еще обзорнее. Большим куском было видно безмятежное оловяное озеро, и весь Цюрих под котловиной воздуха, никогда не разорванного артиллерийскими разрывами, не прорезанного криками революционной толпы. А солнце — вот уже и заходило, но не внизу, а почти на уровне глаз — за пологую линию Ютлиберг.
Как будто после лечебного забытая вынырнуло опять, что загнало его в неурочное время, в рабочий день, в эту сырость на гору: неудобство, волнение, испытанное в русской читальне, этот единый бараний рёв о том, что началась революция.
До чего ж легковерны эти все профессиональные революционеры, какою баснею их ни помани.
Теперь-то и нужно проявить величайшее недоверие и осторожность.
Так и пошёл бездорожным сухим хребтом, по бурой траве, по сухим веткам. Тут, на горе, часто лазают белки, а иногда и молоденькие косули, величиной с собаку, вдали перемелькивают, дорогу перебегают.
На высоте и в тишине, в чистом воздухе — откладывало от головы, снимало давящий обруч. Все раздражения, все раздражающие люди — отпадали, забывались, внизу остались.
Тяжёлая была последняя зима, сильно измотала. С таким напряжением жить нельзя, поберечь бы себя.
А — для чего беречь? Если ничего не делать — к чему и беречься?
Но — и так долго не проживёшь. Неважно с головой. Плохо.
Хребтик, по которому он шёл, обрывался к поперечной гравийной дороге. А, знакомое место, обелиск. Тропинка спускала туда. Это был памятник о двух сражениях 1799 года за Цюрих между революционными французами и австро-русской реакцией.
Против обелиска Ленин присел на сырую скамью, устал. х
Да, правда, стреляли и здесь. Страшно подумать: и здесь были русские войска! и сюда дотянулась царская лапа!
Ровный цокот копыт по твёрдому донёсся сверху, из-за горба дороги. И тут же из тёмного леса, в послезакатной уже неполноте света, показалась женская шляпа, притянутая лентой — затем сама женщина в красном — и светло рыжая лошадь. Лошадь шла шагом, женщина сидела струнно — и что-то в её манере держаться и голову держать... — Инесса?!.
Вздрогнул, увидел, поверил! — хотя никак было невозможно.
Ближе — нет, конечно, а — чем-то похожа. Как себя сознаёт и держит — сокровищем.
Из тёмной чащи выехала — красная, и ехала в сыром, чистом, беззвучном вечере.
Да тут главной красавицей сознавала себя лошадь — из светло рыжей даже жёлтая, лощёная, уборно зауздана, переборчиво ставила стаканчики копыт.
А всадница сидела невозмутимо или печально, смотрела только перед собой под уклон дороги, не покосилась ни на обелиск, ни на дурно одетого, внизу к скамейке придавленного, в чёрном котелке гриба.
И он просидел, не шевельнувшись, разглядывал её лицо, чёрное крыло волос из-под шляпы.
Если вдруг освободить мысли от всех необходимых и правильных задач — ведь красиво! Красивая женщина!
Покачивалась плечами или в талии не сама она, а лишь сколько качала её лошадь и стременем приподнимала носки сапожков.
Она проехала вниз, там дорога завернула — и только еще копытный перебор доносился немного.
Проехала, что-то еще отобрала — и увезла.
Во многих прежних революциях и революционных попытках многое изучил Ленин (для революции только и родился и жил он, что ж другое знать ему лучше?) и имел своих излюбленных лиц, моменты, приёмы и мысли. А видел своими глазами единственную одну — не с начала, не всю, не в главных местах — ив ней-то не принял никакого участия, поневоле только наблюдал, делал выводы и послевыводы.
А была другая — в другой стране и еще при его младенчестве, с которой он ощущал сердечную роковую связь, как бьётся сердце при имени возлюбленной, род необоримого пристрастия, боли и любви: её ошибки — больнее всех других, её семьдесят один день как высокие решающие дни собственной жизни — перещупаны по одному, её имя всегда на устах: Парижская Коммуна!
На Западе если ждали его объяснений, если признавали его мнение важным, то — по русской революции 05 года, и он регулярно докладывал о ней, чаще всего — 9 января, в дату, самую приметную для западного понимания (так и в этом году, в цюрихском Народном доме, предупреждая слушателей: „Европа чревата революцией!“, главным образом швейцарскую имея в виду). Но о той, из-под рук уведённой у него, революции говорить было скучно (а что ревниво вывел в оспаривании Парвуса и Троцкого, то лучше было пока вслух не говорить). О Парижской же Коммуне никто его не спрашивал, многие могли рассказать
достовернее, но его самого тянуло к ней прильнуть — истерзанное место к истерзанному, рана к ране, как будто друг от друга они могли зажить. И когда всем — участникам и неучастникам, пришлось по одному, укрытно, тайно бежать из проигранной России, — женевской гнилой зимой 908 года, павший духом, рассоренный со всеми единомышленниками, раздражённый выше всякой нервной возможности, он одиноко прильнул писать об уроках Парижской Коммуны.
Так и в нынешнюю нервную зиму, затасканный по кружковым шушуканьям Кегель-клуба, ощущая в себе физическую робость выйти перед большим наполненным залом, перед множеством людей, — вдруг получив устроенное Абрамовичем приглашение в Шо-де-Фон прочесть реферат о Парижской Коммуне в годовщину её восстания, 5 марта (вокруг Шо-де-Фона еще с гугенотских времён жило много бежавших французов, и коммунары бежали к ним туда же, и были их всех потомки теперь), — Ленин согласился с высшей охотой.
А тут налегла эта весть о русской революции и с каждым днём всё больше раскручивалась.
Трёх суток не прошло от первого непроверенного известия из России (трёх суток — сплошных, потому что не было сна все три ночи, но ушла головная боль, вот удивительно! ушло всякое болезненное состояние, так резко прибавилось сил!), а сколько же за эти 70 часов пробежало, прогорело, прогудело через грудь и голову, как через дымоход большой печи! Так мало зная, выкраивал из обрезков, составлял картину за картиной — как там? и на каждый вариант давал решения. Его решения, при его теперь опыте, все были безупречно верны, но всякий раз обманчива картина, и последующие телеграммы опровергали и изменяли предыдущие. А своей надёжной информации из России — не было, не бывало и не могло быть никакой.
С годами узнаёшь самого себя. Даже без интеллигентского самокопания нельзя не заметить некоторых своих свойств. Например, инерцию. В 47 лет не легко даются кидания. Даже увидев, угадав правильные политические шаги — не сразу разгонишься. А когда разгонишься — остановиться так же трудно.
Громовая новость из России не сбила вмиг с прежнего движения, не забрала в одну минуту — но забирала, забирала всё сильней. И уже первая ночь прошла в муках своей ошибки: почему, почему не переехал в Швецию полтора года назад, как звал Шляпников, как предлагал и Парвус? зачем остался в этой безнадёжно-тупоумной буржуазной Швейцарии? Так казалось ясно все годы войны: ни за что из Швейцарии, пересидеть здесь до конца. А сейчас так стало ясно: ах, надо было уехать вовремя! Для раскола ли шведской партии, для близости ли к русским событиям — но в Стокгольм! Туда можно и вызвать кого- нибудь из России, из наших, например думских депутатов, если вернутся из Сибири.
И раньше это можно было сделать совсем незаметно — через Германию, конечно, единственным разумным путём. А сейчас, когда все зашевелились, забурлили, обсуждают — незаметно вышмыгнуть уже нельзя, ах, чёрт!
Однако, и бездействовать нельзя ни минуты: что там удастся, не удастся, а действовать надо начинать! И утром 3-го, едва проснувшись, захлопотал отсылать испытанным путём фотографию для проездного паспорта — Ганецкому. (Бедняга Куба тоже натерпелся: в январе был арестован за нелегальную торговлю, выслан из Дании.) И следом же дал телеграмму, объясняя открыто (как будто б сами не догадались, зря, сорвался, от нетерпения): фотографию дяди (значит Ленина) немедленно переслать в Берлин Скларцу, Тиргартенштрассе 9.
Надо было мириться со всей компанией немедленно, больше никто не мог помочь и вывезти его.
Утро 3-го принесло и новые телеграммы: будто бы царь отрёкся!!! (Да возможно ли так стремительно? совсем без боя?? да что ж могло его заставить??? Э-э, тут какая-то западня. А кто — вместо него? Нет Николая, так будет другой, поумней.) И будто создано Временное правительство (а надёжно ли арестованы царские министры?) с Гучковым, Милюковым и даже Керенским (луиблановщина презренная, до чего ж эти лже-социалисты любят всунуть задницу в буржуазное кресло).
И — что за восторг у эмигрантских болтунов? — уж тут ни один рот не закроется до вечера и до утра, розовое блеянье. А вдуматься: полную неделю заливали Петербург рабочей кровью и — как во всей европейской истории, 1830-й, 1848-й, вечная доверчивость масс! — отдали чистенькую власть этой буржуазной сволочи, этим Шингарёвым-Милюковым. Какой старый шаблон!
В эмигрантской библиотеке пусть вываливают языки, но истинный революционер — насторожись! напрягись! следи! Там сейчас такого напутают, всё отдадут в поповском умилении, ведь настоящих тактических голов нет ни у кого. Жгло, что сам — не там, невозможно вмешаться, невозможно направить.
Всю зиму не вспоминал Коллонтайшу, но вот за несколько дней стала она — из главных корреспондентов, переместились события к ней туда. И едва отослав фотографию Ганецкому, сел за письмо Александре Михайловне: разъяснить, как мы будем теперь. Наши лозунги — всё те же, конечно: превращать империалистическую в гражданскую! А что кадеты у власти, схватились дурьи головы — так это даже-даже-даже хорошо! Пусть, пусть милейшая компания обеспечит народу обещанную свободу, хлеб и мир! А мы — посмотрим. А мы — вооружённое ожидание! Вооружённая подготовка к более высокому этапу революции. И социалистам-центристам, Чхеидзе — никакого доверия! никакого слияния с ними!
мы — отдельно ото всех! мы — только о т д е л ь - н о ! Мы — не дадим себя запутать в объединительные попытки. И вообще: будет величайшим несчастьем, если кадетское правительство разрешит легальную рабочую партию — это очень ослабит нас. Надо надеяться, что мы останемся нелегальными! А если уж навяжут нам легальность, то мы обязательно сохраним подпольную часть: в подпольи — наша сила, подполье совсем покинуть нам нельзя! Мы должны будем вырвать у кадетских жуликов всю власть. И только тогда будет „великая славная" революция!.. Я — вне, вне себя, что не могу тотчас же ехать в Скандинавию!
А 4-го с утра все сведения опять обернулись: кадетское правительство совсем еще не победило, царь — нисколько не отрёкся, но — бежал, но — неизвестно где находится, а по шаблону всех европейских революций совершенно понятно: собирает контрреволюцион: ную тучу, он собирает свой Кобленц. А даже если это ему не удастся, он может выкинуть вот что, да, вот что: он, например, убежит заграницу и издаст манифест о сепаратном мире с Германией! Да, очень просто! И они же очень коварные, Романовы. (И на его месте так и надо делать, блестящий шаг: мужицкий царь-миротворец!) И сразу — народное сочувствие к нему в России, кадетское правительство шатается и бежит, а Германия — Германия перестаёт быть союзником нашей революционной партии, мы им уже больше не нужны... (О-о-о, ехать в Россию еще надо сильно подождать, еще там делать нечего. И зачем послал Га- нецкому телеграмму? — глупость какая, дал след.)
Александра Михална, боимся, что выехать из этой проклятой Швейцарии нам не так скоро удастся, это очень сложное дело. Мы лучше всего поможем, если будем вам из Швейцарии посылать советы.
Итак, товарищам, уезжающим из Стокгольма в Россию, надо дать чёткую тактическую программу. Это можно представить тезисами... Рука уже пишет тезисы... Главное для пролетариата — вооружить- с я , это поможет при всех обстоятельствах: сперва раздавить монархию, а потом — кадетских империалистических грабителей... А, Григорий! Помогай, садись... Значит, новое правительство не сможет дать народу хлеба, а без хлеба их свобода никому не нужна. А хлеб можно только силой отнять у помещиков и капиталистов. А это может сделать только рабочее правительство (только м ы )... Да! дописать Коллонтайше: познакомьте с этими тезисами Пятакова и Евгению Бош. (Пришла пора — нельзя пренебрегать и поросятами. Сейчас никем нельзя пренебрегать. Сейчас вот кто бы пригодился — Малиновский! ах! Замарали человека, не отреабилитируешь. А он в лагерях военнопленных очень положительную работу ведёт. В январе еще раз заявили, в его защиту. Надо — спасти, надо
— вернуть.) ...Дальше... Вот важная мысль: надо не упустить пробуждать отсталую прислугу против нанимателей — это очень поможет установить власть Советов. Что значит подлинная свобода сегодня? Это, во- первых, перевыборы офицеров солдатами. И вообще
— всеобщие собрания и выборы, выборы во все места. И отменить всякий надзор чиновников над жизнью, над школой, над... А нынешняя свобода в России — крайне относительная. Но надо уметь её использовать для перехода на высший этап революции. И ни Керенский, ни Гвоздёв не могут дать выхода рабочему классу... Ладно, почта скоро закрывается, надо нести отправлять.
Но смотри, Григорий, объявили амнистию. Амнистия — всем, значит и свобода всем левым партиям? Неужели решились? Плохо. Это плохо. Теперь легальный Чхеидзе со своими меньшевиками развернётся — и займёт все позиции, все позиции раньше нас. И опять нас обгонят?..
Нет, нет! Нельзя сидеть сложа руки, надо что-то готовить. И быстро! Поедем-не поедем, революция еще и назад может покатить, сколько раз так бывало, ничему доверять нельзя, — а мы должны на всякий случай готовить путь. И знаешь что... Вот что... Сегодня
— суббота? Плохо. А всё равно: кати-ка ты в Берн назад, да, поезжай немедленно назад, а больше некому: постарайся застать дома Вейсса, сегодня поздно вечером бы самое лучшее, а то он на воскресенье куда-нибудь уедет. И пусть — прямо идёт в немецкое посольство. В понедельник! Надо же это кольцо заклятое прорывать. Почему Ромберг сам молчит, никого не посылает? Удивляться надо. Они должны быть заинтересованы больше нас: мы можем хоть обдумывать путь через Англию, а у них же никакого другого выхода нет. И научи Вейсса так: ни в коем случае конкретно обо мне и тебе, что вот именно нам двоим нужно ехать, но что многие бы хотели, между ними и мы. Так позондируем — какие возможности?.. Что надо просить? Допустим, чтобы Германия сделала публичное заявление, что она готова пропустить в Россию всех, кто... кого влечёт туда свободолюбие. Вот так. Для нас такое заявление было бы вполне приемлемой основой.
А вот еще! Все эти дипломаты — они же дубины, они в революционном движении ничего, никого не различают. Пусть Вейсс придаст нам весу. Пусть скажет загадочно, так: революционное движение в России полностью руководится из Швейцарии. Каждая важная акция должна быть прежде всего решена в Швейцарии. Буквально: в России не делают ни одного важного шага, не получив указаний от нас. И поэтому в нынешней обстановке... Понял? Ну, поезжай. Мне завтра тоже на поезд рано утром, в Шо-де-Фон, на реферат.
Такое настроение было к Коммуне три дня назад
— а вот, растеребилось.
Утром, по спешке и рассеянности, надел он шапку совсем затрёпанную, не ту — ив Шо-де-Фоне председатель профсоюза принял его за бродягу, не хотел верить, что это и есть ожидаемый лектор.
В воскресенье днём в клубе часовщиков читая по- немецки, — не по писаному, по коротким тезисам развивая свободно — реферат „Пойдёт ли русская революция по пути Парижской Коммуны?" перед двумястами собравшихся, он плохо ощущал своих слушателей, что им интересно и чего они ждут, он как будто потерял чувствительность — не видел зала, не ощущал бумаги в руке и обронил чувство времени. Да больше: он потерял нежность к своей исконно-любимой Коммуне и, затягиваемый, незаметно сам всё более затягиваемый, уже сливал два опыта двух революций, не столько в формулировках, сколько в забегающих мыслях и чувствах, два опыта — Коммуны и этот, внезапно расцветший — обманный? или единственный, всею жизнью готовленный: не повторить нам ошибок Коммуны, её двух основных ошибок: она не захватила банков в свои руки и была слишком великодушна: вместо повальных расстрелов враждебных классов — всем сохраняла жизнь и думала их перевоспитывать. Так вот, самое гибельное, что грозит пролетариату — это великодушие в революции. Надо научить его не бояться безжалостных массовых средств!
Что там вывели часовщики Шо-де-Фона, а сам он всё больше захватывался тревогой: ведь время утекает! Пока читается тут реферат, а там, в Петербурге, что-то утекает неповторимо, кто-то жалкий и недостойный всё более вцепляется во власть.
Тут на трибуну заступил французский лектор, а Абрамович собрал всех здешних русских, и, пока было время до поезда, минут 25, Ленин стал и им читать что-то вроде реферата — да всё о том же, только теперь уже без сравнений, прямо — что забирало и их и его, и прямыми же словами кончил:
— Если понадобится, то мы не испугаемся повесить на столбах восемьсот буржуев и помещиков!
Поезд покачивал, а он — всё думал и думал. В Петербурге нет настоящей силы. Сила — это царь с его аппаратом, но их вытолкнули. Сила — это армия,
но она прикована к фронту. А кадеты — никакая не сила. А Совет депутатов — много ли весит? как он там? И большая опасность, да почти наверняка, его захватывают сейчас чхеидзевые меньшевики. В Петербурге — пустота, в Совете — пустота, и засасывающе ждёт, зовёт — его силу. И если бы успеть взять Петербург — можно было бы потягаться и с армией, и с царём.
Так — ехать? Решиться — ехать???...
Побалтываемый быстрым бегом поезда, во втором классе, Ленин сидел у окошка, отражаясь в его темноте вместе со светлой внутренностью вагона, смотрел, смотрел, не замечал, как давал билет на проверку раз и другой, не слышал, как проходили, объявляли станции, — думал.
Ехать?..
То состояние, когда не видишь, не слышишь — сидят ли тут еще в вагоне другие. При окне — один, в поезде — один, и потому Инесса — не в Кларане, Инесса едет с ним рядом. Как хорошо, давно так не говорили.
Понимаешь, ехать — никак нельзя. И не ехать — никак нельзя... А вот что: а не поехать ли вперёд пока тебе? Ты и ничем не рискуешь. И тебя везде пропустят. (Это — вполне невинно, это — не противоречие: кого любишь — того и посылаешь вперёд, естественно, о ком больше всего заботишься — вместе с тем и о деле заботишься. Так — всегда, а как же иначе? И если не отказала прямо — значит, согласна.)
Скоро год, как не виделись. И уже как-то оно распадалось... Но в день знаменательный, коммунный, счастливый, болтаемый в поезде бок-о-бок с Инессой, — он тепло и радостно почувствовал прежнюю близость её и неизбежную надобность её, так почувствовал, что два слова сказать ей всамделишных — вот сейчас загорелось, до завтра нельзя отложить!
И на одной станции выскочил, купил открытку. На другой — бросил в почтовый ящик.
... Дорогой друг!.. Прочёл об амнистии... Мечтаем все о поездке...
Определённо — да: мечтаем. Вот сейчас отчётливо: мечта!
... Если поедете — заезжайте. Поговорим...
Ну, правда же, ну надо же повидаться... Миг-то какой! Приезжай!..
... Я бы дал вам поручение узнать тихонечко в Англии, мог ли бы я проехать...
Англия, конечно, не захочет пропустить: враг воины, враг Антанты. Но как бы её обмануть, Англию?
Впрочем, через Францию-Англию-Норвегию ехать
— это может уйти и месяц. А новая власть за это время отвердеет, найдёт свою колею, покатится — и уже не расшатаешь её, не свернёшь. Надо спешить, пока не затвердела.
Так же и война: привыкнут люди, что война и при революции продолжается, и так должно быть.
Потом: немецкие подводные лодки. Уж такого момента дождавшись — и теперь рисковать? Могут только дураки.
Ночью, уже у себя на Шпигельгассе, перерыви- сто спал. И через сон и через явь всё настойчивей начинала нажигать эта мысль: ехать? Поехать?..
А утро принесло телеграммы все едино, без противоречий: отрёкся царь! отрёкся — несомненно! И он, и Михаил, вся династия, вся шайка — отреклась!!!
Реставрации — не будет!!!
И вопрос зажёгся теперь только: как? Путём
— каким? Каким способом? Да побыстрей! Теперь и часа нельзя было промедлить — скорей туда! Не опоздать! Захватить руль! Исправить, направить, скорей!
Сегодня Вейсс у Ромберга. Хорошо. Но это еще пока... зондировка, запросы, ответы... Глухонемой швед было кинуто три дня назад, тоже Ганецкому, несерьёзно. Серьёзней — фотография для паспорта (хорошо, что послал): может ли она сегодня быть уже у
Скларца? Нет, конечно. Послезавтра. А потом — рассматриваться в министерстве, в генштабе. Они должны бы и не ждать, должны бы сами догадаться и поторопиться — послать, предложить. Молчат. Дубины. Лестница бюрократическая.
Или — дорожатся, чтобы больше взять? Тогда — ничтожные политики. Вперёд, на большом участке пути — реальный союз, сепаратный мир. А там, а там... Прусские юнкерские мозги конечно не уследят за спиралями диалектики. Разве они видят дальше сегодняшних своих окопов? Что они знают о мировой пролетарской революции? Дальше, конечно, мы их переиграем, на то мы и умней. Но пока что им бы только сепаратный, да оттянуть прибалтийские губернии, Польшу, Украину, Кавказ — так это мы и сами отдаём, давно говорим.)
И Зифельд не идёт. И Моор не отзывается.
Но — Парвус? испытанный умница Парвус! — что же он? Израил Лазаревич! Я сижу в этой Швейцарии как в заткнутой бутылке! Вы же понимаете, вы-то знаете, как надо успевать на революцию! Почему не получаю предложений ехать? Делается ли что- нибудь?..
В комнате на Шпигельгассе — как в норе, солнца
— никогда в окне не бывает.
Та-ак... Та-ак, одуматься некогда, что-то обязательно упускаешь. Что они там делают, в Петербурге
— Каменев, Шляпников? На Каменева ложится историческая ответственность. Тезисы к ним потекли, но это когда еще... А вот что: надо сжато повторить телеграммой. Телеграмму в Стокгольм, партийная касса не разорится. Надя, Моисей, кто пойдёт телеграмму сдаст: наша тактика — никакого доверия новому правительству! никакого сближения ни с какой партией! только — вооружение! вооружение!.. Платком укутайся, бронхит!..
А вообще-то на всякий случай, если немцев не дождёмся, надо готовить путь и через Англию. Пусть, например, Карпинский готовит: берёт проездные бумаги на своё имя, а фотографию приложим мою. Мою, но в парике, а то по лысине узнают. Срочно ему писать! Срочно в Женеву! Кто отнесёт на почту? Ладно, сбегаю сам.
Сильный холодающий ветер дул по узким переулкам, и когда порыв усилялся да навстречу — прямо останавливал. А хорошо идти — поперёк, против! Так привык всю жизнь, так шёл всегда — и не раскаиваюсь. И другой жизни не хотел бы!
Тот же ветер взнёс по переулку наверх, домой — и как раз вовремя: зовут к телефону на другой этаж. Кто б это мог? Почти никто того телефона не знает, для исключительнейших случаев.
По тёмной лестнице.
Инесса!! Прямо из Кларана! Голосок — как переливы рояля под её пальцами...
— Инесса, как давно я тебя не слышал!.. Любимая!.. А я вчера с дороги послал тебе откры... Надо немедленно ехать, нам надо всем ехать! Я готовлю тут разные варианты, какой-то сработает обязательно! Но вообще надо разведать и английский путь. И, может, удобнее всего было бы тебе... Что?.. Неудобно?.. Ну, я не настаиваю никогда, ты знаешь... Не уверена, что вообще поедешь? Вообще??. Колеблешься?.. (Какой- то сбой, мысли не сходятся. Когда долго не видишься — и всегда сбой, настроения не прилегают, а тут еще и по телефону.) ... Почему же нет? Да как же можно вытерпеть! ...А я был — совершенно уверен! Мне в голову не... Да, нервы, конечно,.. Да, нервы... (По телефону о нервах не разговоришься, франк минута.) Ну, ладно... Ну попорбую как-нибудь, да...
Ах, лучше б и не звонила, только настроение опустилось... Оборвала и настроение и план...
Как же испортились отношения, не узнать. И — отчего? Уж портиться бы — отчего? Уж как он ей выстилает, как уступает — кому, когда?..
Удивлялся, что втроём — и держится. Вот и не удержалось...
Занозилось, заныло от этого разговора, ничем заняться себя не заставишь. Сел к окну, где посветлей, на коленях писать программу дайствий для петербургских, они ведь сами никогда ничего ... За окном ветер просто ревел и в щели дуло, каких раньше не замечал. Март, а печку бы истопить? Скажут хозяева — уголь перетрачиваем. Пальто накинул.
Начать надо с анализа обстановки. Точной обстановки он не знал и не мог восстановить по скудным газетным обрывкам, но хорошо понимал по общей теории, и ничего другого в Петербурге происходить не могло... Произошло в России чудо? Но чудес не бывает ни в природе, ни в истории, только обывательскому разуму кажется... Разврат царской шайки, всё зверство семьи Романовых, этих погромщиков, заливших Россию кровью евреев, рабочих... Восьмидневная революция... Но имела репетицию в 1905 году... Опрокинулась телега романовской монархии, залитая кровью и грязью... По сути это и есть начало всеобщей великой гражданской войны, к которой мы призывали...
Недоговорённое с Инессой — мешало работать. От звонка поднялось — и не улегалось. Как-то взаимонепонятно, ершисто... Колет...
Естественно, что революция разразилась раньше всего в России. Этого и надо было ожидать. Этого мы и ждали. Наш пролетариат — самый революционный... Кроме того весь ход событий ясно показывает, что английское и французское посольства с их агентами непосредственно организовали заговор вместе с октябристами и кадетами...
Что ж, мы уедем — а она останется? Совсем — останется? Ведь события могут так раскидать, разделить...
В новом правительстве Милюков — только для сладеньких профессорских речей, а решают пособники Столыпина-вешателя... Совету рабочих депутатов надо искать союза — не столько с крестьянами, но в первую голову — с сельскохозяйственными рабочими и с беднейшими крестьянами — отдельно от зажиточных. Важно уже сейчас раскалывать крестьянство и противопоставить беднейших — зажиточным. В этом гвоздь
Ну, просто ураган! И как будто снег срывает. Уже и от окна света нет, опять лампу...
• Нет, не успокоиться, пока снова не написать Инессе. Вот прямо сейчас и написать.
... Не могу скрыть от вас, что я разочарован сильно. Теперь надо — скакать, а люди чего-то „ждут"... Через Англию под своим именем — меня просто арестуют... А я был уверен — вы поскачете!.. Ну, может быть здоровье не позволяет?.. Так пусть хоть Крыленко попробует — узнаем, как дают? какой порядок?
И вот уже нытьё облегчилось, отлегло, а зацепилась и потянула новая идея, использовать это письмо:
... Да тут только задуматься: около вас там живёт столько социал-патриотов и разных беспартийных русских патриотов, и богатых! — почему же им не придёт в голову простая мысль ехать через Германию? — вот им бы и попросить вагон до Копенгагена. Я не могу этого сделать, я — „пораженец". А они — могут. О, если б я мог научить эту .сволочь, этих дурней быть поумнее!.. Вы — не подскажете им?.. Думаете, немцы вагона не дадут? Держу пари, что дадут! Я — уверен просто! Конечно, если дело будет исходить от меня или от вас — всё сразу испорчено... А — в Женеве нет дураков для этой цели?..
Вот к этому и свелась теперь вся проблема: не Францию-Англию разведывать, нет, ехать только через Германию, конечно! Но: как, чтоб не от себя, чтоб это возникло от кого-нибудь от другого?..
Если кто сомневается, можно хорошо убедить так: ваши опасения — курам на смех! Да неужели же русские рабочие поверят, что старые испытанные революционеры действуют в угоду германскому империа
лизму? Скажут — мы „продались немцам"? Так ведь про нас, интернационалистов, и без того уже давно говорят, раз мы не поддерживаем войну. Но мы делами своими докажем, что мы н е немецкие агенты. А пока надо — ехать, ехать, хоть через самого дьявола.
Но — кому внушить инициативу? А без этого и возможность будет — а ехать нельзя. Нам одним, первым нам, от себя — нельзя, в России окажется трудно.
Так и прокатился день, не дав решения и выхода...
А за один этот день — что там в России наворочено!
Туда, в ревущую тьму, прислониться к тёмному стеклу — мелькало, мелькало, неслись косые пули! Вот такое ив Петербурге сейчас. Бешено выло в трубе, стучало где-то на крыше, никогда не стучало, что-то оторвало. Ну, закручивало!
Как будто вот последние часы упускаем, последние часы. Писать им, писать дальше:
— ...Милюков и Гучков — марионетки в руках Антанты... Не рабочие должны поддерживать новое правительство, а пусть это правительство „поддержит" рабочих... Помогите вооружению рабочих — и свобода в России будет непобедима! ...Учить народ не верить словам!.. Народ не пожелает терпеть голода и скоро узнает, что хлеб в Росси есть и можно его отнять... И так мы завоюем демократическую республику, а затем и социализм...
Раскрутилось внутри, вытягивало жилы рук и ног от бездействия. А — пойти в эту бурю, выходиться! Иначе ведь всё равно не заснуть. Пусть ветер потолкает, продует.
Внизу лестницы — запахнулся, старую шапку нахлобучил крепче. (Спросил председатель шо-де-фонско- го профсоюза: „Это что за пилот?")
Сразу — как толкнуло, как понесло, ну, настоящий ураган! А — по сухому, снега мало. Фонари все видны, а небо тёмное. Брян-нь! — выбило стекло из уличного фонаря. Черепицей стучит, тут и на голову свалится.
Узкие, узкие, узкие улочки старого города, в какую сторону ни иди — лабиринт. Заблудишься тут как мышь, не вырвешься на просторы петербургских площадей.
Управляли Россией 40 тысяч помещиков — неужели ж мы столько не наберём и не управим получше?..
На Нидерхофштрассе, улице ночных гуляний, прохожих почти никого, все забились за светлые окна. И барахтается в ветрище беспомощный — сжатый, нагнутый, вялая, рыхлая, знакомая фигура... Григорий! С вокзала? Приехал опять?
— Владимир Ильич, много важного, решил приехать.
— Ну, что Вейсс? Был у Ромберга?
— Был сегодня. Сейчас расскажу. Трт обрадовался!
Один туда качнётся, один сюда, руками от ветра отбиваясь, шапку хватая. Побрели назад. Говорить трудно, но и не терпится.
В Берне весь день заседал эмигрантский комитет по возвращению на родину, и Григорий там от нас. Ну и что, как?
Говорильня, говорильня, перебирали все варианты
— и через союзников и через Скандинавию. А Мартов предложил — через Германию!
— Мартов??
— Через Германию!!
— Мартов???
Воздуха нет кричать.
— Да! В обмен на немецких военнопленных в России!
— Ма-артов???
— Получить согласие Временного правительства... Через Гримма — в переговоры с швейцарскими властями...
Что за удача! Какая удача! Предложил — Юлик, не мы! Так и назовём — план Мартова! А мы
— только присоединяемся.
Первое слово — сказано!
10 марта [23 марта]
Германский посол в Берне барон Ромберг —
в м.и.д. Шифровано. Совершенно секретно.
Выдающиеся здешние революционеры имеют желание возвратиться в Россию через Германию, так как боятся ехать через Францию — из-за подводных лодок.
10 марта [23 марта]
Статс-секретарь германского м.и.д. Циммерман —
в Ставку Верховного главнокомандования.
Так как в наших интересах, чтобы в России взяло верх влияние радикального крыла революционеров, мне кажется уместным разрешить им проезд.
12 марта [25 марта]
Ставка — в м.и.д.
Никаких возражений против проезда русских революционеров в групповом транспорте с надёжным сопровождением.
13 марта [26 марта]
Германское м.и.д. — послу Ромбергу. Шифровано.
Групповой транспорт под военным наблюдением. Дата отъезда и список имён должны быть представлены за 4 дня. Возражения Генерального Штаба против отдельных лиц — маловероятны.
14 марта [27 марта]
Посол в Берне Ромберг — райхсканцлеру Бетману-Гольвегу.
Совершенно секретно.
Из обстоятельного разговора с нашим русским доверенным лицом Вейссом я установил, каким образом мы можем поддержать революцию в России... Необходимо избегать всего, что может быть использовано поджигателями войны в России и в странах Антанты. Сторонники мира в России возьмут верх... Я ответил, что если Германия придерживалась более всего царской династии, то потому, что в прежние времена только от неё встречала понимание и поддержку своей миролюбивой политики. Если же теперь такие добрые намерения мы встречаем у крайних левых, это тоже нам подойдёт.
Об условиях мира он сказал, что его партия не будет вести войну из-за Курляндии и согласна на выделение нейтральной Польши.
Он разъяснил мне, что кадеты в союзе с Антантой обладают неограниченными средствами для пропаганды, а у революционеров в этом отношении большие трудности. Вейсс до сих пор претендовал лишь на весьма малые суммы из опасения, что обладание большими вызовет к нему подозрение в собственной партии. Но сейчас эти возражения отпадают. Чем большие суммы мы можем ему предоставить, тем больше может он действовать в пользу мира. Я бы усиленно рекомендовал предоставить г-ну Вейссу во всяком случае 30 тысяч франков за месяц апрель, которые он в первую очередь хочет использовать, чтобы сделать возможным путешествие в Россию для важнейших партийных товарищей. Думаю, было бы неумно в этот решающий момент его ограничить и тем оттолкнуть. Могу ли я ему пообещать и дальнейшие субсидии?
От того вечера 6-го марта, как налетела на Цюрих буря и всю ночь толкалась на старый город, а на рассвете повалила густым снегом, и вскоре дождём, а потом крупой, и снова снегом, и опять дождём, а к вечеру снегом, и только за следующую ночь весь город убелив, успокоилась, — от той бурной ночи и того дня, исшагивая и избегивая скудное камерное пространство своей комнатёнки от обеденного стола до полутёмного окна, не выпускаемый из клетки Швейцарии, непогодой задержанный в комнате и не удерживая клеткой грудной, как выпрыгивала страсть вмешаться в действие, — Ленин не сам решил, но за него решилось: раз он задерживается, то отсюда, не мешкая, писать и посылать питерским большевикам программу действий, писать и посылать, и посылать, не окончивши писать, а значит как бы вроде писем, и едва кончивши, сколько есть за сутки, скорей нести кому-нибудь на почту, а самому бросаться в газеты (теперь уже их покупая все подряд, вся комната завалена) и выискивать, выискивать по кусочкам из того, что схватили и разглядели близорукие западные корреспонденты и отобрали как достойное для своей газеты убогие буржуазные умишки — выискивать и выхватывать, и понимать в разящем свете партийного проникновения — и разворачивать, разъяснять перед непонимающими, растерянными или глупенькими. „Защита новой русской республики" ? — обман и надувательство рабочих! Лозунг „а теперь вы свергайте своего Вильгельма!"? — ложный, все силы на свержение бур-
жуазного правительства в России! Временное правительство — правительство реставрации монархии, агент английского капитала! И — лучше раскол с кем угодно из нашей партии, чем сотрудничество с Керенским или Чхеидзе, чем доля уступки им! .
А в этом разворачивании и разъяснении сам для себя находя, тут же и для партии встраивал недостающие звенья и планы организации: в ответ на великолепный манифест большевистского ЦК (это — Каменев, голова, это он наверно!), объявленный в Питере еще 28 февраля, а сюда дошедший через 10 дней отрывком в случайной газете, — предложить им и объяснить, как же организоваться (не так, как он советовал в 905-м, а теперь): вооружение народных масс целиком! народная милиция изо всего поголовно населения от 65 до 15 лет (втягивать подростков в политическую жизнь!) и обоего пола (вырвать женщин из одуряющей кухонной обстановки!) — и чтоб эта милиция стала основным органом государственного управления! Только так: оружием в руках у каждого будет обеспечен абсолютный порядок, быстрая развёрстка хлеба, а затем вскоре — мир и социализм!
И от вторника 7-го до воскресенья 12-го вырвались четыре таких „письма из далека" и тут же сдавались на почту экспрессами (когда уже написано — тем более жжёт, нельзя задержать, нельзя удержать)
— кому же? — Ганецкому, умному славному расторопному Кубе, а он будет отправлять, налаживать туда дальше, в Петербург! (А копии — сразу Инессе, а та
— Усиевичу, а тот — Карпинским, а те — назад, и всё экспрессами, это всё крайне важно для спевки о тактике.) Почти всё время кто-нибудь спотыкается — на почту, а еще же искать по киоскам и читальням непрочтённые газеты и снова анализировать, угадывать — и светом луча выбрасывать вперёд новые пункты программы! А тут Луначарский увиливает выступить против Чхеидзе — предупредительную холодность ему. Тут Горький, недоумок, суётся в политику: приветствие Временному правительству да басенки „почётного мира", архивредное выступление, придётся ударить по рукам! (Не можешь выдержать партийной линии, так и не суйся, пиши свои картинки.) А там неприятности с Черномазовым в Питере, мало им Малиновского, хотят и вовсе залить нашу партию помоями. А там Коллонтай уезжает в Россию, счастливая! А тут, пока застряли, успеть бы на машинке перепечатать 500 страниц „Аграрной программы", кто бы взялся? А еще: как не написать листовки к русским военнопленным, их 2 миллиона: заявите громко, что вы вернётесь в Россию как армия революции, а не армия царя (вполне бы их могли использовать и против); а мы поспешим уехать и будем посылать вам из России деньги и хлеб... А еще: как же при отъезде не написать прощального письма к швейцарскому пролетариату, еще раз заклеймить шовинистов, еще раз указать им путь (только это опасно, может помешать отъезду. А вот как: написать, оставить здесь, а уже из России телеграммой взорвать, пусть печатают.) А тем временем...
...а тем временем совсем плохо с Инессой. Обижена. Сердится. Сидит в Кларане (а может уже и не в Кларане? вот письма прервались, может уже и не там). Сердится, но, как всегда у женщин, это выворачивается во что-то другое, стороннее: будто бы „теоретические разногласия", возражает и капризничает, где ребёнку ясно. Как бы нужна была тут, рядом! Какое время! — неужели время для бабьих обид? Некому собрать, систематизировать все телеграммы из России, ведь что-нибудь пропустишь наиважное! Но не только не захотела испытать английский путь возврата, а даже в Цюрих не хочет приехать на денёк! В Четырнадцатом году ехала для него с Адриатики в Брюссель, бросив детей, а сейчас без детей и из Кларана — ни разу не приехала на денёк.
И нельзя понять: вообще ли поедет с нами?..
Но всё это, всё это кружилось как внешние воронки на воде, даже с Инессой, — а главные события большими толстыми тёмными рыбами беззвучно проходили близ дна.
Ганецкий коротко отозвался: будет! Но пытка была — дождаться. По расчёту дней уже мог быть приготовлен в Берлине паспорт и прислан сюда — а не было.
И молчал всесильный Парвус.
Да он справедливо мог быть и в обиде. А не исключено: испытывал Ленина нервы, усилял свою позицию выжиданием.
Но некуда было деться им друг от друга: события соединяли их.
Если платили ему миллионы ради призрака, — то сейчас-то есть для чего платить.
И — будет, куда принимать. И теперь-то и нужно, не тогда.
А тем временем в шумных „Комитетах возвращения", хотя и с перевесом циммервальдистов, льнули все к законности, ждали разрешения от продажного тучковского правительства, а оно уже слало 180 тысяч франков от частных сборов — на возврат дорогим соотечественникам, только конечно через союзников (где и германские подводные лодки топят транспорты дураков) — и уже вокруг этих денег начинались интриги, могли обделить большевиков, собрания шли чуть не до драки.
Ильич на те заседания конечно не ходил, но ему подробно рассказывали. И чем больше все эти споры накалялись — а швейцарско-эмигрантское настроение было только отблеск того, что в России подымается, — понял Ленин, что он поспешил, сорвался: никакого отдельного паспорта получать нельзя, ехать одному невозможно.
И 10-го, ровно через неделю после фотографии, послал Ганецкому отменную телеграмму: „Официальный путь для отдельных лиц неприемлем/'
Всё, отказались.
Зато Цивин-Вейсс ходил и ходил к Ромбергу. Тот уверял, что идёт усиленная переписка с Берлином, даже курьерами. И постепенно — из темноты, из будущего, из никогда не бывалого, проступали контуры крупного замысла — как большой паровоз из тумана — да только медленно-медленно проворачивал он свои колёса или всё еще стоял.
А за ним — вагон.
Проступал из тьмы — вагон.
Неплохо. Приемлемо.
Но там пока для этих болтунов, для Комитета по возвращению, надеюсь...? эти условия не открыты?..
Нет, нет. Нет-нет. То — официально, здесь — конфиденциально.
Хорошо, хорошо. Так постепенно, несколькими головами, общими усилиями — что-то выявляем, выявляем, находим. Стало потвёрже. (Но — как тянулось! Но — непохоже на немцев как! Да ведь их еще больше должно припекать, когда объявило Временное, что продолжает войну.)
Стали готовить список, кто поедет. Запрашивали своих по всей Швейцарии, но —1 тайно, это важно, никого чужих не примешивать. Одновременно (тоже важно!) вслух говорили всем обратное: и Англия нас не пустит, и через Германию ничего не выйдет. И шумно обсуждали анекдотические попытки: Валя Сафарова просилась в английском консульстве, кто-то слал телеграфный протест Милюкову, а Сарра Равич придумала фиктивно выйти замуж за швейцарского гражданина — и так получить право прямого проезда. Смеялся Ленин и советовал ей „подходящего старичка" — старого Аксельрода, ничем другим уже не годного революции.
Y немцев с одной стороны тянулось, с другой — крутилось и чересчур проворно, верней — одна машина крутила независимо от другой. 14 марта вечером, воротясь из Народного дома, где два с половиной часа делал швейцарцам доклад о ходе русской революции — что истинная, вторая революция еще впереди, и есть для неё хорошая форма — Советов депутатов, и уже сегодня надо готовить против буржуазии восстание, — хорошо отвлёкся докладом, освежился от этих изжигающих безвыходных планов отъезда, охотно возвращался пешком по приятному вечеру, поднялся к себе — и ахнул: маленький, сухой, седовьющийся, с уголком платочка из кармана, сидел и улыбался, как ожидая радостной встречи, и от своей важности не торопясь подняться для рукопожатия, —
Скларц!!!
Не укорив, но и не похвалив, не сказав ни „плохо1', ни „хорошо", — Ленин пошёл на Скларца с пронизывающим косым взглядом (такой взгляд всегда пугал) — тот поднялся, теряя уверенность, и Ленин пожал ему руку, как хотел оторвать:
— Да? Что привезли?
Без путевых впечатлений, без вводных, без сантиментальностей: что привезли?
Коммерсант, всё более входящий в большую политику большой Германии, почтенно принимаемый заметными генералами и в министерствах, и при щедрости своей сегодняшней миссии, — опешил перед этим режущим взглядом щёлок глаз и недобрым изгибом бровей, усов, а всё остальное — как мяч футбольный, накативший ему в самое лицо, — опешил, потерял улыбку и то приятное многословие с предисловием, которыми думал развлечь, и даже приготовленные шуточки, — а сразу высказал главное и выложил на стол.
И не садился.
И Ленин не садился.
А Зиновьев сидел и сопел.
Вот что было. Скларц приехал уже не только от Парвуса, хотя Бегемотская голова всё и начал (начал сам, еще до ленинской просьбы, она пришла потом, начал по первым известиям о петербургской революции, рассудив, что не хуже Ленина знает, что нужно),
Скларц приехал со всеми полномочиями от генерала ного штаба на проезд через Германию и с обеспеченным выездным содействием здесь германского консула в Цюрихе, а если нужно, то и посла в Берне, — Скларц привёз готовые документы, — и вот они лежали, чудо, хотя чудес не бывает, — лежали на блеклой клеёнке в жёлтом кругу керосинового света.
Вот. Господин Ульянов. Госпожа Ульянова. Всё в порядке.
А — Зиновьев?..
Пожалуйста. И госпожа Лилина. Всё в порядке.
Да, но... А..?
И еще один, пятый, да, вот: госпожа Арманд.
Всё тонко знал, всё сам предусмотрел гениальный Парвус!
И — Инесса...
И всё! И все проблемы решены! И ни часа более не ждать, не маневрировать, не дипломатничать, не раздражаться, не посылать посыльных, не ждать известий, ни от кого не зависеть — собрать вещи — а их нет у революционера! <— и ехать хоть завтра утром! хоть завтра вечером! Двенадцать дней назад отрёкся царь — а мы через три дня будем в Питере — повернём всю российскую революцию, куда надо! Может ли быть быстрей во время мировой войны? Еще никто ничего не успеет испортить — а уже вырваться первым на первую петербургскую трибуну, опережая даже сибирских ссыльных, — и отворачивать Совет Депутатов от тучковского подлого правительства, и создавать всенародную милицию от 15 до 65 лет обоего пола, да что угодно!
Документы — лежали. С немецкими готическими вывертами, немецкими орластыми печатями и с пригодившейся, уже приклеенной, вот вернувшейся ленинской фотографией, — в керосиновом свете, драгоценные документы на дешёвой клеёнке, местами протёртой до переплёта нитей.
Таким документам сам канцлер должен был сказать: „да", чтоб их изготовили.
Парвус отплачивал долг, что перескакал когда-то.
И мешок Зиновьев — расплылся, руки потянул к бумагам.
Ленин вскинулся как на врага — тот замер.
Увы, уже понятно было: так просто сунуть руку в пламя революции — обжигалось.
И потерев, и нервно потерев над документами уже чуть обожжённые ладони, Ленин резко взял их назад, сведя за спиною вместе.
Такая сделка не могла бы потом укрыться. Невозможно будет прилично объяснить. И размотается, и размотается до самого Парвуса — и не прикроешься его славным революционным прошлым, — а прилепят тебя в ту же мразь, и руль революции вырвут из рук.
Да вот что: не потому ли Парвус так и старается, чтоб именно — Ленина замарать с собою вместе? Вот такой индивидуально-семейной поездкой накинуть петлю — а потом и в руки взять? а потом и условия диктовать — как революцию вести?
Но — вовремя разгадал Ленин ловушку!
— Так вы же сами заказывали, господин Ульянов!
— Нет коммерсанту оскорбления хуже, чем когда на хороший товар говорят: плохой.
— Заказывал. Но это была ошибка. Обстановка исправляет, — мрачно говорил Ленин, всё так же не садясь, всем напряжением не в речи, а там, внутри, в мысли, и оттуда чревовещательно диктуя: — Надо
— большую группу. Человек сорок. Вагон. Изолированный, экстерриториальный вагон.
Поднял глаза, посмотрел на Скларца внимательней, внимательней — и уже сочувственней, и даже веселей. (Сообразил: да этот человек за сутки может доехать до германского правительства! Да это великолепно, что он приехал. Спасибо, Парвус! Ну, немножечко изменим вариант, ну — несколько дней.)
И почувствовав, что Ленин к нему подобрел — расслабился, улыбнулся Скларц: он и в высоких сферах не привык к такому обращению, он ничем его не заслужил.
— Израиль Лазарич просил торопиться, — напомнил он. — А то — как бы это правительство народного доверия не заключило бы мира!
— Не заключит, не заключит, — развеселились глазные щёлки Ленина.
Усадил его, сел сам через угол стола — и не только словами, но всеми глазами внушал, гипнотизировал, чтоб тот запомнил и точно исполнил:
— Поезжайте и договоритесь прямо. Другие линии очень долго работают. Пусть хорошо поймут, что мы не можем себя скомпрометировать — и не ставят нас в такое положение. Пусть не ставят нам ограничений — кого там нельзя, годных к военной службе и так далее.
(Как раз сам Ленин и был годен. Но никогда не призывался как старший сын в семье — казнь брата дала ему эту льготу.)
— Или — отношение к войне и миру. Не устанавливали бы проверки паспортов, личного контроля. Как въехали — так и выехали, как неразбитое яйцо, понимаете? И чтобы — ни слова в печати.
Всё — внезапно. Вагон пропустить — как снаряд. Не дать публике времени узнать, обсуждать.
— Да! — вспомнил Скларц, порадовать самым приятным. — Стоимость проезда германское правительство берёт на свой счёт.
— Еще чего! — темно вспыхнули и по-разному два глаза Ленина. — Странно бы выглядел такой проезд. Какие ж там глупые у вас. За проезд обязательно платим мы! — Смягчился: — Но — по тарифу третьего класса.
И еще отдельно:
— Идёте ко мне — и не можете одеться скромно. Вас могли заметить товарищи. Из-за этого завтра еще перебудьте здесь, сидите в отеле, а ко мне пусть придёт Дора. Разумеется, без документов, а что-нибудь мямлить, а я ей буду отказывать. И только после этого вы уедете. А как только будет согласие правительства — чтоб дали нам знать немедленно!
Когда Скларц всё понял и документы собрал, пожал руку очень почтительно, благодарственно, и ушёл, —
— Как еще можно им ставить условия? — удивился размяклый Зиновьев, колыша вялыми плечами.
Ленин остро щурился:
— Никуда не денутся. Заинтересованы больше
нас.
— Про Скларца — скроем.
— Нет, Платтену скажем. Хуже, если узнает сам. Платтена, Мюнценберга — нам терять нельзя.
А еще, для страховки — немедленно письмо Га- нецкому (может, кому и покажет):
„Пользоваться услугами людей, имеющих касательство к издателю „Колокола", я конечно не могу..."
И даже:
„...Ваш план поездки через Англию..."
Чем больше прыжков и ложных ходов, тем безопасней нора.
Вот — предложенный Ромбергом вагон. Вагон. Надо проговорить его словами, надо помочь этому вагону, как цыплёнку, вылупиться в общественное сознание. Говорить, писать, бросать фразы:
— А может быть, швейцарское правительство получит вагон?..
— А не согласится ли английское правительство пропустить вагон?..
— Как это?
— А... от порта до порта. Отчего бы Англии не пропустить запираемый вагон? Например, с товарищем Платтеном и любым числом лиц, независимо от их взглядов на войну и мир?
— Но как же: Англия — остров, а — вагон?
— А... дальше — нейтральным пароходом. С правом известить все-все-все страны о времени его отхода.
(Чтобы германская подводная сдуру своих не потопила.)
А говорят о поездке — все и много. И несколько эмигрантских комитетов и все партийные направления просили Гримма вступить в переговоры с немецким послом. (Как Мартов предложил — за каждого эмигранта освободим пленного немца.) Отлично, отлично, план Мартова работает!
Гримм — взялся! (Еще лучше.) Но он не только вождь Циммервальда — он и член швейцарского парламента, и такой шаг неблагоразумно делать без сочувствия правительства, например министра иностранных дел Хоффмана. (И если Гримм взялся — значит, консультация была, заметим. А почему бы Швейцарии быть против? Швейцарии и самой бы неплохо эту шумную банду отправить. Швейцария сама стеснена войною со всех сторон.) Гримм ходит и ходит к Ромбергу, он ведёт переговоры абсолютно-секретные, чтоб не проникло в печать, чтоб не опорочить швейцарский нейтралитет, — но главным представителям каждой партии (Натансону, Мартову, Зиновьеву) он-то сообщает. Мы — знаем.
Улита едет — когда-то будет. Пусть, пусть.
А Ромберг всем отвечал: „да". И Гримм посчитал, что он легко всё исполнил: да — и да. Теперь остаётся вам, товарищи, обращаться за разрешением к своему Временному правительству.
Ах, спасибо! Ах, забыли перед вами шапочку снять! И потом век кланяться в ножки Луи Блану-Керен- скому?
Все эти острые дни ужасно не хватало Радека- плута, телефоном вызвали его из давосской санатории, отдыхал, даже на русскую революцию сразу не ехал. Но уже по пути всё понял и придумал еще один шаг отвлекающего зондирования: в Берне, через немецкого корреспондента.
Что ж, и тут был ответ от Ромберга, как и всем: да, да, конечно, всех желающих пропустим.
Но — не распахивалась германская граница, да и все желающие только узнать хотели, да посравнить, да спроситься Временного (слали телеграммы Керенскому), а так больше мялись.
Все согласны — и не начиналось ничто. Неуклюжи старинные дипломатические пути.
Не начиналось, пока тёмные крупные рыбы у самого дна не пройдут свой курс.
Пока Скларц не доложит в Берлине встречных предложений Ленина.
И германская Ставка скажет окончательно: да.
И министерство иностранных дел не всполошится: уже так много публичных разговоров об этом возврате, уже князь Львов откровенно сказал швейцарскому посланнику, что быстрый отъезд эмигрантов из Швейцарии нежелателен. Так надо ж поспешить! — из-за кого же тянулось? — этот шанс для Германии не повторится!
И 18 марта, в субботу, посол Ромберг в Берне получил наконец распоряжение как можно быстрей сообщить Ленину, что его предложения об экстерриториальности приняты, не будет личного контроля и ограничительных условий.
В субботу — и „как можно быстрей"! Значит — не перемедливать лениво воскресенья. И, нарушая все' законы осторожности, используя запасную крайнюю связь, германский посол стал вызванивать по телефонам, в Народном доме нашёл наконец социалиста- немца Пауля Леви: надо немедленно передать Ленину, что...
И еще одним звонком был вызван Ульянов к соседнему телефону на Шпигельгассе — и шёл, волнуясь, что это Инесса.
А это был — ответ!!!
И вот когда — путь был открыт! Вот когда можно было назначать группе в 40 человек отъезд хоть через два дня, ровно сколько нужно товарищам уложить вещи, сдать книги, уладить денежные дела, съехаться из Женевы, Кларана, Берна, Люцерна, купить продуктов на дорогу, можно было ехать уже во вторник, а в ту субботу — на одну субботу позже, чем со Склар- цем — вмешаться в русскую революцию!
Но еще во мраке тёмной затхлой лестницы, а потом в дневном мраке комнаты-камеры (с утра опять то крупный густой снег валил, то снег с дождём вперемежку), руки подхватывая к вырезам жилета, чтоб они не вырвались к действию прежде времени, и успокаиваемый пальтовой тяжестью старого засаленного пиджака, — Ленин заставил себя ни к кому не кидаться объявлять, но — подумать. Подумать. Подумать, бегая.
Потерять голову в поражении и в унынии не может твёрдый человек. Но потерять голову в успехе — легко, и это самая большая опасность для политика.
Всё открывалось — а воспользоваться и сейчас было нельзя: как потом объяснишь: через кого и как согласовано, что вдруг внезапно подали вагон одним ведущим большевикам — и уехали?
Еще надо сделать несколько отвлекающих, ослепляющих шагов.
Никакого простора бегать ногам, и на улицу не выскочить в такую погоду (и давно забыты читальни) — и вся беготня ушла в огненные вихревые спирали, провинчивающиеся в мозгу.
Поездка — открыта, да, но — куда? "Для задержки на финской границе? Или в тюрьму к Временному правительству? Можно представить, как там сейчас свистит шовинизм! По существующим мещанским представлениям это ведь так называемая „измена родине". И даже тут, в Швейцарии — меньшевики, эсеры, вся бесхребетная эмигрантская сволочь, закричат об измене.
Нет!
Нет.
Нет...
Пусть бы удерживали обстоятельства, но держать себя самого, уже свободного, рваться — и держать, до чего ж трудно!
Тут надо... тут надо...
Всё, что проплыло у дна тяжёлыми тёмными рыбами, теперь провести по поверхности беленькой парусной лодочкой.
Переговоры окончены? — теперь-то переговоры начать! Как будто сегодня начать их в первый раз!
И нет фигуры приличнее, чем доверчивый безлукавый Платтен.
Готовить группу — само собой. Да список уже и есть.
(Инесса! Неужели и теперь не поедешь? Чудовищно! С нами — не поедешь? В Россию1/ — на праздник, на долгожданный? Останешься в этой гнили?..)
Сорок человек — уже не обвинишь в измене. По сорока человекам пятно расплылось — и нет. Конечно, можно бы прихватить и максималистов и разных отдельных отчаянных, тогда б еще безгрешней. Но... Лучше с собой чужих не брать, лишние свидетели в пути, лишние свидетели каждого шага, а мало ли будет что. Да и в чём тогда успеванье, если своими усильями, в своём вагоне провозить врагов, а в Питере с ними бороться? Нет! Всё до последнего момента — втайне, и день и час отъезда втайне.
Только переговоры — открытые.
Не имея согласия уже в кармане — такие переговоры нельзя начинать: а вдруг не удадутся, что за позор! Но с согласием в кармане — вот тут-то их и вести.
И: как нужна высокая организация во всяком пролетарском деле, в каждом шаге пролетарского дела, — так и в этой,поездке. Жестокий обруч. Чтобы какое-нибудь дерьмо в сторону не вывернулось. Чтобы все заодно — и никто не уклонился, не сказал бы никто: а я не участвовал! а я не подозревал, в чём дело!
Поэтому — за подписью каждого. Как присяга, как клятва. Как разбойники целуют нож. Чтоб никто не отбился потом, не кинулся „разоблачать". Ответственность — самая серьёзная, и должны разделить все сорок.
(Неужели Инесса не поедет?..)
И уже — сидел, составлял такое обязательство. Уже набрасывал, на стуле у окна на коленях, в сумерках снежной вьюги, своим почерком косоугончивым, как в настиг за мыслями наискосок листа, в эти дни крупней обычного, так волновался, — набрасывал пункты, какие могли бы тут войти: я подтверждаю... что условия, предложенные германским посольством товарищу Платтену, мне были объявлены... и я подчинился им со всей политической ответственностью перед возможными последствиями...
И вдруг из коридора — приятно-резкий, насмешливый голос Радека. Приехал?! Ну, лучшего гостя и помощника не придумать сейчас! Карл, Карл, здравствуйте, раздевайтесь, ох, за воротник вам насыпалось. Да вы новость нашу — представляете?!?
Короткий вопль, сверкающие зубы, не убираемые за верхней губой, кучерявый, с ореолом бакенбардов — смеющийся озорник Радек!
Ну-ка-сь, ну-ка-сь, давайте вместе составлять. Такие же твёрдые условия надо подготовить и для Ромберга.
— Вы — им — условия?
— Да. А что?
— Восхитительно!
Такая затея — как раз по Радеку. Он — и советует, он — и шутит, у него и находки и мысли предусмотрительные.
Только вот курить в этой комнате запрещено, сухую трубку сосёт. И... Э-э...
— Владимир Ильич! А как же будет со мной? Неужели вы меня способны не взять?
— Да почему ж не взять?
— Да ведь если мы пишем — „русские эмигранты , а я — австриискии подданный?
Ах ты, чёрт, австрийский поданный! Ах, чёрт! Привыкли как к своему, только для виду считается — польская партия. Но как же можно Радека не взять? Радека — и не взять!
Y Радека выход готов: если будет Платтен с Ромбергом заключать письменный договор (а не будет письменный, так устно еще легче попутать) — пропустить слово „русские", написать — „политэмигранты", а — о каких же еще речь? Не додумаются немцы, подмахнут.
Вообще в такой архиответственный момент, в таком наисерьёзнейшем деле недопустима игра, и германская Ставка — не из тех партнёров, с которыми шутят. Но для Радека — незаменимого, ни с кем не сравнимого, фонтана изобретений, острого, едкого, нахального Радека — пожалуй и попробовать?
— Но — согласится ли Платтен вести эти переговоры? Ехать?
— А больше — некому. Значит, согласится.
— А если — Мюнценберг? Потвёрже.
— Вилли? Да ведь он считается немецкий дезертир. Как же ему — с послом? И как через Германию?
— Всё-таки... — постукивал Радек черенком между зубами, — всё-таки, Платтен — партийный секретарь, а какая-то поездка с эмигрантами? А тут начнёт мучиться, не будет ли вреда его Швейцарии?..
— А что — Швейцарии? Ей только лучше.
Нет, Ленин тут не сомневался. Перед Гриммом
Платтен заминался, да, отступал, но в главном — пойдёт, раз увидит аргументы. Он — человек рабочий, пролетарская кость. О переговорах же с Парвусом он не знает и никогда не узнает.
А Радеку о Парвусе хоть рассказывай, не рассказывай — всё понимает сам. Радек даже неприлично преклонён перед Парвусом: в бернских кабачках, по интернациональному долгу, как бы ни обязан был его поносить — за отчаянный шаг к шовинистам, за богатство, за тёмные сделки, за нечестность, за дамские истории, — а сам со ртом разинутым, с набившейся пеной в углу губ, видно: ах, и молодец! ах, мне бы так!..
— Про Скларца я ему сказал: восьмигрошовый парень немецкого правительства, я его выгнал! Про Гримма скажу: что-то подозрительное, тормозит отъезд, какие-то гешефты в свою пользу. А мы — больше ждать не можем, революция зовёт! По-пролетарски, открыто, без всяких тайностей — возьмём и обратимся в германское посольство! Возьмётся! — уверен был Ленин.
Вот как научить его с Ромбергом говорить? Ведь это ж совсем новый текст. Мол, в России дела принимают опасный для мира оборот. Надо вырвать Россию у англо-французских поджигателей войны. Мы конечно приложим ответное усилия к освобождению немецких военнопленных (лови нас потом!..). Но мы должны быть застрахованы от компрометации и гарантированы, что не будет придирок в пути... Готовы ехать в запертых и даже в зашторенных купе. Но должны быть уверены, что вагон не остановят...
Ленин захватил пространство комнаты и носился по косой — три шага, три шага, три — одну руку за спину, а другой размахивая, — а Радек записывал, пустой трубкой придерживая лист.
С Радеком внакладку находки: для такого шага еще неплохо бы нам собрать оправдательных подписей от западных социалистов... Социалистов — да, но и еще бы каких-нибудь безупречных людей... Где же таких найти?..
— Ну, например, Ромена Роллана?
Головасто придумано, хорошо!
Так пора и крючок закинуть. Через кого бы закинуть под Роллана?
С приходом Радека облегчились невместимые прожигающие вихри в голове: есть мыслям исход, можно высказать и услышать ответ. Вот... Если начинать демонстративные новые переговоры через Платтена, то ведь надо так же демонстративно порвать с Гриммом?
Да просто — звонко порвать!
— Да чтоб всю вину на него же и свалить!
— Да чтоб и за старое ему наложить, мерзавцу! Пусть попомнит, как отложил швейцарский съезд!
А для этого надо: во-первых, опубликовать все доверительные сведения о его скрытых переговорах!
Эт-то очень всегда ударяет: внезапная публикация доверительного. Оч-чень ошеломляет.
То есть, просто вот сейчас, немедленно, подготовить такую публикацию!
— ...И расставить нужные акценты!
— ...И завтра же опубликовать!
Ну, с Радеком и самая напряжённая работа превращается в весёлую игру! За что он особенно Радека любил — за хорошую пристрастность!
Уже сидели и писали: Радек писал, теребя пустую трубку в зубах, в коридор выйти некогда, иногда смеясь и даже подпрыгивая от выражений, — а Ленин сидел сбоку и советовал.
Единственный такой был Радек человек, кому, сидя рядом, Ленин вполне мог передать перо и только посмеиваться. Лучше радекова пера никогда не было во всей большевистской партии. Богданов, Луначарский, Бухарин — все писали слабей.
— Тут важно, что еще получится: что имено Швейцария все эти переговоры ведёт и нас выталкивает. А вовсе не мы!
Ах, умный, понимающий, золото!
— Завтра же и опубликуем — у Нобса или...
— Завтра — воскресенье. А вот что! — запрыгали, запрыгали искры за радековскими очками: — Завтра воскресенье, так-пошлём сейчас же, немедленно — Гримму телеграмму! В субботу вечером, немедленно, сейчас! — Усмехался и подпрыгивал Радек, к:ак будто его со стула кололо.
И Ленин подпрыгивал от удовольствия.
И говорили, говорили вперебой, поправляли, и Ра- дек тут же записывал:
...Наша партия решила... безоговорочно принять... предложение о проезде через Германию... и тотчас же организовать эту поездку... Мы абсолютно не можем отвечать... за дальнейшее промедление... решительно протестуем... и едем одни!..
— Та-ак! — почесал Ра дек за ухом, — закатаем ему в листовой шоколад:
...Убедительно просим немедленно договориться...
— Завтра, в швейцарское воскресенье, договориться!.. Да! еще завтра по-западному первое апреля!
— Первое апреля?!! — давно так не смеялся Ленин, всё напряжение последних недель выбивалось из его груди сильными, жёсткими, освобождающими толчками. — Вот получит бонбоньерку, центристская сволочь!
...Договориться... и, если возможно, завтра же...
— Когда вся Швейцария дрыхнет!
...Сообщить нам решение!.. С благодарностью...
Как на шахматной доске, уже сделав задуманный
ход, еще больше видишь успеха и возможностей, чем рассчитывал перед тем. Но эту усмешку — с 1-м апреля и с воскресным заданием товарищу Гримму — придумал Радек-весельчак!
— А если за воскресенье он не сделает — так в понедельник мы свободны действовать сами!
— Ну, во вторник...
Да что! да еще лучше придумал Радек:
— Владимир Ильич! А — Мартову? А Мартову мы тем более обязаны написать, он же инициатор плана\? — душился Радек от смеха.
— А что же Мартову? — так быстро и Ленин не сообразил.
— Да что мы немедленно принимаем предложение Гримма о проезде через Германию\ Вот обкакать: что это его предложение!!! На весь мир — его! Швейцарские социалисты нас выталкивают! Член швейцарского парламента!
Ну, это совсем было гениально! Ну, Радек! Ну, завоет Гримм! Ну, кинется оправдываться. Да отмываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым.
— Вспомнит, подлец, ненапечатанную мою брошюру!..
— Но уже поздно. Придётся идти сдавать на Фрау- мюнстер.
— Да я сбегаю, Владимир Ильич.
— Да уж пойдёмте вместе, разохотились.
Но уж тогда оглядеться, подумать — что еще? А, вот, Ганецкому в Стокгольм:
— Срочно переведите три тысячи крон на дорожные расходы!
(Тогда уж и Инессе: ...О деньгах не беспокойтесь... Их больше, чем мы думали... Здорово помогают товарищи из Стокгольма... Надеюсь, мы едем вместе с Вами?..)
И вот что: там залог в кантональном банке за проживание в Швейцарии, 100 франков, нечего баловать лакейскую республику, надо забрать.
Одевались, Ильич — в своё железно-неподъёмное, на ватине, а Радек — в летнее пальтишко, так всю зиму и пробегал, все карманы затолканы книгами.
Трубку набивал, спички готовил.
Ленин вслух:
— Ничего. Y Платтена с Ромбергом — какие переговоры? Ромберг вынет из стола — и даст. Но эти несколько дней надо, надо было кинуть шовинистическим харям.
Радек крутился как юноша, лёгкий, удачливый:
— Руки чешутся, язык чешется! — скорей на русский простор, на агитационную работу!
И, пропуская Ильича вперёд, уже спичка наготове, в коридоре зажечь:
— В общем так, Владимир Ильич: через шесть месяцев или будем министрами — или будем висеть.
18 марта [31 марта]. Берлин
Докладная записка чиновника м.и.д. из генштаба.
...Прежде всего мы должны избежать компрометации едущих слишком большой предупредительностью с нашей стороны. Очень было бы желательно получить какое-либо заявление швейцарского правительства. Если без такого заявления мы внезапно пошлём эти беспокойные элементы в Швецию, это может быть использовано против нас.
18 марта [31 марта]
Помощник статс-секретаря — послу в Берне Ромбергу.
(Шифровано.)
Спешно! Проезд русских революционеров через Германию желателен как можно быстрей, т. к. Антанта уже начала противодействие в Швейцарии. По возможности ускорьте переговоры.
20 марта [2 апреля]
Германский посол в Копенгагене граф Брокдорф-Рантцау —
в м.и.д. Совершенно секретно.
...Мы должны теперь непременно стараться создавать в России наибольший хаос. Для этого избегать всякого внешне-заметного вмешательства в ход русской революции. Но втайне делать всё, чтобы углубить противоречия между умеренными и крайними партиями, так как мы весьма заинтересованы в победе последних, ибо тогда переворот будет неизбежен и примет формы, которые сотрясут устои русского государства. ...Поддержка нами крайних элементов — предпочтительнее, ибо таким образом проводится более основательная работа и достигается быстрее результат. По всем прогнозам можно рассчитывать, что месяца за три распад продвинется достаточно, чтобы нашим военным вмешательством гарантировать крушение русской мощи.
Те, кого поразят выражения В. И. Ленина, образ мыслей его или действий, могут более внимательно прочесть его произведения, использованные здесь:
— В Боевой комитет при Санкт-Петербургском комитете. Собрание сочинений, 4-е изд.
т. 9, стр. 315
— там же, 389 т. 23, стр. 83
— там же, 110
— там же, 126
— там же, 138
— там же, 141
— там же, 212
— там же, 247
— там же, 282
— там же, 289 изд. т. т. 48,49
— Задачи отрядов революционной армии
— О лозунге “разоружения”
— Речь на съезде швейцарской с-д партии 4.11.1916
— Задачи левых циммервальдистов в швейцарской с-д партии
— Тезисы об отношении швейцарской с-д партии к войне
— Принципиальные положения к вопросу о войне
— Открытое письмо к Шарлю Нэну
— Двенадцать кратких тезисов о защите Г. Грёй- лихом защиты отечества
— Набросок тезисов 4(17) марта 1917
— Письма из далека
— Письма Ленина военных лет (1914-1917) — 5-е
Считаю долгом назвать четыре современных исследования, среди других особенно помогших мне при написании этих глав:
Werner Halweg — Lenins Riickkehr nach Russland 1917. — Leiden, 1957 Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman — Freibeuter der Revolution. — Koln, 1964
Willi Gautschi — Lenin als Emigrant in der Schweiz. — Koln, 1973 Fritz N. Platten, jun. — Von der Spiegelgasse in der Kreml. —
«Volksrecht» (13.3 -17.4.67)
и выразить признательность авторам за пристальное внимание к событиям, определившим ход XX века, но так старательно скрытым от истории, а по направлению западного развития оставленным в малом внимании.
Москва, 1971; Цюрих, 1975
СПРАВКА
(революционеры и смежные лица)
АБРАМОВИЧ Александр Е. (род. 1893). Родом из Одессы. Член РСДРП с 1908. С 1911 в Швейцарии: студент в Женеве, работает на часовом заводе в Шо-де-Фоне. Вернулся в Россию (в ленинской группе. Есть следы, что в 1918 был советским агентом при Баварской республике. Сотрудник Коминтерна.
АРМАНД Инесса Теодоровна (1874-1920). Родилась в Париже, в семье французских артистов. Воспитывалась в России у тёти-гувернантки, вышла замуж за фабриканта Арманда, с которым у неё было четверо детей, затем перешла к его младшему брату и родила (в Швейцарии) еще сына. При революции 1905 была связана с московской группой эсеров, затем в ссылке, оттуда ушла в эмиграцию. После смерти второго мужа училась в Сорбонне, встретилась с Лениным в 1909, с этого времени примкнула к большевикам. Была его подругой, с короткими перерывами до самой смерти, постоянно среди его близких сотрудников. В 1912 ездила в Россию, недолгое время сидела в тюрьме, освобождена по ходатайству первого мужа. Участница Кинтальской конференции (в числе большевиков). Возвратилась в Россию в ленинской группе. После Октябрьского переворота одно время — председатель Московского губсовнархоза, позже — заведующая Женотделом при ЦКРКПб.
БАГОЦКИЙ Сергей Юстинович (1879-1953). Поляк из России, врач. Был с Лениным в Кракове, вслед за ним переехал в Швейцарию. В то время был практическим помощником Ленина в бытовых и денежных делах, в поддержании конспиративных контактов с немцами через посредников. В швейцарской эмиграции жил широко, много тратил (свидетельство Нобса). С 1918 — представитель русского Красного Креста в Швейцарии.
БОГДАНОВ (Малиновский) Александр Александрович (1873-1928). Сын учителя-физика, кончил Тульскую гимназию, в 1899 — медицинский факультет Харьковского университета. С тамошним интеллигентским кружком социал-демократов “разошёлся из-за вопроса о морали, которой они придавали самостоятельное значение”. Врач, социолог, философ. Несколько лёгких высылок (Тула, Калуга, Вологда), в 1904 примкнул к Ленину, вошёл в первое большевистское руководство. Теоретик вооружённого восстания, организатор тактических нападений, экспроприаций, накопления денежных фондов
партии. В 1905 арестован в полном составе Петербургского Совета Рабочих Депутатов, но вскоре освобождён. Революционные 1906-07 годы жил вместе с Лениным в Куоккале. Последовательно настаивал на бойкоте парламентской и легальной деятельности, от чего Ленин в 1907 отказался. Тяготясь участием Богданова в руководстве партии, Ленин повёл против него атаку в философии (“Материализм и эмпириокритицизм”, 1909) — и вовсе изгнал Б. из партии. Б. никогда больше не занимал видных партийных или советских постов. В войну мобилизован, врач на фронте. Много печатных работ по политической экономии, философии, организации науки и хозяйства, два фантастических романа. Погиб при рискованном эксперименте по переливанию крови.
БОШ Евгения Готлибовна (1879-1924), родом из Очакова. С 16 лет замужем за сыном фабриканта, в 21 год покинула мужа и окунулась в с-д деятельность (Киев), большевичка. Подруга Пятакова. В 1913 сослана в Иркутскую губернию, оттуда вместе с ним бежит через Владивосток. Короткое время в Швейцарии, затем -в Скандинавии. После Февральской революции — председатель Киевского губ. комитета партии, агитирует гвардейский корпус идти на Киев, свергать Раду. Член Киевского Военно-Революционного комитета. В первом коммунистическом правительстве Украины (Харьков 1918) — “народный секретарь внутренних дел”. В Гражданскую войну командировалась на административно-карательные задания в масштабах губерний (Пенза, Астрахань, Гомель), комиссар Каспийско-Кавказского Фронта. В 1923 обвинена в троцкизме, в 1924 покончила с собой.
БРИЛЛИАНТ — см. Сокольников
ВРОНСКИЙ (Варшавский) Моисей (1882-1941), родом из Лодзи. Польский с-д, затем большевик. В 1907 эмигрировал в Швейцарию. Ближний помощник Ленина, вставлен им в Кинтальскую конференцию. После Октябрьского переворота — одно время редактор “Правды”, заместитель наркома торговли и промышленности. 1920-22 — полпред (посол) в Австрии. После смерти Ленина не занимал крупных постов.
БУРЦЕВ Владимир Львович (1862-1942) — революционер-народоволец с 80-х годов, террорист конца XIX века. После ареста бежал. В Англии печатно призывал убить Александра III, за что даже у англичан получил полтора года заключения. За пропаганду террора выслан также из Швейцарии. Специализировался на разоблачении агентов полиции в русском революционном движении. В революции 05 и 17 годов — редактор журнала “Былое”, с 1911 по 1914 — газеты “Будущее” и из-за границы рассылал её царю, великим князьям, министрам, в библиотеку Государственной Думы. С началом мировой войны стал патриотом, добровольно сдался на русской границе, судим, сослан, амнистирован (1915). При большевиках арестовывался, снова издавал “Былое”, затем у белых — “Общее дело". Снова эмигрировал.
БУХАРИН Николай Иванович (1888-1938). Крупнейший теоретик большевистской партии и несостоявшийся вождь её. Родился в учительской семье. Смесь воспитания интеллигентского и простого. Окончил 1-ю Московскую гимназию, с 18 лет — член партии большевиков, 20-летним студентом кооптирован в Московский комитет партии. Несколько лёгких арестов, из ссылки уехал в эмиграцию. С 1911 заграницей, много образовывался, начал публицистическую деятельность. Возвратился в Россию в 1917 через Америку, Японию, Сибирь. С лета 1917 — член ЦК. Против Брестского мира возглавил оппозицию “левых коммунистов” (не укреплять Германию сепаратным миром, но добиваться мировой революции). В советские годы много печатался (работы экономические, политические, популяризация). После смерти Ленина — в ведущей семёрке (Политбюро) и использован Сталиным для её уничтожения: с его помощью разбиты Троцкий, Каменев, Зиновьев, после чего уничтожен и он со своими сторонниками Рыковым и Томским. На пороге 30-х годов как будто бы понимал преступность сталинского курса, ведущего к гибели крестьянства и здоровой национальной экономики, но не сумел твёрдо и эффективно противостоять. После показательного процесса с обычными “признаниями” расстрелян.
ВЕЙСС — см. Цивин
ГАНЕЦКИЙ (Фюрстенберг) Яков (1879-1937). Из варшавской богатой семьи, к с-д примкнул с конца XIX века, участник II съезда РСДРП от польских с-д, много лет состоял и в польской и в российской партии. Несколько лёгких арестов, ни одного серьёзного приговора. На воинской службе обругал командира полка, но прощён “за возбуждённое состояние”. Уехал из двух ссылок. Перед войной вместе с Радеком раскалывал польскую с-д (оппозиция против Розы Люксембург). С 1912 тесный сотрудник Ленина, вместе с ним в Кракове, затем в Швейцарии, оттуда в 1915 переехал к Парвусу в Скандинавию директором его конторы. В марте 1917 вместе с Радеком и Воровским оставлен Лениным в Стокгольме под вывеской Заграничного Бюро ЦК для бесперебойной подачи денежных средств от Парвуса на укрепление большевистских организаций и прессы в России, а также для ведения большевистской пропаганды на Запад. После Октябрьского переворота — в народном комиссариате финансов (главный комиссар банков). Участник “Дополнительного Соглашения” с Германией в августе 1918 — по которому, в расширение Бреста, Советская Россия обязалась увеличить продуктовую и материальную помощь Германии в самый канун её поражения. Участник важных дипломатических переговоров 1920-25 годов. Много тёмного в биографии. После смерти
Ленина — наркомвнешторг, второстепенные роли. В 1937 арестован и расстрелян вместе с женой и сыном.
ГИЛЬБО Анри (1885-1938) — французский с-д, интернационалист. Как противник войны — с 1915 — в Женеве, с 1916 издавал журнал «Demain». Участник Кинтальской конференции. Деятель Коминтерна. Но в 30-е годы отошёл от СССР.
ГРЁЙЛИХ Герман (1842-1925), родом из Бреслау, переплётчик. Один из основателей швейцарской с-д партии и её органа “Бернер Тагвахт”. Популярнейший швейцарский рабочий вождь (“папа Грёй- лих”). С 1902 и до смерти — депутат швейцарского парламента.
ГРИММ Роберт (1881-1958). Типограф, механик. Один из лидеров с-д партии Швейцарии. С 1905 — профсоюзный секретарь в Базеле. С 1909 — секретарь партии, главный редактор “Бернер Тагвахт”. С 1911 — депутат швейцарского парламента, с 1946 — председатель его. Инициатор и председатель Циммервальдской и Кинтальской конференций. Один из организаторов II l/2-ro Интернационала (левей социалистического, умеренней коммунистического).
ЗИНОВЬЕВ (Апфельбаум) Григорий Евсеевич (1883-1936), родом из Елизаветграда. Без образования, в юности — конторщик. С 18 лет примкнул к с-д, с 19, еще ни разу не арестованный, эмигрировал. В 1903 познакомился с Лениным и примкнул к нему навсегда. Пытался учиться в Бернском университете то на химическом, то на юридическом факультете, бросил. В революцию 1905 с жалобой на сердце (22 лет отроду) получил от профессора запрет “всякой политической деятельности” 'И опять уехал заграницу. После минования главных революционных событий — выздоровел, вернулся в Россию. В 1908 арестован первый раз, через несколько месяцев выпущен по заступничеству — и эмигрировал окончательно. Начиная с 1907 — постоянный член большевистского ЦК. После смены ленинского окружения в 1908 выдвинулся его ближайшим помощником, соредактором всех изданий, следует за ним в Галицию и снова в Швейцарию, взят им на Циммервальдскую и Кинтальскую конференцию, все военные годы “ЦК” есть: Ленин-Зиновьев и кого они кооптируют. Возвратился в Россию через Германию в ленинской группе, был в курсе всех связей с Парвусом и немецкой помощи, в июле 1917 после разоблачений в печати скрылся вместе с Лениным от возможного суда (Разлив). Скрывался до самого Октябрьского переворота. После него — председатель Петроградского Совета Рабочих Депутатов, предсовнаркома Союза Коммун Северной Области, т. е. после бегства советского правительства в Москву в марте 1918 остался фактическим диктатором Петрограда и северозападной России, под его руководством проведён террор 1918-1919. С 1919 — глава Коминтерна. В 1923-24 помог Сталину разбить Троцкого и утвердиться генеральным секретарём. В 1925 вместе с Каменевым возглавил “ленинградскую оппозицию”, пытаясь захватить власть в партии, но разбит союзом Сталина и Бухарина. После этого пытался блокироваться с Троцким, но отвоевать позиций уже не могли. С 1926 потерял все основные посты и значение. Процессами 1935 и 1936 приведён к расстрелу. Сохранилось свидетельство, что целовал сапоги оперчекистов, ведших его на расстрел, прося о пощаде.
ЗИФЕЛЬДТ Артур Рудольф (1889-1938), эстонец из Таллина. Перепробовал почти все революционные направления, примкнул к большевикам. С 1913 по 1917 в Цюрихе. Помогал Ленину в связях с Кескулой. Покинул Швейцарию в 1917 со вторым эмигрантским транспортом через Германию.
ИНЕССА — см. Арманд
КАМЕНЕВ (Розенфельд) Лев Борисович (1883-1936). Кончил Тифлисскую гимназию, в Московском университете (юридический факультет) начал революционную деятельность, исключён, после краткого ареста уезжает заграницу, там в 1903 примыкает к большевикам. Несколько возвратов в Россию, два кратких ареста, пропагандистская деятельность в революционные годы, длительная эмиграция с 1908, там входит в новое окружение Ленина. После разоблачения Малиновского в 1914 командируется в Россию для руководства большевистской фракцией Государственной Думы извне (с началом войны — из Финляндии). В ноябре 1914 арестован на тайном совещании с ними под Петербургом, на процессе 1915 смягчил свою участь отказом от ленинского пораженчества, признанного фракцией Думы. Сразу после Февраля воротясь в Петроград и более всех удостоенный доверия Ленина, возглавляет партию до его возвращения. Единственный в партии, кто возражал апрельским тезисам Ленина. С захватом большевиками 2-го Съезда Советов в ночь переворота — председатель съезда и нового ЦИКа. Участник брестских переговоров с Германией. В 1922 вместе с Рыковым и Цюрупой — один из заместителей заболевшего Ленина. Разделил с Зиновьевым все неудачи борьбы против Сталина. Уже обречённый, на съезде партии в 1934 требовал по отношению к “кулацкой” оппозиции “рютинцев”: не спорить с ними идеологически, но расстреливать их. Расстрелян после процесса 1936 года.
К AM б (Тер-Петросян) Семён Аршакович (1882-1922), родом из Гори, сын богатого подрядчика. Исключён из школы за вольнодумство в законе Божьем. Находился под влиянием своего старшего земляка Джугашвили. Находчивый и умелый в нелегальных действиях с оружием, производил по поручению Сталина успешные изъятия денег, в том числе знаменитый налёт на казну — в Тифлисе в июне 1907. В поездке на следующий налёт в Берлин арестован германской полицией с чемоданом взрывчатых веществ. Избегал выдачи русскому правительству тем, что несколько лет успешно симулировал буйное помешательство. Всё же выдан, но спасён от казни кампанией германской прессы в защиту “заведомо больного человека”. Из тюремной больницы бежал заграницу к Ленину. В 1912 1вернулся на Кавказ и при .новом грабеже денежной почты ранен и арестован, приговорён к смертной казни. Однако либеральный прокурор задержал исполнение приговора до манифеста к 300-летию дома Романовых и спас его. Освобождён из тюрьмы Февральской революцией. Ленин отправил его на кавказский горный курорт для поправки здоровья. Затем Камо служил в Бакинской ЧК. После установления меньшевистской власти вёл подпольную деятельность. Отказался от предложения Ленина поступать в Академию Генштаба. Погиб под автомобилем.
КАРПИНСКИЙ Вячеслав Алексеевич (1880-1965). С-д с 1898, большевик от времён раскола. В постоянной эмиграции в Женеве с 1904. Держался Лениным на второстепенных издательских и технических ролях. В советское время — доктор экономических наук.
КЕСКУЛА Александр Эдуард (1882-1963) — эстонец из Тарту, участник революции 1905. Арестован, но амнистирован. Эмигрировал. Перед войной несистематически учился в Швейцарии. С 1914 поставил себя в распоряжение немецкого посла в Швейцарии барона Ромберга, добивался от Германии поддержки эстонского освободительного движения. Ромберг использовал его для связи с различными направлениями русских революционеров в Швейцарии, в том числе с Лениным. Для развития деятельности переведён немцами в Скандинавию, откуда засылал агентов в Россию и где финансировал большевистские издания (Бухарина, Пятакова и др.), не объявляя им об источнике средств. Осуществлял для большевиков связь между Скандинавией и Швейцарией.
КОЗЛОВСКИЙ М. Ю. (1876-1927) — с-д, петербургский адвокат, в конспиративных связях с конторой Парвуса. В 1917 — член Исполкома Петроградского Совета. В июле после опубликования разоблачений о связи большевиков с немцами — арестован вместе с несколькими ведущими большевиками (все освобождены при корниловском мятеже). После Октябрьского переворота — председатель Чрезвычайной Следственной Комиссии в Петрограде и председатель Малого Совнаркома. Затем — нарком юстиции Литвы- Белоруссии.
КОЛЛОНТАЙ Александра Михайловна (1872-1952). Дочь генерала (украинца) и финской крестьянки. Воспитывалась в богатых помещичьих условиях, не отпущена ни в гимназию, ни на Бестужевские курсы, чтобы не столкнулась с революционными элементами. Частная учёба у профессоров истории, литературы. Раннее короткое замужество с целью выйти из-под воли родителей. Культурнопросветительные общества, все связанные с помощью революционерам. Экономическое образование заграницей. С-д с конца XIX века. Свидетельница стрельбы на Дворцовой площади 9 января 1905. Писала прокламации для обеих фракций с-д. “По душе мне ближе был большевизм с его бескомпромиссностью”, но до 1915 была меньшевичкой, в 1914 сторонница всеобщего примирения, лишь постепенно перешла к ленинской “гражданской войне” и, значит, большевизму. В предвоенные и военные годы — подруга Шляпникова. В первом большевистском правительстве — народный комиссар социального обеспечения. Затем долгие годы — посол СССР в Норвегии и Швеции.
КРАСИН Леонид Борисович (1870-1926). Родом из Тобольской губернии, революционер со студенческих лет (ссыльное окружение). С перерывами на аресты и ссылки получил технологическое образование, инженер. Этим дальше определилась его роль техника партии: конспирация, подготовка взрывных материалов, нападений. Он же установил контакт с фабрикантом Саввой Морозовым, получение постоянной денежной помощи для партии. С 1903 — большевик и даже член ЦК. В разгар своей революционной деятельности беспрепятственно заведывал осветительной кабельной сетью всего Петербурга. В 1908 эмигрировал, в 1909 отстранён от большевистского руководства и отошёл от политической деятельности. Работал инженером в Берлине, вернулся в Россию, здесь занимал директорские места. С 1917 вернулся в партию. Участник брест- литовских и дополнительных берлинских (август 1918, см. Ганец- кий) переговоров. Ездил в Ставку к Людендорфу тщетно прося не отбирать Кавказа и Туркестана (план Людендорфа сорван американской высадкой во Франции). Ряд крупных хозяйственных постов, нарком внешней торговли, путей сообщения, с 1920 — посол в Лондоне, участник других дипломатических переговоров, Генуэзской и Гаагской конференций.
КРУПСКАЯ Надежда Константиновна (1869-1939). Дочь судейского чиновника. С 1897 — жена Ленина (церковный брак по формальной необходимости). Разделяла всю его жизнь, вела техническую партийную работу. Пыталась самостоятельно писать сочинения по педагогике, но достижений не было. После Октябрьского переворота — в руководстве народного комиссариата просвещения. С 1925 примкнула к неудачной оппозиции Зиновьева-Каменева против Сталина. С тех пор всё время сталинской диктатуры поведение её было безгласно.
ЛЕВИ (Хартштейн) Пауль (1883-1930) — немецкий с-д, адвокат. В швейцарской эмиграции — участник циммервальдской левой, позже в Германии — коммунист. В 20-е годы вернулся в с-д.
ЛИТВИНОВ (1876-1951). Из состоятельной семьи, из Польши. Проходил военную службу вольноопределяющимся и там потянулся к марксизму. В 1901 арестован в составе Киевского комитета РСДРП, в 1902 бежал из Киевской тюрьмы — заграницу, с 1903 — большевик. В 1905 неудачно пытался доставлять оружие в Россию из Англии. Кроме коротких наездок в Россию — почти всё 1время в эмиграции, с 1907 — в Лондоне. Представлял большевиков в Международном Социалистическом Бюро (И Интернационал). После Октябрьского переворота — первый советский полпред (посол) в Англии, арестован в ответ на арест Локкарта в Москве и на него же обменён. Успешная дипломатическая деятельность, заместитель наркома, с 1930 по 1939 — высшие годы сталинского террора — народный комиссар иностранных дел, вестник мира на Западе; речи его заливали страницы советских газет и были популярны. Понижен в годы дружбы с Германией Гитлера, с 1941 — посол в Соединённых Штатах.
ЛУНАЧАРСКИЙ (Воинов) Анатолий Васильевич (1875-1933). Плодовитый журналист и лектор, слабый драматург и писатель (литературный уровень виден по избранному псевдониму). Родом из Полтавы, из семьи радикально настроенного чиновника, с 15 лет изучал марксизм, с 17 лет агитировал рабочих. По окончанию гимназии поехал в Цюрихский университет. В 1899 возвращается в Россию, ведёт пропаганду. Три коротких ареста, сроки в месяцах, ссылки в Калугу, в Вологду, усиленное образование, первые печатания. С 1903 — в эмиграции и, примкнув к большевикам, популяризирует большевистскую пбзицию объездом всех эмигрантских групп в Европе, не отказывается и от доклада о принципах вооружённого восстания на III съезде партии. Во время революции 1905 — газетная деятельность, пережив месячный арест — эмигрировал до следующей революции. Участник многих большевистских эмигрантских изданий. Ученик Авенариуса, разошёлся с Лениным по философским вопросам в 1908-09. Неудачная попытка создать другую партию (группа “Вперёд”). В годы войны — в группе Троцкого-Мартова. Возвратился в Россию через Германию со вторым эмигрантским транспортом, несколько месяцев был “межрайонцем” до влития их в большевики в июле 1917. Так вернулся к Ленину. Короткое время сидел в тюрьме при Временном правительстве по обвинению (вместе с ведущими большевиками) в государственной измене —связи с немцами. “И до тюрьмы и в тюрьме неоднократно создавалось крайне опасное для моей жизни положение”. Выпущен через месяц после Октябрьского переворота — народный комиссар просвещения (до 1929). В годы Гражданской войны много разъезжал по фронтам и прифронтовой полосе, непрерывно агитируя. Известен неуёмной лекционной деятельностью и в Москве. В 1923 выпустил книгу о вождях революции, не упомянув Сталина. Эта ошибка стоила ему многолетней опалы и принесла действительную опасность. Умер по пути в Испанию, куда назначен был послом.
МАЛИНОВСКИЙ Роман Вацлавович (1876-1918). Поляк родом из-под Плоцка. Портной, затем токарь по металлу. Три кражи, уголовные судимости. На военной службе стал сотрудником тайной полиции. Сперва — у меньшевиков, с 1910 перешёл к большевикам. Лениным кооптирован в ЦК, назначен председателем Русского Бюро (руководителем партии на территории России). По поручению Ленина расколол с-д фракцию Гос. Лумы и стал лидером большевистской фракции. Работу её вёл и свои речи составлял одновременно под руководством Ленина и Департамента Полиции. Но в 1914 новый начальник Департамента Полиции счёл, что иметь осведомителем видного парламентского депутата противоречит самой государственной идее, дал Малиновскому отступного и велел прекратить работу в Думе. (Есть сходство с разоблачением Азефа самой же полицией.) Малиновский без объяснений сложил с себя парламентские полномочия и исчез. Поднялись слухи о его прово- каторстве, но Ленин-Зиновьев-Ганецкий реабилитировали Малиновского — «в 1914 и еще раз в 1917: “Руководящие учреждения партии абсолютно уверены в политической честности Малиновского... Обвинения абсолютно вздорны”. Во время войны — в армии, попал в немецкий плен. В 1918 решил вернуться в Советскую Россию после обещания Ленина о личной безопасности. (По слухам гарантийная записка, подписанная Лениным и отобранная на границе.) 5 ноября 1918 над ним состоялся суд трибунала в присутствии Ленина. Малиновский держал 6-часовую защитительную речь. Расстрелян немедленно.
МАРТОВ (Цедербаум) Юлий Осипович (1873-1923). Революционную деятельность начал студентом, исключался, арестовывался. В 1890-е годы в Вильно сформулировал идеологию Бунда, но сам стал (вскоре противником его. Вместе с Лениным арестован в Петербурге в 1896, осуждён на 3 года ссылки, но в отличие от Ленина не имея протекции, отбыл её в Туруханском крае. С 1901 — эмигрант. Лидер меньшевиков. Не выносил моральной неразборчивости большевизма. Был сторонник легального развития с-д. С начала войны был против защиты отечества, но и против превращения войны в гражданскую. Вернулся в Россию через Германию со вторым эмигрантским транспортом в мае 1917. Был за общее социалистическое правительство против захвата власти. В октябрьские дни на заседаниях Съезда Советов пытался отговорить от штурма Зимнего дворца. Резко протестовал против разгона Учредительного Собрания, в разгар красного террора — против смертной казни. В 1920 с разрешения Ленина уехал в Германию, там издавал “Социалистический Вестник”. Один из создателей II 1/2 Интернационала (“за диктатуру пролетариата, но без террора”). Умер от туберкулёза горла.
МООР Карл (1852-1932). Швейцарский с-д. 1892-1906 годы участвовал в редактировании “Бернер Тагвахт”. Состоятелен. Во время войны, под кличкой “Байер” — двойной агент немецкой и австрийской разведки. Много помогал Ленину. Опекал Мюнценберга в швейцарской тюрьме, Платтена — в литовской, спас Радека из берлинской (1919). Выполнял тайные дипломатические миссии советского правительства. После Октября — почётный гражданин СССР и жил там большей частью до 1927. Последние годы жизни — в Берлине.
МЮНЦЕНБЕРГ Вильгельм (1889-1940), родом из Эрфурта, эмигрант в Швейцарию с 1910. Здесь — секретарь Социалистического Интернационала Молодёжи, редактор его органа “Югенд Интернационале”. Организатор рабочих демонстраций в Цюрихе в военные годы. Участник Кинтальской конференции. С 1916 — в руководстве с-д партии Швейцарии. В 1917 ездил через Германию при содействии германских властей (будучи германским дезертиром). В 1917 устроил кровавую баррикадную схватку в Цюрихе, после этого и еще раз в 1918 арестовывался. По окончанию войны выслан в Германию. 1919-1921 — секретарь Коммунистического Интернационала Молодёжи, 1920 — у Ленина в Москве. С 1924 в Германии создал левый газетный концерн. До 1933 — коммунистический депутат рейхстага. В 1933 эмигрировал во Францию. Отказался приехать в СССР по вызову Сталина. Летом 1940 найден повешенным в лесу близ Гренобля.
НОБС Эрнст (1886-1957), сын портного, учитель. С 1915 — главный редактор партийного органа “Фольксрехт” и других социалистических изданий. С 1916 — председатель цюрихской партийной организации. С 1917 — член руководства швейцарской партии. С 1919 — депутат швейцарского парламента, с 1943 по 1951 — член правительства, в 1948 — президент Швейцарии.
ПАРВУС (Гельфонд) Александр (Израиль) Лазаревич (1867-1924). Родом из Минской губернии (Березино), детство в Одессе. 1885 — окончил Одесскую гимназию, 1891 — Базельский университет. Начал успешно печататься в левой германской печати (“публицистическая революция”), связывал германских с-д с русскими (Плеханов, Потресов). Организовал печатание “Искры” в Лейпциге и сам печатался в ней. За свою публицистику высылался из разных германских земель, переезжал в другие. Фактический руководитель Петербургского Совета в 1905, несколько месяцев в Крестах и
Петропавловке, административная ссылка в Сибирь на три года, ушёл с пути, вернулся в Петербург, уехал заграницу. Резко критиковал “русский курс” (сближение) германской политики, намечавшийся в 1907. С 1910 по 1915 — в Турции и на Балканах, сильно разбогател, финансовый советник турецкого и болгарского правительств при входе их в мировую войну. С февраля 1915 в переговорах с германским м.и.д. Взялся сделать революцию в России и вывести её из войны. Под прикрытием торговли направлял германские деньги русским революционерам, после Февральской революции — исключительно большевикам, дав им быстро укрепить свою прессу и организацию, совсем слабую и малочисленную до Февраля 1917. После разоблачений в июле 1917, не доведённых до конца, резко атаковал в германской прессе Керенского. В 1917 тормозил обще-социалистические попытки мира, влиял на германское правительство — дождаться анархии в России и обезвредить её. После Октябрьского переворота хотел вернуться в Россию (не доверял организаторским способностям большевиков, ставил Ленину в вину “уступки” крестьянам). Ленин отказал. От момента, когда советское правительство отпустило 2 миллиона рублей “на поддержку европейской революции”, Парвус стал нападать на Ленина (впервые). Считал опасным, что большевики сделают из России сильную военную державу. После германской революции ноября 1918 уехал в Швейцарию, поселился в вилле на Цюрихском озере. Его оргии здесь в сочетании с берлинским скандалом вокруг Скларца, подкупившего с-д правительство, привели к высылке Парвуса из Швейцарии. Устроил себе богатое жилище на острове Шванненвердер (Германия) и жил там до смерти.
ПЛАТТЕН Фриц (1883-1942), слесарь, затем чертёжник. Секретарь швейцарской с-д партии, участник Циммервальдской и Кинтальской конференций, где примыкал к Ленину. При отвозе ленинской группы не был пропущен в Россию английским контролем на границе. Возвратясь в Швейцарию, восстановил контакты с послом Ромбергом для организации следующих эмигрантских транспортов (“Надо увеличить в Петербурге число убеждённых сторонников мира путём подвоза их из-за границы”). С 1917 — член швейцарского парламента, в 1918 — основатель швейцарской коммунистической партии. Тем временем неоднократно ездил в Москву, одна из видных фигур при создании Коминтерна в 1919, член бюро Коминтерна. До 1923 — секретарь компартии Швейцарии, с 1923 и до смерти — в СССР. Умер в ссылке.
ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1956-1918). Первый крупный русский марксист и долгое время (до раскола с Лениным в 1903) глава русской социал-демократии. (В 1883 создал марксистскую группу “Освобождение труда” в Женеве.) Но и на раскольном (П-м) съезде выступал сторонником революционной диктатуры. Позже опять блокировался с Лениным, тщетно пытаясь вернуть себе ведущее место в партии. С 1914 занял патриотическую позицию и она сохранилась и углублялась до самой смерти его. В 1917 вернулся в Россию через Англию несколькими днями прежде Ленина. В результате дробления с-д партии он давно уже не был вождём меньшевиков, но лидером группы “Единство” (т. е. национального), искавшей союза с кадетами и разбитой в результате Октябрьского переворота.
ПОТРЕСОВ Александр Николаевич (1869-1934). Дворянин, сын артиллерийского полковника. От матери перенял чувство страдания за народ. Окончил естественный факультет, поступил на юридический, но отвлёкся политической деятельностью. В 1892 — первая поездка в Швейцарию, связь с группой “Освобождение труда”, с Плехановым — становится его издателем в России. 1898-1900 — ссылка в Вятскую губернию; «месте с Мартовым и Лениным (переписка между тремя ссыльными местами) создал план “Искры” и в 1900 поехал в Швейцарию осуществлять его. 1901-03 по болезни отошёл. В 1905 — один из первых вернулся в Петербург (на революцию) и участвовал с Парвусом и Троцким в издательской деятельности. После разгрома революции не поехал в эмиграцию принципиально: надо быть в России. Плеханов из-за границы напал на Потресова в ответ 'на его журнальную критику, этим воспользовался Ленин (так родился термин “ликвидатор”). Потре- сов считал, что подполье не может выражать интересов рабочих и надо сосредоточиться на легальных организациях. Войну 1914 воспринял как начало гибели России. Поддерживал военно-промышленный Комитет Гучкова. Признанный вождь “меньшевиков- оборонцев”. Резкий противник сепаратного мира, при большевиках жил нелегально, арестовывался ЧК, освобождён хлопотами старых знакомых. В феврале 1925 с туберкулёзом позвоночника отпущен на лечение в Берлин и больше уже не поднимался до смерти.
ПЯТАКОВ Георгий Леонидович (1890-1937). Сын инженера. 15-летним реалистом участвовал в уличных митингах, исключён из училища. В 16 лет вёл анархистскую пропаганду и участвовал в “экспроприации”, готовился к террору. С двадцати лет — с-д. В 1913 сослан на поселение в Сибирь, оттуда уехал через Японию в Европу — Швейцария, Швеция. После Февраля — председатель Киевского комитета большевиков, потом и — Киевского Совета Рабочих Депутатов. Активный, участник Октябрьского переворота в Киеве, подпольная деятельность на Украине, с конца 1918 — первый глава советского правительства Украины. В Гражданскую войну большей частью был комиссаром, не чуждался карательной деятельности, в 1920 вместе с Троцким делал попытку создавать Трудармию (прообраз трудлагерей) на Урале. В 1922 — председатель
Трибунала на процессе эсеров в Москве. С 1923 — член ЦК. Все годы — в руководстве хозяйством СССР, к 1930-м годам — фактический руководитель всей тяжёлой промышленности. Арестован, пытан, после показательного процесса расстрелян.
РАВИЧ Сарра Наумовна (1879-1957). С-д с 1903, в Женеве с 1907. Была арестована в Мюнхене при размене денег, награбленных у русской казны в Тифлисе. Вернулась в Россию в ленинской группе, вошла в петроградский комитет большевиков. Видимо, арестована в 1938, но в лагерях выжила. Написала роман о декабристах.
РАДЕК (Зобельзон) Карл Бернгардович (1885-1939). Блестящий журналист, дерзкий находчивый политик. Уроженец Галиции, польский с-д. Эмигрировал, приезжал на революцию 1905 в Варшаву, снова эмигрировал в Берлин. В польской с-д противник Р. Люксембург, из немецкой с-д исключён за неблаговидные поступки, с началом войны уехал из Германии в Швейцарию, чтоб избежать мобилизации. Участник Циммервальда и Кинталя, то в спорах с Лениным, то в союзе, и тогда любимец его. Через Германию проехал с ленинской группой, на 1917 остался в стокгольмском Заграничном Бюро большевиков (см. Ганецкий). Участник переговоров в Брест-Литовске. В конце 1918 поехал в Германию помогать делать там пролетарскую революцию, арестован, в тюрьме его посещали видные политики. Освобождён. Неоднократно был в Германии и с другими тайными миссиями (поиск союза против Польши и т. д.). В 1923 послан туда снова — разжечь революцию (не удалось). Член ЦК, член Исполкома Коминтерна. В 1923-25 годах потеснён вместе с оппозициями, ушёл с видных политических ролей. Многие годы — первое перо советской прессы. Перед процессом 1937 давал показания на других, после процесса не был расстрелян, но вскоре умер в заключении при неизвестных обстоятельствах.
РАКОВСКИИ Христиан Георгиевич (1873-1941) — из зажиточной болгарской семьи и из рода, много воевавшего за независимость от Турции. 14-летним гимназистом участвовал в политическом брожении, 17-ти лет эмигрировал в Женеву, где попал под влияние Плеханова и сознакомился с мировым с-д движением. Через женитьбу на русской был связан с Россией, ездил туда, публиковался в левой печати (“Инсаров”). Многие годы европейской эмиграции, упорная революционная деятельность в Румынии и Болгарии. Участник Циммервальда. Из румынской тюрьмы освобождён Февральской революцией, поехал в Петербург, примкнул к большевикам. После Октября — комиссар на юге России (матросского отряда, одесской чрезвычайной коллегии и т. д.). По поручению советского правительства вёл переговоры со Скоропадским и Германией об отделении Украины и мире с ней. Напротив, при захвате Украины большевиками всякий раз становился председателем ее
Совнаркома — и так до 1923 возглавлял Украину. (Совмещал со многими политико-военными и хозяйственными постами.) 1923 — полпред в Англии, 1925 — во Франции. С 1919 — в ЦК партии, в верхах руководства. Испытал падение вместе с оппозициями. Осуждён на показательном процессе 1937. Умер в тюрьме при незвестных обстоятельствах.
РЯЗАНОВ (Гольденбах) Давид Борисович (1870-1938). С 17 лет в революционном движении, “почти первым стал в Одессе марксистом”. Уклон в теорию и книжную деятельность, стал историком марксизма. Несколько арестов, несколько выездов в эмиграцию. С 1907 пишет историю I Интернационала заграницей, публикует неизданное Маркса и Энгельса, становится лучшим знатоком их наследия. Участник Циммервальда. В Россию вернулся через Германию со вторым эмигрантским транспортом. С 1917 — в большевиках. Лектор, основатель и директор института Маркса-Энгельса. В 1931 исключён из партии. Умер в ссылке.
САФАРОВ Георгий Иванович (1891-1942). С-д с 1908, эмигрант в Швейцарии с 1912, примыкал к Ленину и в Россию выехал вместе с ним. Главный редактор “Ленинградской правды”, в 1925 — активный член оппозиции Зиновьева-Каменева. В 1927 исключён из партии как троцкист. В 1935 арестован.
СЕМАШКО Николай Александрович (1874-1949). Сын орловского дворянина, племянник Плеханова, кончил елецкую гимназию, с перерывами (краткие аресты, ссылка в родной уезд) — медицинский факультет. В революцию 1905 заметен на собраниях в Нижнем Новгороде, арестован, отпущен под залог, эмигрирует. В Женеве и Париже близок к Ленину. После Октября — народный комиссар здравоохранения (его именем названо в СССР множество больниц и переулков, где расположены больницы, — как именем Подбельского — переулки с почтами).
СКЛАРЦ Георг (род. 1878). Коммерсант, политических взглядов не выражал. С начала войны 1914 — агент германской разведки и главного морского штаба. Сотрудник в Парвусовской конторе, затем собственные крупные операции по поставкам военным и в послевоенной разорённой Германии. Обвиняемый на скандальном процессе по подкупу и финансовому подчинению ведущих деятелей германской с-демократии — Шейдемана, Носке, Эберта, крупных военных.
СОКОЛЬНИКОВ (Бриллиант) Григорий Яковлевич (1888-1939). Сын роменского врача, учился в московской гимназии. Большевик с 1905, участник “военно-технического бюро” (организация налётов). Из енисейской ссылки ушёл в эмиграцию в 1909. В Париже кончил
юридический факультет. В войну колебался между “нашесловцами” (Мартов-Троцкий) и большевиками. Вернулся в Россию в ленинской группе. С июля 1917 — в ЦК большевиков, редактор “Правды”, в момент переворота — в Политбюро. Руководил захватом банков и стал их генеральным комиссаром. Подписал Брестский мир (председатель делегации), участник дополнительных соглашений в Берлине. Политически возглавлял подавление восстаний на Ижевском, Боткинском заводах и крестьянских в Вятской губернии, затем — расправы на Дону, вызвавшие Донское восстание. Командовал армией при взятии Ростова и новороссийской эвакуации белых. В 1920 вместе с Сафаровым, Кагановичем и Петерсом возглавлял подавление Туркестана. Занял несчастливую позицию в партийной дискуссии “о профсоюзах”. С 1921 по 1926 — народный комиссар финансов. С 1929 — посол в Англии, с 1934 — заместитель наркома иностранных дел. Сужен показательным процессом в Москве, умер в заключении.
УРИЦКИЙ Моисей Соломонович (1873-1918) — из купеческой семьи г. Черкассы, гимназия в Белой Церкви, юридический факультет Киевского университета. Участие в с-д движении, легко уходит из ссылок, эмигрирует. Меньшевик, в годы войны — “нашесловец” с Троцким, поддерживает связь Парвуса с “межрайонцами” в Петербурге. С ними вместе вливается в большевики, сразу — член ЦК. В Октябрьский перворот — член Военно-Революционного Комитета, руководившего восстанием. “Комиссар Учредительного Собрания”
— разогнал его. Начальник Петроградского ЧК, руководитель террора в бывшей столице. Убит студентом Канегиссером.
ХАРИТОНОВ Моисей М. (1887-1948) — с-д с 1905, большевик. С 1912 — в Швейцарии, студент-юрист. Близок к Ленину, вернулся в Россию в его группе. После Октябрьского переворота
— начальник петроградской милиции. В 20-х годах — секретарь губкома на Урале, в Перми, в Саратове. В 1925 поддержал оппозицию Зиновьева-Каменева, затем их блок с Троцким. Далее крупных постов не занимал.
ЦИВИН Е«ген (клички от немецкой и австрийской разведки — “Вейсе”, “Эрнст Колер”). Русский революционер, работавший в Швейцарии в годы войны в контакте с австрийской, потом и немецкой службой.
ЧУДНОВСКИЙ Григорий Исакович (1894-1918). С-д меньшевик, долгие годы эмигрант. В Россию возвращается вместе с Троцким, входит в межрайонцев, потом — большевик. Вместе с Антоновым- Овсеенко руководит штурмом Зимнего дворца. Военный комиссар Киева. Убит на Украине.
ШКЛОВСКИЙ Георгий Львович (1875-1937). С-д с 1898, эмигрант в Швейцарии с 1909. Химик. У Ленина — на технических ролях, казначей и др. Вернулся в Россию летом 1917 с третьим эмигрант ским транспортом. 1918 — руководитель советского представительства в Берне, затем и другие дипломатические посты. В 1927 понижен как троцкист. В год чисток покончил самоубийством.
ШЛЯПНИКОВ Александр Гаврилович (1885-1937). Из старообрядческой муромской семьи. Отец-ремесленник рано умер, мать осталась с четырьмя детьми. Кончил трёхлетнюю народную школу, мечтал стать мастеровым, постепенно стал слесарем и токарем высокого разряда. Из стойкой старообрядческой религиозности по веянию времени перешёл в социал-демократизм. Работал в Сормове, в Петербурге. Несколько арестов, не более года каждый, освобождался то по амнистии, то под залог. С 1905 — большевик. В 1908 эмигрировал, работал на многих европейских заводах. В течение войны несколько раз пересекал русскую границу из Скандинавии, единственный во всей большевистской партии осуществляя реальную связь между эмиграцией и метрополией: привозил пропагандную литературу, оживлял организацию в столицах и провинции (конспиративно объезжал её). С 1915 — председатель Русского Бюро ЦК, т. е. фактический и формальный руководитель всей партии на территории России, все прочие именитые партийные деятели в годы войны замерли, большинство комитетов бездействовало. Февральская революция застала Шляпникова в Петербурге, он вошёл от большевиков в Исполнительный Комитет Совета Депутатов, создавал Красную Гвардию, организовывал встречу Ленина. Но вскоре оттеснен многими приехавшими. На многие годы стал председателем союза металлистов. Вошёл народным комиссаром труда в первое советское правительство. При бегстве правительства в Москву ему поручена организованная эвакуация Петрограда. В 1921 году возглавил “рабочую оппозицию”, обвинявшую партийных вождей в забвении рабочих интересов и перерождении. Подвергся яростной атаке Троцкого, Ленина и большинства ЦК, эта оппозиция никогда не была ему прощена. С тех пор занимал лишь второстепенные посты. Был обставлен осведомителями, Сталин в 1929, вызывая по ночам, требовал от Шляпникова самооклеветания. В 1933 исключён из партии, ссылка, через год арестован. Почти три года под следствием, не уступал, вывести на показательный процесс оказалось невозможно, расстрелян в сентябре 1937. Прокуратурой реабилитирован в 1956, но в партийной реабилитации ему отказано и поныне: рабочая оппозиция не может быть прощена.
Стр.
Узел I «Август Четырнадцатого»
Глава 22 7
Узел II «Октябрь Шестнадцатого»
Глава 38 35
Глава 44 58
Глава 45 75
Глава 47 96
Глава 48 111
Глава 49 131
Глава 50 142
Узел III «Март Семнадцатого»
Глава Л-1 159
Глава Л-2 185
Глава Л-3 203
Справка (революционеры и смежные лица)
225
Societe d’lmprimerie Moderne
S I M
18, rue du Faubourg du Temple
75011 PARIS
Заметки
[
←1
]
В каждого русского — стреляй!
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
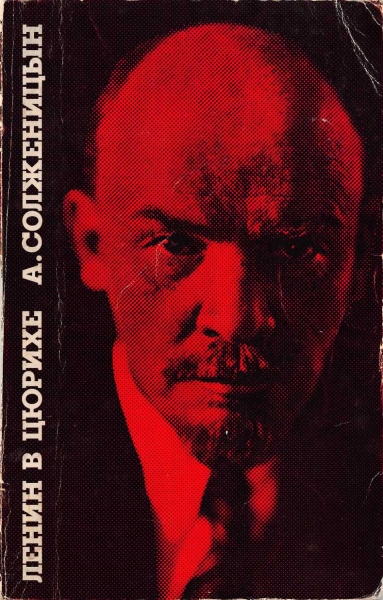

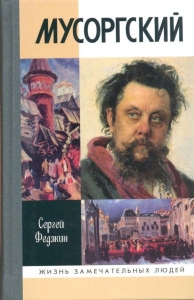

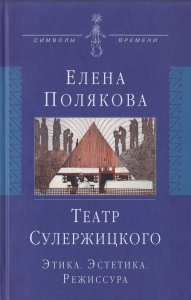
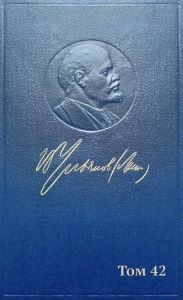

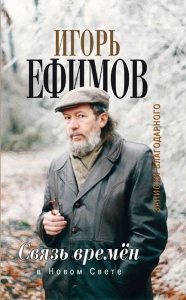
Комментарии к книге «Ленин в Цюрихе. — Париж: Ymca Press. 1975», Александр Исаевич Солженицын
Всего 0 комментариев