Геннинг Фридрих фон-Бассевич Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича
Предисловие ко русскому переводу
Любопытные записки эти напечатаны в IX томе известного «Магазина новой истории и географии», собранного пастором Бюшингом (стр. 283–380). В подлиннике они озаглавлены «Eclaircissemens sur plusieurs faits relatifs au regne de Pierre le Grand, extraits en l'an 1761, à la requisition d’un savant, des papiers du feu comte Henningue Frédéric de Bassewitz, conseiller privé de L. M. Impériales Romaine et Russienne, chevalier de S-t André», т. e. «Пояснения многих событий, относящихся к царствованию Петра Великого, извлеченные в 1761 г., по желанию одного ученого, из бумаг покойного графа Геннинга Фридриха Бассевича, тайного советника их императорских величеств Римского и Российского, Андреевского кавалера».
Издавая эти записки в свет в 1775 году, Бюшинг предпослал им следующую заметку: «Большое влияние, которое в продолжении целого ряда годов имел граф Геннинг-Фридрих фон-Бассевич (род. 1680, ум. 1749) на политические дела Севера, давало ему возможность изобразить их в надлежащем свете и сообщить ключ к объяснению придворных тайн. В особенности он в свое время был очень сведущ во всём что касалось Русского двора и государственных дел России; у него, следовательно, можно надеяться найти весьма много анекдотов. Их и найдет читатель в напечатанном здесь французском извлечении из оставшихся после него бумаг, писанных на немецком языке. Оно делает много чести руке, составлявшей его, хотя некоторые выражения и могли бы быть более французскими. Его необходимо сличить с напечатанною in 4° в 1774 году, в Гамбурге (на заглавном листе выставлено: Франкфурт и Лейпциг) Geschichte des herzoglich-schleswig-holstein-gottorfischen Hofes, und dessen vornehmsten Staatsbedienten, unter Regierung Herzog Friderichs IV und dessen Sohnes Herzog Carl Friderichs, etç., потому что во многом его можно рассматривать как ответ на эту книгу, хотя оно и написано за много лет до её появления. Я знаю, кто автор этой истории, но по некоторым причинам не могу назвать его, хотя и прошло уже несколько лет как он умер. Множество его анекдотов, для признания за ними достоверности, должно еще быть подвергнуто тщательной критике, и этому может содействовать извлечение из бумаг графа Бассевича. Я напечатал это извлечение в том виде, в каком получил его, изменив в нём только одно выражение. Я, конечно, мог бы по поводу его сделать несколько замечаний, но ограничусь двумя. На стр. 318 говорится, что царевич Алексей, сын Петра I от первой супруги его, Евдокии, умер в конвульсиях от страха после произнесения над ним смертного приговора. Не сомневаюсь, что граф Бассевич знал как умер царевич, и извиняю, что в этом сочинении умолчано об истине; но я уже в третьей части моего «Магазина», стр. 224, объявил, что царевич наверное был обезглавлен, и теперь прибавлю еще, что родившийся в Москве и в 1721 году умерший генерал Адам Адамович Вейде отрубил принцу голову топором по повелению его отца. На стр. 371 и 372 умалчивается об истинной причине, по которой Петр I велел отрубить голову первому камергеру супруги своей Екатерины, Монсу или Моонсу, а причина эта следующая. Монс был сын одного московского золотых дел мастера и брат девицы Монс, которую царь Петр I не мог склонить сделаться его наложницею, потому что она питала к нему непреоборимое отвращение. Впоследствии она вышла замуж за генерала Балка и после его смерти заняла место первой статс-дамы императрицы Екатерины, у которой стала доверенным лицом. Тогда короткие отношения между её братом, камергером Монсом, и императрицею могли тем легче установиться. Однако ж императору было донесено об этом в 1724 году, следовательно незадолго до его смерти, но уже после коронования его супруги, и он подверг описанным у Бассевича наказаниям как брата, так и сестру, обвиненных, впрочём, для виду в других преступлениях. Когда знаешь это, тогда становится понятным: во-первых, почему император велел так жестоко наказать сестру камергера Монса, и во-вторых, зачем он на другой день после казни камергера проехал с своею супругою в открытом фаэтоне мимо эшафота, где голова казненного была выставлена вздетая на шесте, и тем как бы заставил ее смотреть на нее. — Впрочем, я уверен, что извлечение из бумаг графа Бассевича очень заинтересует и займет читателя».
* * *
Записки Бассевича вводят нас в самую середину северной войны, и когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений, обыкновенно столь благоприятствующая людям вроде Герца, умеющим ловить рыбу в мутной воде. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого, в северной Германии, трепетавшей его могущества. Как лев встряхивал он головою и разрывал эти путы; тем не менее последствия были чрезвычайно важные и надолго определили ход Русской истории… Итак да не посетуют читатели на то, что печатаемые записки в начале не представляют особенного интереса: мы не сочли себя вправе в историческом документе такой важности исключать подробности, имеющие к России лишь косвенное отношение. Приводимые Бюшингом в предисловии известия о кончине царевича Алексея и об отношениях Петра к Монсам, по свидетельству ныне изданных источников, оказываются неверными. Более точные сведения читатели могут найти в превосходном труде Устрялова. Что касается до самого Бассевича, то из Цедлерова Универсального лексикона узнаём (1733 г., ч. III, стр. 631–632), что он происходил из старинных и чиновных дворян Нижней Саксонии и родился в 1680 г., 17 ноября, в 1703 году женился на Анне Клаузенгейм, от коей имел 6 дочерей и 3 сыновей, и в 1726 г. возведен в графское достоинство. В новейших биографиях год смерти его означают 1749.
П.Б.
Записки графа Бассевича, служащие к пояснению некоторых событий из времени царствования Петра Великого (1713–1725)
I
Знаменитый Стенбок[1], преследуемый датчанами и великим царем, не знал где укрыться с своею обессиленною армиею… Христиан-Август, епископ любский, регент герцогств шлезвигского и голштинского в малолетство герцога Карла Фридриха (которого он был дядей с отцовской стороны) отворил несчастному полководцу ворота крепости Тённингена[2]. Царь принял такой поступок за нарушение нейтралитета, дарованного владениям дома голштинского после сражения при Клиссове, в котором храбрый герцог Фридрих[3] был убит. Уверенный, что опекун предполагаемого наследника Карла XII[4] не может не быть преданным Швеции, царь, немедленно по вступлении в Голштинию, свиделся с генералом Шольтеном и советовал ему пуще всего остерегаться происков барона Герца, первого министра и любимца епископа-регента, который до того находился под влиянием этого человека, что и видел, и действовал только с его помощью. Шольтен говорил, что его двор уверен в преданности Герца, царь — что искусный министр скрывает в груди шведское сердце. Убежище, данное Стенбоку, казалось, оправдывало мнение монарха; но обе стороны ошибались. Герц искал только счастья и с ним постоянно менял партии. Скучая в тесной сфере, в которую был поставлен положением своего государя, и желая, во что бы то ни стало, играть важную роль в делах Европы, он беспрерывно переходил от одного двора к другому, от одной армии к другой и старался вмешиваться во все негоциации. Очень часто ему удавалось это; но он никогда не мог создать ничего прочного. Его утонченной политике хотелось иметь успех везде, между тем как его обширные планы, всегда имевшие в виду несколько целей, обыкновенно не достигали ни одной. Здесь будет нелишним раскрыть те побудительные причины, которые заставляли Герца действовать в тённингенском деле.
Когда, в 1709 году, он придворными интригами добился ареста Веддеркоппа (президента тайного совета епископа-регента) некоторые дворы начали с жаром ходатайствовать об освобождении этого министра, пользовавшегося всеобщим уважением за свою честность[5]. Копенгагенский даже вступился за него как за своего вассала, которого считал обязанностью защитить от притеснений готторпского министерства. Тогда Герц почувствовал необходимость привлечь на свою сторону этот разгневанный двор. Он склонил епископа в конце 1710 года подписать конвенцию с королем датским, в силу которой последнему уступались многие права, приобретенные травендальским трактатом[6]. Но этого мало. Голштинское дворянство не могло быть подвергнуто никакому чрезвычайному налогу со стороны датчан без содействия герцогского регентства: Герц допустил те чрезмерные контрибуции, которые разорили столько богатых фамилий, и кроме того устроил так, что королю была отдана большая часть суммы, приходившейся на долю Готторпа. Эти деньги поставили Данию в возможность продолжать военные действия против Швеции по силе договора, заключенного ею с царем. За столько оказанных услуг несчастный Веддеркопп был забыт. Он остался по-прежнему в темницах тённингенских, а Герц во главе голштинского Совета. Когда король[7] выступил против Стенбока, епископ, в сопровождении Герца, посетил датский лагерь, и никогда еще оба двора, казалось, не были в большей дружбе.
Но победа, одержанная шведами при Гадебуше[8], внезапно переменила картину. Торжествующий Стенбок стал угрожать Ютландии и двинулся но дороге в Голштинию. Герц поспешно отправил статского советника Каллизена свидетельствовать у ног победителя о приверженности готторпского двора к Швеции. Генерал отвечал ему с презрением; однако ж под конец склонился на убеждения тайного советника Банниера (или по крайней мере показал вид, что склоняется), чтоб получить ту помощь, который надеялся добиться от Герца. Необходимость заставила его требовать, на всякий случай, свободного отступления к Тённингену, и 21 января 1713 года, в Гузуме, между ним и Герцом было заключено об этом условие, с уговором, что почтенный старик Веддеркопп (хотя в пользу его ходатайствовал шведский Сенат и сам Карл XII удостоил написать письмо из Бендер), не будет освобожден. За неделю до этого условия, которое должно было оставаться тайною для северных союзников, Герц послал в Копенгаген графа Дерната с уверениями, что двор готторпский сохранит строгий нейтралитет и не впустит шведов в крепость. Может быть, храбрость Стенбока и избавила бы их от необходимости искать в ней убежища, если б не мудрые распоряжения царя. Государь этот так искусно отрезал им всякий путь к спасению, что наконец надобно было прибегнуть к последнему средству, предвиденному заранее, и броситься в Тённинген. Комендант Вольф не хотел впускать туда иностранных войск, несмотря на приказание епископа-регента, и уступил только тогда, когда ему представили приказ молодого герцога (Карла-Фридриха) от июля месяца предшествовавшего года. Барон Банниер и граф Ревентлау составили этот подложный документ, а кабинет-секретарь Штамке подделал в нём подпись. Этот факт так достоверен, что даже после, когда Ревентлау женился на графине Альтан и перешел в службу императора (Австрийского), министр герцога Карла-Фридриха, Бассевич, не побоялся в Вене открыто упрекнуть его в том, и тот не осмелился оправдываться.
Предвидя грозу, готовую разразиться над владениями голштинскими, Герц хотел спасти от неё по крайней мере себя самого и епископа-регента. Так как условие его с Стенбоком было заключено под покровом тайны, то он, через посредство своего задушевного друга, графа Флемминга[9], выхлопотал у короля датского формальное обещание сохранить за епископом право опеки, не смотря на ненависть к нему Швеции, и всеми силами защищать его, барона Герца, от преследований этой державы. Взамен того, он с своей стороны обещал обратить в пользу его величества то, что называл ошибкою гг. Банниера и Вольфа, сделанною без его участия, и склонить графа Стенбока сдаться военнопленным со всею его армиею. Предложение это было принято, и Флемминг, хоть и состоял в службе короля Августа[10], получил от Фридриха IV[11] полномочие постановить с Герцом нужные условия.
Главнокомандующие союзников собрались в Гузуме[12] для переговоров с начальствующим над шведскими войсками, который требовал свободного пропуска в Померанию или Швецию. Герц, в качестве посредника, беспрестанно сновал между Гузумом и Тённингеном. Датскому Совету он говорил, что Стенбок действительно делает некоторые затруднения относительно сдачи, по что это только для формы, а князю Меншикову, что шведские генералы единодушно протестуют против обезоружения их войска, и что Стенбок, получив недавно весьма благоприятные известия с востока, никогда не согласится на предлагаемые ему условия. Князь передал это королю, король своим министрам, а министры, обрадовавшись возможности вести переговоры без содействия голштинцев, придали такой мрачный колорит разногласным представлениям Герца, что, не смотря на клятвенные уверения последнего, будто русский князь не так понял дело, князь этот, снесясь с королем, устранил его от конференций и прислал ему паспорт на выезд в Гамбург. Таким образом посредничество готторпского двора было отвергнуто, и его интересы, лишившись всякой подпоры, остались в полной зависимости от Дании, которая, с согласия союзников, наложила секвестр на оба герцогства.
Царь не стал ждать окончания блокады Тённнигена, и возвратился в свои владения, чтобы приступить к походу в Финляндию. Он проехал через Ганновер, где пробыл несколько дней. Герц, явившийся также туда, не мог добиться у него публичной аудиенции, но имел с ним тайное свидание. Здесь этот министр говорил, что регентство голштинское, имея в виду большое преимущество оружия союзников, давно разыскивало средства оказать им какую нибудь услугу, чтобы приобрести их благоволение; что дозволив отступление шведским войскам, оно сделалось властелином их участи и распоряжалось ими на пользу союзников; что, следовательно, несправедливо и неблагоразумно, когда с ним обращаются как с неприятелем именно те, которым оно служило с такою пользою и могло бы служить еще лучше, если б хоть сколько-нибудь терпели его наружное снисхождение к Швеции. Потом начал выставлять важность своих связей в шведском Сенате и легкость удаления надменного Карла от престола, на который советовал возвести молодого Карла Фридриха (обожаемого старою королевою, его бабкою[13]), тем более, что он всею душою предан Швеции, месту своего рождения и воспитания, мало расположен к собственным владениям, вовсе ему незнакомым, и следовательно без труда решится уступить часть их (царю, который желал владеть участком в Германии) в вознаграждение за помощь, которая доставит ему скипетр — цель его стремлений. Для осуществления этого обширного замысла прежде всего предполагалось: отпустить осажденную армию в Швецию и тем сделать приятное шведской нации; возвратить епископу-регенту герцогства шлезвигское и голштинское, занятые датчанами, чтобы иметь возможность отдать царю то, что ему будет уступлено, и наконец — объявить шведские провинции в Германии нейтральными, как это было уже постановлено трактатом, заключенным в Гааге после несчастья Карла под Полтавою. Говорят, что проект такого нейтралитета родился в голове Герца; по крайней мере он вполне сочувствовал ему и постоянно носился с ним, как с любимою мечтою, до самого возвращения Карла в Стральзунд. Не смотря на всю странность свою, мысль эта несколько раз готова была осуществиться, и не имела успеха только потому, что Карл с упорством отвергал ее.
Не доверял ли царь Герцу, или соображения не позволяли ему охуждать действий Дании, только он сурово отвечал этому министру, что тот рассказывает ему сказки, основанные на измене, или на химере, и что вместо того, чтоб забавляться ими, лучше было бы придумать средство к устранению неудовольствий копенгагенского двора. Не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, он вскоре после того уехал в Россию и оставил заведование делами в Германии князю Меншикову, которому приказал следовать за собою с войсками, как скоро сдастся Стенбок.
Несмотря на происшедшее в Гузуме, Герц не замедлил приобрести себе благоволение начальника русской армии. Две мысли — увеличивать могущество царя и обогащать самого себя — руководили всеми действиями Меншикова. Герц прислал ему план прорытия через Шлезвиг канала, который бы соединял Балтийское море с Немецким и открывал России путь к торговле, избавляя в то же время русские корабли от обязанности проходить через каттегатский пролив. Князю предоставлялось привести в исполнение это предприятие и получить от него значительную прибыль. Такого рода проект не мог не найти в нём сочувствия. Чтобы свободнее обсудить его с Герцом, он снова вызвал последнего на гузумские конференции, которые всё еще по временам возобновлялись и на которых шла речь как относительно военных действий, так и относительно предварительных условий мира. Считая с этой минуты тесный союз с домом готторпским полезным своему государю, Меншиков вознамерился утвердить его браком молодого герцога с царевною Анною Петровною. Герц во всём соглашался с князем и до того приобрел его расположение, что тот часто называл его своим приближенным тайным советником (seinen Leibgeheimenrath).
Между тем, 20 мая, недостаток продовольствия заставил победителя при Гадебуше[14] сдаться военнопленным со всею его армиею. Он согласился однако ж на это не прежде, как условившись с королем датским относительно восстановления прав дома готторпского, так что, если б датчане не нарушили договора, достиг бы своею сдачею цели, для которой Карл XII не задумался бы вести ожесточенную войну. Лишь только договор этот был подписан, как король потребовал от Меншикова, в виде акта обеспечения, чтобы, во внимание к услугам, оказанным в этом случае всей коалиции посредничеством епископа-регента и усердием его министра, русские войска в шестнадцать дней очистили голштинские владения. Князь со всею точностью исполнил это обязательство и сопровождаемый саксонскою армией отступил к окрестностям Гамбурга. Он с гордостью воспротивился бомбардированию Тённингена, но не мог отклонить короля от продолжения его осады, хотя там и не было более шведов. В то же время, по его приказанию, через русские аванпосты со стороны Дитмарсии, туда доставлен был значительный транспорт съестных припасов, который счастливо прошел в крепость. Затем, отступая, он подписал декларацию, посланную к барону Герцу, что ни в каком случае герцогскому дому не приписывает неприязненных намерений против союзников.
Царь справедливо полагал, что ему не дадут ничего завоевать в Германии и что двух армий, датской и саксонской, достаточно, чтоб уничтожить остатки шведских войск. Он искал успехов в Швеции, чтоб было из чего обильно оставить себе и возвратить назад, когда дело дойдет до мира; поэтому, несмотря на всю несправедливость поступков Дании во владениях принца малолетнего, допускал эту державу запасаться там деньгами и набирать рекрут, имея в виду тем легче привести в исполнение свой план — совершенно ослабить Швецию сильною высадкою в Скании. Меншиков, вместо того, чтоб согласоваться с намерениями государя и отступить с своею армиею, ослепленный расточаемыми ему подарками, безусловно подчинился видам Герца, который всё еще мечтал о своем проекте нейтралитета и старался внушать его всем дворам. Но чтобы возвысить свою заслугу и показаться в глазах Швеции спасителем её германским провинций, надобно было поставить их в опасное положение, почему министр этот на первый раз просил союзных генералов вступить в Померанию и действовать там враждебно. На Вандсбекских (Wandsbeck)[15] конференциях положено было завладеть всеми укрепленными местами шведов в Германии. Герц, находившийся в четверти мили оттуда (от Вандсбека), в Гамбурге, представил графу Веллингу, генерал-губернатору герцогств Бременского и Померанского и уполномоченному короля шведского, что спасти эти места можно не иначе, как сдав их нейтральной державе, но не настолько могущественной, чтоб бояться, что она завладеет ими. Веллинг, убежденный теми же доводами, уже прежде сдал курфюрсту ганноверскому Верден и Оттерсберг, желая спасти их от датчан, а потому без затруднения согласился теперь на занятие Висмара и Штеттина войсками голштинскими. Но войска эти были еще в Брабанте на службе соединенных штатов и оказывались недостаточными для обеих крепостей, из которых каждая требовала по четыре батальона. Поэтому было решено, что епископ регент согласится, по собственному своему выбору, с какою либо нейтральною державою для получения половины гарнизона, и что эти войска присягнут ему, равно как и оба шведские батальона, которые останутся до возвращения в упомянутые крепости его собственных войск, но с тем, чтоб предоставить им потом свободное отступление к острову Рюгену и снабдить их на дорогу продовольствием. Все издержки падали на Швецию, имевшую уже ту выгоду, что за нею оставались её укрепленные места, за которые отвечал епископ. Этот правитель и Веллинг с одинаковым удовольствием подписали свою конвенцию 10-го июня. Один думал, что обеспечит безопасность значительной части вверенной ему провинции, другой — что будет иметь верное ручательство в том, что Швеция не заключит мира без его восстановления и вознаграждения. Герц, с своей стороны, сохранял себе полную власть предоставить владение двумя прекрасными, хорошо укрепленными городами той державе, которой удостоит благоприятствовать.
Выбор его пал на короля прусского, который не приставал еще ни к какой стороне в смутах Севера. Союз с ним, следовательно, мог совершенно изменить положение дел. Но король этот только что вступил на престол; роскошь отца истощила его казну; его наклонность к экономии требовала мира, и министр Ильген, пользовавшийся его доверием, был благоразумен, но робок. Герц, столь способный ко всякого рода интригам, не мог удалиться из Гамбурга и Вандсбека при таких критических обстоятельствах. Хотя в числе его креатур и были люди, способные для самых запутанных негоциаций, однако ж в этом деле, где он не хотел быть проникнутым никем, ему нужен был человек новый, но тем не менее способный иметь успех в делах. Тот самый Бассевич, о котором упомянуто выше, был старостой (grand bailli) в Гузуме, именно в то время, когда решалась там несчастная участь Стенбока. Должность эта доставляла ему случай сходиться с генералами, участвовавшими в гузумских конференциях, и все они питали к нему необыкновенное расположение. Даже король датский, из особенного к нему благоволения, предлагал не только оставить ему управление староствами Гузумским и Швабштедтским, но и присоединить к ним еще Тундернское, самое доходное в Шлезвиге. Но Бассевич не принял этого предложения и отправился в Гамбург к епископу-регенту, сложив с себя свою должность и вместе с тем отказавшись от данных своим староствам взаем денег, которые составляли почти всё его имущество.
Герц признал за нужное воспользоваться его усердием и способностью нравиться. Тогда епископ назначил Бассевича своим посланником при прусском дворе, с поручением просить короля склонить Датчан к восстановлению голштинских владений и снятию осады Тённингена, а потом убедить его принять против Дании и России сторону Швеции, которую заставят уступить ему, в вознаграждение, Штеттин с округом. Министерство в Берлине приняло такое предложение за химеру и долго уклонялось от переговоров о нём, пока наконец король, у которого Бассевич успел снискать к себе уважение, не приказал приступить к ним. Ильген спросил, что может представить епископ в обеспечение своих обещаний? Посланник в ответ представил ему только что заключенную конвенцию с Беллинтом, и 22-го июня подписана была другая, известная под именем трактата между Пруссиею и Голштиниею, сущность которого состояла в следующем: 1) Висмар и Штеттин будут очищены шведами и заняты одинаковым числом войск обеих договаривающихся сторон, под предводительством двух равных по чину офицеров, которым начальствовать там поочередно; 2) городов этих не уступать никакой другой державе, а Швеции не возвращать иначе, как с условием уплаты за содержание гарнизонов; 3) король и епископ займут Стральзунд и остров Рюген своими войсками и будут защищать их от всякого постороннего притязания; 4) его величество король прусский употребит все свои усилия для замирения Севера; 5) он войдет в сношения с Великобританиею, Генеральными Штатами и курфюрстом Ганноверским, чтобы положить конец неприязненным действиям Дании в Шлезвиге и Голштинии, и наконец 6) если эти державы слишком замедлят своим согласием, король приступит к решительному действию один и употребит все возможные средства для восстановления дома готторпского во всех его правах. В этот трактат, вскоре после того обнародованный, включены были две секретные статьи, гласившие, первая: что епископ убедит его величество короля шведского уступить в полную собственность королю прусскому, в виде вознаграждения за оказанные им важные услуги, Штеттин с округом; вторая: что в случае, если Карл XII умрет, не оставив потомства, король прусский всеми силами будет поддерживать права на престол шведский герцога Карла-Фридриха, который в таком случае, кроме уступки Штеттина, откажется еще от мнимого права короны шведской на обладание верхнею Померанией и Новою Мархией, равно как и от соединенных с ними преимуществ.
По заключении этого договора, граф Веллинг послал приказание графу Мейерфельду, губернатору Померании, сдать обе крепости епископу-регенту. Мейерфельд не согласился, доказывая, что король (шведский) вверил их его чести, и что он в состоянии защитить и сохранить их. Так как царь отозвал свою армию, а у датчан и саксонцев не было осадной артиллерии, то это препятствие заставило Герца просить Меншикова и Флемминга отрядить свои войска в Померанию для устрашения Мейерфельда. Привыкнув следовать его внушениям, они выступили и расположились лагерем перед Штеттином. Чтоб иметь возможность управлять их действиями, Герц переехал в Берлин, получив неограниченное полномочие от епископа регента вести переговоры, заключать, по своему усмотрению, трактаты и союзы от имени герцогского дома и даже передавать это полномочие в целости или по частям, в виде передоверия, кому заблагорассудит. Бассевич получил приказание находиться в лагере генералов, и Герц вручил ему особую инструкцию для убеждения Мейерфельда. Ложные доводы, представлявшие интересы Швеции в неверном свете, угрозы разорением и опустошением провинции, обещания подарков и покровительства — ничто не было в ней забыто, но ничто не поколебало твердости и честности генерала.
Решено было начать осаду, не смотря на все препятствовавшие ей затруднения.
Одно из важнейших Герц устранил, открыв князю Меншикову кредит в прусских владениях для продовольствия его армии. Недоставало только артиллерии. Напрасно Герц употреблял все уловки, чтоб получить ее из Берлина: ни король, ни его министерство не хотели нарушить раз признанного ими нейтралитета. Тогда, потеряв надежду с этой стороны, он 20-го августа заключил секретный договор с фельдмаршалом Флеммингом, где между прочим сказано было: что так как Пруссия отказывается поддерживать меры, предпринятые с целью заставить Мейерфельда согласиться на проект нейтралитета шведских провинций в Германии, то все выгоды, обещанные ей в трактате Бассевича, переходят к Саксонии, но с тем условием, что она решительно приступит к военным действиям для покорения всех укрепленных мест Померании, даже Стральзунда, и что доставит из Дрездена свою осадную артиллерию. Чтоб облегчить исполнение этого дела, епископ-регент обязывался выплатить Саксонии двести тысяч талеров, которые падут потом на Швецию, и не позволят последней высаживать в Померанию новых войск, — условие необходимое, чтобы воспрепятствовать шведам беспокоить Польшу с этой стороны.
Незадолго перед тем союзные генералы открыли в Суэде[16] конференции о распоряжениях, необходимых в провинции, и о восстановлении прав Шлезвига и Голштинии. Датские министры явились на эти конференции точно так же, как и Герц и Бассевич. Меншиков с жаром держал здесь сторону епископа-регента, не смотря на повеление царя объявить всем дворам, что государь этот обнаружил к Швеции явное пристрастие, которое оправдывает действия Дании. Напрасно епископ старался приобрести себе благоволение его царского величества приношением ему в дар великолепного готторпского глобуса: монарх не хотел открыть глаз на злоупотребления своего союзника. Видя такую непреклонность, Меншиков вдруг начал опасаться, что слишком большим угождением Герцу может повредить себе, и стал внимать предложениям, которые ему сделаны были из Берлина.
Фридрих-Вильгельм не мог смотреть равнодушно на осаду, готовую лишить его пункта, который он мысленно уже обеспечил себе. Он велел вручить голштинским министрам декларацию, где сказано было, что не смотря на всё желание его избавить Померанию от неприязненных против неё действий и сохранить Висмар и Штеттин королю шведскому, желание, в котором они сами когда-нибудь удостоверятся, — упорство Мейерфельда заставляет его, для обеспечения своих границ, приступить к соглашению с союзниками. После того он приступил к переговорам с князем (Меншиковым) о секвестре Померании и о занятии Штеттина гарнизоном на половину прусским, на половину русским. Ясно, что король готов был соединиться с союзниками против Швеции, если б только обещали уступить ему этот город при заключении мира и не уклонялись от переговоров о том. Заметив такой опасный оборот дела, Герц в конце августа уехал из Берлина в Гамбург и предоставил Бассевичу одному заботиться об участи Померании.
Бассевич был того мнения, что выгоды молодого герцога требуют, чтобы Штеттин перешел в руки только Пруссии и чтоб последняя была обязана им дому готторпскому. Но всё противилось этому: Флемминг рассчитывал на выгоды, обещанные Герцом, а Меншиков хотел устранить упрек в неисполнении данных ему приказаний и доказать царю пользу пребывания его войск в Германии каким-нибудь блистательным подвигом. Он с ожесточением начал бомбардирование, не дождавшись даже возвращения курьеров, отправившихся за последними приказаниями епископа-регента и графа Веллинга. Бассевич собрал все свои силы, чтобы предупредить уничтожение трактата, который был его делом. К счастью, ему удалось найти князя в палатке одного (большею частью его всегда окружали саксонские и датские шпионы). Здесь он говорил так убедительно, что Меншиков, питавший к нему и без того бесконечную дружбу и уважение, уступил, и что через несколько часов он увидел себя посредником конвенции между этим князем и королем прусским, по которой, за 400 000 талеров и свободный пропуск союзников для нападения на Стральзунд, первый удовольствовался суетной славой — войти победителем в Штеттин с тем, чтоб передать этот город и всю секвестрованную область в руки короля и предоставить коменданту и гарнизону честное отступление в Швецию. Епископ-регент взял на себя обеспечение обещанной суммы, а король снова обязался допустить в гарнизон половину голштинцев, содействовать всеми силами восстановлению и выгодам Фридриха[17], на основании трактата 22-го июня, и прежде всего достигнуть снятия осады Тённингена. Когда всё это было сделано, Бассевич отправился доказывать Мейерфельду, что дальнейшее сопротивление произведет возмущение со стороны жителей, приведенных в отчаяние разрушением их города, и грозил ему участью Стенбока. 30-го сентября Мейерфельд вышел из Штеттина, и всё уладилось сообразно с конвенцией.
Верный обещаниям, данным дому готторпскому, король прусский уже ходатайствовал в его пользу в Лондоне, Гааге и Ганновере. Королева Анна и курфюрст Георг готовы были вступить в переговоры относительно восстановления (дома готторпского). Такая готовность послужила основанием или по крайней мере предлогом Герцу оставить ненадёжную негоциацию о Померании и отправиться в Ганновер, где он пробыл только восемь дней и потом уехал в Готторп. Там пребывал в это время король датский с иностранными министрами, находившимися при его дворе, и забавлялся знаменитым планом пересадки (transplantation), по которому герцогский дом должен был уступить Дании свои наследственные земли и получить за них в обмен герцогство Бременское и графства Ольденбургское и Дельменгорстское. Герц много смеялся над этим планом и так прижал короля, что тот, актом, подписанным в Шлезвиге 30-го сентября, предложил возвратить Голштинию немедленно, а Шлезвиг по окончании войны, снять осаду Тённингена и согласиться на занятие этой крепости нейтральными войсками по выбору епископа. Видя себе поддержку со всех сторон, Герц с гордостью отвечал: что по воле государя его ни одна деревня из его наследственных земель, тем менее герцогство Шлезвигское, не остается в руках Дании, и что спасти Тённинген есть дело короля прусского. Поэтому вся сделка между ними ограничилась условием касательно снабжения Тённингена съестными припасами на восемь дней. — В этот промежуток времени получено было ходатайство королевы Анны в пользу освобождения несчастного Веддеркоппа. Герц, несмотря на то, что употребил большие суммы для обеспечения себе помощи со стороны английского флота и что уж почти получал ее, всё-таки не задумался отвергнуть посредничество королевы, которая предлагала поставить гарнизон в Тённинген; потом вдруг сам предложил оставить там половину голштинских войск, и тотчас же уехал из Готторпа, не дождавшись ответа на то Дании. В оправдание такого внезапного прекращения переговоров он распустил слух, что в Готторпе намеревались его арестовать. Одно обстоятельство давало этому вид правдоподобия: князь Долгорукий[18], посол царя, протестовал против допущения Герца на Готторпские конференции, уверяя, что Меншиков имеет приказание помогать Дании в устранении всякой попытки лишить ее земель голштинских. Чтобы ослабить противодействие этого министра, Герц старался ему внушить, что если дом голштинский непременно обрекали на потери, то он может решиться и на добровольное лишение в пользу истинного своего друга, короля шведского. Посол после этого заподозрил Герца в домогательстве отдельного мира между Швецией и Данией, и обнаружил столько энергии для уничтожения его интриг, что можно было подумать, что он руководствовался в этом деле какими-нибудь сильными внушениями, хотя и был любезнейшим и приветливейшим из русских своего времени.
Герц возвратился в Берлин 10-го октября и сильно упрашивал короля послать войско на помощь Тённингену. Но он знал медленность решений прусского министерства, исполненного предосторожностей, и военную организацию Пруссии (теперь столь превосходную), вследствие которой она не могла тогда приступать к решительным действиям по первому призыву; и потому, чтобы выиграть время и занять как-нибудь неприятеля, который теснил крепость, вступил в тайные переговоры с графом Альфельдом, датским министром в Берлине, о предварительных условиях восстановления (дома готторпского) и о снабжении съестными припасами Тённингена через каждые восемь дней, до окончания брауншвейгского конгресса; притворился даже, что допускает план пересадки, который, как мы видели, так презирал в Готторпе. Альфельд понимал слишком хорошо интересы своего государя, чтоб не шепнуть на ухо его прусскому величеству: что он может поберечь свое ходатайство и не тратиться на чрезвычайное вооружение, потому что враждующие стороны готовы согласиться между собою. Король, затронутый за живое тем, что дело может уладиться без его участия, решился по этому поводу оставить без внимания вопрос о восстановлении. Он совершенно лишил своего доверия Герца, и если Бассевич также не потерял его, то это только потому, что соглашение сделано было без его ведома и что призванный из лагеря в Берлин для подписания акта, он уклонился от этого, говоря, что такое соглашение неуместно при настоящих затруднительных обстоятельствах и что герцогский дом не найдет в нём для себя никакого обеспечения. Такая смелость возмутила Герца, принявшего ее за открытое сопротивление своей власти, и он устранил Бассевича от переговоров своих с графом Флеммингом касательно вознаграждения издержек по перевозке саксонской артиллерии. Король прусский уплатил в число их 400 000 талеров, и Флемминг одобрил секвестр Штеттина.
Царь, извещенный послом Долгоруким, графом Головкиным, своим министром в Берлине, и жалобами короля датского о действиях Меншикова в пользу двора Готторпского, повторил приказание русским министрам при иностранных дворах объявить: что он будет считать своим неприятелем всякого, кто вздумает нападать на его союзника за секвестр владений епископа-регента. Это было громовым ударом для приверженцев последнего. Прусское министерство воспользовалось сим случаем, чтоб объявить Герцу, что такое обстоятельство ставит короля в невозможность исполнить принятые им на себя обязательства относительно восстановления, и что он не может мериться с силами России. Сам король сказал Бассевичу, который был в отчаянии, что плоды его счастливых переговоров ускользали от его государя, что он должен ехать в Петербург и упросить царя объявить только, что голштинское дело до него не касается, и представить его величеству, что Фридрих-Вильгельм тотчас же готов спешить на помощь своим друзьям, но что он не может противиться колоссу. который бы задавил его, если б объявил ему войну.
Меншиков, в силу штеттинского договора, вывел свои войска из Померании. Он выжал несколько контрибуций с городов Гамбурга, Любека и Данцига, убедил Герца послать в Петербург Бассевича, как единственного человека, способного внушить царю более сострадания к несчастному дому готторпскому, и отправился наконец в Россию. Прием, сделанный ему государем, был весьма немилостивый. Его упрекали, что он всё делал дурно. Он и оставался в Померании, и уезжал оттуда всегда не вовремя. После победы над Стенбоком, он должен был бы спешить пожинать лавры вместе с своим государем в Финляндии, но предпочел собирать их один в Померании; почему же он не окончил жатвы и не продолжал своих завоеваний? Он уступает их другим за ничтожную сумму денег, недостойную обращать на себя внимание, и рискует, по какому-то странному расположению к министрам голштинским, потерять старинного и верного союзника царя, не приобретая ему нового в лице короля прусского, хотя и имел к тому в руках все средства. В защиту против столь важных обвинений, князь ничего не мог представить, кроме пользы от проектов Герца. Но осуществление их было так сомнительно, так отдаленно! Меншиков пал бы непременно, если б великодушная супруга царя не вступилась за него, представляя разгневанному монарху, что среди стольких вельмож, всё еще привязанных к варварским обычаям, которые он старается смягчать, ему нужен слуга способный и мужественный, получивший и знатность, и богатство только от него, обязанный, следовательно, безусловно подчиняться его воле, одним словом такой, как князь Меншиков, которому он никогда не найдет равного, и прежние заслуги которого вполне дают ему право на прощение его настоящей вины. Вследствие таких представлений фаворит на сей раз отделался только тем, что с ним несколько времени обращались с холодностью, заставлявшею его бояться всего. Царь с умыслом показывал ее публично, чтоб удовлетворить датчан и заставить своих царедворцев трепетать за всякое уклонение от его воли, тем более, что не прощает проступков и человеку, для него столь дорогому.
Рассудок говорил здесь в пользу Меншикова устами Екатерины и давал всегда этой государыне то огромное влияние, которое она, в виду всех, так часто имела на душу своего супруга.
Впрочем она имела также и власть над его чувствами, власть, которая производила почти чудеса. У него бывали иногда припадки меланхолии, когда им овладевала мрачная мысль, что хотят посягнуть на его особу. Самые приближенные к нему люди должны были трепетать тогда его гнева. Припадки эти были несчастным следствием яда, которым хотела отравить его властолюбивая его сестра София. Появление их узнавали у него го известным судорожным движениям рта. Императрицу немедленно извещали о том. Она начинала говорить с ним, и звук её голоса тотчас успокаивал его; потом сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, и он засыпал в несколько минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжении двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым. Между тем, прежде нежели она нашла такой простой способ успокаивать его, припадки эти были ужасом для его приближенных, причинили, говорят, несколько несчастий и всегда сопровождались страшною головною болью, которая продолжалась целые дни. Известно, что Екатерина Алексеевна обязана всем не воспитанию, а душевным своим качествам. Поняв, что для неё достаточно исполнять важное свое назначение, она отвергла всякое другое образование, кроме основанного на опыте и размышлении. Она никогда не училась писать. Принцесса Елизавета всё подписывала за нее, когда она вступила на престол, даже подписала её духовное завещание. При жизни царя она не приближала к себе никого из своих родных. Только после его смерти явился в Петербурге её брат, под именем графа Генрикова. В продолжение двух последовавших царствований он жил в неизвестности. Императрица Елизавета сделала его сына своим камергером. Одна из его дочерей вышла замуж за канцлера графа Воронцова; обер-гофмейстер Чоглоков женился также на графине Генриковой, племяннице императрицы. Графиня Воронцова пользуется известностью как замечательная красавица и как женщина необыкновенно умная и очень образованная[19].
Но возвратимся к Меншикову. Конвенция его с прусским двором не была одобрена. Царь не только отказался от ратификации её, но и приказал еще Головкину объявить берлинскому кабинету, что голштинцы сами причиною своих несчастий, потому что с гордостью отвергли предупредительность Дании в отношении к Готторпу, и что его царское величество не потерпит, чтоб покровительствовали такому упорству их против его союзника. После двукратного посещения прусского двора царю вполне стало ясно робкое благоразумие министра Ильгена. Чтоб застращать его, он присоединил к вышеупомянутой декларации гордые жалобы, что в трактате 22 июня в пользу епископа-регента принято несколько условий в противность последней конвенции, заключенной с князем Меншиковым, и объявил оскорбительное требование, чтоб их уничтожили. Гордясь такой поддержкой, Альфельд не посовестился сказать Ильгену: «Ну, так уничтожьте; Берлину ведь не в первый раз нарушать трактаты. Скажите в оправдание, что вас застали врасплох». Принимая к сердцу, как и должно было, честь своего короля, от которого требовали отказа, и боясь в то же время отважиться на смелый ответ царю, министр, в отчаянии, не знал на что решиться. Король, справедливо оскорбленный, очень охотно принял бы сторону Швеции; но упорная твердость Карла XII не оставляла никакой надежды получить от него согласие на какую-либо уступку в пользу Пруссии; притом же распространился неопределенный слух, что шведы, утомленные слишком воинственным царствованием, и под предлогом, что король покинул их, решились возвести на престол принцессу, сестру его.
Бассевич только что возвратился из Мекленбурга, как Герц поручил ему тайно хлопотать там о заключении союзного трактата между герцогствами Шверинским и Готторпским, трактата, к которому будут стараться привлечь королей шведского и прусского. Герцогство Шверинское должно было, на основании его, получить обратно Висмар за 100 000 талеров, которые оно выплатит Готторпскому в виде замены обязательств его с Пруссиею относительно этого города, а епископ-регент предлагал свое посредничество для мирного разрешения несогласий между герцогом Мекленбургским и его владениями. Но Герц скоро стал опасаться, что Бассевич, из любви к своей родине и из уважения к отцу, стоявшему во главе мекленбургского дворянства, приложит слишком много старания в пользу трактата, который увеличил бы герцогу средства притеснять свои владения; а потому велел ему возвратиться в Берлин, и отправился сам в Шверин, где, вместо достижения предположенной цели, навел только герцога на мысль, что он с большею верностью может рассчитывать на получение предлагаемого ему, если будет искать дружбы и покровительства царя.
Монарх русский принял очень благосклонно предложение, сделанное ему герцогом через посредство Остермана, сына одного вестфальского пастора и брата знаменитого Остермана, бывшего тогда секретарем царя, а впоследствии графом и канцлером Российской империи[20]. С этого времени начались дружеские сношения, которые потом подкрепились еще браком герцога с племянницею царя Екатериною, дочерью царя Ивана, и открыли, для пользы русской торговли, новый путь взамен затруднительного шлезвигского канала, тем более, что плавание по Балтийскому морю к Эльбе легко могло установиться при помощи некоторых мекленбургских озер и рек. Проект такого сообщения был задуман еще герцогом Валленштейном во времена его господства. План его сохранялся в герцогской камере.
Заметив, что затруднения для его негоциации в Шверине непреоборимы, Герц однако ж не остановился, а отправился в Ганновер, откуда потом возвратился в Берлин с целью смягчить Головкина, ободрить Ильгена и добиться, чтоб Альфельд похлопотал о снабжении припасами Тённингена, которое столько раз обещалось и всё откладывалось. Гарнизон его, томимый голодом, угрожал сдаться, и тогда Веддеркопп немедленно получил бы свободу. Чтобы предупредить такой случай, Герц написал собственноручно, от имени епископа, точный приказ Вольфу, чтобы он, прежде нежели сдаст крепость, отрубил Веддеркоппу голову в самой темнице. Альфельд согласился наконец выдать принцу Виртембергскому, командовавшему блокадой., позволение своего двора снабдить припасами Тённинген; но Ильгена невозможно было склонить показать зубы Головкину, как выражался Герц, уверяя, что его, Ильгена, тогда больше будут щадить. Обершенк Шлиппенбах был назначен для исходатайствования у царя ратификации договора с Меншиковым и для представления достаточных объяснений по поводу мнимых недоразумений как этого договора, так и договора с епископом-регентом. «Сделайте мне удовольствие, пошлите Бассевича хлопотать о пользах вашего государя и поддерживать Шлиппенбаха, — сказал король Герцу, — я вам отвечаю, что это именно человек, какого нужно для Петра Алексеевича». Король судил очень верно. С лицом весьма располагающим в свою пользу и откровенным, Бассевич соединял необыкновенную находчивость, которая помогала ему схватывать и понимать вещи с первого разу, твердость непоколебимую, речь быструю, умную и простую, темперамент, способный, при случае, выдержать 24-х часовой труд или разгул, большую щекотливость в деле чести, значительную долю прямизны и гуманности, горячности, но без злопамятности, много любви к роскоши, к женщинам, к игре, — и при всём этом не обнаруживал ни малейшей скупости. Иногда он бывал неосторожен в своих словах и выдавал какую-нибудь маленькую тайну, но всегда сохранял тон откровенности, который внушал к нему доверие и заставлял других высказываться гораздо более его самого. Ко всему этому у него присоединялось много огня, деятельности, отваги и всегдашней готовности рассечь узел, если не было средств распутать его.
Герц, во избежание увеличения его кредита и самостоятельности, могущего произойти при счастливых переговорах с царем, послал в Петербург Негелейна, кабинет-секретаря епископа, ходатайствовать о благосклонной декларации, от которой зависела помощь Пруссии. Негелейн однако ж, хоть и был человек способный, не сделал там ничего; не мог даже найти доступа к Меншикову иначе, как объявив себя предтечею Бассевича. В силу постановлений царя, при его дворе все негоциации производились письменно. Негелейн получил приказание изложить на бумаге сущность того, что предложит возвещенный им министр. Тот повиновался и объявил: что министр сделает предложение в пользу замирения Севера и союза царя с домом готторпским, союза, могущего доставить выгоды русской торговле; что он будет стараться изыскивать возможные меры относительно наследования шведского престола, и что станет разузнавать, можно ли надеяться на брак, который бы соединил обе стороны неразрывными узами. Секретарь распространился о предметах столь интересных в надежде склонить царя к пощаде епископа, о которой имел поручение ходатайствовать. Но ни монарх, ни фаворит не удостоили его ни насколько своей откровенности; последний не переставал просить чтоб спешили приездом посланника.
Герц решился наконец отпустить Бассевича, и объявил ему об этом. Но тот же самый человек, которой весело отвечал на просьбы Меншикова поскорее ехать вслед за ним, что отправится, как скоро согласятся на то Бог и барон Герц, — теперь отказывался от трудной комиссии ехать упрашивать царя, и надменный Герц принужден был унизиться до самых настойчивых просьб, чтоб убедить его не уклоняться от неё. Бассевичу казалось, что дела приняли слишком дурной оборот, чтоб думать о возможности поправить их, а может быть он и предчувствовал, что его ожидает измена. Когда он расставался с Герцом, последний заключил свои прощания следующими странными словами: «Подумайте обо мне, люб. друг, когда увидите соболей.» — (1714) Не пускаясь с ним в совещания насчет его инструкций, Герц велел вручить их ему только тогда, когда тот садился уже в карету. Вот, в сущности, их содержание:
1. Отклонить его царское величество от подозрения, что епископ-регент пристрастен к Швеции. Нельзя, конечно, не допустить, чтоб интересы этой державы не были ему дороги; но благоразумие прежде всего требует предпочтения собственной безопасности всякой чужой. Следуя этому правилу, его светлость принудил графа Стенбока сдаться; ясное доказательство, что он вовсе не имел намерения защищать или укрывать его, когда дозволил ему запереться в Тённингене.
2. Отклонить также его царское величество и от другого подозрения, что будто бы готторпский двор старался о заключении отдельного мира между Швецией и Данией. Он отвергал план пересадки, хотя последний вел прямо к миру, который Дания не поколебалась бы заключить, если б только захотели принять её условия. Но не дай Бог, чтоб на них когда нибудь согласились; разве вынудить к тому непреклонность царя. Державам, которым выгодно препятствовать этому миру, стоит только возвратить дому готторпскому захваченные его владения, и все поводы стараться о нём уничтожатся. В этом деле ссылаются на суд графа Флемминга, государственного человека столько же просвещенного, сколько и преданного своему королю.
3. Убедить царя не отказывать в одобрении благоприятных отзывов князя Меншикова и согласно с тем приказать своим министрам при иностранных дворах давать знать, что он не будет противиться восстановлению (дома готторпского). Это главная цель посольства; но если чрезвычайный посланник найдет возможным достигнуть её путем более легким, предлагая стараться о мире, или посредством переговоров о наследовании шведского престола и браке в том смысле как уже прежде было о том предложено, то ему предоставляется право договариваться относительно всех этих пунктов, и всё будет одобрено и утверждено, лишь бы только вышеозначенные отзывы и всё сопряженное с ними служили основанием и имели желаемое действие.
Негелейн был еще в Петербурге, и уехал оттуда только спустя несколько месяцев. Он имел то счастливое чувство, враждебное интриге, ту совесть одним словом которую Герц называл обыкновенно болезнью, излечиваемою только кровопусканием. Хитрый министр предпочел ему Криста, незнакомого с этою болезнью, назначив последнего секретарем посольства при Бассевиче. Этот человек догнал посланника через неделю после его отъезда из Берлина и вручил ему добавочную инструкцию, в которой было сказано:
1. Что если вопрос о браке молодого герцога с царевною, предложенном прежде Меншиковым Герцу, будет снова поднять, то следует объяснить, что со стороны интереса, который всегда служить основанием для браков царственных лиц, дело это уладится само собою.
2. Чтоб говорить о наследовании престола Карла XII не иначе, как о таком предмете, которого нельзя касаться с неприятелем шведов, не оскорбляя их.
Затрагивать вопрос, о котором мнение этого народа не одинаково, значило бы производить в нём пагубные раздоры, значило бы отчудить его от министерства голштинского. А кто же другой, кроме этого министерства, может привести его, по желанию союзников, к заключению мира властью Сената, в отсутствие и даже против воли короля? Такой причины достаточно, чтоб переговоры о наследовании престола отложить до другого времени.
3. Чтоб внушить что невозможно заключить скорый и прочный мир с Швециею без содействия Франции и морских держав, и что следовательно необходимо для конгресса выбрать место неотдаленное от них, Брауншвейгские конференции по этому могут послужить не более, как для устроения голштинских смут и назначения приличного места переговоров о замирении Севера.
4. Посланник должен стараться внушить прусскому министру, чтобы он показывал благородную и гордую твердость, как в померанском, так и в голштинском деле.
5. Надобно, чтобы он, не обнаруживая публично короткости и согласия с бароном Лоосом, министром короля Августа, сносился с ним обо всём, кроме брака герцога с дочерью царя; это дело должно быть рассматриваемо как глубочайшая тайна.
Бассевич горько жаловался на двусмысленность и несообразности этих инструкций. Царь человек прямой и проницательный, русские бесконечно подозрительны; в какое же положение ставили его? Герц старался успокоить его обещаниями, что ему будут доставлять пояснения по мере соображений. Шлиппенбах, которого он имел приказание дожидаться, соединился с ним в Данциге. Они были представлены царю в Риге, где этот государь осматривал верфи, и скоро последовали за ним в новую столицу его империи. Там они имели у него формальную аудиенцию.
Двор петербургский не имел еще никакого внешнего блеска. Иностранные министры посещали его без особенного удовольствия. Не было никакого желания сделать им приятное или оказать вежливость; доступ к царю был возможен только на кабинетных конференциях или во время разгульных, грубых увеселений. Последние представляли, впрочем, самый удобный случай говорить с государем откровенно о делах, и быть допущенным в число его собеседников считалось отличием. Бассевич не замедлил добиться этой чести, хотя царь и находил странным, что маленький готторпский двор также старается вмешиваться в дела больших держав. Однажды он сказал посланнику: «Ваш двор, руководимый обширными замыслами Герца, похож на ладью с мачтою военного корабля; малейший боковой ветер должен потопить ее».
Бассевич, чтобы добиться благоприятного решения, изобразил самыми ненавистными красками недобросовестность Дании после сдачи Стенбока, и напротив расписал самыми блестящими славу и выгоду, которые приобретет царь, если удостоит своей дружбы дом готторпский. Петр Алексеевич велел ему объяснить, на чём основывает этот дом свое желание вступить в союз с Россией, и потом составить записку для обсуждения этого дела в совете. Ему хотелось иметь в руках документ, полезный для его видов, и привязать к себе Данию, которой бы можно было показать, чем он ей жертвует.
Стесняемый двусмысленностью своих инструкций, Бассевич не знал что сказать в требуемой от него записке. Напрасно обращался он с вопросами о том к своему начальнику: тот избегал ясных ответов по этому щекотливому пункту. Видя наконец себя окруженным западнями как со стороны своего собственного двора, так и того, с которым вел переговоры, он решился всячески поддерживать Шлиппенбаха, в надежде, что успехи переговоров это го министра помогут счастливому окончанию его собственных.
Царь принял благосклонно объяснение Пруссии и обещал согласиться на конвенцию между королем и князем Меншиковым, если его союзники, которым он раз предоставил дело о Померании, будут относительно его согласны между собою. Он постоянно утверждал, что епископ, впустив в свою крепость шведов, нарушил нейтралитет, и потому терпит справедливое наказание. На возражения Бассевича, что их точно впустили, но в то же время и выдали, он отвечал, что нехорошо поступили, впуская их, но еще хуже, изменяя им, и что государям должно быть добросовестными. Бассевич передал эти слова Герцу, и вот что последний отвечал на них: «Вы говорите, что царь напирает на добросовестность: объясните ему, пожалуйста, что между государями дружба есть ничто иное как интерес, и что если один всячески уверяет в своей преданности другому, этот другой, когда не видит ясно пользы для себя от их союза, должен быть уверен, что все эти уверения ложны и скрывают обман». Бассевич не побоялся обратиться с такою речью к царю, хотя и мог попасть за нее в Сибирь.
Так как уже Негелейн предъявил пункты, которые Бассевич предложит монарху, то уловки его дня избежания прямого объяснения и замедление ответа возбудили наконец подозрение, что его облекли в сан посланника только для того, чтоб без опасности быть шпионом короля шведского, с которым его молодой государь находился в столь близких родственных отношениях. Его короткость с князем Меншиковым давала ему к тому все средства, тем более, что князь был доверенным лицом царя и не отличался скромностью. На почте стали вскрывать все письма, присылавшиеся на имя Бассевича. Меншиков всё еще был в шатком положении вельможи, которого судят, взвешивая его заслуги и вины. Он сваливал всю настоящую свою вину на Флемминга, которого советы вводили его в Померании в заблуждение. Царь принял это оправдание, чтоб даровать ему прощение; но бояре вывели из того заключение, что князь неспособен к делам. Оскорбленные тем, что во главе их стоит сын простолюдина, они с радостью готовы были бы подавить воскресавшее его могущество, если б только могли доказать, что он своею нескромностью обнаруживает государственные тайны. Однако ж перехваченная ими корреспонденция Бассевича нисколько не послужила для их цели; она открыла только, что между дворами берлинским и готторпским существуют какие то переговоры относительно наследования шведского престола, и что их тщательно скрывают от двора петербургского. Это послужило им поводом стараться внушить царю, что поручение, данное агенту Герца, таит в себе обман, и монарх сказал однажды Меншикову: «Твой голштинский друг слишком умен, чтоб серьезно думать, что его пустые слова заставят меня согласиться на что либо противное моим интересам; он верно приехал сюда с другим намерением; если за тем, чтоб быть здесь шпионом, скажи ему, чтоб он бросил это дурное ремесло, для которого не рожден, и чтоб выбрал себе другое, получше»; а немного спустя и самому посланнику: «Вследствие, сообщений, переданных Негелейном Меншикову, я сделал шаг, подозрительный моим союзникам. — я принял вас и обошелся с вами хорошо; но если вам не поручено того, о чём он нам говорил, — берегитесь». И, не дождавшись его ответа, царь удалился. Тогда Меншиков начал заклинать своего друга представить записку с изложением пунктов, составлявших, как было объявлено, цель его посольства, и в то же время объяснить действительность тех поводов, которые побудили его, Меншикова, склониться на сторону двора готторпского. Бассевич обещал ему это, и должен был приступить к делу, руководствуясь полученными им известиями. Герц последовательно сообщал ему: что генерал Вольф, по недостатку в съестных припасах, принужден был сдаться на честную капитуляцию; что датчане намереваются разрушить укрепления Тённингена и замышляют произвести в Швеции революцию с целью возвести там на престол принцессу, сестру короля; что герцог Карл-Фридрих будет объявлен совершеннолетним, чтоб можно было делать действительные уступки; что кредит министерства готторпского упал в Швеции и едва ли когда опять восстановится, потому что гордость и самолюбие нации противятся вмешательству иностранцев и не хотят ничем быть им обязанными; что так как двору готторпскому ничего более не остается, как обратиться к помощи царя, то если только его величество захочет действовать прямо и открыто — необходимо решиться на союз с ним, тем более, что робкая Пруссия никогда не предпримет чего-либо ему противного.
После того Бассевич и Меншиков составили план, долженствовавший определить взаимные интересы обеих сторон и понравиться царю. Они провели вместе целый день, стараясь облечь его в приличную форму. Вечером князь сообщил о нём государю, который приказал, чтобы Бассевич изложил все пункты на бумаге и на другой день утром явился к Меншикову, где его величеству угодно будет самому присутствовать при их конференции. Бот вкратце этот план, который Бассевич из предосторожности велел написать рукою Криста и не подписал:
1. Его царское величество ручается, что укрепления Тённингена не будут разрушены; обещает восстановить права дома готторпского в четыре месяца, употребит для этого все зависящие от него средства и откажется поддерживать каким бы то ни было образом интересы Дании.
2. Если король шведский возвратится, и заключен будет общий мир, царь обязывается предоставить молодому герцогу голштинскому те из завоеванных областей, которых не будет в состоянии оставить за собой и не захочет возвратить.
3. Если король шведский умрет, не оставив наследников, царь будет стараться всеми мерами, чтоб наследником был молодой герцог, и поддерживать присоединение наследственных его земель к короне шведской.
Епископ-регент, взамен того, обещает за себя и за малолетнего герцога:
4. Заключить с царем тесный союз и укрепить его браком герцога с царевною Анною Петровною, браком, который должен состояться, если даже герцог и не получит ни трона, ни завоеванных провинций, лишь бы царь с своей стороны всячески озаботился о доставлении ему их и о восстановлении его прав. Само собою разумеется, что его величество в то же время не откажет в надлежащем объяснении относительно приданого царевны, его дочери, и торговли между Россиею и владениями голштинскими. Соединение двух морей, как было предположено прежде, устроится легко.
5. В случае наследования герцогом шведского престола, его царскому величеству предоставляется на выбор — удержать за собою или Лифляндию и Эстляндию, или Ингрию и Карелию от Выборга до Нарвы. Герцог удовлетворит короля прусского, с тем, чтобы он не вмешивался в настоящие предположения, а подозрение, которое пало бы на Россию вследствие присоединения герцогств Шлезвигского и Голштинского к короне шведской, будет отстранено разделением герцогств Бременского и Верденского, которые будут отданы епископу-регенту; город же Висмар возвратится герцогу мекленбургскому. Последнего будут стараться склонить к союзу с царем посредством брака его с царевною Екатериною Ивановною, племянницею его величества.
6. В обеспечение настоящих обязательств будет допущено, чтоб его царское величество занял Тённинген своими войсками под каким нибудь вымышленным предлогом. Царь оставит за собою эту крепость, в качестве залога, до тех нор, пока герцог не достигнет совершеннолетия и не будет видно, какой оборот примут дела.
7. Царь и епископ дают взаимное обещание хранить в тайне настоящее соглашение, обязывая тем же и своих министров.
Петр Алексеевич явился один в дом Меншикова. Приказав изложить себе вероятность выгод каждого пункта проекта, он взял его с собою, чтоб отдать Веселовскому[21] для перевода и потом хорошенько обдумать.
Между тем распространилось известие о скором возвращении Карла XII, и это одним разом уничтожило все происки в Швеции. Герц дрожал за последствия переговоров, начатых но его приказанию в Петербурге. Он поспешил отправить к Бассевичу запрещение представлять царю какие бы то ни было проекты; но прошло уже две недели как проект был подан, и саксонский посланник, с которым Бассевич должен был во всём сноситься, знал о том, хотя от него и скрывали большую часть статей. Царь остался доволен сделанными ему предложениями и написал королю датскому письмо, в котором убеждал не разрушать Тённингена.
Вольф сдал эту несчастную крепость, не исполнив кровавого предписания Герца относительно головы Веддеркоппа. Честность почтила здесь невинность и не побоялась навлечь на себя месть министра самовластного и жестокого. Датчане нашли в замке крепости несколько бумаг, относившихся к переговорам с Стенбоком, которые генерал этот по небрежности забыл взять с собою. Царю немедленно сообщены были с них копии, чтобы открыть ему стачку с шведами, в которой не признавался епископ-регент. Царь обсуживал проект Бассевича, когда дошли до него эти неопровержимые свидетельства двуличности готторпского министерства. Он рассудил, что нельзя допустить, чтобы человек, уполномоченный делать ему лживые предложения и чернить Данию, его союзницу, оставался долее при его дворе. Вследствие того Бассевичу велено было объявить, чтобы он немедленно удалился и в короткое время выехал из России. Бассевич представлял, через посредство Меншикова, что это изгнание грозит его чести и имуществу, и что Герц, чтоб свалить с себя вину перед епископом, припишет непременно всю неудачу посольства неловкому поведению его, Бассевича. Меншиков был в это время сердит на Герца. Последний рассказал датскому министру Ревентлау о суммах, которыми приобрел себе расположение князя. Этим путем сведение о них дошло и до царя, и Меншиков чуть-чуть не впал в сильную немилость. Потому то он всячески протестовал против несправедливостей, которые угрожали Бассевичу. Государь русский был великодушен. «Ну, так выпроводим его таким образом, сказал он, чтобы двор его убедился, что вся вина неуспеха принадлежит самому двору», и приказал составить ответ на проект. Вот в чём он заключался:
1. Его царское величество просил его величество короля датского не разрушать Тённингена, но ни за что не отвечает и никогда не откажется поддерживать своих союзников. Если б выгоды даже и не требовали этого, то святость обязательств предписывает поступать так, ибо кто теряет свой кредит, тот всё теряет.
2. О доставлении Финляндии молодому герцогу будут стараться; но для этого нужно содействие епископа-регента.
3. Его царское величество не противится наследованию герцогом шведского престола и не думает, что воспротивятся и его союзники, хотя впрочем для этого необходимо предварительно знать мнение короля прусского; по королю шведскому еще так немного лет, что в настоящее время кажется неуместным касаться этого предмета. По той же самой причине его величество находит вопрос о присоединении голштинских владений к Швеции весьма щекотливым и основанным на предположениях мало вероятных.
Относительно обязательств епископа-регента, —
4. Его величество принимает предложение о браке; но здесь ничего не может быть решено прежде достижения царевною узаконенного возраста. Царь хотя и отец её, однако ж необходимо её согласие. Распри между Даниею и Голштинией могут быть устранены на Брауншвейгском конгрессе и ни в чём не касаются до его царского величества, который скорее решится быть оставленным своими союзниками, чем сам оставить их; честь его слова дороже ему всего остального.
5. Г. посланнику, вероятно, известно, что на гузумских конференциях был составлен план относительно завоеваний, который должен оставаться неизменным. Ингрия и Карелия — немецкие провинции; генерал Делагарди занял их под предлогом защиты от Польши и покорил Швеции. Если его царское величество оставит их себе, а Лифляндию и Эстляндию уступит неприятелю, то последний может стеснять плавание около их берегов, опираясь на крепость Ревель и Гельсингфорс и пользуясь незначительною шириною Финского залива Если же царь уступит Ингрию, тогда всякое сообщение с Россиею будет отрезано. Во всяком случае, здесь одинаково стесняются как та, так и другая сторона. Для чего также стараться удовольствовать только короля прусского и отнимать у датского завоеванные им Бремен и Верден, тогда как молодой герцог, сделавшись королем шведским, должен оставить за собой свои наследственные земли? Свет не увидит дурного обращения царя с союзниками. Ясно, что хлопочут только о том, чтоб разъединить его с верным союзником и заставить самого повредить тем важнейшим своим интересам.
6. Его царское величество не может иметь притязаний на Тённинген, потому что обязался не делать каких бы то ни было приобретений в Германии иначе как с согласия своих союзников.
7. Напрасно требуют тайны. Предложения, сделанные г. Бассевичем, были известны задолго до его приезда. Ни в чём не видно здесь доброго и искреннего намерения. Доказательством тому служит обращение с Стенбоком и предписания, данные в то время коменданту Вольфу. Вот копии с них для сведения г. Бассевича. Всего лучше будет положить этот товар опять в тот ящик, откуда он вынут.
С.-Петербург, 25-го марта 1714.
Вместе с этим документом царь приказал вручить Бассевичу ответную грамоту к епископу-регенту. В ней он говорил, что чрезвычайный посланник его светлости был принят с отличием при царском дворе, но что ни одно из его предложений не представило хоть сколько-нибудь верного ручательства для России и её союзников.
Ожидание возвращения Карла XII заставляло царя спешить своими приготовлениями военных действий против Швеции. Он отправил в Копенгаген камергера Ягужинского просить об ускорении высадки в Сканию и в то же время осведомиться о делавшихся там приготовлениях для этой экспедиции. Король датский велел отвечать, что для высадки в Сканию двадцати пяти тысяч войска он ждет только удостоверения от короля прусского, что не будет тревожим со стороны Шлезвига в продолжение кампании; что он просит царя доставить ему это удостоверение и что решается, для облегчения дела, восстановить Голштинию, возвратить Тённинген войскам нейтральным и вступить в переговоры относительно восстановления Шлезвига и других претензий герцогского дома. На возвратном пути из Копенгагена Ягужинский проехал через Берлин и сообщил эти предложения тамошнему министерству. Они были найдены выгодными для епископа-регента; но святость договоров запрещала приступать к какому-либо решению без его участия. Головкин убеждал Герца согласиться на делаемые предложения; но Герц не соглашался под предлогом, что датчане не сдержат своего слова и стараются только усыпить Пруссию, которой боятся; ставил королю на вид значение, какое он приобретет в Европе, если будет твердо и неизменно поддерживать первый договор своего царствования; уверял его, что, судя по положению дел, согласятся на полное восстановление, если он захочет решительно требовать его; доказывал Головкину, что последнее будет самым действительным средством заставить Данию серьезно действовать для общей цели союза, потому что чем менее она увидит возможности приобрести здесь, тем более будет стараться вознаградить себя на счет Швеции. После того он послал Бассевичу приказание сообщить всё это и царю. Монарх не получал еще в это время роковых копий с бумаг, найденных в Тённингене, и однако ж на конференции, на которой лично присутствовал, возразил: «А если Швеция купит дружбу Дании уступкою Бременской области, дружбу Пруссии уступкою Штеттина, и после того всё обратится против меня, да еще при посредстве вас, голштинских интриганов?» Не много спустя он закрыл заседание и сказал Бассевичу: «Причины ваши хороши, но у меня есть своя, лучшая: было бы недостойно меня — притеснять союзника, который вступает в переговоры для исправления своих ошибок.»
Переговоры о высадке в Сканию продолжались. Король датский соглашался дать свой флот, но требовал для экипажа 300 000 рублей. Финансы царя не позволяли в то время выдать такой суммы. Он сам сознался в этом, и король предложил ему пять больших кораблей, но с тем, чтоб он снарядил их и снабдил матросами. Так как Пруссия не объявляла себя прямо в пользу датчан, то они заподозрили, что она замышляет рано или поздно соединиться с Швециею, и потому убеждали царя предупредить ее и прервать с нею сношения. Но ничто не могло подвигнуть его на это. Он ласкал себя надеждою склонить эго государство на сторону Дании, уверенный, что Карл откажется от союза с ним. Одним словом, относительно высадки в Сканию не последовало надлежащего соглашения, и царь решился обратить свои силы на Финляндию, с тем, чтоб проникнуть в Ботнию.
Датчане однако ж разрушили Тённинген, и никто не противился этому. Освобожденный ими Веддеркопп отправился прямо в Копенгаген, а оттуда скоро и в Стокгольм доказывать свою невинность и обнаруживать интриги Герца. Сенат знал уже о них от шведского министра в Берлине и запретил всем прочим шведским посланникам при иностранных дворах сноситься с голштинскими. Герц ловко сумел отклонить от себя большую часть обвинений, взведенных на него Даниею; но Веддеркопп заклеймил его несмываемыми пятнами.
Несмотря на то, что он всюду потерял к себе доверие, его неистощимый ум изобрел новую систему, противоположную той, которой он доселе следовал. Его величию и счастью не оставалось иного прибежища, как под крылом Карла XII; поэтому он сразу прекратил сношения со всеми дворами, так долго им щадимыми, и публично водрузил знамя этого героя. Голштинские войска, отозванные из Брабанта, прибыли в Померанию: вместо того, чтоб послать их для занятия Висмара и Штеттина, как следовало по договору с Пруссиею, он сделал из них наемников Швеции и заставил их присягнуть этой державе. Не уведомив о том Бассевича, он льстил себя надеждою, что новость эта, начинавшая уже распространяться, застанет его еще в Петербурге и заставил царя сослать к соболям человека, который забавлял его мнимым исканием союза и дружбы. Но гнев ослеплял его он расчел неверно. Наскучив бродить по краю пропасти в местах, где, со времени приказа о выезде, оставался в самом деле только из терпимости, посланник был уже на обратном пути. Он приближался к границе России, когда двор петербургский узнал об обязательстве, принятом голштинскими войсками. Посланные за ним в погоню увидели его уже вне владений царя, да и имели приказание не ехать далее и вообще не слишком усердно преследовать его. Царь уважал Бассевича. Он хотя и не допустил его более к себе на аудиенцию, однако ж удостоил прийти на прощальный пир, данный в честь его Меншиковым, и выразился, что желает, чтоб оказали справедливость его способностям, но что сомневается в том, потому что у Герца глаза слишком хороши, а у епископа их вовсе нет. Это однако ж несправедливо. Епископ не лишен был проницательности, но Герц, силою своего ума, которому вскоре подчинился и Карл XII, умел ослеплять его.
Хитрый этот министр (т. е. Герц) всё еще постоянно оставался в Берлине, и теперь отправил к Бассевичу письмо, наполненное горькими упреками за то, что проект, представленный царю, уничтожает кредит двора готторпского в Швеции. Крист[22] донес ему, что посланник очень обиделся этим и думает просить епископа о позволении отправиться успокаивать Стокгольм, прежде нежели возвратится к месту своего назначения. Изменник советовал его превосходительству согласиться на такую просьбу, но в то же время приказать посланнику отправить туда, несколькими днями прежде, своего секретаря посольства, который бы мог разведать обо всём нужном и помочь ему действовать. Крист обещал в этом случае непременно устроить его погибель, а его превосходительство устранить от участия в том, что могло бы не понравиться Сенату. Но Герц поступил иначе. Он предупредил просьбу посланника и уведомил его, что, для доставления ему случая смягчить неудовольствие на себя в Швеции, епископ-регент назначает его в Стокгольм на место графа Дерната, говорил далее, что от души поздравляет его и советует ему отправиться прямо в Гамбург, не заезжая в Берлин, где его дурно бы приняли, потому что недовольны им, и что наконец, желая, для надлежащего с своей стороны распоряжения, знать в точности как происходило дело в Петербурге, просит сообщить обо всём в подробности секретарю и прислать его в Берлин для представления ему, Герцу, своего донесения. Кристу он сообщил копию с своего коварного письма и, именем епископа, приказал при отъезде завладеть, тайно от министра, всеми бумагами, принадлежавшими к посольству, в особенности же письмами и инструкциями своими. Кроме того, так как Бассевич должен был проехать через Померанию, где находились тогда голштинские полки, то в то же время отправлено было секретное предписание арестовать его, когда он приедет туда.
Среди стольких хлопот Герц забыл только об одном: отправить немедленно в Кёнигсберг деньги, которые посланник должен был получить там на путевые издержки. Этот случай заставил последнего остановиться там и ждать денег, но секретаря тем не менее отправить куда следовало. Снабдив его надлежащими инструкциями, он потребовал от него шкатулку с бумагами посольства. Крист сам принес ее, и уехал. Это было рано утром, в июне месяце. Бассевич провел весь день в слезах по отце, о смерти которого только что получил известие[23]. Томимый бессонницей, он вздумал начать писать мемуар в оправдание своего поведения в России, и потому захотел открыть шкатулку, в которой, в предшествовавшую ночь, вместе с Кристом приводил всё в порядок. Но ключ оказался не тот. Тогда подозрение (вообще редко проникавшее в его душу) внезапно овладело им. Он велел разбудить слесаря, и увидел, что всё похищено и что он предан в руки врагов, лишенный своего оружия. Не колеблясь ни минуты, он садится на лошадь, и скачет добрых шестнадцать немецких миль с такою быстротою, что нагоняет почту, уехавшую почти за 24 часа; с пистолетом в руке останавливает почтальона и принуждает Криста выйти из повозки и отправиться с ним в находившийся вблизи дом. Там, в присутствии свидетелей, открыли шкатулку изменника. В ней нашлось всё, даже черновое письмо его к Герцу и ответ на него, — две бумаги, которые обнаружили весь замысел. В этом месте Бассевич оставил Криста, не сделав ему, кроме упреков, никакого оскорбления, и возвратился с своим счастливым призом в Кёнигсберг.
По приезде туда он немедленно жаловался письменно епископу-регенту; но государь этот, несмотря на природное свое добродушие, раздраженный обвинениями Герца, разослал команды во все окрестные земли для ареста Бассевича. Однако ж это не имело успеха. Король прусский принял благосклонно извинения, которые Бассевич принес в Берлине в том, что сделал насилие королевской почте; взял его под особое свое покровительство, воспрещал очень долго врагу его, Герцу, всякий доступ к своему двору, и наконец дал ему рекомендательное письмо к молодому герцогу Карлу-Фридриху, письмо, с которым Бассевич и проехал в Швецию. Там оправдание его показалось столь удовлетворительным в глазах Сената, что граф Дернат (который обвинял Бассевича от имени готторпского министерства) получил приказание выехать из королевства как человек, уполномоченный делать ложное обвинение.
1715.Такой успех внушил Бассевичу смелость освободиться совершенно от зависимости Герца, и он объявил раз навсегда, что на будущее время считает себя обязанным подчиняться единственно приказаниям своего молодого государя, тем более, что староства его[24], Бассевича, находятся в Шлезвиге, где государь этот, по обычаю, усвоенному датским королевским домом, достиг требуемого совершеннолетия. Довольный таким предпочтением, герцог немедленно поручил ему отправиться в Турцию с тем, чтоб склонить Карла XII (дядю Карла Фридриха) ходатайствовать в Вене об императорском разрешении на признание его совершеннолетним и в Голштинии, как имперской провинции, где срок опеки оканчивался только в апреле 1718 года.
Бассевич предуведомил короля об этом деле через барона Георга Лёвена, бывшего впоследствии шведским сенатором. Он послал этого чиновника в Демотику и поручил ему передать Карлу XII мемуар, в котором излагал притеснение со стороны Герца и обещал, основываясь на знании намерений король прусского, доставить союз последнего угнетенному герою при помощи уступки Штеттина. Карл сделал Лёвена своим генерал-адъютантом: доказательство, что принятое им на себя поручение не было неприятно его величеству. Ободренный такими счастливыми знаками, Бассевич отправился в путь навстречу королю. Он переехал через море, находясь в свите королевы Лещинской[25], которая возвращалась из Швеции к своему супругу. В Праге он нашел генерала Дальдорфа, ожидавшего там ежечасно прибытия Карла. Но в этом ожидании прошло две недели, но истечении которых узнали, что король уже в Стральзунде. Епископ и Герц поспешили к нему туда. Бассевич, явившийся позже, не мог добиться аудиенции, хотя и был снабжен верительною грамотою племянника королевского; однако ж король возразил епископу, который требовал ареста Бассевича, что посланник племянника его не может быть арестован. Генерал Бассевич, столь уважаемый Карлом, — тот самый, который впоследствии был убит на острове Рюгене и которого Фридрих IV[26] велел искать между убитыми для почетного погребения, — представил его величеству оправдание своего родственника. Герой прочел его со вниманием, но не сказал ни слова. То-же самое сделал он, когда ему поднесли оправдание Веддеркоппа, к которому всем известно было его уважение. Дело в том, что политика Герца, которую он считал для себя нужною, казалась ему тогда важнее всех требований справедливости.
Вскоре гордый барон променял титул голштинского тайного советника на титул государственного министра короля шведского. Его возвышение было весьма несвоевременным препятствием для короля прусского, который обдумывал соглашение с Карлом, имевшее целью сохранить последнему его немецкие провинции за уступку Штеттина. Если б соглашение состоялось, Карл, усиленный в Швеции войсками из Померании, мог бы остановить успехи неприятеля, проникавшего в его королевство. Но Герц, оскорбленный неудачею в Берлине, развернул перед глазами шведского монарха целую перспективу интриг, важность которых уничтожила значение дружбы Пруссии. Карл любил обширные замыслы, и согласился с мнением Герца. В ответ на предложения, сделанные ему Фридрихом-Вильгельмом через посредство генерала Шлиппенбаха, он объявил гордое требование о возвращении Штеттина. Требование это повторялось так часто, что наскучило наконец королю прусскому и склонило его к союзу с царем, союзу, который уже давно был предсказан этим дальновидным монархом.
II (По возвращении Карла XII из Турции.)
Карл XII скоро убедился, как много силы Пруссии содействовали могуществу направленной против него коалиции. Король прусский, дружбою которого он пренебрегал, и король датский, старинный его враг, не замедлили осадить его в Стральзунде[27]. Осада была деятельна, сопротивление отчаянно. Карл, всёгда удивительный по своей неустрашимости, был на этот раз снисходителен и кроток. Вот пример в подтверждение того: у него оставалось уже мало полковников (большая часть была убита или ранена)., и эти немногие чередовались дежурством на укреплениях. Один из них, барон Гейхель, истомленный бодрствованием и усталостью, только что бросился на скамейку, чтоб немного заснуть, как его снова зовут на дежурство. Он отправляется, разражаясь проклятиями. Король, услышав это, подошел к нему с ясным лицом и сказал: «Вам невмоготу, любезный Гейхель, а я только что отдохнул: ложитесь на мой плащ (который сам тут же разослал на землю) и спите. Я подежурю за вас и разбужу вас, когда будет нужно». Пристыженный полковник не соглашается, но надобно было повиноваться. Король завертывает его в плащ и отправляется на свой пост. После краткого отдохновения полковник с новыми силами, с новым усердием, спешил опять жертвовать собою на службе героя, столь человеколюбивого.
(1716). Чудеса храбрости Карла и его сподвижников не могли спасти города: надобно было уступить и отдать его в руки неприятеля со всею Померанией. Король возвратился в Швецию. Неустрашимость его всё еще не ослабевала от ряда неудач, но добродетель его поколебалась: полезный обман уже не пугал его более. Герц убедил его в необходимости примириться с одним из неприятелей, чтобы раздавить прочих, и этот один должен был быть никто иной, как Петр Алексеевич. Он был могущественнее всех, был человек необыкновенный, единственный в своем роде, как и Карл, следовательно один, достойный его предупредительности и пожертвования провинций, которыми надлежало купить его дружбу. Карл был вовсе без средств. Вследствие обещания Герца собрать 10 000 000 талеров на военные издержки и отторгнуть царя от Дании, Саксонии и Ганновера, он позволил ему делать распоряжения, какие заблагорассудит, внутри королевства и заключать какие угодно трактаты вне его.
Царь, недовольный датчанами, которые, недоброжелательству я ему, заботились только о своих выгодах, и раздраженный против англичан, которые противодействовали его намерению приобрести себе по ту сторону Балтийского моря порт, откуда можно было бы проходить в океан, царь склонялся на сторону Герца, и Меншиков видел с удовольствием, что прежние его старания по голштинскому делу готовы были осуществиться. Монарх колебался, решиться ли ему разом изменить образ своих действий. Он имел множество поводов к жалобам на своих союзников и мог бы составить длинный и основательный манифест. Не было сомнения, что влияние его на берлинский кабинет заставило бы Пруссию соединиться с ним в союзе с Карлом, а может быть столь быстрый переворот побудил бы также Данию и Польшу немедленно согласиться на выгодный мир. Но если б переворот этот не произвел никакого действия и если б пришлось продолжать войну, которая бы, конечно, сделалась еще ожесточеннее, — откуда взять тогда средств вести ее? У России было мало денег, у Швеции еще меньше. И можно ли было положиться на Карла и на Герца? На Карла, который когда-то с таким же ожесточением искал лишить престола Петра, как и Августа[28], и в котором крайние бедствия превратили надменную и открытую ненависть в мрачное и жестокое коварство? На Герца, рожденного для двуличности, искуснейшего из смертных в деле притворства и не старавшегося даже по наружности казаться добросовестным? Можно ли было забыть, что, когда начались его несогласия с Бассевичем, он в Стокгольме и Регенсбурге хвалился, что обманывал Меншикова в Гузуме и Суэде, забавляя его обещаниями, которых никогда и не думал исполнять, и что не успел обмануть также и царя только потому, что дело попало в руки человека слишком мало развязного и слишком ветренного?
Эти сомнения, красноречиво выставленные на вид Остерманом и вице-канцлером Шафировым, заставили царя решиться не спешить, дать созреть проектам Герца, принимать их не иначе, как по точном удостоверении в их искренности и исполнимости, и щадить тем более своих союзников, что ему не хотелось оставить их, не сохранив своей славы и не доказав их вины. Герц, с своей стороны, прежде нежели решительно сблизиться с царем, показывал вид, что ищет для короля и другой какой либо опоры, дабы тем придать более весу своим условиям.
Таким образом, и с той и с другой стороны секретные негоциации откладывались на неопределенное время, а между тем царь не приостанавливал военных действий. Заботясь, впрочем, о покоренных своих владениях более, чем о наследственных, он обнаруживал твердое намерение не выпускать первых из рук Жители Нарвы, уведенные в 1704 году в Россию, были вновь вызваны для заселения своего города, а вероятность скорого примирения с Швециею, за которым последовало бы и освобождение пленных обеих сторон, удвоила старания монарха воспользоваться трудами многих тысяч шведов, бывших в его власти. Россия наполнена памятниками их деятельности. Великолепное предместье Петербурга, названное проспектом, было всё вымощено их руками, и они до самого нейштадтского мира подвергались унизительной обязанности чистить его каждую субботу[29]. Всех более достоин был сожаления граф Пипер, прежде столь могущественный, но потом заключенный в темницах шлиссельбургских. Шведы взяли одну русскую галеру, шедшую в Стокгольм с несколькими пленными, назначенными в обмен, и Пипера, в вознаграждение за этот убыток, заставили подписать вексель в 30,000 талеров. Он имел несметные богатства; но несмотря на то, жена его не хотела признать его подписи. Царь думал, что отказ этот был сделан по настоянию самого пленника, и потому велел держать его на хлебе и на воде до окончательной уплаты денег. Пипер, ослабленный семилетним сидением в тюрьме, не мог выдержать столь жестокого и постыдного обращения, которое и было причиною его смерти!
Карл XII воображал, что всякое предприятие, не выходящее из пределов человеческой возможности, не может не удасться уму и хитрости Герца. «С тремя людьми, подобными ему, — сказал он однажды графу Ферзену, — я обманул бы весь мир». Он не думал ни о чём, кроме войны, и Герц прибыл в Стокгольм властвовать его именем. Фаворит предоставил офицерам полную свободу насильно набирать рекрут, начал ревизию всех коллегий с целью ознакомиться с внутренним устройством Швеции, установил собственною властью тяжкие налоги и издал ряд новых законов. Граф Дернат получил позволение возвратиться в Швецию для оправдания себя в глазах своего молодого государя[30], от которого все друзья Бассевича были удалены. Королевским декретом 26 ноября 1715 года в Стокгольме, по просьбе епископа-регента, была уже назначена комиссия для рассмотрения неудовольствий герцога голштинского. Оба государя[31] объявили, что подчинятся её решению, и прислали своих уполномоченных. Пальмфельд, рекомендованный Карлом, у которого был военным советником, явился туда от имени герцога. Обер-ландсрат Лейонштет был председателем, но между членами не было ни одного сенатора. Комиссия начала с вызова всех, кто имел что-нибудь против регентства голштинского. Само собою разумеется, что никто не явился, потому что вызову предшествовала декларация от имени короля, что всякий, кто позволит себе непочтительно говорить об этом регентстве, будет подвержен преследованию по закону, как преступник, и изгнан из королевства.
Утверждая постоянно, что Карл-Фридрих совершеннолетен в отношении раздачи должностей в Шлезвиге, Бассевич принял от него верительные грамоты к императору[32] и королям шведскому и прусскому. Когда посольство его к Карлу XII не состоялось по причине отказа в аудиенции, он отправился в Вену, чтоб узнать мысли императорского двора касательно совершеннолетия своего государя как герцога голштинского. Готторпское министерство немедленно снарядило туда графа Ревентлау, зятя Герца, для обвинения Бассевича в неповиновении и бегстве, и с требованием задержать его самого и бывшие с ним бумаги. Ревентлау, не добившись последнего, начал против него процесс в придворном совете (conseil aulique). Оправдание Бассевича уничтожило все направленные против него обвинения. Тогда Ревентлау объявил ему с угрозой, чтоб он возвратился в Гамбург и отдал отчет в своем посольстве в Россию; но Бассевич представил императорскому министерству, что процессу дают противозаконное направление и позволяют себе насилия, которые оскорбляют достоинство его императорского величества, как главы империи и как эрцгерцога, тем более, что позыв к суду сделан ему, Бассевичу, в австрийских владениях и без предварительного следствия. Император действительно был раздражен всем случившимся. Епископ почувствовал, что поступил опрометчиво, стал извиняться и получил прощение. Процесс был оставлен, и Бассевич объявлен невинным. Принимая во внимание большую силу его врагов, император снабдил его охранным листом для безопасности его самого, его семейства и его имущества, в чём бы оно ни состояло, на всём пространстве священной римской империи. Эта благосклонность сильно привязала Бассевича к австрийскому дому, и он хорошо отплатил за нее, когда впоследствии, будучи всемогущим в Петербурге в царствование императрицы Екатерины, убедил русский двор предпочесть еще существовавший союз с императором союзу с Францией, в пользу которой просил его ходатайствовать король Станислав, глубоко им уважаемый.
Король шведский, как казалось, желал прежде, чтоб сестра его Ульрика оставалась незамужнею, а потому, если и решился изъявить согласие на брак её с наследным принцем гессен-кассельским (что и случилось в апреле 1715 года), то всё-таки выразил свое неудовольствие удалением генерала Ранка, далекарлийца, возвысившегося своими заслугами и, как говорили, устроившего этот брак через посредство одной из своих родственниц, горничной принцессы. Ранк, по удалении своем, жил в Гамбурге, пользуясь всеобщим уважением и получая пенсию от кассельского дома, а принц, славившийся как хороший солдат, очень скоро заслужил любовь Карла. Всех удивило, что Герц, клиент дома готторпского, помог ему получить в феврале 1716 года командование гвардейским отрядом и титул генералиссимуса шведской армии. Всё это было сделано для того, чтоб сдерживать и устрашать племянника королевского и имело успех. Карл-Фридрих дрожал при мысли, что может лишиться наследования престола, и потому должен был сносить зависимость от фаворита. Его заставили предписать Бассевичу, чтоб тот явился с своими обвинениями против министерства голштинского регентства в следственную комиссию, учрежденную в Стокгольме. Бассевич отвечал, что его пугают «следы львиного логовища» и присовокупил, что шведская комиссия, берущая на себя право оправдывать или осуждать владетельного имперского князя, каким был епископ, и распоряжаться опекою над германским принцем, верховным опекуном которого мог быть только император, кажется ему явлением столько же опасным, сколько и беспримерным; что он, Бассевич, как природный вассал империи, уважающий священные права своего августейшего государя, не может явиться в такую комиссию, а как ревностный слуга его светлости, умоляет герцога щадить императорский двор, покровительство которого для него необходимо. Не одобряя и не осуждая этого представления, герцог холодно отвечал Бассевичу, что на будущее время избавляет его от труда заведовать его делами как в Вене, так и в Берлине, и что уполномочит для этого других лиц. Совершенно побежденный обещанием Герца — выхлопотать ему признание совершеннолетия и акт, утверждающий за ним наследование престола, если король не оставит потомства, он формально объявил, что, избавившись от ложных предубеждений против епископа, своего дяди и его министерства, возвращает любовь и доверие первому, и признает невинность и добросовестность последнего; считает себя весьма обязанным королевской комиссии тем, что она открыла ему глаза, и одобряет все её действия. В отплату за такую любезность, которая привела в негодование всю Швецию, король возвел в дворянское достоинство Рёнсдорфа, любимца герцога; но относительно престолонаследования не было сделано ничего, и только год спустя епископ исходатайствовал у императора акт на признание совершеннолетия, которое было объявлено лишь за несколько месяцев до наступления законного срока.
Гораздо труднее было управиться с Сенатом, чем с шестнадцатилетним принцем. Герц потребовал от него точной декларации, что он доволен голштинским министерством и одобряет действия комиссии. Собран был секретнейший совет, на котором не присутствовали даже секретари, составляющие протоколы, и последовал ответ: что королевский сенат (тогда сенаторы, которые потом назывались государственными советниками, носили название советников королевских) не имел никаких сношений с голштинскими министрами и не брал на себя обсуждения их поступков, если не обязывали его к тому особые повеления его величества.
Царь, лишь слегка действовавший в это время против Швеции, решился отправиться в Германию с целью ознакомиться ближе с планами и намерениями как союзных держав, так и Герца. Давно предположенный брак Екатерины Ивановны, его племянницы, с герцогом Карлом-Леопольдом мекленбургским[33] был в его присутствии отпразднован в Данциге 16-го апреля 1716. Говорили, что царь вошел с этим новым союзником в соглашение насчет обмена княжеств Шверинского и Гюстровского на что-нибудь равноценное из земель, завоеванных русскими. Но кто только знал Карла-Леопольда, тот не мог поверить этому. Дворянство и городские власти главных городов в его владениях сопротивлялись его насилиям и отстаивали свои привилегии, рискуя имуществом и жизнью; почему он, даже и за корону, никому на свете не уступил бы надежды подчинить их своему игу. Брак этот, впрочем, и без всякой мены был желателен для обеих сторон. Мнение о варварстве русских было до сих пор причиною, что за царских принцесс не сватались. Теперь же царевна Екатерина соединялась браком с значительным германским владетельным князем, земли которого, по своему географическому положению, могли в добавок с выгодою служить для польз России; а для герцога царская дочь, приносившая в приданое Висмар, было всё, что он только мог желать. Очень красивый собою, умный, храбрый, он мог бы составить счастье супруги, которая была того достойна. Но вышло совершенно наоборот. В продолжении нескольких лет вынесши всё, что может вывести из терпения всякую простую мещанку, она вынуждена была наконец удалиться с принцессою, своею дочерью (бывшею впоследствии правительницею России) в Петербург, где и умерла вдали от мужа. За немного лет до этого брака он, неизвестно по какой причине, развелся с прекрасной принцессой нассауской.
Надежды на приобретение Висмара, которыми льстил себя герцог, и на те выгоды, какие представлялись царю для торговли его империи, не сбылись. Генералы датских и ганноверских войск, осаждавших этот город, объявили коменданту, что теперь они готовы согласиться на честную для него капитуляцию, но что если он дождется соединения с ними русских, которые уже в походе, то гарнизон будет взят не иначе, как военнопленным, поставлен на произвол новых пришельцев. Вследствие такой угрозы Датчане, в мае 1716 года, заняли Висмар, который и разрушили вместе с крепостью, считавшейся неприступною со стороны так называемого Китового острова (isle de Walfisch ou Baleine) который служил ключом к порту, одному из лучших по всему берегу.
После свидания в Данциге с королем прусским царь отправился в Гамбург, чтоб иметь там третье, с королем датским. Поездка в Пирмонт, где он пил минеральные воды, дала ему возможность узнавать о том, что происходило в Ганновере и Брауншвейге. По прибытии в Мекленбургию, он делал смотр своим галерам, находившимся в Ростоке, а потом из Любека отплыл в Копенгаген вместе с супругою, всегдашнею своею спутницею. Там он увидел себя во главе четырех флотов, русского, датского, английского и голландского, соединившихся для конвоирования купеческих кораблей их наций, и чувствовал себя славнее чем в своей собственной столице[34].
Ничто, казалось, не препятствовало теперь высадке в Сканию. Столько собранных вместе морских и сухопутных сил ручались за успех, и Дания настоятельно требовала её; но царь, прежде сам так горячо торопивший эту экспедицию, теперь вдруг уклоняется от неё и, под предлогами довольно слабыми, откладывает всё дело до будущего года. Пламенное желание укротить упрямого героя Швеции как бы остывает в нём. До него доходят слухи, будто союзники его подозревают, что он замышляет разрыв с ними, а он отвечает на эго с презрением, что если они по совести сознают, что заслужили того, то будут знать что делать, чтоб удержать его от разрыва.
Возвратившись в Мекленбургию, где зимовали его войска, он увидел Бассевича (который, после отъезда из Вены, жил, удаленный от дел, в своих поместьях в ожидании перемены счастья) и спросил его, каким бы способом заставить повиноваться своему государю тех, которых его величеству угодно было назвать мекленбургскими бунтовщиками? «Справедливостью и милосердием, — отвечал Бассевич, — и без помощи солдат, выгоняющих нас из наших владений или тюрьмою и голодом заставляющих подписывать такие акты, от которых мы откажемся, как скоро будем избавлены от присутствия угрожающих штыков». События не замедлили доказать истину этих слов. Государственные сословия, с 1523 года соединенные ненарушимым договором о взаимном поддержании своих прав, обратились в Вену с жалобами, которые выслушаны были там благосклонно, и прибегли к покровительству охранителей Нижне-Саксонского округа[35]. Ганноверский двор сильно вступился за них. Неудовольствия, возникшие вследствие того между им и царем, слишком известны, чтоб говорить об них.
1717. Во время пребывания царя в Голландии открыт был знаменитый заговор Герца и Гиллембурга[36] против Георга I. Из писем, откуда заимствуются настоящие «Записки», не видно ничего особенного об этом деле, кроме того, что царь, как кажется, из снисхождения к королю шведскому, хотя и смотрел сквозь пальцы на эту интригу, однако ж сам ни в чём не содействовал ей, и что он отверг предложение о браке его дочери с претендентом[37] по собственному побуждению, прежде нежели тут могло последовать вмешательство Герца. Министр этот, возвратившись из вторичной поездки своей в Париж в феврале 1717 года, имел с царем совещание в Гааге. Вскоре после того его величество и сам отправился во Францию; но супруга его, которую он представлял стольким королям, не сопутствовала ему туда. Говорят, он не хотел подвергать ее возможности каких нибудь оскорблений, которых опасался но причине темного её происхождения зная щепетильность французов. В Париже ему оказаны были великие почести. Рассказывают однако ж, что когда он отдавал визит королю, который встретил его при выходе из кареты, он заметил как этому юному монарху подали знак, чтоб вверх по лестнице идти с правой стороны; а потому тотчас же схватил его на руки и донес до самого верху, целуя его и говоря как бы с восторгом: «Какой славный маленький король!» — Если всё это правда, то находчивость его нельзя не назвать удивительною.
1718. В отсутствие Петра Алексеевича в государственное управление России вкралось множество злоупотреблений. По возвращении своем он делает преобразования, производит следствия, наказывает, но наказывает не всех: так он прощает наприм. Меншикова и других первоклассных вельмож, которых считает нужными для поддержки своего намерения устранить от престолонаследствования непокорного сына. Смерть последнего и казнь тысячи других виновных еще более утвердили его самодержавную власть и дали ему возможность доказать, что никакое злоумышление не может укрыться от его проницательности. Но милуя знатных преступников, осуждаемых законами, и осыпая их новыми почестями, он тем самым заставлял их не забывать, что они всем обязаны ему, и потому привязывал их к себе более, чем когда нибудь.
* * *
Некоторые духовные лица[38], приверженные к старинному варварству, с нетерпением ждали воцарения Алексея, в котором надеялись увидеть восстановителя прежнего порядка вещей. К числу этих лиц принадлежал епископ ростовский Досифей. Он говорил, будто св. Димитрий поведал ему, что в определенное время царь умрет и что отверженная супруга его Евдокия Федоровна оставит Покровский Суздальский монастырь, где ее постригли в монахини с именем Елены, снова явится на престоле и будет царствовать вместе с своим сыном. Евдокия, в надежде на непреложность этого предсказания, снимает с себя монашеское одеяние, приказывает в монастыре не поминать на торжественных эктениях имени императрицы Екатерины и заменяет его своим. Народ видит ее в царском одеянии и со всеми знаками царского величия; она грозит мщением Алексея всем, кто вздумал бы доносить о её действиях. Маремьяна, казначея монастыря, пытается представить ей всю опасность её поведения; но та отвечает, что царь сумел же наказать стрельцов за оскорбления, которые потерпела от них мать его, и что Алексей уж вышел из пеленок. Около 1710 года в Суздале является Степан Глебов, и ему, занятому набором рекрут, пришлось пробыть там два года. При помощи наперсницы царицыной, монахини Капитолины, он нашел случай сблизиться с Евдокиею, которая, желая в лице его приобресть нового приверженца сыну, увлеклась к нему чувством уж слишком нежным. Мало-помалу в монастыре и в городе стали распространяться слухи о видениях Досифея. Последний осмелился даже употреблять во зло легковерие царевны Марии Алексеевны, сестры царя, и она присоединилась к тем, которые с нетерпением ждали смерти её брата и замышляли произвести переговор. Между тем срок, назначенный епископом, проходит, а царь всё здоров и продолжает царствовать. Евдокия спрашивает, когда же исполнится пророчество святого? Досифей отвечает ей, что исполнению препятствуют грехи отца её Федора Абрамовича Лопухина. Легковерная царица ежегодно тратит все скопляемые ею деньги на совершение бесчисленного множества заупокойных обеден, а епископ уверяет ее, — один раз, что голова покойного уже вышла из чистилища, другой — что он вышел по пояс, и наконец, что ему остается только высвободить оттуда ноги.
Между тем как всё это происходило, царь, начав розыск по делу об участниках в бегстве и других замыслах царевича Алексея, приказал произвести следствие и в Суздале. Тогда всё открылось. В комнатах царевны Марии Алексеевны найдено было письмо Досифея весьма неприличного содержания, а у Степана Глебова, арестованного в Москве, отобрано девять писем Евдокии, написанных совершенно во вкусе старинной московской нежности. Царица диктовала их Капитолине из опасения быть узнанной, если б с посланным случилась какая нибудь беда. Чтоб показать народу, насколько Екатерина была достойнее престола, чем эта слабая раба предрассудков и суеверия, царь повелел прочесть эти письма в полном собрании Сената вместе с признанием Евдокии, что они писаны от неё и что получавший их пользовался её любовью. Нарушение обета монашества подвергало ее смертной казни. Но царь удовольствовался только переведением её в другой монастырь, а царевну Марию приказал заключить в Шлиссельбургскую крепость[39].
* * *
Немало труда стоило многим другим лицам, мечтавшим о восстановлении старинных обычаев под скипетром Алексея, отделаться также счастливо. Этот роковой замысел был в России причиною множества казней. Чтоб искоренить его навсегда, царь не щадил крови и раз проколовши нарыв, хотел не полумерами, а радикально излечить его. Алексей, не смотря на его высокое рождение, должен был подвергнуться суду по всей строгости законов, суду, составленному из 120 слишком членов духовных и светских, и выслушать страшный приговор, присуждавший его к смертной казни за злоумышление против своего отца и государя. Когда его привели обратно в темницу, с ним сделались ужасные судороги, от которых он через несколько дней и умер. Некоторые подозревали, что царь ускорил его смерть посредством яда, другие говорили, что царевич умер от слишком сильного кровопускания, к которому прибегли как бы для оказания ему помощи[40]. Но если всё дело было только в том, чтоб без шума избавиться от него, то для чего весь этот правильный процесс? И без такой обстановки, возмутительной и опасной, могли бы прибегнуть к тайному убийству. Достоверно, впрочем, что царь не желал смерти царевича, а хотел только опозорить его смертным приговором и тем устранить от наследования престола, уже назначенного младшему царевичу Петру, который родился от обожаемой им супруги и в котором он надеялся увидеть наследника своего гения.
Замечательно (и это делает много чести императрице Екатерине), что в продолжение всего этого дела, столь щекотливого, на нее не пало ни малейшего подозрения ни в смерти несчастного Алексея, ни даже в желании восстановлять против него отца. Впоследствии царь говорил герцогу голштинскому, в присутствии его министра Бассевича, что она желала, чтоб его величество удовольствовался пострижением царевича в монахи без объявления ему смертного приговора, потому что пятно это отразилось бы и на его детях, одному из которых, по-видимому, предстояло поддержать со временем славу российского престола, так как слабое сложение Петра Петровича не обещало долговечной жизни[41].
Недавно какой-то безыменный историк возвестил, что вся Россия была убеждена, будто Алексей умер от яда, приготовленного рукою его мачехи. Между тем люди, много лет прожившие в России, никогда ничего не слыхали об этом. Петра Великого не щадили подозрениями в отравлении сына; следовательно, если умалчивалось о том, о чём повествует наш автор, то это, конечно, не из снисходительности к Екатерине, а скорее вследствие убеждения, что она неспособна была к подобной жестокости. Если ради короны для своего семейства она не убоялась преступления, то почему не избавилась также и от молодого царевича[42], которого на виду всех воспитывала с таким тщанием и с такою любовью, и которого готовила себе в наследники? Да и осмелилась ли бы она отравить Алексея против воли царя и, так сказать, перед его глазами? Наш историк уверяет, что никто никогда не умирал от страха после выслушания смертного себе приговора. Может быть; но несомненно и то, что многие умирали внезапно пораженные апоплексическими конвульсиями. Нет, следовательно, ничего невероятного, если и царевич Алексей, хотя и русский[43], был поражен ими именно в день объявления ему смертного приговора, а не в другой какой нибудь; даже такие конвульсии скорее могли случиться в этот день, потому что известие о присуждении к смерти должно было подействовать с особенною силою на организм царевича, ослабленный развратною жизнью и несчастьем.
Ход всего этого процесса, столь необыкновенного, не помешал царю следить с полным вниманием за его союзным трактатом с Карлом XII. В мае 1718 года конференции открылись на острове Аланде между тайным советником Остерманом и бароном Герцом, которым помогали, — первому — граф Брюс, последнему — граф Гиллембург. Карл любил свою старшую сестру особенно и был сердечно привязан к её супругу; Герц, не получавший еще увольнения от герцога голштинского, был покамест в его службе. Не смотря на всё это, на конференциях уполномоченные едва касались вопроса о восстановлении прав герцога голштинского, а о других его интересах даже вовсе и не упоминали. Зато там с большим жаром шла речь о возвращении короля Станислава[44], и чтобы привлечь на его сторону Россию, царю предложена была Мекленбургия: герцог Карл-Леопольд должен был получить взамен её Курляндию или часть герцогской Пруссии[45]; из неё выделялся участок и Фридриху Вильгельму, если он приступит к союзу, в вознаграждение за Штеттин, с которым Карл не хотел расстаться. Для Станислава было бы весьма выгодно возвратиться на потерянный престол при помощи этих разделов, а Георга[46] заставили бы тем так заботиться о целости его владений, что он охотно купил бы свою безопасность уступкой Бремена и Вердена. Швеция вознаградила бы себя в Норвегии за земли, уступленные ею России, и когда таким образом всякому будет назначена его доля, тогда заключить мир.
Петр Алексеевич, слишком осторожный, чтоб увлечься такими предположениями, сопряженными с множеством затруднений, не спешил заключением трактата. Он сделал удовольствие Карлу, освободив фельдмаршала графа Реншильда, бывшего в плену с полтавского сражения, а Карл, с своей стороны, возвратил ему в обмен двух его генералов, князя Трубецкого и графа Головина[47]. Прежние союзники его начали громко и оскорбительно обнаруживать свои подозрения насчет его добросовестности; он отвечал с умеренностью и предоставил им накоплять оскорбления, которые впоследствии могли дать ему право на отмщение.
Столько великих замыслов, встревоживших столько кабинетов и державших столько армий в выжидательном положении, было внезапно уничтожено пушечным ядром, пущенным наудачу из-за стен Фридрихсгалла. Оно поразило Карла XII в ту минуту, когда он осматривал осадные работы. Адъютант его Сикье, преданный принцу гессенскому, предложил тем, которые первые узнали об этом несчастий, не разглашать о нём. Он взял шляпу короля, на которого надел свою вместе с своим париком, и отправился с печальным известием к принцу. Принц тотчас же отослал его к своей супруге, которая шляпу героя оставила у себя, а доставившего ее щедро одарила.
Справедливость, конечно, требовала, чтобы преданность его была вознаграждена; между тем клевета не замедлила распространить слух, что Сикье поставил себе в обязанность убить короля для предупреждения намерения его утвердить корону за герцогом голштинским, и что представил шляпу как доказательство своей удачи. Толпа, всегда злая и легковерная, долго верила этому черному обвинению, не показывая притом ни малейшей ненависти ни к принцессе, ни к Сикье — до такой степени тяжелый деспотизм Карла помрачал блеск его героизма!
Герцог был в лагере В продолжение всей этой тяжелой кампании король, чтоб приучить его к войне, держал его постоянно при себе. Узнав о смерти дяди, молодой этот принц, убитый горестью, заперся в своей палатке. Напрасно те из генералов, которые были преданы ему, старались добиться возможности говорить с ним. Дюкер умолял фаворита его Рёнсдорфа уговорить принца явиться перед армиею, и уверял, что заставит немедленно провозгласить его королем. Ренсдорф входил к своему государю, но вышел от него с ответом, что он неутешен и не может ни с кем говорить. «В таком случае, — сказал Дюкер, — пусть будет, что будет». Льстецы, которые всегда обманывают государей и их любимцев, уверили Карла-Фридриха и Ренсдорфа, что шведский народ обожает потомка Густавов, рожденного и воспитанного среди его. В этой уверенности, неопытный принц не предпринимал ничего, думая, что гораздо более возьмет горестью о потере героя, чем желанием скорее завладеть его престолом. Такое промедление было спасением для шведской свободы. Иначе как осмелилась бы она поднять голову против монархической власти, в виду короля, провозглашенного армиею и уже вступившего во все права своего предшественника?
Герц, по приказанию сенаторов, был арестован на пути с Аландских островов к осаждаемому Фридрихсгаллу, куда ехал для совещания с королем, ничего не зная о его смерти. Не успела весть об этом аресте распространиться по сю сторону Балтийского моря, как Бассевич уже отплыл в Стокгольм. Он был принят там со всевозможною предупредительностью.
При его появлении прежняя нежность к нему пробудилась опять в герцоге, который принял его в свою службу, а народ, жаждавший улик против Герца и желавший его казни, наперед начал рассчитывать на поддержку, которой ждала его ненависть от обвинений врага. Но ожидания эти были напрасны. Следственная комиссия вотще убеждала Бассевича свидетельствовать против его гонителя. Он отозвался, что, по причине их вражды и несчастья Герца, показания его, Бассевича, были бы подозрительны и вовсе не великодушны, а потому ограничился только опровержением того, что непримиримая ненависть или, может быть, необходимость при оправдывании самого себя заставляли Герца говорить против него. По мнению Бассевича, этот политик без убеждений заслуживал смерти в Голштинии, а не в Швеции, где, для поправления дел, он вступил на истинный путь, начав переговоры с царем. Когда Герц проходил на эшафот мимо дома, занимаемого Бассевичем, последний ушел в одну из отдаленных комнат, чтобы не слышать насмешек, которыми чернь преследовала несчастного барона, и запретил своим людям идти смотреть на казнь.
Так как из бумаг, отобранных у Герца при его аресте, недостаточно выяснились его сношения с царем, то сенат хотел захватить и юстиции-советника Штамке, состоявшего секретарем при Герце и оставленного последним на острове Аланде. Но Штамке, узнав об этом, перешел на русскую территорию и обратился к царю с просьбою о принятии его под свое покровительство. Монарх не хотел потом выдать его на том основании, что он состоял на службе Голштинии, а не Швеции. Сенат, с своей стороны, не захотел в этом деле прибегать к посредничеству герцога, и Штамке таким образом спас свою свободу, сделавшись впоследствии орудием первых непосредственных сношений между герцогом голштинским и его покровителем.
Шведы надеялись наслаждаться плодами своей независимости лишь по мере удаления от пути, начертанного их деспотическим государем. Если он предпочел сойтись с царем, с исключением других своих неприятелей, то они теперь решились примириться со всеми, за исключением одного царя и оставили без внимания аландские переговоры, приходившие уже почти к концу, чтобы начать со всех сторон новые. Бассевич, изустно и письменно, представлял сенаторам и лицам наиболее влиятельным, что так как о восстановлении Станислава не было более речи, то союз с Россиею не мог уже встретить никаких затруднений, и что Польша и Пруссия сами собою не замедлили бы приступить к нему; что у царя, сделавшегося слишком могущественным, никогда не отнимут завоеванных им земель; но что при помощи союза с ним можно бы было избежать необходимости жертвовать германскими провинциями; что шведская свобода нашла бы в нём верного союзника, тем более, что для него столько же выгодно поддерживать ее, сколько для других держав стараться подчинять Швецию игу государя самовластного, более способного, при помощи своей неограниченной власти, противостоять страшному московскому могуществу, возрастание которого их так беспокоит. Но все эти основательные доводы не могли пересилить всеобщего, повального стремления отрешиться вполне от прошедшего царствования, и к союзу с Францией) и Англией) приступлено было тем с большею еще поспешностью, что опасались, чтоб царь, в союзе с Швециею, не употребил своего влияния для возведения на престол шведский герцога голштинского. Молодого принца этого считали проникнутым любовью к деспотизму; наследственное право его на корону шведскую казалось опасным для свободы, а он, несмотря на всю свою проницательность, избалованный в детстве старою королевою Гедвигою Элеонорою и потом разными темными фаворитами, не умел снискать той популярности, которой принц и принцесса гессенские привязывали к себе сердца.
Препятствия, затруднявшие ему путь к престолу, увеличивались со дня на день, и Бассевич, боясь, чтоб герцога навсегда не удалили от короны, предложил ему присоединиться к партии принцессы, с тем, чтоб она объявлена была королевою, а он её наследником. Неуверенная еще насчет своей собственной участи и чувствуя свойственное государям нерасположение к ограничению их власти, принцесса была не прочь от такой комбинации, которая бы поставила её права вне зависимости от решения государственных сословий. Но другие министры герцога, Башнер и Фриц, полагали, что он вовсе еще не в такой крайности, чтоб отказываться от притязаний, на которые имел законное право. Некоторые из приверженцев свободы с умыслом поддерживали их мнение, чтобы только воспрепятствовать соединению, которое грозило опасностью новой форме правления. Тогда принцесса, поставленная в необходимость на что-нибудь решиться, отдала свои права на суд нации, была единодушно избрана и согласилась на все условия; после чего 4-го марта 1719 года государственные сословия присягнули ей, а 28-го числа того же месяца совершилось её коронование. Она принесла с собою на престол непримиримую ненависть к своему племяннику. С самого раннего детства он внушил ей отвращение к себе за шалости, которыми осмеливался досаждать ей и за которые вдовствующая королева[48], в восторге от игривости его ума, вовсе не думала его наказывать. Его первенство при дворе перед принцем гессенским, до возведения последнего покойным королем в генералиссимусы, еще более увеличивало её неприязнь, дошедшую наконец до последних пределов вследствие тех сопротивлений герцога, которые принудили ее пожертвовать верховными правами своего дома.
Узнав об избрании королевы, царь поспешил, через посредство Штамке, крепко уверить герцога, что примет его сторону, если он согласится приехать в Петербург. Иметь в своих руках наследника Карла XII — казалось ему самым действительным средством устрашать Швецию и принудить ее к заключению такого мира и к согласию на такие уступки, какие он только пожелает. Бассевич был того же мнения и сообщал по секрету о тайных предложениях царя всем желавшим знать о них, в надежде, что для отклонения государя его от принятия их, за ним утвердят по-крайней мере несомненное право наследования королеве и не откажут ему в сильном вспомоществовании для возвращения его наследственных владений. Но свобода усилила самоуверенность шведов, — они уже более не боялись царя, а идол всей нации, граф Арвед Горн, знавший и руководивший герцога с самого раннего его детства, показывал вид, что нехотя жертвует своею к нему дружбою долгу патриота, и потихоньку говорил своим друзьям, что Карл-Фридрих на престоле был бы вторым Эриком XIV[49]. Слова эти скоро стали повторяться толпою, которая верила им; но люди более здравомыслящие заподозрили Горна в желании очернить законного наследника Вазы и тем облегчить себе путь к короне, которую хотел утвердить за своим родом. Королева с удовольствием видела, что все оставляли герцога; она назначала скипетр своему супругу. Двор и сенат пренебрегали Карлом-Фридрихом. Его заставляли терпеть нужду во всём, не выдавали следовавшей ему доли из доходов с аллодиальных имений королевского дома, не исполняли условий, заключенных с голштинскими полками, бывшими на жаловании у Швеции, Королева склонила герцога признать ее, обещав ему, через Арведа Горна, титул королевского высочества, дарованный еще покойным королем отцу его; но не сдержала слова, отказалась от своего обещания и украсила этим титулом принца гессенского. Столько оскорблений не мог вынести племянник Карла XII. Кроме того, он был склонен к подозрительности (а управлявший им Рёнсдорф, человек боязливый, указывал ему на опасности, будто бы угрожавшие его особе), и потому решился оставить Швецию. Его министры представляли ему единодушно, что необходимо выждать окончания переговоров, начатых через посредство Франции с Англиею и Даниею, и что он должен продолжать тревожить королеву своим присутствием, чтоб заставить ее честно разделаться с ним, а именно доставить ему или его владения, или приличное за них вознаграждение, и назначить достаточную пенсию на содержание его двора. Но медлительность пугала Рёнсдорфа, и герцог остался при своем намерении. Он объявил, что уезжает. Обрадовавшись случаю отделаться от него, королева немедленно повелела снарядить небольшую эскадру, на которой предоставляла ему переправиться куда угодно. Обер-церемониймейстер Функ сопровождал его и по поручению сената платил за все путевые издержки до самого прибытия их в Германию. Герцог вышел на берег в Ростоке 4-го июня. Из его министров последовал за ним только Бассевич; оба другие, как шведы[50], просили, для заботы о его же интересах, оставить их в Стокгольме, но в сущности они только искали этим путем уклониться от тяжелой обязанности поддерживать в иностранных землях достоинство государя без владений, без денег, без союзников, и иметь постоянно дело с фаворитом, усердным, но недалеким и робким, каким был Рёнсдорф. Отдохнув, после морского путешествия, несколько дней в Дальвице, замке, принадлежащем камергеру Бассевичу, брату его министра, молодой герцог отправился покамест в Гамбург, где он мог быть вблизи от своего семейства[51], своих владений и от тех дворов, с которыми ему предстояло вести переговоры относительно восстановления его наследственных прав на эти владения. Там он принял титул королевского высочества, который имел еще отец его, и о котором большая часть соседних держав не спорила, не смотря на возражения Швеции, Дании и даже Англии[52].
Между тем как внук Карла XI добровольно покидал королевство своих предков, великий царь горько оплакивал потерю своего сына Петра Петровича, которого назначал себе в наследники; но оставаясь верным обширным планам для упрочения величия и славы России, он в то же время изгонял из своих владений иезуитов, заподозренных в хитрых происках, клонившихся к водворению духовной власти (супрематии) папы взамен власти московского патриарха, уничтоженной уже много лет перед тем. Князь Куракин, во время своего посольства в Рим в 1707 году, намекнул на возможность такой попытки, но это только для того, чтобы отклонить Климента от признания Станислава (Лещинского) королем польским. Петр Алексеевич не хотел признавать главою своей церкви никого кроме самого себя. Отважиться на такое предприятие и суметь принести его в исполнение было конечно делом весьма не легким и требовавшим большой смелости. Почести, оказываемые в прежние времена патриарху, доходили почти до обожания. Ежегодно, в память пришествия Мессии в Иерусалим, он в сопровождении всего духовенства торжественно проезжал по улицам Москвы на богато убранной лошади, смиренно ведомой самим царем, который перед тем держал и стремя, когда патриарх садился на нее.
Русские, еще грубые, способны были поддаваться внешним впечатлениям гораздо более, чем влиянию рассудка. Зная это, царь старался делать смешным то, к чему хотел ослабить привязанность и уважение. По кончине последнего патриарха, он создал потешного патриарха который, по вторникам на первой недели поста, обязан был с своею свитою разъезжать, в шутовской процессии, верхом на волах и ослах, или сидя в санях, запряженных медведями, свиньями и козлами, нарочно для того приспособленными. Патриарху этому он придал титул князя-папы и назначил штат из двенадцати пьяниц-дворян, которых называли кардиналами. Эта новая коллегия получила особый забавный статут, где прежде всего требовалось, чтобы никто из её членов не ложился спать не напившись пьяным. Таким образом эксцентричность поведения князя папы и всей его обстановки, выставляемая при всякого рода празднествах напоказ народу, доставляя последнему случай позабавиться, приучала его вместе с тем и соединять с презрением к грязному разгулу презрение к предрассудкам. Чтобы не пострадали достоинство и священные права религии, царь не ограничился тем, что провозгласил себя верховным главою церкви и в некоторых случаях исполнял обязанности, сопряженные с этим саном: он уважал и обряды своего вероисповедания. Так напр. он обыкновенно становился перед алтарем, с непокрытою головою, в ряды певчих; даже часто обладая сильным голосом и верным слухом, сам принимал на себя управление их хором. Распоряжение, сделанное им в то же время о переводе Библии на русский язык, окончательно убедило, что он никогда не думал касаться самой религии, а имел в виду только чрезмерность богатства и власти духовенства, которое злоупотребляло как тем, так и другим. В известных случаях он оказывал даже нечто вроде уважения к духовной юрисдикции. Так, по его указу, приговор над епископом Досифеем состоялся тогда только, когда Синод лишил его духовного сана и отдал в руки светского правосудия под именем Демида.
Так как мир с Швециею должен был определить форму и значение русской монархии в Европе, то царь с удвоенными усилиями приступил к вооружениям и переговорам, чтобы каким бы то ни было образом добиться такого именно мира, какого он желал. Он постоянно, с напряженным вниманием, следил за всем, что происходило в этом государстве. Между тем как Лефорт[53] отправлялся в Стокгольм для поздравления королевы с восшествием на престол, к герцогу, её племяннику, послано письмо, которое дошло до него в Ростоке и заключало в себе самое лестное приглашение приехать в Петербург, где он мог бы найти поддержку и все необходимые удобства до тех пор, пока небо не воздаст должного ему по правам его высокого рождения. Все знали уже, что царь думал нанести окончательный удар Швеции. Герцог боялся, чтоб его интересы не послужили предлогом для готовившихся военных действий и чтоб его не заставили идти против отечества, которое он всё-таки любил, не смотря на свои неудовольствия. Епископ, его дядя, выехал к нему навстречу в Бойценбург (по дороге в Гамбург) и умолял его не ездить в Россию, страну варварскую не уважающую иностранцев, где однажды постигла уже плачевная участь одного из принцев Голштинских[54]. Однако ж предложения царя могли со временем иметь большую цену. Потому герцог, по тщательном совещании с своим министром, отвечал его царскому величеству, «что чувствительный к его милостям, он принимает с благодарностью предложение его высокого покровительства и не преминет со временем лично явиться для выражения своей признательности у подножия царского престола; но что, в качестве имперского князя, ему необходимо предварительно испросить согласие на то главы Империи и обратиться к округу (нижне-саксонскому) за помощью для возвращения своих наследственных земель». Штамке получил приказание хлопотать о положительной декларации касательно того, что сделает царь для его королевского высочества, если последний отдаст свою участь в его руки; но не мог добиться ничего, кроме неопределенных уверений в том, что царь дружески и отечески будет заботиться об интересах герцога. Благоразумный монарх не хотел связывать себе руки, чтобы иметь возможность действовать сообразно с обстоятельствами.
Шведский генерал Койет осмелился провести тайного советника Остермана с Аланда в Стокгольм, не имев на то ни повеления, ни согласия королевы. Министру этому поручено было предложить условия мира, далеко не столь тяжелые, как те, которые сделаны были Швеции через два года после того. Они не были приняты, и Койет за свою смелость навлек на себя ненависть двора, от которой впоследствии претерпел много неприятностей. Тогда царь увидел, что осталось только одно средство — навести ужас на Сенат, и выступил в море с флотом, состоявшим из тридцати военных кораблей, между тем как его великий адмирал Апраксин употребил 130 галер и 100 транспортных судов для ужасной высадки, причинившей ущерба более чем на двенадцать миллионов талеров. Объятые ужасом, шведы уже готовы были купить мир уступкою Эстонии и Ингрии с Ревелем и Нарвою; но в это время сильная английская эскадра под предводительством адмирала Норриса явилась в Балтийском море, и царь, не желая вступать в борьбу с учителями морского дела и рисковать славою своих едва установившихся морских сил, отдал приказание своему флоту возвратиться в гавани.
Жестокости, какими сопровождалась эта высадка, страшно раздражили шведов против царя и послужили к тому, что аландские переговоры были совершенно прерваны. Министры и друзья герцога в Швеции начали представлять ему, что если он но хочет навсегда возбудить к себе ненависть и сам отдать корону принцу гессенскому, он должен избегать всякого общения с Россиею и привязаться к Англии, соединение которой с императором и с Францией называлось в то время великим союзом (la grande alliance). Истинный швед сердцем и душою, герцог поэтому немедленно отозвал Штамке из С.-Петербурга и решился ехать в Вену.
1720. Когда он остановился на несколько времени в Ганновере, где находился тогда король Георг, министерство курфюрста советовало ему возобновить в Стокгольме свои действия относительно престолонаследования, дабы его британское величество мог поддержать их и поставить последнее в число условий мира. Но далеко не допуская об этом никакой речи, шведский двор ставил еще в преступление герцогу, что он принял титул королевского высочества без согласия Швеции, и в то же время, убаюкивая его надеждою вознаграждения за потерю дружбы царя, а именно уверением не заключать никакого мира без возвращения ему прав на его герцогские земли, подписал предварительные условия с Англиею и Пруссиею, где ни одним словом не было упомянуто о его лице, а в Копенгагене только ради приличия заявил холодное предстательство за племянника королевы.
Надобно было прикрыть как-нибудь столько жестокостей, и потому умышленно постарались распустить ложный слух о каких-то тайных, вредных для Швеции сношениях между царем и герцогом. Виновником их называли Бассевича, имея в виду лишить его уважения нации и ослабить влияние тех внушений, которые он мог делать на предстоявшем сейме. Министр этот уговорил своего государя назначить бригадира Ранцау в качестве чрезвычайного посланника при королеве и государственных сословиях Швеции. Ему преимущественно вменялось в обязанность стараться изгладить столько невыгодных для герцога впечатлений; но не успел он явиться, как королева приказала объявить ему, чтоб он передал присланные на её имя депеши сенатору Кронгиельму, а с остальными в 24 часа выехал из её владений. Сенатор, расположенный к герцогу, оказывает кое какие вежливости посланнику; ему запрещают вход в сенат и канцелярию впредь до повеления. Ранцау, чтоб умилостивить королеву, изъявляет готовность титуловать своего государя так, как ей угодно будет предписать ему, и не говорить ни слова о наследовании престола; тем не менее приказ о его отъезде возобновляется. Такое нарушение прав публичного сана встревоживает иностранных министров; но им говорят, что всё это дело ничто иное как домашняя размолвка между королевою и её племянником, и в то же время во все портовые города королевства посылаются секретные предписания не впускать туда никаких эмиссаров герцога голштинского, который будто бы только и ищет как бы производить смятения во время сейма.
Имея таким образом возможность дать полную свободу своему враждебному чувству, королева путем частных переговоров поручила передать лорду Картерету[55], что для уступки Бремена и Вердена необходимо отказаться от интересов её ненавистного племянника. Англичанам и датчанам только это и было нужно. Правда, великодушие короля Георга и доброе расположение ганноверцев противились несколько времени такому предложению; но скоро политические соображения взяли верх над справедливостью и чувством. Великобритания гарантировала Дании Шлезвиг в 1715 году, и ценою этого были Бремен и Верден. Датчане, задетые за живое, могли возвратиться к дружбе страшного царя, которому Лондон хотел воспретить всякое господство на Балтийском море, дабы тем вернее присвоить его себе. Таким образом Англия, в соединении с Францией, сделалась посредницею мирного договора между Швецией и Данией, все выгоды которого были на стороны последней.
Наследник Вазы отправился к королю прусскому. Министерство ганноверское долго отклоняло его от этого, подозревая, что король всё еще питает некоторое тайное расположение к царю. Встретив здесь герцога с необыкновенными почестями и нежностью, его склонили к принятию плана соглашения, по которому принц гессенский[56] долженствовал короноваться королем, а он, герцог, назначаться его наследником. Лорд Картерет получил приказание от своего двора стараться склонить и принца в пользу такого предположения, представляя ему, что это было бы единственным средством добиться от герцога формального отречения от Шлезвига, возвести принца без неудовольствий на престол и расширить слишком стесненную новыми законами королевскую власть, дабы Швеция могла с успехом содействовать к ослаблению царя и оградить себя от неудобств в случаях, требующих тайны или быстроты действия. Предложение значительной суммы денег было присоединено к этим доводам. Но герцог не поддался им, желая сохранить надежду передать скипетр своим наследникам.
В Вене герцог был принят как королевский принц. Император взял его сторону и как глава Империи, и как охранитель мира Травендальского. Он отправил декрет об увещании к королю датскому относительно восстановления Голштинии и декрет об экзекуции к директорам нижнесаксонского округа.
Английское министерство отправило в Вену лорда Кадогана для склонения его к отмене экзекуции и к принятию гарантии Шлезвига в пользу Дании. Но далеко не соглашаясь на это, император принял протестацию герцога против уступки и инвеституры, в ущерб ему, шведских провинций в Германии. Принц этот называл себя в ней наследником королевы Христины, в пользу которой, а равно и наследников её, они уступлены были по Вестфальскому миру столько же, сколько и в пользу короны Шведской. Таким образом Кадоган не имел успеха; но взамен того лорду Стенгопу в Париже удалось добиться от регента обещания приступить к жестокой гарантии.
Сейм в Стокгольме был из самых бурных. Королева, поддерживаемая английскою партиею и французским резидентом г. Кампредоном, требовала передачи короны своему супругу; сторонники дома готторпского хлопотали, чтобы требование это прошло не иначе как под условием обеспечения права наследования законному наследнику; а ревнители свободы отвергали и передачу и наследование. По их мнению, королева должна была царствовать, потому что ее избрали; а после её смерти, говорили они, пусть будет избран тот, кого признают способным сделать отечество счастливым. Среди этих несогласий королева узнала из письма от своего племянника, что царь предлагает ратификацию штеттинского договора, заключенного князем Меньшиковым в 1713 году и требующего гарантии в восстановлении Шлезвига. Герцог присовокуплял, что ему было бы приятно быть обязанным за эти выгоды только милостям королевы и доброму расположению шведской нации, но что если и та и другая, при переговорах с Даниею, забудут о его интересах, он, не будучи в состоянии жить лишенный своих владений, найдется вынужденным прибегнуть к помощи упомянутой гарантии. Королева смягчилась и спешила уверить его, что с Даниею не будет заключено мира без признания его восстановления.
Принцу гессенскому, стремившемуся к приобретению короны, хотелось расположить в свою пользу царя. Вдовствующая герцогиня мекленбургская, его сестра, очень уважаемая семейством её супруга, сильно старалась употребить для этого влияние правительствующего герцога (мекленбургского), своего деверя. Извещенный о положении дел в Стокгольме, царь поручил передать герцогу: что принц, стоя уже на последней ступени трона, может воссесть на него и не нуждаясь в его мнении; но что если он считает его полезным для упрочения за собою престола, то из этого может образоваться одно из условий хорошего мирного договора. Такой двусмысленный ответ усилил подозрение, что царь замышляет отдать шведский скипетр в руки герцога голштинского.
И он действительно имел эту мысль. Для приведения её в исполнение недоставало только большей готовности со стороны герцога подчиниться безусловно его руководству. Ему наскучила наконец война; он видел род заговора в стремлении всех своих прежних союзников вознаграждать Швецию на его счет; наскучили и её снисхождения к ним. Другой король ввел бы другую систему; а Бассевич, советами которого руководился герцог, всегда имел в виду одно — соединить Россию и Швецию самым тесным союзом. Поэтому за предложением гарантии о восстановлении, заявленным королеве, последовали вскоре предложения более существенные, которые держались в тайне. Они переданы были герцогу генералом Вейсбахом, русским министром в Вене, и состояли в следующем: его королевское высочество без промедления приедет в Россию и отдаст свою участь в руки царя; он сочетается браком с одною из царевен; царь не заключит мира без действительного восстановления Шлезвига и Голштинии и уступит герцогу, как скоро он прибудет в С.-Петербург, Ливонию и Эстонию, созвав в то же время сословия обеих провинций и предложив им избрать его своим государем. Шведы горели желанием снова присоединить эти области к своей короне, а потому обеспечением для герцога их обладания ему открывался верный путь к престолу (шведскому). Но нужно непременно, чтобы всё это приведено было в исполнение, пока шведский сейм еще не распущен и пока короны не присудили принцу гессенскому. Вейсбах не переставал упрашивать герцога ехать, и если б ему удалось склонить его к этому, — очень вероятно, что царь исполнил бы всё, что обещал, в надежде видеть дочь свою королевой и иметь в Швеции короля-союзника, с помощью которого он мог бы отмстить Дании, его оставлявшей, и сломить надменность Англии, присваивавшей себе господство на Севере и стремившейся к ослаблению русского могущества в Европе, особенно же на Балтийском море (как вскоре после того доказали статьи 11-я и 17-я её трактата с Швецией), подписанного в Стокгольме 21 января 1720 года).
Всё благоприятствовало мерам царя, принятым для сближения с герцогом. Король Прусский был расположен содействовать ему за приобретение некоторых частных для себя выгод, весьма неважных для России; император, заключивший мир с Испанией и избавленный от необходимости щадить англичан, склонялся к заявлению своего императорского авторитета в голштинском деле; Саксония готова была принять на себя, вместо Ганновера, экзекуцию против Дании за известное денежное вознаграждение и за обещание, что дворы Венский и С.-Петербургский поддержат в свое время виды курфюрста на Польский престол.
К несчастью для герцога, в министерстве его не было согласия. Бассевич, по приезде в Германию, прежде всего взял себе в товарищи Альфельда, голштинского дворянина, человека умного и образованного, бывшего камергера при матери герцога, и оставил его в Гамбурге, дабы он мог не терять из виду северных дворов, Брауншвейгского конгресса и соглашений относительно восстановления, которых ожидали. Англичане сумели убедить его, что для его государя нет другого спасения кроме совершенной покорности их воле. Шведы, хлопотавшие о разрыве рождающейся связи с царем, и оба тайные советника герцога в Стокгольме, оскорбленные тем, что им предпочитают Бассевича, старались общими силами восстановить Альфельда против его друга и благодетеля. Одушевленный ошибочным усердием, он прямо написал к герцогу, что Бассевич за свое пристрастие к царю сделался ненавистным Швеции и Великобритании, от которых только и зависит счастье его королевского высочества; что он, Альфельд, с прискорбием дает совет удалить его от дел; но что это необходимое зло, и что он настолько полагается на добросовестность Бассевича, чтоб надеяться, что тот сам согласится с ним. Знакомый очень хорошо с частыми уверениями, с которыми Бассевич обращался к дворам Парижскому, Лондонскому и Стокгольмскому, что с Россией не будет заключено никакого обязательства, если они обещают не постановлять между собою ничего такого, что лишало бы его королевское высочество его наследственных владений и его надежд, а также зная и двусмысленность ответов этих дворов, он всё-таки полагал, что Швеция должна была покамест щадить Англию, а эта последняя Данию, но что пользуясь искусно их благоволением и сделав им удовольствие удалением подозрительного министра, их мало-помалу удалось бы привести к желаемой цели. — Герцогу следовало избрать одно из двух: или положиться на ум и решительность Бассевича, который несомненно привел бы его в С.-Петербург в такое время, когда царь хотел отважиться на всё для предупреждения тех событий, какие потом совершились, или устранить его совершенно и схватиться за нить, которую предлагала ему осторожность Альфельда для выхода из лабиринта. Но по снисходительности своей и молодости он выбрал средину, которая не вела его ни к чему. Убежденный, что Бассевич, когда-то столь уважаемый в Швеции, возбуждает там неудовольствие лишь своим усердием к поддержанию величия своего государя, он оставил его при себе и уволил Альфельда. С другой стороны, чтоб отнять у шведов всякий видимый предлог к предпочтению ему принца Гессенского, он отказался от поездки в С.-Петербург, а чтоб в то же время не сделать неприятного царю, который оставался его последним прибежищем, он отправил к нему Штамке и Негелейна, снабженных инструкциями — ознакомиться с его намерениями, вести переговоры, но ни на чём не останавливаться окончательно.
Это посольство встревожило дворы французский и шведский. Оба они, желая отклонить герцога от формального союза с царем, поспешили обнадежить его, что с своей стороны не упустят ничего для доставления ему обладания Шлезвигом. Вскоре после того принц Гессенский очень обязательно известил его о своем восшествии на престол и перестал спешить готовым уже состояться актом об отказе герцогу в требовании о признании его наследником королевы. Государственные сословия, для поддержания его надежд, отложили рассмотрение этого дела до будущего сейма, под тем предлогом, что настоящий приходит уже к концу и что по случаю совершившегося избрания короля обстоятельства не соответствуют более упомянутому требованию, для которого необходимы уже другие основания.
Между тем английский флот явился для прикрытия берегов Швеции. О назначении его заявлено было русскому двору только следующим письмом лорда Стенгопа[57] к царскому резиденту в Лондоне, Веселовскому[58]:
«Милостивый государь! Королю, моему государю, угодно было повелеть своему адмиралу кавалеру Норрису отправиться без промедления в Балтийское море с эскадрою военных кораблей, которые, в качестве вспомогательных короне шведской, на основании последнего трактата, заключенного с нею, имеют присоединиться к её морским силам для прикрытия её владений и для споспешествования заключению справедливого мира между этою короною и его царским величеством; а потому я имею повеление сообщить вам о вышеозначенных распоряжениях и повторить от имени короля, моего государя, предложение его посредничества и услуг для ускорения мира, столь необходимого обеим сторонам и столь желательного для всех наций, заинтересованных торговлею на морях Севера. Я прошу вас, милостивый государь, донести о всём вышеписанном двору вашему.
Честь имею, и пр. Стенгоп».
Это высокомерное посредничество не было принято в С.-Петербурге, и тем решительнее там стали готовиться к новым военным действиям, что Швеция намеревалась отнять всё завоеванное царем. Она не боялась более внутренних несогласий, если б даже герцог Голштинский стал во главе русской армии. Франция, союзница дома Гессенского, вручила новому королю должные Швеции субсидии и обещала уплачивать их впредь в определенные сроки. Соглашение с Пруссиею было покончено; формальный трактат с Даниею ожидал только подписания. Король Датский отказывался в нём от всех обязательств по договору с царем, а король Шведский — от обязательств по союзу с домом Готторпским. Вот подлинные слова статьи 6-й этого трактата:
«Равным образом, так как его светлость герцог Шлезвиг-Голштинский был вовлечен в северную войну, и так как тесный кровный союз, существующий между его светлостью и короною Шведскою, мог бы показаться препятствием к решению того, что касается герцогства Шлезвигского, то его шведское величество, за себя и за корону шведскую, сим объявляет и обещает, что не будет ни прямо, ни косвенно противиться тому, что имеет быть постановлено в пользу короля Датского относительно герцогства Шлезвигского обеими посредничествующими державами, которые содействовали заключению настоящего трактата, а также оказывать на деле какую либо помощь сказанному герцогу против короля Датского, в ущерб вышеупомянутым постановлениям».
Так как Фридрих Гессенский сумел утвердиться на престоле и привлечь к себе нацию своею щедростью и своими дипломатическими успехами, то царь не видел уже для себя такой пользы в присутствии герцога при русском дворе, как во время предложений, сделанных Вейсбахом. Поэтому он холодно принял Штамке, который в свою очередь не смел действовать решительно, и переговоры шли вяло. Посланник требовал для своего государя обладания Ливониею и помощи как в возвращении ему родовых владений, так и в притязаниях его на наследование шведского престола. Царь во всём подавал надежды, не делая никаких положительных обещаний, и хотел, чтобы герцог особым реверсом обязался возвратить ему Ливонию, когда сделается королем Шведским. Но принц этот, из опасения чересчур оскорбить шведов, отверг условие, необходимое для видов монарха, предполагавшего вступить, в качестве государя этой провинции, в число членов империи, которой она когда-то была вассальным владением. Ему отказано было в её инвеституре в 1712 году под тем предлогом, что он не считался еще мирным и признанным её обладателем, а потому он хотел иметь в руках все средства, чтоб достигнуть когда-нибудь устранения этого препятствия.
Герцог держал приличный двор, имел посланников при всех королевских дворах Европы, при многих дворах германских, и наконец содержал большое число бедных шведских офицеров, которые называли себя и действительно могли быть его приверженцами Средства для всего этого добивались искусством его министра, который сумел получить через Ло[59] 300 000 ливров от регента Франции, небольшую сумму от Испании, и хлопотал о займе остального отчасти на свой собственный кредит. Напрасно просил он о ссуде герцогу своего старого друга Меньшикова, обладавшего несметными богатствами. Меньшиков обратился за обеспечением её к царю, а царь отвечал ему: «Пусть их терпят недостаток, нужда приведет их к нам». Об этом узнали в Лондоне, и лучшим способом для задержания путешествия герцога в Россию признано было пособить ему немного в его стесненном положении. Вследствие чего министерство ганноверское, под видом ложной покорности воле императора, обратилось к королю Датскому с ходатайством о возвращении Голштинии. Король согласился, но довольно неохотно, объявив, что делает это из сострадания и что ничто не заставит его отказаться от Шлезвига.
Император желал, чтобы вопрос об общем замирении Севера был предложен на Брауншвейгском конгрессе и решен там при его посредничестве. Конгресс этот, существовавший уже столько времени, вотще ждал дел, которые на нём должны были решаться и которые никогда до него не дошли. Царь назначал туда министров для переговоров о своем мире с Швециею и делал много лестного императорскому двору тем, что деятельно обнаруживал намерение обратиться к его посредничеству. Он имел две весьма важные причины ласкать этот двор: во-первых он искал для себя допущения на имперский сейм в качестве герцога Ливонского, а во-вторых — думал заключить с домом Австрийским оборонительный союз против турок. Ему очень хотелось привлечь к последнему и Польшу, и таким образом оградить христианство твердым оплотом; но граф Флемминг отклонил короля Августа от этого союза. У царя однажды вырвалось следующее замечание: «Флемминг никому не доверяет, потому что всех политиков считает такими же как он сам, а ему я никогда не доверюсь». Слова эти были переданы графу, который никогда не мог забыть их и усердно содействовал отдельному миру, также наконец заключенному между Швециею и Польшею.
Так как Венский двор сделался для царя предметом особенного внимания, то он отправил туда посланником генерала Ягужинского, одного из самых приближенных своих фаворитов, который прежде был одним из наиболее угодных его денщиков. Денщики — это нечто в роде домашних слуг и провожатых, каких имеет всякий знатный русский. Царь брал своих из русского юношества всех сословий, начиная с знатнейшего дворянства и нисходя до людей самого низкого происхождения. Чтобы сделаться его денщиком, нужно было иметь только физиономию, которая бы ему нравилась. Враг всякого принуждения и этикета, он допускал к себе своих дворян и камергеров только при каких нибудь значительных празднествах, тогда как денщики окружали и сопровождали его всюду. Они могли свободно высказывать ему мысли, серьезные или забавные, какие им приходили в голову. Случалось довольно часто, что он прерывал какой-нибудь важный разговор с министром и обращался к ним с шутками. Он много полагался на их преданность, и этот род службы, казалось, давал право на его особенное расположение. Лучшим способом найти к нему доступ было сближение с денщиками. Сообразно своим способностям и уму они получали всякого рода должности и после того всегда сохраняли в отношениях к своему государю ту короткость, которой лишены были другие вельможи.
Ягужинский был человек чрезвычайно талантливый и ловкий; однако ж он никак не мог приспособиться к той испанской важности, которая в то время составляла отличительную черту австрийских министров и придворных. Он не исполнил в Вене того, чего хотелось царю, и так как очень скучал там, то через год добился позволения возвратиться в Россию. Между тем, как бы взамен своих неудач, он вошел в интересы герцога Голштинского и очень сблизился с его министром Бассевичем, которому впоследствии оказал немало полезных услуг.
Около 1720 года барон Гёпкен, шведский резидент в Вене и брат знаменитого статс-секретаря этого имени, оставил без дозволения свой пост и с поспешностью прибыл в Стокгольм. В оправдание такого поступка он привел, что на то короткое время, какое думал пробыть в отлучке, в Вене совершенно достаточно присутствия посланника графа Бьельке, и что для очистки своей совести он приехал представить, что отечество подвергнется всевозможным бедствиям, если наследование престола не будет обеспечено герцогу Голштинскому и если последнего не сделают посредником для заключения мира с Россиею. За эту смелость он попал в темницу; но слова его стали распространять другие. Боялись, чтоб они не сделали слишком сильного впечатления, а потому король старался успокоить умы и объявил: что если нация желает мира, он доставит ей посредника с большим весом в лице регента Франции, и что если она находит нужным показать внимание к положению герцога Голштинского, он готов забыть необязательность поведения этого принца (который не только не поздравил его с восшествием на престол, но и показывал намерение как бы заподозрить самое его избрание, называя его, короля, наследным принцем Кассельским) и представить самые ясные доказательства своего королевского к нему благоволения. Эти доказательства состояли в подарке двадцати тысяч талеров с согласия сословий и в неопределенном обещании повторять ежегодно эту щедрость, если он будет вести себя дружески в отношении к королю. Когда герцога известили о том, он сказал: «Я не на столько глуп и не настолько голоден, чтобы променять мое право старшинства на блюдо чечевицы». Он не поздравил короля и отказался от денег. Некоторые шведские офицеры приезжали в Бреславль и умоляли его не пренебрегать милостями короля, но услышали от него в ответ: что принц Шведский должен получить не подарок от принца Гессенского, а пенсию от королевства, как определено было решением предшествовавшего сейма.
Такая твердость возбудила в Стокгольме опасение, что царь, не смотря на легкость, с которою он признал короля, готовил ему, в пользу герцога, какой-нибудь удар, которого должно ожидать с открытием военных действий. Поэтому там только и думали как бы отклонить его. Граф Спарр употребил столько стараний в Париже, что герцог-регент решился отправить г. Кампредона — того самого, который так искусно содействовал в Швеции заключению мира с Англиею и возведению на престол короля, в С.-Петербург для предложения посредничества Франции.
Царь при этом случае счел за нужное показать свое доброе расположение двору, влияние которого в Диване было ему известно. Он объявил, что с удовольствием примет г. Кампредона и что не замедлит отправить гг. Остермана и Брюса, в качестве уполномоченных, в Ништадт, в Финляндии, для переговоров о мире с теми, кого назначит его шведское величество. Французский министр явился, и русский монарх, откровенно высказав ему свое желание покончить войну, в то же время развернул перед ним свои средства для её продолжения. Его морские силы, назначавшиеся для действия на Балтийском море, состояли из 42 линейных кораблей, 6 больших плоскодонных судов, 15 плавучих батарей (bateaux armés), 300 галер, 300 транспортных судов для пехоты и 180 для кавалерии, 20 бригантин, 4 бомбард (galiottes á bombes) и 6 госпитальных кораблей.
Кампредон пробыл в Петербурге четыре недели. Кроме передачи предложений о мире ему еще поручено было тайно противодействовать домогательствам герцога Голштинского и стараться расположить царя в пользу предоставления наследования шведского престола дому Гессен-Кассельскому. Эго последнее предложение старался провести герцог Мекленбургский. Хотели знать, как оно будет принято, прежде нежели Франция открыто вмешается в это дело. Но царь далеко не был расположен внимать такого рода предложениям. Столько необычайных движений, направленных на отнятие у герцога всех средств, заставили его думать, что король шведский не вполне был уверен в преданности своих народов, а поступок Гёпкена давал ему повод предполагать, что есть партия, втайне приверженная к последней отрасли королевского дома. Он поэтому снова обратился к приглашению герцога не медлить приездом в Россию. Но герцог был обременен долгами, его верный Бассевич также, а разоренная Голштиния не давала еще покамест ничего. Он просил о ссуде ему денег на путешествие, и вот что по этому поводу царь собственноручно написал Ягужинскому: «Передача денег для герцога не может состояться по причине больших беспорядков, произведенных в торговле военными действиями, беспорядков, о которых ты не можешь не знать: но уверь его, что он не будет иметь недостатка ни в деньгах, ни в чём бы то ни было, когда приедет к нам. Мы впрочем имеем верные известия, что шведы обмануты англичанами и сами сознаются в этом. Великобритания хотя и обещала оставить им на всю зиму 8 военных кораблей, однако ж адмирал Норрис ушел со всеми своими кораблями, не оставив им ни одной барки. Мы поэтому надеемся, с Божиею помощью, иметь господство на море будущим летом. К тому же меня уверяют, что число приверженцев герцога увеличивается в Швеции, так что приезд его весною будет необходим, и он может много потерять, если не приедет». Вследствие такого предложения Ягужинский не замедлил обратиться к герцогу с приглашением поспешить отъездом; но Бассевич, который хорошо знал царя, и который за год перед тем готов был, под собственною ответственностью, привезти своего государя в С.-Петербург и там доставить ему возможность восторжествовать над своими врагами, теперь смотрел на это дело как на сомнительное. Чтоб не брать в нём на себя одного всей ответственности, он представил императору мемуар с изложением доводов за и против, умоляя его величество, по выслушании мнения своего просвещенного министерства, не отказать герцогу в отеческих советах относительно того, что ему следует предпринять. Объяснением долго медлили. Наконец вице-канцлер граф Цинцендорф сообщил в ответ, что по зрелом обсуждении всего изложенного в представленном мемуаре его императорское величество не находит никаких причин не одобрять желания его королевского высочества ехать искать покровительства монарха столь могущественного и великодушного, как его царское величество.
Штамке предписано было представить, что для оправдания в глазах шведской нации предприятия, к которому готовился герцог, и для успокоения его высочества на случай перемены обстоятельств, необходимо, чтобы его царское величество удостоил положительно обеспечить ему некоторые выгоды и в особенности упрочить его лестные надежды на брак с царевною Анною Петровною. Царь продолжал оставаться при неопределенных уверениях, что примет к сердцу интересы герцога как свои собственные, и что если его высочество может понравиться царевне, в чём он не сомневается, то будет очень рад иметь его своим зятем. Старались через Ягужинского склонить монарха к принятию формального обязательства по крайней мере относительно возвращения Шлезвига и относительно наследования Шведского престола. Но не смотря на весь его кредит, тщательно употребленный в дело, получен был только следующий, написанный самим царем ответ, который Ягужинский сообщил в переводе: «С Швецией не будет заключено мира без признания его королевского высочества наследником престола — вот что мы можем обещать положительно. Мы обещали бы столько же и относительно возвращения Шлезвига, если б не надлежало опасаться, что Дании это послужит поводом к теснейшему сближению с Англиею, — обстоятельство, которое могло бы сделать нам большое затруднение; тем более, что она ищет того же при всех дворах и будет искать со временем. Но я обещаю изустно дать свое слово касательно этого предмета министру герцога, как скоро он будет здесь, а по заключении мира обяжусь и письменно. Между тем старайся всячески при императорском дворе, чтобы возвращение это состоялось скоро; меня этим особенно обязали бы, потому что англичане единственно при помощи вопроса о нём отторгли датчан от нашего союза.»
Чем больше медлил герцог, тем меньше важности получало присутствие его в Петербурге. Однако ж Штамке продолжал уверять в своих донесениях, что если он только хочет приехать, можно еще будет всё поправить, а знаменитый маршал граф Шуленбург[60], из великодушного участия в бедственном положении принца столь знатного рода, устранил и последнее препятствие к его отъезду, предложив, по собственному побуждению, ссудить ему сто тысяч талеров (écus) без всяких отяготительных условий.
После этого оставалось только позаботиться о безопасности пути. Множество шведов постоянно окружало герцога, и были причины не доверять некоторым из них как известным креатурам короля. Сикье, на котором, по рассказам, лежало ужасное подозрение[61], появился, без всякой видимой надобности, на дороге из Польши в Курляндию, и граф Головкин, русский министр в Берлине, от имени царя советовал Бассевичу озаботиться, чтоб государь его проехал через Польшу с сохранением всевозможной тайны, так как двор Варшавский находился в несогласии с Петербургским и благоприятствовал Стокгольмскому. Таким образом Карл-Фридрих и фаворит его Рёнсдорф, переодетые русскими офицерами и снабженные паспортом от Ягужинского, в четыре дня совершили путь до Либавы, между тем как в Бреславле все считали герцога больным, и Бассевич показывал вид, что ездит совещаться у его постели. Как скоро узнали, что он в безопасности, отъезд его был обнародован и затем предъявлен дворам, с которыми он находился в дружеских отношениях, также и Шведскому Сенату, которому снова предложили готовность его высочества содействовать заключению мира. — Герцог дождался в Митаве своей свиты и с нею отправился далее.
Весною 1721 года в Ливонию прибыло множество отставных шведских офицеров, которые выдавали себя за желавших определиться в службу царя. Распространился слух, что между ними было и несколько шпионов. Трудность различить их вынудила царя издать указ, которым предписывалось всякому шведу военного звания, находившемуся в этой провинции под предлогом искания службы, выехать оттуда в определенный срок. Вскоре затем последовала казнь князя Гагарина, наместника Сибирского[62]. Заподозренный и обвиненный в обогащении себя в ущерб казне своего государя, он уже около двух лет томился в темницах адмиралтейства. Царь уважал его за многие прекрасные качества. Всем известно было, что он великодушно облегчил участь пленных шведов, сосланных в его обширную область, употребив в продолжение первых трех лет их плена более 15 000 руб. своих собственных денег на удовлетворение их нужд. Дочь его была замужем за сыном великого канцлера Головкина, а сын был женат на дочери вице-канцлера Шафирова. Не желая подвергать его всей строгости законов, царь постоянно отсрочивал его казнь и для отмены её не требовал от него ничего, кроме откровенного во всём сознания. Под этим условием, еще накануне его смерти, он предлагал ему возвращение его имущества и должностей. Но несчастный князь, против которого говорили показания его собственного сына и который выдержал уже несколько пыток кнутом, ни в чём не сознавшись, поставил себе за честь явиться перед виселицею с гордым и нетрепетным челом. Царь велел устроить ее перед домом, в котором собирался Сенат, полагая, что преступления и упорство виновного должны подавить всякое к нему сочувствие в душе людей ему близких. Поэтому те из сенаторов, которые были в родстве с князем, не осмелились уклониться от обязанности присутствовать при его смерти. Они должны были не только скрывать свои чувства при виде этого печального зрелища, но даже обедать с царем и весело пить по обыкновению. Молодой Гагарин, который еще недавно путешествовал по Европе окруженный блеском и свитою, достойными владетельного князя, был разжалован и определен на службу простым матросом. Отеческая нежность побудила Шафирова обмануть доверие, которым облек его царь в этом процессе, и утаить из конфискованного имущества преступника значительную сумму для сохранения её своему зятю. Впоследствии это было причиною его несчастья.
На другой день после этого трагического события царь уехал в Ригу, где желал встретить герцога Голштинского. Его попечениями город этот, совершенно разоренный войною, снова приведен был в цветущее состояние. Таможенный сбор с товаров, которые он получал большею частью из Польши и отправлял в разные порты Балтийского моря и океана, простирался ежегодно до 700 000 талеров (écus). Царь увидел там с удовольствием успехи в разведении большого сада, который он приказал насадить вдоль реки и окончить в три месяца, и в котором было уже поставлено 15 000 больших деревьев. Супруга его была с ним, окруженная, согласно воле монарха, царским блеском, который ему всегда был в тягость и который она умела поддерживать с удивительным величием и непринужденностью. Двор её, который она устраивала совершенно по своему вкусу, был многочислен, правилен, блестящ, и хотя она не могла вполне отменить при нём русских обычаев, однако ж немецкие у неё преобладали.
Царь не мог надивиться её способности и умению превращаться, как он выражался, в императрицу, не забывая, что она не родилась ею. Они часто путешествовали вместе, но всегда в отдельных поездах, отличавшихся — один величественностью своей простоты, другой своею роскошью. Он любил видеть ее всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при которых бы она не являлась. При больших торжествах за её столом бывали все дамы, а за столом царя одни только вельможи. Его забавляло общество женщин, оживленных вином; поэтому она завела у себя свою перворазрядную любительницу рюмки (une biberonne de premier ordre), заведывавшую у неё угощением напитками и носившую титул обер-шенкши. Когда последней удавалось привести дам в веселое расположение духа, никто из мужчин не смел входить к ним, за исключением царя, который только из особенного благоволения позволял иногда кому нибудь сопровождать себя. Из угодливости же, не менее для него приятной, Екатерина, уверенная в сердце своего супруга, смеялась над его частыми любовными приключениями, как Ливия над интрижками Августа; но зато и он, рассказывая ей об них, всегда оканчивал словами: ничто не может сравниться с тобою.
Как ни дружествен и ни великолепен был прием, сделанный герцогу Голштинскому царем, но для первого он получил еще особенную цену по тому расположению, которое высказала ему царица. Вполне уверенная в своем величии, она, не боясь уронить себя, в присутствии принцессы царской крови, герцогини курляндской, сказала угнетенному принцу: что одушевленная сознанием долга, внушаемого ей могуществом, она принимает живое участие в интересах герцога и что для неё, супруги величайшего из смертных, Небо прибавило бы еще славы, даруя ей в зятья того, которого она была бы подданною, если б счастье не изменило Швеции и если б Швеция не нарушила присяги, данной ею дому великого Густава. Слова эти заставили проливать слезы всех присутствовавших, — так трогательно умела говорить эта государыня. Если б дело зависело от неё, ничто не было бы упущено, чтобы без промедления восстановить Карла-Фридриха в его правах. Но хотя влияние её на душу великого царя могло сделать много, однако ж не всё. Она была его второю страстью, государство — первою, и поэтому всегда благоразумно уступала место тому, что должно было предшествовать ей.
В Риге царь сильно заболел горячкою. Чтобы вылечиться от неё, он переселился дней на восемь на корабль. По его мнению, морской воздух восстанавливал здоровье, и он редкий день пропускал, не подышав этим воздухом. Вставая с рассветом и обедая в 11 часов утра, он после стола имел привычку соснуть. Для этого стояла постель на фрегате, и он отправлялся туда во всякое время года. Даже когда, летом, он бывал в Петергофе, воздух обширных садов этого дворца казался ему удушливым, и он всегда спал в Монплезире, домике, одна сторона которого омывается волнами моря, а другая примыкает к большому петергофскому парку. Здесь было его любимое убежище. Он украсил его фламандскими картинами, изображавшими сельские и морские сцены, большею частью забавные.
По возвращении в С.-Петербург он отпраздновал 25-е июня (по старому стилю) годовщину своего коронования, что делалось очень редко с тех пор как он царствовал один. При царском дворе насчитывалось, впрочем, до тридцати ежегодных празднеств, из которых четыре были в память военных подвигов, а именно взятия Нарвы, побед при Калите и Лесном (одержанной над Левенгауптом) и Полтавского сражения. В день празднования последнего царь надевал то самое платье, которое было на нём во время битвы. Но все эти празднества отличались однообразием. Те, которые приходились летом, отправлялись в садах императорского дворца и на обширном, примыкавшем к нему лугу, где маневрировали и потом также принимали участие в пиршестве гвардейские полки Преображенский и Семеновский. В рощах расставлялись столы для всех значительных особ. Одним из главных был стол для духовных лиц. Сам царь иногда садился туда и рассуждал с ними о догматах религии. Если кто-нибудь судил или делал ссылки неверно, то должен был в наказание опоражнивать стакан, наполненный простою водкою, и эти господа обыкновенно удалялись с праздника более других упившимися. Обе царицы, царствующая и вдовствующая супруга Ивана, — кушали с принцессами, своими дочерьми и с дамами в большой открытой галерее, построенной вдоль реки. За обедом следовал бал, на котором царь танцевал, как и на свадьбах знатных лиц, куда его постоянно приглашали со всею императорскою фамилиею. В молодые свои годы он любил танцы. Русские вообще имеют большое расположение к этому упражнению и исполняют его с грациею.
Первое, на что царь заставил полюбоваться в своей столице герцога Голштинского, было прекрасное здание адмиралтейства с его магазинами, снабженными множеством материалов и снарядов для постройки и оснастки тридцати или более военных кораблей. При этом случае осьмнадцатое большое судно, сооруженное на новой верфи, было спущено, на воду и названо «Пантелеймоном», в честь одного из святых греческой церкви. Его строил француз, присланный герцогом-регентом для починки старого 70-ти пушечного корабля «le Ferme», который царь когда-то получил из Франции и которого его плотники не умели вытащить из воды и поставить на штапель. Работы эти, столь близкие сердцу царя, производились под управлением одного из его любимцев, Ивана Михайловича Головина, носившего титул главного строителя кораблей. Он учился кораблестроению вместе с царем в Голландии, но без большего успеха, и однако ж по одному из тех капризов благоволения, от которых не изъяты и благоразумнейшие из государей, царь поручил ему пост, которого все обязанности, к счастью для морского дела, исполнял сам[63]. Но взамен этого Головин был очень хорошим сухопутным генералом.
1721. Продолжительный плен множества шведов, взятых при жизни Карла XII и отправленных в Сибирь, превратил их как бы в природных её жителей. Они в особенности заставляли ценить себя в этой дикой стране своим искусством в горных работах, с которыми русские были мало знакомы. Многие из пленников, потеряв надежду на обмен или выкуп, желали, посредством браков, основаться навсегда в местах своей ссылки. Но они были слишком велики душою, чтобы ради любви отречься от веры своих отцов, а русские женщины, хотя и плененные кротостью нравов этих иностранцев, боялись оскверниться браком с протестантами. Некоторые из них, пренебрегшие подобным предрассудком, были разлучены священниками, господами и безжалостными судьями с любимыми мужьями-еретиками и выданы за православных, которые им не нравились. Извещенный об этом, царь нашел такие поступки столько же несправедливыми, сколько и противными его интересам; но совсем тем не хотел показать, что действует по своему произволу в вопросах, касающихся религии. Дело это было отдано на рассмотрение св. Синода, который напечатанным в С.-Петербурге 18 августа 1721 года указом, делающим по своему благоразумию честь его составителям, объявил браки между православными и иноверцами не только законными и дозволенными, но и похвальными, если они клонятся ко благу государства, и подчинил их только одному условию, по которому еретик обязывался давать подписку, что не станет тревожить совести своей жены, и что дети будут исповедывать господствующую религию страны. Этот мудрый указ приобрел России значительное число полезных жителей.
Царь не удовольствовался оказанием герцогу Голштинскому всевозможного внимания и дружбы, — он поручил еще Шафирову сообщить ему инструкции, данные Остерману для переговоров с Швециею. Там между прочим сказано было: что мир решительно может состояться только под условием признания его королевского высочества наследником короля и королевы и обязательства со стороны Швеции действовать за одно с Россиею для возвращения ему Шлезвига. Кроме того, остров Эзель был отдан герцогу на содержание стола и экипажей, с правом поручить кому либо из его дворян управление доходами с этого места.
Такие блистательные знаки расположения сделались скоро известными и даже были преувеличены молвою, которая в Швеции произвела потрясающее действие и вполне удовлетворила ожиданиям царя. Тайные приверженцы герцога снова начали поднимать голову, и от закваски, брошенной в народ смелостью резидента Гёпкена, казалось, готово было произойти брожение. Король, с первой же минуты встревоженный опасностью такого положения дел, удвоил старания о заключении мира. Но царь проник его побуждения. Не стесняясь английским флотом, готовившим свое обычное появление в Балтийском море, он повелел произвести новое опустошение берегов Швеции, дабы усилить надежды доброжелателей герцога и опасения правительства. Поняв однако ж намерения короля Шведского, он в свою очередь был проникнут последним. Король этот, не отличавшийся всеобъемлющим умом, но глубоко проницательный и тонко скрытный, понял, что ему для спокойного обладания престолом и обеспечения своей фамилии пути к последнему, необходимо только согласиться на уступку России тех самых выгод, какие царь надеялся получить в правление его соперника. Поэтому королевским уполномоченным в Финляндии предписано было уступать в чём бы то ни было, но упорно сопротивляться внесению в мирный трактат хотя бы и малейшего намека в пользу герцога Карла-Фридриха. Сенат, руководимый Арведом Горном, подтвердил им тоже самое. Они повиновались с такою точностью и были так усердно поддерживаемы г. Кампредоном, что Остерман написал наконец царю: что нужно отказаться от всякого требования на пользу герцога Голштинского, или лишить монархию славного мира, который был бы венцом могущества его царского величества и доставил бы ему возможность окончить его дивную статую. Это был намек на остроумный девиз монарха, выставленный впоследствии на одном из щитов в его погребальной процессии. Он изображал ваятеля, высекающего из грубого куска мрамора человеческую фигуру и почти до половины окончившего свою работу.
Возвеличение империи, распространение торговли, водворение добрых нравов среди народа, — вот что по истине было единственною или по крайней мере главною целью монарха, к которой всё другое присоединялось только случайно. Между тем ему тяжело было пожертвовать ей принцем, который отдал свою участь в его руки, и он намеревался удвоить усилия оружием и переговорами, чтобы как-нибудь ввести интересы герцога в состав мирного трактата. Но несчастное стечение обстоятельств отклонило его от этого. Из Азии получены были секретные донесения, что турки, желая воспользоваться смутами в Персии, готовятся завладеть частью этого государства и даже Дербентом, пограничным городом, который открывал им вход в Россию и давал возможность затруднять её торговлю на Каспийском море. Не желая ни предоставлять им выгод столь опасных, ни вдаваться ради того в жестокую войну, царь решился отвести удар, не вступая с ними в прямое столкновение, и сам завладеть провинциями, на которые они рассчитывали, прежде чем войска их выступят в поход. Но к экспедиции этой следовало приступить безотлагательно. Она требовала всех его сил, может быть, даже его личного участия. Мир с Швециею поэтому делался необходимым. Нужно было спешить его подписанием, иначе военные приготовления могли преждевременно обнаружить новые замыслы, и тогда шведы, узнав об них, возвысили бы тон и заставили бы царя, во избежание двух войн на двух противоположных концах империи, странным образом изменить уже предписанные условия мира.
И вот несчастный герцог покинут. Для ускорения мира, об нём не только умалчивают, но в статью 7-ую мирного трактата заносят даже косвенное отречение от всякого предприятия в его пользу относительно престола. Такой оскорбительной неудачи он никак не ожидал. Молчание царских министров об успехах переговоров заставляло уже его приближенных подозревать кое-что. Но их и самого герцога забавляли любезностями всякого рода, избегая огорчить его высочество достоверностью его несчастья до того самого дня, когда герольды публично возвестили о заключении мира. К герцогу явился камергер с простым извещением об этом событии, без всякого сообщения каких либо подробностей.
Человеку с благородным характером не следовало переносить такого злополучия с покорною и холодною умеренностью; еще менее следовало ему являться при торжествующем дворе в роли печальной жертвы его веселия. Герцог остается безвыходно в своих покоях[64], а Бассевич, приняв веселый вид, отправляется, чтобы сказать царю: что он приносит ему поздравления его королевского высочества и просит удовлетворить нетерпению герцога сообщением условий, выговоренных в его пользу согласно обещанию его царского величества. Царь, окруженный вельможами, явившимися с поздравлениями, милостиво отвечал: что в настоящем случае Небу не угодно было предоставить ему свободу действовать так, как бы он хотел и должен был действовать; но что примиренный с Швецией, он надеется лучше соблюсти выгоды его королевского высочества, чем прежде, и снова повторяет свое обещание не оставлять его. «Желаю, — сказал со вздохом министр, — чтобы это новое обещание было прочнее всех прежних, вследствие которых государь мой приехал наконец облобызать могущественную руку, ему поданную; что касается до меня, то я умру с отчаяния, что имел простоту поверить существованию такого смертного, на слово которого можно бы было положиться, и что привез в Россию потомка Вазы только для того, чтобы быть там игрушкою политики». Меньшиков и Шафиров побледнели от страха и ждали, что друга их тотчас арестуют. Но нисколько не обнаруживая гнева, царь сказал, обращаясь к собранию: «Надобно быть снисходительным к заблуждениям истинного усердия; я желал бы, чтобы и все служащие мне имели его столько же». Потом, приказав подать себе большой бокал, произнес: «Вот смотрите, благородный человек, это пью я за здоровье вашего государя; я сумею, когда придет время, разуверить вас и заставить не сожалеть, что вы привезли его ко мне». Затем он тотчас приказал Шафирову ехать с Бассевичем к герцогу и сказать там всё, что нужно. Шафиров изложил непреоборимые препятствия, которые Небо и люди противопоставили добрым намерениям монарха, который, рассудив, что он может умереть, также как и его королевское высочество, и что в том и другом случае усилия войны, продолжавшейся 21 год, пропали бы даром, не мог по совести не воспользоваться благоприятными обстоятельствами для заключения мира, столь выгодного государству, Богом ему вверенному, и которым он обязан был не пренебрегать из опасения навлечь со временем на свою могилу нарекания потомства, от которого ждал себе благословений. После того министр представил уверение, что его царское величество, имея теперь свободные руки, вырвет Шлезвиг у Дании, и что назначая герцогу одну из принцесс, своих дочерей, сделает для него непременно всё, что только не будет противно благу государства, о котором он должен пещись больше, чем о своем семействе и о самом себе. Едва Шафиров окончил свою речь, как царские камергеры Нарышкин и граф Пушкин явились к герцогу с приглашением на празднества по случаю мира. Он отвечал им очень любезно, что если не может радоваться успехам в своих собственных делах, то порадуется за его царское величество и за окончание пролития крови русской и шведской.
Большие празднества, устроенные, по повелению царя, в С.-Петербурге и продолжавшиеся более двух недель, показали, до какой степени он был доволен исходом Ништатского конгресса. Не так было в Швеции. Народ роптал за постыдную уступку лучших провинций королевства. Король и Арвед Горн сваливали всю вину этого дела на пребывание герцога голштинского в России. Нужно было, говорили они, уступить царю более чем бы следовало, чтобы удержать его от покушения на внутреннее спокойствие королевства и от желания ниспровергнуть настоящее его счастливое устройство в пользу принца, который льстил самолюбию этого государя, прибегнув к его покровительству. Таким хитрым способом они еще более восстановили толпу против герцога. Она считала его виновником своих потерь, не размышляя, что если б ему оказали справедливость, она от большей части их была бы избавлена.
Известно, что по поводу упомянутого торжества (по случаю заключения мира) царь принял от своих народов титул Петра Великого, Отца Отечества, Императора Всероссийского. Под предлогом празднования радостного события с одинаковым блеском и в древней столице империи, и в сущности, чтоб приблизиться к Персии, он в конце 1721 года переехал со всем двором в Москву.
III
Никогда Порте не представлялось столь благоприятного случая распространить свои пределы со стороны Персии, как во время возмущения Миривейса. Приверженец секты Омара, он уверял, что вдохновен Богом и его великим пророком Магометом к истреблению Софи и его дома, которые служили опорой секте Али. Муфти и янычары горели желанием присоединить силы Султана к войскам князя Кандагарского[65]. Но великий визирь воспротивился этому и сумел внушить своему государю, что блистательной Порте приличнее покровительствовать несчастному монарху, чем возмутителю. Дабы заставить мятежников уважать владения его султанского величества, по всей персидской границе выставлены густые колонны войск, и решено благосклонно принимать беглецов из этого государства, а самому Софи воздать великие почести, если бы он вздумал искать убежища в Турции. Великий визирь был убежден, или по крайней мере старался убедить своего государя, что персидское государство в непродолжительном времени распадется само собою, и что тогда его величество волен будет взять всё, что найдет для себя удобным, а остальное великодушно возвратит законному государю. Он не воображал, что на севере Персии деятельный сосед уже готовился в тишине к успехам, которые вскоре сильно встревожили диван.
Прежде чем оставить Петербург и обеспеченные Ништадским миром завоевания, чтоб обратиться к новым в другой части света, Петр Великий выразил радость свою по случаю этого славного мира более блестящим делом, чем все празднества. То была всеобщая амнистия, распространенная даже на злоумышленников против его жизни, за исключением одних только убийц и объявлявшая сложение податных недоимок со времени начала войны до 1718 г., составлявших сумму в несколько миллионов рублей. В указе, данном сенату[66], причина этих милостей выражена была в следующих словах: «Считая долгом воздать славу Всемогущему за благодать, ниспосланную нам при заключении мира и прежде, мы полагаем, что не можем показать этого более достойным образом, как даруя прощение и изливая благодеяния на наши народы».
18-го декабря 1721 г. царь, во главе своих гвардейских полков, торжественно вступил в Москву, но отсрочил на шесть недель празднование мира, желая прежде всего внимательно обозреть приготовления, предписанные им по поводу предстоявшей войны против похитителя персидского престола, и приступить к некоторым распоряжениям, полезным и необходимым для общего блага. Единственное развлечение, которое он позволил себе в это время труда, было славленье[67]. Оно продолжается с Рождества до дня св. Крещения. Это ничто иное, как поездки в санях, предпринимаемые духовенством для пения по домам гимнов в честь Нового года. В прежние времена члены царской семьи не участвовали в них, и патриарх, или какой нибудь архимандрит, назначавшийся предводителем процессии, хорошо угощаемый со всей его свитой, собирал щедрые дары от набожности людей богатых; император, напротив, любил еще и в молодости пользоваться этим случаем, чтоб удостаивать своего присутствия все знатные дома, и употреблял их приношения в пользу госпиталей и других благотворительных заведений. На сей раз он ничего не собрал, потому что допустил в процессию князя-папу и его двенадцать кардиналов-пьяниц, от чего она получила более характер шутки, чем религиозного обряда. Что касается до празднеств по случаю мира, то монарх открыл их раздачею из своих рук золотых медалей, ценою от 5-ти до 35 червонцев, всем своим подданным и служителям, сколько нибудь известным, а также лицам знатным высшего духовенства, иностранным министрам и министрам голштинского двора. Надпись на медалях гласила, что они сделаны из золота, добытого в русских рудниках.
После этого, он ввел в собрание дочь свою царевну Елизавету Петровну, которой было двенадцать лет, приказал подать себе ножницы, обрезал помочи с лифа её робы, отдал их её гувернантке и объявил принцессу совершеннолетнею; а вслед за тем надел на герцога Голштинского цепь и ленту ордена св. Андрея. Любовь к морю нигде не покидала царя. По его приказанию устроены были великолепные маскарадные катанья на санях. Чтоб восполнить недостаток моря и флота, саням придана была форма морских судов, и из них самые небольшие могли вместить от 10 до 12 человек, и везлись шестью лошадьми. Между ними наибольшее внимание обращали на себя турецкое судно (Saique) князя валашского, одевавшегося то муфтием, то великим визирем, окруженного прекрасной и многочисленной турецкой свитой, и гондола императрицы, закрытая зеркальными стеклами и снабженная хорошо натопленною печью. Сани императора изображали военный 2 ярусный корабль с 3 большими мачтами, надлежащим экипажем и поставленными между множеством фальшивых десятью настоящими пушками, из которых часто палили. Монарх приказывал делать на улицах все морские маневры, так что даже полагали, что 16 лошадей, которые везли его корабль, только при помощи парусов могли сдвигать его с места.
1722. Возвратимся к распоряжениям, которые предшествовали этим забавам и несколько задержали их. Император давно замечал всё неудобство того, что сенаторы были президентами различных судебных мест: отсюда происходило, что всякий из этих господ произвольно мог располагать правосудием в своем ведомстве. Сопротивления подчиненных и жалобы обиженных были бесполезны, а апелляции в Сенат оставались без действия, потому что члены его взаимно покрывали друг друга. Во избежание всего этого, император 12 янв. 1722 г. повелел объявить в Сенате указ, гласивший: «Что никому из наличных сенаторов не должно быть поручаемо управление отдельным ведомством, дабы ничто не отвлекало их от забот об общем благе империи; что президенты имеют являться в Сенат лишь в известных, определенных случаях, что приказы или канцелярии будут иметь своих прокуроров, а Сенат — генерал-прокурора, к которому первые обязаны обращаться с донесениями; что Сенату предоставляется предлагать известное число достойных кандидатов, для занятия вакантных мест в различных советах по ведомствам юстиции, военному, морскому, финансовому, горному, мануфактурному, коммерческому, иностранных дел, и проч.; что из этих кандидатов его императорское величество будет утверждать тех, кого заблагорассудит, за исключением только лиц, определяемых в судебные места; ему угодно, чтоб в этом случае избранные кандидаты бросали между собой жребий, дабы при раздаче мест, столь важных для блага граждан, не могло возникнуть и малейшего подозрения в расчете или пристрастии». Эти выборы могли легко устроиться при общей ревизии, назначенной в Москве для дворян и гражданских и военных чинов империи. Четыре указа или определения (edits) (от 8-го и 30-го августа, 24-го сент. и 24-го октября 1721 г.) последовательно созывали их ко времени приезда императора. — Но так как сбор всё еще не находили достаточно полным, то последовал пятый указ от 11-го янв. 1722 г.[68] Он назначал 1-е марта последним сроком для тех, которым дела или болезнь мешали до тех пор явиться, и объявлял, что лица, которые и затем не явятся и не представят законных оправданий, будут сочтены ослушниками высочайшей воли, подвергнутся лишению имуществ и шельмованию, и кровь их, если будет кем-нибудь пролита, останется без отмщения.
Такое строгое понуждение заставляет наконец всякого спешить появлением на призыв. В числе гражданских чиновников оказывается лишь человек двадцать иностранцев. Призвав их к себе и выслушав список их имен и должностей, государь обратился к ним только с следующими немногими словами: «Идите по домам с Богом». Природные же русские подвергнуты были допросам в присутствии особо назначенных по сему случаю комиссаров. По прочтении им увещания говорить истину, которая одна могла уничтожить их проступки, и избегать лжи, которая усилила бы заслуженное наказание, они между прочим должны были отвечать на следующие вопросы: Кем поручены им занимаемые ими должности, или каким образом они достигли их? Не расхищали ли казны государевой? Не были ли публично наказываемы, и если были, то за какие вины? Страшное множество злоупотреблений открылось по протоколу этой комиссии. Царь удовольствовался простым дознанием и не приказал производить по этому поводу никакого следствия; но в то же время он искусно воспользовался присутствием всех именитых и властных особ монархии, дабы, опираясь на их согласие и присягу, сообщить силу основного закона империи своему знаменитому указу от 5-го февр. 1722 г.[69], коим давалось право русским государям назначать себе преемников, помимо условий кровного родства. Основою этому указу служил изданный государем в 1714 г. закон о целости знатных фамилий, которым установлялось: чтоб недвижимые имущества переходили, без раздела, к одному сыну, но чтоб от воли родителей зависело назначать наследника и из младших сыновей, если они находили, что старший склонен к расточительности. Вскоре после того во всех провинциях распространена была одобренная Сенатом и Синодом книга, под заглавием: Священные права монаршей воли в избрании наследника престола[70]. Внимательный ко всему, что касалось нравов его народа, император повелел обнародовать 24-го янв. 1722 г. табель о рангах, чрезвычайно странную, но вполне сообразную с духом нации. Чины разделялись в этой росписи на 16 классов, начиная с генерал-адмирала, фельдмаршала, великого канцлера, до прапорщика и морского и канцелярского комиссара. Двор также был разделен по рангам. Девицы стояли четырьмя классами ниже их матерей; дочь кавалерийского генерала, например, следовала за женою бригадира и предшествовала жене полковника. Но сыновья вельмож не пользовались наравне с дочерьми преимуществами отцовских чинов. Положение гласило: что его императорскому величеству всегда приятно будет видеть их при своем дворе, но вне ранга, хотя бы они происходили от благороднейшей фамилии в империи, до тех пор, пока не приобретут чина собственными заслугами. В ассамблеях и в обществе чины не допускались; но если бы кто нибудь в торжественных случаях самовольно присвоил себе чин, ему не принадлежавший, тот платил большой штраф, от чего не были изъяты и дамы. Всякий солдат дослужившийся до штаб-офицерского чина, делался дворянином, и ему нельзя было отказать в патенте и гербе, и наоборот, знатнейший боярин, опозоренный наказанием, полученным от руки палача, понижался в простолюдины. Такое повышение и понижение распространялось, впрочем, только на детей, имеющих родиться; рожденные же прежде оставались в том звании, в каком родились, если только милость или гнев царя не решали иначе. Всякий молодой дворянин, желавший вступить в гражданскую службу, обязан был, как и в военной службе, начинать с низших должностей. Если он где нибудь учился, то начинал с чина прапорщика и в одиннадцать лет беспорочной службы достигал чина полковника; если же нигде не учился (и тогда его не смели определять иначе как за недостатком человека ученого), то должен был прослужить четыре года в Приказе без чина[71], чтоб искупить свое невежество, а потом повышался, как и другие. Учреждена была должность обер-герольдмейстера, и те, фамилии которых не были известны, должны были доказать перед ним права свои на дворянство. Здесь далеко не имелось в виду унижение дворянского сословия, напротив всё клонилось к тому, чтоб внушить ему стремление отличаться от простолюдинов как заслугами, так и рождением. Расположение царя к старинному дворянству обнаружилось потом в 1723 г. еще тем, что он даровал эстляндскому дворянству отсрочку на десять лет в платеже должных им капиталов с уменьшением при том следовавших по этому платежу процентов, для того, как сказано в указе, чтоб старинные эстляндские поместья не сделались добычею городов и купцов. Москва, хотя и редко удостаивалась присутствия государя, однако ж тем не менее носила уже отпечаток его реформ. Нравы её жителей умягчались, ремесла и искусства в ней совершенствовались. Прекрасная полотняная фабрика, устроенная купцом Тамсеном, производила уже полотна, которые могли состязаться с лучшими голландскими. Пастырскими попечениями Синода[72], в котором сам император был первым президентом, народ начинал освобождаться от суеверий своих предков, или по крайней мере привыкал спокойно смотреть на их осуждение. При погребении молдавского князя Кантакузена не было вовсе видно духовенства с образами, как водилось в старину, а вскоре после того, в апреле месяце, был обнародован указ — не держать их на улицах и в маленьких часовнях, стоявших на всех перекрестках, где они давали грубой черни повод к идолопоклонству. Через два года тоже самое сделано было и в С.-Петербурге[73].
Но вот всё готово к Каспийскому походу. Публикуется манифест с объяснением, что император желает только наказать невежественных ханов, позволивших себе оскорбить его, и хочет привести к повиновению непокорных подданных шаха Гуссейна, на защиту которого считает себя обязанным стать из великодушия. Такое же объяснение отправляют и в Константинополь; но там, несмотря на подозрения, возбужденные им в диване, мирное расположение великого визиря сдерживает военный пыл янычар. Поэтому царь, не рассчитывавший на такой счастливый оборот дел и ожидавший, что Порта вмешательством своим превратит войну эту в крайне ожесточенную, счел необходимым лично принять начальство над своими войсками. Он сделал все распоряжения, указывавшие на возможность долгого его отсутствия и повелел до своего возвращения Сенату и другим правительственным местам пребывать в Москве.
Так как в это время некоторые из сенаторов, подстрекаемые Кампредоном, представили ему, что герцог Голштинский, ненавистный для Швеции и Дании, может послужить этим двум державам предлогом к нападению на границы государства, с таким блеском оказывающего ему свое покровительство, то он поручил внушить этому принцу, что он избавил бы от всякого беспокойства его императорское величество, если бы удалился в свои владения и остался там до возвращения государя из Персии. Оскорбленный таким предложением, герцог поручил своему министру Бассевичу войти с надлежащими представлениями об отмене подобного требования. Министр обратился к содействию императрицы, которая неотступными просьбами добилась для герцога позволения остаться в Москве, с достаточным числом солдат-преображенцев, назначенных ему для караулов. Кроме того, он получил даже разрешение посещать императорских принцесс. «Ждите терпеливо нашего возвращения, — сказала императрица графу Бассевичу: — ничто не изменит моей материнской нежности к вашему государю и моего желания видеть дочь мою на престоле государства, подданною которого я родилась». Принцессы однако ж, вследствие секретного приказания, данного императором Меншикову, через месяц уехали в Петербург. Екатерина и в этом походе разделяла опасности и славу своего супруга. По пути он обозрел восточные области империи, до тех пор ему незнакомые. Казань, леса которой снабжали его верфи строевым лесом и которая в продолжение трех веков не видала царей, Астрахань, которая никогда не была посещаема ими, отпраздновали его приезд большими увеселениями. Есть достоверное описание этой Каспийской кампании в мемуарах, изданных в свет под именем Нестесураноя[74], и автор «Преображенной России»[75] приводит об ней также некоторые весьма замечательные подробности. Поход был очень труден по причине жаров, свойственных климату тех мест. Более 300 русских солдат умерло от солнечных ударов, так что император запретил, под страхом смерти, снимать на открытом воздухе шляпу для поклонов, с 5 часов утра до 5 часов вечера. После многих завоеваний, из которых всех значительнее был Дербент, монарх нашелся вынужденным остановить быстрые успехи своего оружия по причине бури, от которой при устье Волги и по берегам Дагестана погибли почти все суда, нагруженные припасами и шедшие из Астрахани. Он предпринял тогда обратный путь в этот город, куда приехал к концу сентября, поручив продолжение военных действий своим генералам. Астрахань, расстоянием от Москвы около 200 миль[76], стоит на реке Волге, которая в 12 милях ниже впадает в Каспийское море. Город этот ведет большую торговлю с индийцами, персиянами, армянами и татарами. Тамошняя почва производит превосходные плоды, но дурные вина, потому что содержат в себе много соли. На запад простирается бесплодная равнина до самого Черного моря на пространстве 80-ти миль. Она перерезана болотистыми местами и покрыта слоем чистой, прозрачной соли, толщиною в палец. Чем больше ее снимают, тем больше она выдается из земли, а жгучие солнечные лучи высушивают ее и очищают. Император пробыл в Астрахани более двух месяцев для разных распоряжений и для принятия многих депутаций от татар. Донесениями из Москвы его уведомили, что открытие сейма в Швеции назначено на 23-е января следующего года: поэтому он посоветовал герцогу Голштинскому послать туда графа Бассевича хлопотать о признании за первым титула королевского высочества и права престолонаследия, обещая с своей стороны всеми силами поддержать эту негоциацию чрез посланника своего в Стокгольме, графа Бестужева[77], и принять на себя все по ней расходы. Герцог повиновался; Сенат выплатил графу Бассевичу 10 000 руб. на путевые издержки, и данные ему инструкции были составлены по плану монарха, который тут и себя не забыл, потому что двумя первыми пунктами предписывалось стараться о признании за ним императорского титула и о заключении наступательного и оборонительного союза между Россией и Швецией. Из Астрахани герой прибыл в Царицын, где с грустью увидел брошенные работы, долженствовавшие соединить Волгу с Доном или Танаисом и исполнявшиеся последовательно полковником Брёкелем, инженером Перри и князем Матвеем Петровичем Гагариным, который довел уже их до того, что в 1707 г. сотни купеческих судов свободно могли ходить по каналам, соединявшим несколько промежуточных рек, которые снабжали их водою. Работы эти оставались без поддержки по небрежности или недобросовестности губернаторов областей, столь удаленных от надзора государя. Петр Великий имел в виду восстановить их и устроить соединение четырех морей, прилегающих к границам его владений, а именно: Черного, Каспийского, Белого и Балтийского. И вот каким образом: Дон впадает в Сиваш[78], соединяющийся проливом с Черным морем. Этой рекою нужно идти вверх до Ивановского озера (Ivanozés), где она берет начало; оттуда начинается дорога, проложенная до Волги, а Волгою суда могут или спуститься к Каспийскому морю, или подняться к Ладожскому каналу и продолжать путь по быстрому течению Невы в Балтийское море; наконец Двина, соединенная этим каналом посредством другого побочного канала, открывает путь к Белому морю, в которое она впадает. Ни один из этих каналов не был совершенно доведен до окончания, исключая канала, обессмертившего имя графа Миниха, которому император, обманутый прежними строителями, поручил его устройство и которым он был окончен в царствование Петра II. Если б можно было воспользоваться Ладожским озером, которое этот канал окаймляет не в дальнем расстоянии, то это значительно сократило бы работы; но коварное озеро поглощает слишком много судов. Искусство и опытность мореходов здесь совершенно бесполезны. Кроме почти постоянно бушующих волн, трудно измерить его глубину, которая в одном и том же месте показывает один день несколько брассов[79], а через несколько дней ни одного. Великий царь приписывал это необыкновенное явление плавучим песчаным мелям, отделяющимся со дна или от сильного напора волн, или от извержения какого нибудь маленького подземного вулкана.
Герой наш въехал в Москву с торжеством победителя, предшествуемый своими трофеями, в тот же день (18-го декабря) как и за год перед тем, когда он вступил в эту столицу, осененный славою заключенного мира с Швециею. В Сенате царствовал раздор. Два с небольшим месяца до того[80] Меншиков и Шафиров в этом высоком собрании наговорили друг другу таких вещей, которые не прощаются. Жалобы Шафирова были посланы к монарху в Царицын; Меншиков с своими явился по приезде государя. У обоих были сильные враги. Давно уже великий канцлер граф Головкин питал неприязнь к Шафирову, любившему роскошь и хороший стол и осмеивавшему без милосердия его скупость, иногда постыдную, но бывшую, единственным недостатком человека очень честного и способного. Исход дела был несчастлив для Шафирова. Его лишили всех должностей и знаков отличия, всего имущества, а сам он был приговорен к отсечению головы. Всё, что могли сделать в его пользу неотступные просьбы императрицы, противопоставлявшей черным обвинениям, взводимым на него, счастливо веденные им переговоры при Пруте, было дарование ему жизни; но он тем не менее должен был вынести весь позор эшафота, и помилование возвестили лишь тогда, когда палач поднял уже топор. По приказанию императрицы хирург[81] немедленно пустил ему кровь, в которой не нашел ни малейшего следа волнения. Шафиров сказал ему: «Лучше было бы, если б вместо вас палач пустил мне кровь из большой артерии; жизнь моя истекла бы вместе с нею!» Он не предвидел, что через немного лет Екатерина, сделавшись императрицею, возвратит его из ссылки, и что друг, тогда отсутствовавший (граф Бассевич) смягчит ненависть Меншикова до степени совершенного примирения, которое восстановит его, Шафирова, в прежних почестях. Не смотря на видимый перевес Меншикова, дело это навлекло ему много неприятностей. Толки, возбужденные им, убедили императора, что князь при всех своих высоких качествах, был неисправим в скупости и происходящей от неё алчности. Монарх слишком любил его, чтоб решиться подвергнуть его публичному наказанию, но в тоже время счел долгом правосудия наказать его келейно, и для этого он употребил свою собственную руку. Прекрасные украинские поместья, принадлежавшие Меншикову, были у него отобраны, и он, кроме того, заплатил 200 000 руб. штрафа. Когда император приехал к нему в первый раз после этой немилости, он увидел, что стены его дворца оклеены грубыми обоями, которые употребляются в Москве людьми низкого звания. Монарх выразил свое удивление. «Увы! — сказал князь, — я должен был продать свои богатые обои, чтоб расплатиться с казною». — «Мне здесь не нравится, — отвечал император строго, — и я уезжаю; но я приеду на первую ассамблею, которая должна быть у тебя, и если тогда я не найду твой дом убранным так как прилично твоему сану, ты заплатишь другой штраф, равный первому.» Он приехал, нашел убранство, достойное герцога Ингрийского, похвалил всё, не упомянув ничего о прошлом, и был очень весел.
1723. Сенатор князь Голицын[82], замешанный в деле несчастного Шафирова, был присужден, как и многие другие, к шестимесячному тюремному заключению. Но по прошествии четырех дней наступила годовщина бракосочетания императрицы, и так как она удостоила просить за него, то император возвратил ему свободу и чин, послав его выразить свою благодарность у ног Екатерины, когда она вышла в залу собрания для принятия приветствий и поздравлений. Вечером перед её окнами сожжен был фейерверк, изобретенный её супругом. Он изображал соединенный именной шифр их в сердце, украшенном короною и окруженном эмблемами нежности. Фигура, изображавшая Купидона со всеми его атрибутами, кроме повязки, пущенная рукою самого государя, казалось, летела на крыльях и зажгла всё своим факелом. Несколько дней спустя, накануне отъезда двора в Петербург[83] (25 февраля) император устроил другого рода огненную потеху, менее любезную, но весьма странную. Он собственноручно зажег свой старый деревянный дворец в Преображенском, построенный в 1690 г. Так как его обложили фейерверочными материалами, то здание это долго горело разноцветными огнями, которые обнаруживали его архитектуру и делали прекраснейший эффект; но когда материалы сгорели, глазам представилось одно безобразное пожарище, и монарх сказал герцогу Голштинскому: «Вот образ войны: блестящие подвиги, за которыми следует разрушение. Да исчезнет вместе с этим домом, в котором выработались мои первые замыслы против Швеции, всякая мысль, могущая когда нибудь снова вооружить моею руку против этого государства, и да будет оно наивернейшим союзником моей империи!»
По возвращении в С.-Петербург, император нашел сестру свою царевну Марию Алексеевну в предсмертной агонии. Замешанная в суздальском деле, она несколько лет содержалась в Шлиссельбурге, а потом в одном из дворцов столицы, где, кроме запрещения выезжать со двора, она ни в чём не терпела недостатка и могла жить, как ей угодно. Постель её была окружена попами, которые, следуя старинному способу успокоения душ умирающих, приносили ей питье и пищу, спрашивая жалобным голосом, имеет ли она в изобилии на этом свете всё, что нужно для поддержания жизни? Разгневанный тем, что осмелились исполнять в его собственном семействе нелепый обычай, оставленный уже и чернью, монарх с позором прогнал этих невежественных попов от умирающей царевны. Ее похоронили с такими почестями, как будто она никогда не была в немилости.
Петр Великий любил великолепие в празднествах; но частная его жизнь отличалась необыкновенною простотой: вилка и нож с деревянными черенками, халат и ночной колпак из посредственного полотна, одежда, пригодная для занятий плотничною и другими работами, в которых он часто упражнялся. Когда не было санного пути, он ездил по городу в одноколке, имея одного денщика рядом с собою, другого следовавшего позади верхом. Поэтому Петербург однажды был удивлен, увидев его выезжающим из своих ворот в богатом костюме, в прекрасном фаэтоне, запряженном шестью лошадьми, и с отрядом гвардии. Он отправлялся навстречу князю Долгорукову и графу Головкину, старшему сыну великого канцлера[84], отозванным от их посольств для поступления в Сенат. Долгорукий, украшенный орденом Слона, провел пятнадцать лет в Копенгагене и Париже; Головкин, имевший Черного Орла, — в Берлине. Оба были с отличными способностями и превосходно образованы. Император выехал к ним на встречу за несколько верст (которых 7 составляют одну большую немецкую милю) от города, посадил их к себе в фаэтон, возвратился в свою резиденцию и провез их по всем главным улицам до своего дворца, где назначил большое собрание. «Не справедливо ли было с моей стороны, — сказал он, входя туда, — с ними, поехать и привезти к себе с почетом сокровища знаний и добрых нравов, для приобретения которых эти благородные русские отправились к другим народам, и которые ныне они приносят к нам?»
С марта месяца адмиралтейству отдан был приказ государя снарядить в Кронслоте 100 галер, 28 военных кораблей и 14 фрегатов, снабдив их припасами на шесть месяцев. Он объявил, что сам примет начальство над этим флотом; но не возьмет себе того корабля, на котором до сих пор плавал, и который желает не подвергать более случайностям битв и волн, а сохранить, потому что был на нём в 1716 г., когда командовал четырьмя флотами разных наций[85]. Он выбрал себе другой корабль с именем, означавшим счастливое для него предзнаменование, а именно корабль «Екатерину» названный им так за превосходство его постройки и за изящество украшений, с которыми ничто не могло сравниться, хотя всё было сделано в С.-Петербурге.
Все эти приготовления имели целью навести ужас на врагов герцога Голштинского в Стокгольме, где дебют графа Бассевича был очень не удачен. Ему дали знать стороною, что королева никогда не захочет дать аудиенции эмиссару герцога Карла Фридриха, что король в угоду ей также не согласится на это. Оба в то же время объявили, что им будет неприятно, если его станут посещать. Он вооружился терпением, чтоб не испортить совершенно дела и, умалчивая пока о главном предмете своего посольства, просил дать ему возможность выразить пред лицом престола: «что герцог признаёт права того, кто возведен на трон милостью королевы, его тетки, и что подчиняется постановлениям отечества, которое слишком дорого его сердцу, чтоб он мог решиться внести в него раздор». Многие шведы, тронутые такими словами, нашли жестоким поведение Сената и двора в отношении августейшего потомка древних королей; а многочисленные офицеры, возвратившиеся из русского плена, и при проходе через Москву, осыпанные щедротами Карла Фридриха (которые шли чрез руки графа Бассевича), считали за низость, если, в угоду неумолимой королеве, не окажут ему должного почтения. Скоро при помощи обедов, на которых царствовали изобилие и веселие, и на которые принимались все с распростертыми объятиями, Бассевич увидел свой дом постоянно наполненным гостями. Уверившись в значительном числе приверженцев, могущих противодействовать сторонникам двора, он нашел, что ему остается только запугать последних, и это удалось ему при содействии кронслотского вооружения. Шведский сейм настоятельно потребовал от короля: не упорствовать в отказе, за который будет порицать его вся Европа и который мог поставить королевство в неприятное положение. Тогда аудиенция наконец состоялась 8-го апреля, с большою торжественностью и пышностью. Граф Бассевич поздравил короля с восшествием на престол, уверяя, что герцог одобряет сделанное нациею в пользу его величества и просит его только помнить, что, нося корону Ваз, он должен заменить отца их единственному потомку, питающему к нему совершеннейшую сыновнюю привязанность. Король отвечал благосклонно, уверяя герцога в своей любви и в чувствах уважения к нему народа, который никогда не перестанет заботиться о его счастии. Когда примирение таким образом, по-видимому, совершилось, министр решился приступить к открытым переговорам. Вскоре он заявил сословиям требование о признании за герцогом титула королевского высочества, об обеспечении права его на наследование престола и об обещании ему содействия для возвращения герцогства Шлезвигского. Немного спустя, Бестужев предложил им наступательный и оборонительной союз своего государя и просил о признании за ним императорского титула.
Между тем как прения и интриги волновали Стокгольм, успехи русских генералов в Персии возбудили тревогу в диване. Там сильно занялись вопросом: может ли быть долее терпима опасная помощь, оказываемая Софи царем? Как ни отличался миролюбием великий визирь, но невыгоды, которые Порта могла понести от того, были так ясны, что он уже не дерзал противоречить тем, которые стояли за войну. Капиджи-паша, уполномоченный выразить неудовольствия его султанского величества, последовал за Петром Великим из Астрахани в Москву. Его приняли приветливо, но забавляли извинениями в роде того, что никак не думали, что Порта интересуется Миривейсом или ханом Дагестанским, что честь не позволяет отказаться от сделанных уже завоеваний, и что этими завоеваниями и ограничатся. Видя наконец в самом деле, что император 25 февраля оставил Москву и возвратился в Петербург, турок был некоторое время в полном убеждении, что русские не думают более о новых завоеваниях в Азии; но так как ему пришлось остаться в Москве до апреля в ожидании возвращения курьера, отправленного Кампредоном к де Бонаку, французскому посланнику в Константинополе, то от него не легко было скрыть приготовлений к такой же компании, как и предшествовавшая. Донесения его об них сильно встревожили султана. Области, как покоренные русским императором, так и те, на которые он, по общественному мнению, простирал еще свои виды, составляли некогда владения, отторгнутые от турецкой империи. Миривейс, как правоверный, обязывался возвратить их Порте, если она не откажет ему в своей дружбе; и она готова уже была заключить с ним союз и поднять знамя войны против России; но предложение Петра Великого войти в соглашение с нею при посредничестве французского посланника, успокоило ее. Франции хотелось предупредить разрыв между Россиею и Портою, потому что в Вене поговаривали о соединении с петербургским двором против общего врага христианства, и по слабости турецкого правительства, могли быть сделаны приобретения от Турции, которые в делах Европы, дали бы перевес Австрийскому дому. Г. де Бонак приступил к переговорам. Он объявляет известия о неприязненных действиях России ложными слухами, потом удивляется, когда они оказываются верными, посылает по этому случаю жалобы в Петербург и ждет на них ответа, а между тем войска завоевателя выигрывают время и подвигаются вперед, покоряют Гилян, а наконец 28-го июля берут Баку, город в высшей степени важный по своему порту на Каспийском море и по нахождению в его окрестностях петролея[86], много лучшего в сравнении с тем, который добывается в Италии. Это драгоценное масло вытекает там из скал с шумом, подобным тому, какой бывает от кипящей воды, и сбыт его производится на значительные суммы. Взятие этого города было конечной целью Петра Великого. Он приказал продолжать военные действия только для того, чтоб не подать повода думать, будто он покидает Софи, стесненное положение которого было выставлено им, как повод к войне.
Бестужеву и Бассевичу было гораздо труднее справляться с шведским сеймом, чем маркизу де Бонаку забавлять диван. Согласие на признание за герцогом Голштинским титула королевского высочества последовало через шесть недель после аудиенции его посланника у короля, и лишь тогда шведский посланник в Петербурге сделал свой первый, очень почтительный визит герцогу, которого до того времени не решался посещать. Чтоб еще более придать веса помощи России, оказываемой этому принцу в его притязаниях на наследование престола, граф Бассевич настаивал, чтоб император обручил с ним царевну Анну Петровну. Монарх отвечал: что по законам шведским предполагаемый наследник престола не может вступить в брак иначе, как с согласия сословий, что следовательно нужно получить его, и что если царевна не покажет расположения к герцогу, то он, как нежный отец, никогда не потребует от неё повиновения, не будучи наперед уверенным, что она захочет удовлетвориться славою, в ущерб сердечной склонности.
Такие слова, казалось, предавали судьбу Карла Фридриха на произвол его врагов. Министр опасался, что император, под нерасположением дочери, скрывал свое собственное. Ему хотя и нравился живой и образованный ум герцога, но тем не менее он порицал в нём недостаток деятельности, проистекавший от деликатности его организма, слишком изнеженного в детстве попечениями королевы, его бабки, и природную наклонность к покою и забавам. Впрочем не за этим останавливалось дело, а скорее за тем, что тут вмешались происки Кампредона, который сильно противодействовал ему, как из боязни французского двора увидеть соединение корон шведской и русской в лице одного государя, так и из особенной преданности, которую он, Кампредон, питал к особе короля Фридриха I[87]. Император считал Кампредона нужным человеком, чтоб еще более привлечь на свою сторону Бонака, а Бонак ему нужен был, чтоб избавиться от турок. Герцогу поэтому приходилось ждать. От него и от его министра, разумеется, тщательно всё это скрывали. Кампредон был очень проницателен: их спокойствие возбудило бы в нём подозрения, и наоборот их беспокойство и волнение успокаивали его. Граф Бассевич, твердый в преследовании своей цели, решается действовать не прямо: он поверяет за тайну людям наиболее способным разгласить ее, что брак его государя, давно уже решенный, замедляется только потому, что он не хочет во время такого кризиса, как сейм, трогать предубеждения нации против принцессы, воспитанной в деспотической среде; но что дело приближается к концу и повлечет за собою неприятные для шведов последствия, если только они не изъявят согласия на этот брак и тем не польстят императору, который, приняв это за знак уважения к своему дому и расположения к своему нареченному зятю, поверит их чувствам и переменит намерение, для выполнения которого вооружил свой флот. Известие это шло от человека, который, хотя и пламенно желал короны для своего государя, но в то же время как бы ужасался деспотизма, противного правам и привилегиям шведской нации. В это самое время русский флот, состоявший из 24 военных кораблей и 5 фрегатов, появился в 12 милях от Стокгольма. Петр Великий сам находился на нём, сопровождаемый герцогом Голштинским, который настоятельно наказывал своему министру не щадить ни трудов, ни денег для обеспечения ему неопровержимого права на наследование престола. Скоро он получил от него известие, что партия его королевского высочества приобрела такую силу, что если б он был в Швеции, то она теперь же была бы в состоянии вручить ему скипетр его предков. Но увлекаемый великодушием, которому история представляет мало примеров, герцог, не сказав ничего императору, отвечал в ту же минуту: «что подобная революция довершила бы разорение его отечества, без того уже опустошенного столькими войнами; что лучше он согласится никогда не царствовать, чем такою ценою купить корону; что он довольствуется правом на наследство и запрещает превышать данные от него инструкции». Он прибавил приказание сжечь это письмо, не показывая его никому, потому что неблагодарные шведы, узнавши слабость к ним герцога, пожалуй употребили бы ее во зло.
Несмотря на такое запрещение, граф Бассевич отправился с этим письмом к гордому Арведу Горну. «Узнайте, граф, — сказал он ему, — принца, которого вы бесславите и преследуете. Осмелитесь ли вы доводить его до крайности?» Он дал ему прочитать письмо, потом поднес его к зажженной свече и сжег. Тронутый Арвед Горн обещал всё и многое исполнил. Но прежде посмотрим, что делал император на своем флоте, который не много спустя возвратился в С.-Петербург, где ожидали посланника от Софи.
Флот этот сдерживал как Данию, так и Швецию. Копенгагенский двор ожидал высадки для завоевания Шлезвига. Но осторожный император был далек от этого. Он прежде всего хотел обеспечить право на шведский престол за своим будущим зятем, а Шлезвиг оставлял как легкое приобретение, когда он утвердится на престоле, и как орудие для понуждения Дании содействовать герцогу к вступлению на престол за уступку ей наследственных его земель.
За несколько дней до выхода в море, государь послал генерала Бонна к герцогу Мекленбургскому с приглашением приехать к его двору для свидания с герцогиней, его супругой, находившейся там уже около года. Принц этот, лишенный права управлять своими владениями, вел уединенную жизнь в Данциге, отыскивая философский камень. Охранители Нижне-Саксонского округа управляли его провинциями и содержали там войска, нанятые на его счет, между тем как его собственные, которых он не хотел распустить, жили трудами рук своих в Украйне, где русское правительство дало им убежище, под громким именем квартир. Населяющих эту страну казаков никак не могли подчинить игу налогов: они обязаны были только выступать в поход, когда была война. Чтоб извлечь из них какую-нибудь пользу в мирное время, император разместил у них свою кавалерию, которая ремонтировалась там на их счет; но они вовсе не считали себя обязанными распространять этой льготы на иностранцев. Петр Великий готовил Карлу Леопольду[88] кроме примирения с его владениями и римским императором, вознаграждение из владений курфюрста Ганноверского, которое было бы никак не менее княжества Лауенбургского, на которое Мекленбургский дом предъявлял свои права. Но надменный герцог, нарушивший привилегии своих вассалов и действовавший наперекор Карлу VI (императору), не захотел ничем быть обязанным Петру Великому. Он не удостоил даже показать чем-нибудь признательность за приличное содержание, которым пользовались его супруга и дочь при дворе монарха. Это, впрочем, был последний шаг, сделанный государем к сближению с Карлом Леопольдом.
Так как давно замечали, что значительная примесь пресной воды в Кронслотском и Ревельском портах способствует порче судов, то император возымел намерение соорудить новый порт в Рогервике, в 7-ми милях ниже Ревеля. Море образует в этом месте большой бассейн овальной формы, окруженный отвесными скалами, где может помещаться до тысячи больших кораблей и более, не принимавший в себя никаких других вод кроме своих, которыми он наполняется через широкое устье, глубиною в 18 першей[89]. Так как в этот бассейн не проходил лед ни из какой реки, то корабли могли выходить гораздо раньше и возвращаться позднее, чем в другой какой нибудь порт на этом берегу. Вход в него должен был заграждаться длинным молом с закрытою дорогою наверху и многими батареями, уставленными пушками большего калибра; в средине выдавался большой бастион, и недалеко от него по левую сторону находилось отверстие между двумя крепостцами для прохода одного только корабля, что обеспечивало порт от внезапного нападения неприятеля. Соседние скалы облегчали устройство мола, хотя оно было очень трудно по причине значительной глубины в этом месте. Уже 130 тысяч туазов плит, наломанных из этих скал, окружали берег, когда император приказал своему флоту бросить здесь якорь. Он вышел на берег с герцогом Голштинским, со свитами своей и герцогской и с флотскими офицерами, велел самому старому священнику совершить молебствие и, сопровождаемый всеми, при громе артиллерии, положил первое основание мола. Надзор за работами поручен был полковнику Любрасу. В последующие царствования работы эти то отлагались, то опять возобновлялись, так что не окончены и до сих пор[90].
По отплытии из Рогервика монарх употребил остальное время на маневры своих кораблей. Он сам командовал авангардом, адмирал Гордон — арьергардом, а великий адмирал Апраксин — центром. Постоянно заботясь о том, чтоб подать своим подданным пример полезной субординации по службе, он беспрестанно обращался за приказаниями к великому адмиралу и без его позволения не оставлял своего корабля. По возвращении флота в Кронслот, совершено было 12-го августа торжественное освящение парусного ботика, некогда прибывшего из Англии и при царе Алексее Михайловиче перевезенного из Архангельска в Москву. На нём государь впервые начал учиться мореплаванию. Ботик снаружи обили медью для предохранения дерева его от гниения, а маленькую мачту его украсили большим императорским флагом. Великий адмирал стоял у руля, адмиралы, вице и контр-адмиралы были гребцами. Таким образом маленькое судно обошло вокруг флота, для того, как, говорил император, чтоб добрый дедушка мог принять изъявление почтения от всех прекрасных внуков, обязанных ему своим существованием; и когда в этом обходе оно подымалось вверх по реке, монарх греб сам с помощью одного лишь князя Меншикова. Во многих записках того времени есть описание этого великолепного морского праздника, на котором одного пороха вышло с лишком на 12 000 руб. Празднество окончилось помещением ботика в гавани, в углу почетного места, назначенного для линейных кораблей; а шесть недель спустя, его вытащили на сушу и торжественно перенесли в крепость, где поставили на хранение, как государственную святыню.
Приверженцы короля в Стокгольме, избавившись от царского флота, ободрились и снова наполнили Сенат криками против акта о престолонаследовании, которого требовал племянник Карла XII. Мало-помалу они привлекли на свою сторону даже самых жарких сторонников этого принца, которые при всей готовности возвести его на трон, с которого милости прежде всего посыпались бы на них, колебались однако без пользы навлекать на себя ненависть короля, способного, судя по его здоровому сложению, пережить назначаемого наследника, человека слабого здоровьем. Не смотра однако ж на все эти затруднения, Бассевич, втайне поддерживаемый Арведом Горном, выхлопотал для своего государя пансион в 25 000 немецких талеров и пергаментный акт, подписанный королем и сословиями королевства, который гласил: что нация обязана самою почтительною преданностью потомку Густава и не имеет никакой причины в случае смерти короля обойти особу его королевского высочества, разве только он предпримет что-нибудь против короля, королевы или государства, чего никак ожидать нельзя. Но это еще не всё. Множество писем от знатных шведов прислано было к императору с уверениями, что для нации было бы очень лестно видеть возлюбленного принца, потомка её королей, в родственном союзе с царским домом; а Бестужев так часто слышал от людей сильных, что этот союз больше всего облегчил бы заключение трактата между двумя коронами, что не мог не донести об этом государю. Таким образом его величеству не оставалось уже никакого повода к отговоркам, и он предписал Бестужеву уверить, что одна из царевен назначена Карлу Фридриху, но что некоторые причины не позволяют еще сказать, которая именно. Он приказал также написать графу Бассевичу: что строитель здания должен присутствовать на празднестве его освящения, и что обручение будет совершено только по возвращении его и при нём, а между тем сам отдалял это возвращение, прося, чтоб граф Бассевич своим искусством и кредитом поддержал негоциацию Бестужева. Герцог не осмелился отказать в этом желании монарху, его единственной опоре, да и кроме того его собственные интересы требовали, чтоб дело его было в руках человека ему преданного. — Давно ожидаемый посланник Софи приехал наконец в Петербург 22-го августа, а 25-го принят был там на торжественной аудиенции. Это был Измаил-Бек. Говорили, что он происходил от царской крови и что в четвертый раз уже находился в посланниках, бывши до этого послан в Константинополь, Дели и Пекин. Императору и всему его двору он очень понравился. Шах Гуссейн, от которого дано ему было полномочие, умер во время его переезда из Тавриза в Петербург; шах Тамас, один из сыновей этого несчастного монарха, ускользнувший от жестокости Миривейса, нуждался в быстрой помощи. Измаил-Бек, чтоб ускорить ее, тотчас же предложил всё, на что инструкции позволяли ему согласиться, и союзный трактат был подписан 12-го сентября. Он уехал лишь через месяц, не потому чтобы ждал ратификации от своего молодого государя-изгнанника, — она не могла прийти так скоро, — а для того, чтоб сделать удовольствие императору, который любил с ним разговаривать и заставлял его любоваться своим флотом и удивляться всем успехам своего царствования. Он часто видел императрицу, но тем не менее показал на столько знания света, что просил, чтоб она удостоила его публичной аудиенции прежде его отъезда. За исключением лишь того, что аудиенция эта была дана не в зале Сената, в ней соблюден был тот же этикет, как и у императора. Без ловкости, с какою Измаил-Бек приобрел доверие Петра Великого и возбудил участие к шаху Тамасу, случай, что у него были верительные письма от государя умершего, и известие, полученное вскоре после его приезда, что выгоды, которые составляли цель этой войны, получены со взятием Баку, — прервали бы переговоры о трактате, которые и без того не замедлили возбудить подозрительность Порты. Но Персиянин умел преодолеть эти препятствия и оказал бы значительную услугу Софи, если б только неосторожная молодость последнего сумела ею воспользоваться. Князь Мышецкий был назначен посланником ко двору хана Тамаса и отправился с послом Измаил-Беком в Тавриз (Исфагань была в руках мятежников.)
Получив известие, что турки собирают в окрестностях Азова 60 тысячную армию, император принял все меры на случай упорной войны с ними. Более 20-ти тысяч человек было отряжено для исправления флота в Воронеже[91] на Танаисе; тысяч русских ждали на Украйне приказания двинуться к Черному морю для покорения вновь Азова, и наконец назначены были пункты соединения полкам, стоявшим в отдаленных провинциях, чтоб в случае нужды формировать из них корпуса. Переговоры о дружелюбном соглашении тем не менее продолжались, и г. де-Бонак без устали трудился над ними.
Казаки сочли этот момент удобным для ходатайства о восстановлении старинных их привилегий, в особенности права свободного избрания себе гетмана. Депутаты их, уверенные, что обстоятельства заставят согласиться на это ходатайство, предъявили его с надменностью. Петр Великий отвечал им: «Неудачно вы выбрали время для испрашивания милостей, когда я в дурном расположении духа. Я буду по-прежнему назначать вам гетманов, но нахожу справедливым избирать их только из вашей среды; а чтоб проучить дерзких, осмелившихся усугублять затруднения своего государя, объявляю вам тюрьму, где вы будете содержаться до заключения мира с турками, после которого будут рассмотрены ваши поступки». По выходе с аудиенции, они действительно были отведены в крепость, в которой оставались до назначенного срока. После того они сосланы были на галеры, потому что соотечественники их отказались от соучастия с ними, видя, что всё покорялось императору, и страшась его гнева[92].
Царица Прасковья Федоровна Салтыкова, вдова Иоанна, скончалась 13-го октября этого года. Чувствуя приближение смерти, она велела просить к себе императрицу, которую умоляла быть её дочерям вместо матери. Это была единственная особа, которой император, чрезвычайно уважавший ее, дозволил сохранить старинное русское одеяние. Она всегда следовала за двором и являлась на всех праздниках. Не смотря на слабоумие своего супруга, она питала к его памяти постоянную нежность и просила покрыть себе лицо его портретом, когда будет в гробу, что и было исполнено. Император на целые шесть часов заперся с кабинет-секретарем Макаровым, чтобы составить церемониал для её погребения. Погребальная процессия была очень великолепна, но при том не было ни одного пушечного выстрела, ни русского флага и никакого другого знака её сана, кроме старинной царской короны. Это сделано было для того, как полагали, чтоб показать, насколько некоронованная царица была ниже той, которая готовилась к помазанию, и насколько род Иоанна был отдален от престола[93].
Брак генерал-прокурора Ягужинского с дочерью великого канцлера графа Головкина, совершенный несколько дней после этой печальной церемонии, был замечателен тем участием, которое принимал в нём император. Первая супруга Ягужинского, страдавшая ипохондрией и имевшая странный характер, ежечасно истощала его терпение; несмотря на это, он находил, что совесть не позволяет ему развестись с нею. Император, до которого дошли о том слухи, взял на себя труд объяснить ему, что Бог установил брак для облегчения человека в горестях и превратностях здешней жизни; что никакой союз в свете так не свят, как доброе супружество; что же касается до дурного, то оно прямо противно воле Божией, а потому столько же справедливо, сколько и полезно расторгнуть его; продолжать же его крайне опасно для спасения души, Пораженный силою этих доводов, Ягужинский согласился получить разрешение от своего государя на развод. Он настолько же был доволен своей второй супругой, насколько император своей, которой коронация, давно уже решенная, была обнародована по всей империи указом от 15-го ноября, исчислявшим все высокие заслуги императрицы, которые побудили её супруга оказать ей почесть, до тех пор в России невиданную.
Как ни велики были успехи, сделанные Россиею на пути просвещения и нравственного развития в царствование Петра Великого, но они не коснулись еще преобразования театра. В то время в Москве был театр, но варварский, какой только можно себе вообразить, и посещаемый поэтому только простым народом и вообще людьми низкого звания. Драму обыкновенно разделяли на двенадцать действий, которые еще подразделялись на столько же явлений (так на русском языке называются сцены), а в антрактах представляли шутовские интермедии, в которых не скупились на пощечины и палочные удары. Такая пьеса могла длиться в продолжение целой недели, так как в день разыгрывали не более третьей или четвертой её части. Принцесса Наталия, меньшая сестра императора, очень им любимая, сочинила, говорят, при конце своей жизни, две-три пьесы довольно хорошо обдуманные и не лишенные некоторых красот в подробностях; но за недостатком актеров они не были поставлены на сцену. Царь находил, что в большом городе зрелища полезны, и потому старался приохотить к ним свой двор. Когда приехала труппа немецких комедиантов, он велел выстроить для неё прекрасный и просторный театр со всеми удобствами для зрителей. Но она не стоила этих хлопот. Несмотря на пренебрежение, оказываемое теперь великосветскими людьми в Германии к своему языку, языку очень богатому и звучному, по крайней мере в такой же мере как и английский, театр в этой стране в последние года идет быстрыми шагами к совершенству; но в то время он был не более как сбор плоских фарсов, так что кое-какие наивные черты и острые сатирические намеки совершенно исчезали в бездне грубых выходок, чудовищных трагедий, нелепого смешения романических и изысканных чувств, высказываемых королями или рыцарями, и шутовских проделок какого-нибудь Jean-Potage, их наперсника. Император, вкус которого во всех искусствах, даже в тех, к которым у него вовсе не было расположения, отличался верностью и точностью, пообещал однажды награду комедиантам, если они сочинят пьесу, трогательную, без этой любви, всюду вклеиваемой, которая ему уже надоела, и веселый фарс без шутовства. Разумеется, они плохо выполнили эту задачу, но чтоб их поощрить, государь велел выдать им обещанную сумму.
Русский флот, по списку, представленному государю адмиралтейс-советом, в портах Балтийского моря, к концу 1723 г. состоял из сорока с лишком военных кораблей (из них три четверти было построено в Петербурге), из 20 фрегатов и 150 галер, 18 000 матросов и 2200 пушек. Большое количество судов всякого рода, также хорошо снаряженных, находилось в Воронеже. Регулярного войска насчитывали до 120 тысяч человек; но кавалерия не имела хороших лошадей и потому уступала пехоте. Этот недостаток вознаграждался множеством иррегулярных войск, состоявших из казаков, калмыков, татар, которые, большей частью, служили на коне. Арсеналы были снабжены огромным количеством запасов. Во время Северной войны тысячи больших бесполезных колоколов были перелиты в пушки. Рудники, незадолго до того открытые в Сибири, доставляли в изобилии превосходный металл для орудий. Олонец, построенный между двумя озерами — Ладожским и Онежским, известный своими минеральными водами, прославленными самим императором, который ежегодно пользовался ими, Олонец, говорю я, имел богатый чугунный родник и отличный оружейный завод; наконец воспользовались мерою, к которой прибег Шведский Сенат в минуту крайней нужды в деньгах, а именно продажею на вес множества признанных излишними пушек большего калибра. Император скупил их под рукой через комиссионеров, и хотя все большие пушки были испорчены, а самые лучшие даже распилены пополам, однако ж мастера его литейных заводов сумели так искусно их спаять и залить дыры и трещины, что из них можно было палить с успехом, и что даже наружная их красота была сохранена.
Между множеством предприятий, совершавшихся последовательно по воле русского героя, одно из самых близких его сердцу и самых необходимых для пользы его народов, по-видимому, не удавалось ему — именно введение основанного на непоколебимой честности управления юстициею и финансами. Напрасно он издавал указ за указом, чтоб поставить преграды обману, — обман не переставал гнездиться по-прежнему. Необходимость пресечь это зло, заставила государя ознаменовать первый месяц 1724 года одним из тех кровавых примеров строгости, от которых он воздерживался в продолжение нескольких лет, в надежде, что семена чести, которые он старался посеять во всех сословиях, принесут наконец счастливые плоды. Осьмнадцать преступников, почти все люди чиновные, немолодые и занимавшие значительные должности советников в разных приказах, были возведены на эшафот. Девять из них получили по 50 ударов кнутом, после чего им вырвали ноздри и объявили ссылку на галеры. Троим отрубили голову, одного колесовали. Этот последний был обер-фискал Несторов, некогда столь уважаемый императором, который часто отзывался об нём, как о самом умном и красноречивом из его старых московских служак, и при определении его в должность обер-фискала пожаловал ему несколько прекрасных поместий, дабы при богатстве он не имел повода и поползновения к воровству. Не смотря на то оказалось, что им похищено было до 300 000 рублей. Остальные пять виновных, которые по небрежению подписывали не читая ложные определения, наказаны были батогами и отправлены на галеры на шесть месяцев. Замечательно, что когда палачи раздели всех этих преступников, не нашлось ни одного из них, который не носил бы уже на своей спине знаков какого либо наказания[94]. Члены всех приказов, от президентов до писцов, обязаны были присутствовать при казни, чтоб научиться трепетать при одной мысли об обмане государя или о притеснении его невинных подданных, и новыми указами обновлено было впечатление прежних, относившихся до честности, требуемой от служащих государству.
Положение дел на востоке всё еще было двусмысленно. Султану и его дивану весьма нравилось мнение великого визиря, утверждавшего, что приверженец секты Али на персидском престоле гораздо менее опасен для высокой Порты, чем такой правоверный, как Миривейс, и что как земле нужно одно только солнце, так и правоверным мусульманам нужен один покровитель, к которому обращались бы все их помыслы нераздельно. Но ни солдатство, ни народ ни знали такой политики; их даже не осмеливались и знакомить с нею. Возбужденные и против царя и против Софи еще более с тех пор как стал известен их союз, они только и думали о борьбе с христианами и о помощи единоверцу. Не раз великий визирь готов был уступить этому воинственному пылу, и маркизу де Бонаку[95] стоило неимоверного труда уговорить его быть твердым. Наконец им удалось склонить на свою сторону муфтия, который поспешил объявить, что алкоран запрещает нападать на тех, кто нас не обижает, и что ни царь, ни Софи и не думали оскорблять блистательной Порты. Тогда ропот тотчас прекратился. Чтоб занять войско, его послали в Персию для завоеваний, на которые сочинили себе право, и для усмирения самозванца, которого счастье сделало надменным и жестоким. Он хотел вступить в переговоры с начальником турецкой армии, но так как думал говорить при том тоном независимого властителя, то ему отвечали из Константинополя: что если он ратует только ради своего собственного возвеличения, то он проклятый мятежник; если же сражается за веру, то должен покориться монарху Оттоманов, восседающему на престоле великого пророка и законному главе всех правоверных. Такой ответ не понравился Миривейсу, а потому он уклонился от объяснений и продолжал утверждать свое владычество. Маркиз де Бонак отправил своего племянника д’Аллиона для уведомления Петра Великого о благоприятном обороте, который принимали дела. Д’Аллион застал его развлекающимся от забот, причиненных ему враждою янычар и продажностью русских судей, — забавною процессиею карликов, устроенною по случаю похорон того из них, на свадьбу которого он велел собрать в провинциях в 1710 г. сорок карликов и столько же карлиц, в качестве приглашенных на празднество. В этот раз их было не меньше, и для комической противоположности человек двадцать солдат-преображенцев самого высокого роста, со свечами в руках, шли один за другим по сторонам процессии, а четыре гайдука-гиганта были ассистентами двух маленьких плакальщиц, следовавших за погребальной колесницей, которую везли восемь крошечных лошадок. Д’Аллиону был сделан самый почетный прием. Всё готовилось уже 18-го февраля к отъезду в Москву и к торжественному коронованию Екатерины. Он также отправился в Москву, но церемонии не видал, потому что принужден был 8-го апреля возвратиться в Константинополь. Впрочем ему показали императорскую корону, только что оконченное произведение русского ювелира; но он тем не менее дивился как красоте работы, так и богатству камней, из коих некоторые выше всякой цены.
1724. Если д’Аллион утешил императора надеждой на выгодный мир с турками, для заключения которого он снабжен был от его величества инструкциями, то гг. Бестужев и Бассевич обрадовали его не менее заключением трактата о союзе с Швецией, подписанного министрами этой державы и русскими 22-го февраля. В него включили следующую секретную статью о герцоге Голштинском: «Его королевское высочество, владетельный герцог Голштинский, видя себя уже столько лет лишенным своего герцогства Шлезвигского, с присоединенными к нему землями (cum annexis), и их величества император Российский, и король Шведский, почитая для себя очень важным, чтоб принцу, столь близкому им обоим, было возвращено ему принадлежащее и тем самым восстановлено внутреннее спокойствие Севера, обязуются всеми мерами предстательствовать по этому делу при дворе датском и других; в случае же, если их старания и представления не будут иметь желаемого успеха, то они решат между собою и с заинтересованными державами, в особенности с его величеством императором Римским, каким образом дело это может быть приведено к окончанию согласно с обстоятельствами».
Король Шведский, умевший сообразоваться с требованиями минуты, простер свое притворство до того, что послал собственноручное поздравление герцогу с титулом, пенсионом и другими выгодами, дарованными ему сеймом королевства незадолго до его распущения. Присутствие графа Бассевича тяготило его. Чтоб отнять у него всякий повод к новым ходатайствам, которые могли бы еще задержать его в Швеции, он приказал учредить требуемую комиссию для рассмотрения дела об имениях покойной королевы и о доле их, следовавшей герцогу, как её наследнику. Таким образом министр уехал, и даже с поспешностью, потому что герцог хотел иметь его при себе, чтоб успешнее добиться наконец давно желаемой руки царевны. «Вы рождены, писал он ему, под влиянием звезды более счастливой, чем моя, и меня бесит то, что я не могу иметь славы пропеть «совершилось» (consummatum est) без вашей помощи». Впрочем Бассевич, по причине льдов, не мог приехать вовремя, чтоб присутствовать при короновании и был вынужден ожидать в Петербурге возвращения двора и сопровождавшего его герцога.
Кроме детей покойного царевича Алексея, всё семейство и все родственники Петра Великого последовали за ним в Москву, даже герцогиня Курляндская, нарочно вызванная из Митавы. Император имел обыкновение посещать значительных негоциантов и известных артистов и часто проводить с ними часа по два; так и накануне коронации он зашел с несколькими сопровождавшими его сенаторами к одному английскому купцу, где нашел многих знатных духовных особ, между прочим духовника своего, архиепископа Новгородского[96] и ученого и красноречивого архиепископа Феофана Псковского. Великий канцлер также пришел туда. Среди угощений хозяина разговор оживился, и император сказал обществу: что назначенная на следующий день церемония гораздо важнее, нежели думают; что он коронует Екатерину для того, чтоб дать ей право на управление государством; что спасши империю, едва не сделавшуюся добычею турок на берегах Прута, она достойна царствовать в ней после его кончины; что она поддержит его учреждения и сделает монархию счастливою. Ясно было, что он говорил всё это для того, чтоб видеть, какое впечатление произведут его слова. Но все присутствовавшие так держали себя, что он остался в убеждении, что никто не порицает его намерения. Он назвал себя капитаном новой роты кавалергардов императрицы Екатерины, состоявшей из 60-ти человек, которые все были армейскими капитанами или поручиками, а генерал-лейтенанту и генерал-прокурору Ягужинскому (пожаловав ему перед тем орден св. Андрея) поручил командование этой ротой в качестве её капитан-лейтенанта. Кавалергарды эти открывали и заключали шествие, когда Екатерина, ведомая герцогом Голштинским и предшествуемая своим супругом, по сторонам которого находились фельдмаршалы князья Меншиков и Репнин, явилась с своею великолепною свитою в церкви, где назначено было её коронование. Слезы потекли у неё из глаз, когда Петр Великий возложил на нее корону; принимая правою рукою державу, она левой сделала движение, чтоб обнять и поцеловать его колена. В продолжение всей церемонии он держал в руке скипетр, но так как потом он не следовал за нею в обе церкви[97], где она должна была, облеченная в императорскую порфиру, прикладываться к иконам, то велел скипетр и державу нести перед нею. Этикет этого дня обязывал их сидеть за торжественным обедом одних, даже без своего семейства. Император, сказав, что хочет взглянуть на толкотню народа, для которого выставлены были вино и жаренные быки, начиненные разной птицей, подошел к окну. Приближенные его, сидевшие за другими столами, расставленными в зале, спешили присоединиться к нему, и он разговаривал с ними в продолжение получаса; когда же ему доложили, что подана новая перемена, он сказал им: «ступайте, садитесь и смейтесь над вашими государями. Только коварством придворных могло быть внушено государям суетным и неразумным, что величие состоит в лишении себя удовольствия общества и в выставке своих особ, как марионеток, на потеху другим».
На другой день Екатерина на трон принимала поздравления. Император также поздравил ее вместе с другими, как адмирал и генерал, и по его желанию она пожаловала графское достоинство тайному советнику Толстому[98]. Множеством значительных повышений ознаменовалось это высокое торжество, которое заключилось прекраснейшим фейерверком, какого еще не видали в Москве, хотя при всяком празднестве император устраивал великолепные огненные потехи и употреблял на это огромные суммы. Изображение ленты и девиза ордена св. Екатерины составляло одну из главных частей в этом фейерверке. Авторы «Истории Петра Великого», «Преображенной России» и барон Нестесураной утверждают, что лента этого ордена белая и что он жалуется придворным дамам, тогда как она пунцовая с серебреными каймами, и за исключением княгини Сапеги, племянницы императрицы, ни на кого не возлагалась кроме супруг царствующих особ; что же касается до царских принцесс, то им орден этот принадлежит по праву рождения. Об этой ошибке не стоило бы распространяться, если б она не служила доказательством того, что названные авторы не всегда говорят как очевидцы или ссылаются на показания людей, посещавших двор.
Князь Репнин назначен был вместо князя Меншикова председателем военного совета (conseil de guerre)[99], потому что император заставил последнего отказаться от этой должности, чтоб пресечь ему путь к взяточничеству. Порученное ему после того управление крепостными работами в Кронштадте не представляло подобного искушения, и действия его были более на глазах государя. Впрочем всё это сделано было с сохранением уважения к его личным заслугам. Военная коллегия, в полном своем составе, явилась благодарить князя за милости, которыми пользовалась в его управление. Через год эта же самая коллегия осмелилась назначить Ингерманландскому полку другого шефа; но император утвердил князя, прирожденного полковника этого полка по титулу герцога Ингрийского, и даже дал ему право производить в нём в офицеры и делать повышения в чинах по своему усмотрению. Да и управление работами в Кронштате было не маловажною должностью: Петр Великий предполагал произвести этими работами нечто необычайное.
Город этот, прежде называвшийся Котлином, как и самый остров, на котором он стоит, уже шесть месяцев носил свое новое имя[100], которое было ему дано, когда в нём возвели длинный ряд бастионов[101], долженствовавший идти по всему берегу острова, прикрывать город и порт со стороны Карелии и окружать новый канал, прорытый от этого порта до Невы, для прямого сообщения Кронштадта с Петербургом. С одной стороны этого канала несколько небольших верфей для починки судов было оставлено в прежнем виде. Корабли могли в них плавать свободно и при помощи шлюзов скоро оставались на суше, а потом, по окончании починок, снова таким же способом спускались на воду. Там, где канал этот входит в гавань, предполагалось устройство с одного берега на другой такой арки, чрез которую мог бы проходить самый большой военный корабль, идущий на всех парусах, и которая поддерживала бы маяк, настолько высокий, чтоб огни его видны были на другом берегу Финского залива, и с пирамидальною вершиною, украшенною императорской короной, как указанием на название города. За исключением материала, который должен был состоять из тесаного камня, Кронштадт соединял бы в себе всё, чему дивились в древности на Родосе и Фаросе. Но Петр Великий не дожил до перехода этой мысли из области предположений в область действительности.
Император отменил постановление, много лет остававшееся в силе, которым запрещалось вельможам строить в Москве новые дворцы[102]. Несмотря на то он, казалось, выехал из этой столицы с намерением долго туда не возвращаться, потому что приказал всем знатным лицам, не состоявшим в Москве на службе, даже дамам и девицам, которые там поселились, следовать за двором в С.-Петербург. Московскому коменданту предписано было принуждать их к выезду из этого города, что он и исполнял во всей точности, — Г. де Бисси, секретарь посольства при маркизе де Бонаке, привез из Константинополя в Петербург мирный договор между Россиею и Портой, заключенный стараниями этого министра. Обе державы обеспечивали себе взаимные выгоды в ущерб Персии, и кроме того постановляли особою секретною статьею лишить Софи короны, если он вздумает противиться их мерам, и возложить ее на главу более покорную. Последнее соглашение, столь противное договору, заключенному с Измаил-Беком, император решился принять вследствие донесения князя Мышецкого, посланника его в Тавризе. Он извещал, что шах Тамас отказался от ратификации союзного трактата и объявил, что скорее предоставит участь свою Провидению и храбрости своей армии, чем согласится на принятие помощи царя, столь дорого им продаваемой. Генерал Румянцев[103] был назначен Российским послом при султане. Он привез орден св. Андрея и великолепные подарки маркизу де-Бонаку, который усердно и с успехом продолжал стараться об устранении несогласий, возникших впоследствии между обоими дворами, по поводу разграничения завоеваний в Персии.
В начале 1722 г. император поручил одному искусному московскому золотых дел мастеру изготовить 40 орденских крестов. Он имел в виду учредить орден в честь св. Александра, который за славную победу, одержанную на берегах Невы над татарами[104] был некогда наименован Невским. Этой победой он освободил Московское государство от постыдной дани, которую оно платило этим варварам и утвердил там христианскую религию. В продолжении шести веков тело его покоилось во Владимире, главном городе провинции того же имени, который принадлежал к числу древних городов, носивших название царских резиденций[105]. После воинственной и славной жизни, он окончил дни свои в одном из монастырей. Император основал монастырь на самом месте славного сражения, и так как он был уже почти окончен, то приказал перенести туда мощи святого. Во всех местах, где их провозили в сопровождении тысяч попов, монахов и богомольцев, им отдавались великие почести. Из Петербурга до нового монастыря (который находится от него в одной миле) останки святого плыли по той самой реке, над которой когда-то развевалось знамя, водруженное на его предводительской ладье. Гроб его, серебряный, вызолоченный, поставленный на высокой эстраде и под богатым балдахином, удовлетворял взорам народа, толпившегося по берегам реки. Императорская фамилия и все знатные особы, находившиеся в Петербурге, следовали позади на флотилии богато украшенных барок и шлюпок. Духовенство, в великолепных облачениях, встретило святого на берегу, и так как церковь не была еще совершенно отстроена, то офицеры, которые несли гроб, поставили его в часовне. Этою почестью, оказанною памяти святого, служившего так достойно Богу и отечеству, император очистил себя от подозрения в намерении уничтожить совершенно поклонение, воздаваемое греческою церковью своим патронам на небе, и Невский монастырь сделался удобным местом богомолья для императорской фамилии. Учреждение ордена св. Александра однако ж покамест не было приведено в исполнение и состоялось только в царствование Екатерины, при бракосочетании принцессы Анны. Она пожаловала его тогда всем наличным андреевским кавалерам, даже герцогу Голштинскому, желая показать, что этот новый орден будет служить ступенью для достижения другого (т. е. андреевского.) И до сих пор им жалуют только генерал-лейтенантов или имеющих соответствующий им чин.
Причины, заставлявшие ласкать Кампредона, утратили свое значение, когда заключен был мир и установились непосредственные сношения С.-Петербургского двора с маркизом де Бонаком. Герцог поэтому был близок к чести — назваться зятем Петра Великого. Но Кампредон не истощил еще всех стараний, направленных против этого брака, ненавистного для короля Шведского и неприятного для Франции. Он успел возбудить в императоре надежду сочетать одну из его дочерей славным браком, который Небо назначало в удел принцессе Лещинской[106], и потому с умыслом говорил то об Анне, то об Елизавете, чтоб ни та, ни другая не досталась Карлу Фридриху, который в свою очередь не спешил браком, в надежде, что император, по пристрастию своему к принцессе Анне предоставит ей столь выгодный союз, и что в таком случае, ему, герцогу, останется Елизавета, к которой он чувствовал более расположения. Высокие качества этой принцессы и её героическая неустрашимость, возведшая ее на престол, на котором она сияет, достаточно известны, а потому да будет мне позволено изобразить здесь сестру её, слишком рано похищенную смертью.
Анна Петровна походила лицом и характером на своего августейшего родителя, но природа и воспитание всё смягчили в ней. Рост её, более пяти футов, не казался слишком высоким при необыкновенно развитых формах и при пропорциональности во всех частях тела, доходившей до совершенства. Ничто не могло быть величественнее её осанки и физиономии; ничто правильнее очертаний её лица, и при этом взгляд и улыбка её были грациозны и нежны. Она имела черные волосы и брови, цвет лица ослепительной белизны и румянец свежий и нежный, какого никогда не может достигнуть никакая искусственность; глаза её были неопределенного цвета и отличались необыкновенным блеском. Одним словом, самая строгая взыскательность ни в чём не могла бы открыть в ней какого либо недостатка. Ко всему этому присоединялись проницательный ум, неподдельная простота и добродушие; щедрость, снисходительность, отличное образование и превосходное знание языков отечественного, французского, немецкого, итальянского и шведского. С детства отличалась она неустрашимостью, предвещавшею в ней героиню; а что касается до её находчивости, то вот тому пример.
Один молодой граф Апраксин осмелился открыться ей в любви, на которую она отвечала презрением. В отчаянии, он выждал минуту, когда ему удалось увидеть ее одну, и бросился к её ногам, подавая ей свою шпагу и умоляя ее прекратить его страдания вместе с жизнью. «Давайте, — сказала она с гордым и холодным видом, — я вам покажу, что дочь вашего государя не имеет недостатка ни в силе, ни в мужестве, чтоб заколоть дерзкого, который ее оскорбляет». Молодой человек, боясь, чтоб она в самом деле не оправдала своих слов, не отдал шпаги и стал умолять ее простить ему безумие, до которого он был доведем её красотою. Она отплатила ему только тем, что выставляла его в смешном виде, рассказывая об этом происшествии.
В руки этой-го принцессы желал Петр Великий передать скипетр после себя и супруги своей. В таких видах самым удобным для неё браком казался ему брак с Карлом Фридрихом, и так как Кампредон делал только неопределенные предложения, которым нельзя было долее жертвовать поддержкою, необходимою для приверженцев герцога в Швеции, то обручение совершилось наконец 24-го ноября 1724 в день тезоименитства императрицы. Графу Бассевичу, назначенному первым министром своего государя, торжественно обещано было, что в имеющий скоро наступить день высокого бракосочетания, он будет пожалован орденом св. Андрея из рук самого монарха. французскому же министру передали, что если король, его государь, имеет намерение вступить в родственный союз с Российским императорским домом, то брак с Елизаветою, которая моложе и живее своей сестры, может быть для него более желательным. Возможность возведения на французский престол принцессы Елизаветы не прекращалась и по кончине императора, до того самого времени, когда король Станислав объявил об предложении, сделанном принцессе, его дочери.
За две недели до того дня, когда решилась наконец участь герцога, ему пришлось испытать чувствительный удар. Он тесно сблизился с первым камергером императрицы, Монсом, братом г-жи Балк, вдовы генерала, любимицы Екатерины и её первой статс-дамы. Эти два лица были верными посредниками в сношениях между государынею и её будущим зятем, который всегда прибегал к ней, когда нуждался в поддержании своих видов, или в получении чего нибудь нужного в его положении. Завистники очернили в глазах императора эти отношения к императрице г-жи Балк и её брага. Однажды вечером, совершенно для них неожиданно, они были арестованы и, по опечатании их бумаг, преданы уголовному суду, как виновные в обогащении себя чрез злоупотребление доверием императрицы, доходами которой они управляли. Следствие и суд продолжались только восемь дней. Некоторые из служителей императрицы были замешаны в дело, и Монсу наконец отрубили голову. Сестра его, приговоренная к 11-ти ударам кнутом, получила пять (остальные были даны на воздух) и потом сослана в Сибирь. Два сына этой дамы, один камергер, другой паж, были разжалованы и отосланы в армию, находившуюся в Персии; один секретарь и несколько лакеев отправлены на галеры в Рогервик. Екатерина всячески старалась смягчить гнев своего супруга, но напрасно. Рассказывают, что неотступные её просьбы о пощаде по крайней мере её любимицы вывели из терпения императора, который, находясь в это время с нею у окна из венецианских стекол, сказал ей: «Видишь ли ты это стекло, которое прежде было ничтожным материалом, а теперь, облагороженное огнём, стало украшением дворца? Достаточно одного удара моей руки, чтоб обратить его в прежнее ничтожество». И с этими словами он разбил его. «Но неужели разрушение это, — сказала она ему со вздохом, — есть подвиг, достойный вас, и стал ли от этого дворец ваш красивее?» Император обнял ее и удалился. Вечером он прислал ей протокол о допросе преступников, а на другой день, катаясь с нею в фаэтоне, проехал очень близко от столба, к которому пригвождена была голова Монса. Она обратила на него свой взор без смущения и сказала: «Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности». Впрочем она вероятию не совсем убедилась в виновности по крайней мере г-жи Балк, потому что, после смерти императора, возвратила ее из ссылки и восстановила во всех прежних должностях. Приговор, осудивший эту фаворитку и её брата, исчислял малейшие подарки, полученные ими от лиц, обращавшихся к их содействию и помощи[107], умолчав только о герцоге Голштинском, чтоб не увеличивать еще более его горести. — Здоровье Петра Великого, давно шаткое, окончательно расстроилось со времени возвращения его из Москвы; но он нисколько не хотел беречь себя. Деятельность его не знала покоя и презирала всевозможные непогоды, а жертвы Венере и Вакху истощали его силы и развивали в нём каменную болезнь. Чувствуя упадок сил и не вполне уверенный, что после его смерти воля его и коронование Екатерины будут на столько уважены, что скипетр перейдет в руки иностранки, стоящей посреди стольких особ царской крови, он начал посвящать принцессу Анну и герцога, тотчас после их обручения, во все подробности управления государством и системы, которой держался во всё свое царствование. Но не довольствуясь приготовлением любимой дочери к мудрому управлению государством после смерти матери, монарх, одушевленный заботами об общественном благе и о прочности своей реформы, не оставлял без внимания и случайностей, для него ненавистных. Делая всё для удаления от престола сына непокорного и несчастного Алексея, он в то же время воспитывал его так, чтоб тот мог быть достойным короны, если б по какому либо случаю она досталась ему в удел. Уже более двух лет для развития в нём вкуса к военному делу, рота из 40 гренадер, отроков из дворянских фамилий, занимала караулы в его покоях и вместе с ним упражнялась в военных экзерцициях. Екатерина, всегда понимавшая высокие цели своего супруга и даже умевшая превзойти его в великодушии, оказывала молодому принцу, мать которого когда-то нежно любила, самое тщательное внимание. День его рождения приходился как раз в то время, когда император праздновал взятие Шлиссельбурга, и всегда в самых стенах этой важной крепости. Монарх имел обыкновение проводить там несколько дней, а императрица, которая никогда не участвовала в этой поездке, праздновала между тем с пышностью день, когда родился соперник её дочерям в наследовании престола. В свое царствование она удвоила попечения о воспитании царевича и сестры его, царевны Наталии Алексеевны[108].
1725. Очень скоро после праздника св. Крещения 1725 г., император почувствовал припадки болезни, окончившейся его смертью. Все были очень далеки от мысли считать ее смертельною, но заблуждение это не продолжалось и восьми дней. Тогда он приобщился св. Тайн по обряду, предписываемому для больных греческою церковью. Вскоре, от жгучей боли, крики и стоны его раздались по всему дворцу, и он не был уже в состоянии думать с полным сознанием о распоряжениях, которых требовала его близкая кончина. Страшный жар держал его почти в постоянном бреду. Наконец в одну из тех минут, когда смерть, перед окончательным ударом, дает обыкновенно вздохнуть несколько своей жертве, император пришел в себя и выразил желание писать; но его отяжелевшая рука чертила буквы, которых невозможно было разобрать, и после его смерти из написанного им удалось прочесть только первые слова: «Отдайте всё….» (rendez tout à….). Он сам заметил, что пишет неясно, и потому закричал, чтоб позвали к нему принцессу Анну, которой хотел диктовать. За ней бегут; она спешит идти, но когда является к его постели, он лишился уже языка и сознания, которые более к нему не возвращались. В этом состоянии он прожил однако ж еще 36 часов.
Удрученная горестью и забывая всё на свете, императрица не оставляла его изголовья три ночи сряду. Между тем, пока она утопала там в слезах, втайне составлялся заговор, имевший целью заключение её вместе с дочерьми в монастырь, возведение на престол великого князя Петра Алексеевича и восстановление старых порядков, отмененных императором, и всё еще дорогих не только простому народу, но и большей части вельмож.
Ждали только минуты, когда монарх испустит дух, чтоб приступить к делу. До тех же пор, пока оставался в нём еще признак жизни, никто не осмеливался начать что либо. Так сильны были уважение и страх, внушенные героем. В этот промежуток времени, Ягужинский, извещенный о заговоре и движимый, с одной стороны искреннею преданностью Екатерине (преданностью, которой тогдашние обстоятельства покамест не позволяли ему показать открыто), а с другой дружбою к графу Бассевичу, явился к последнему переодетый и сказал ему: «Спешите позаботиться о своей безопасности, если не хотите иметь чести завтра же красоваться на виселице рядом с его светлостью князем Меншиковым. Гибель императрицы и её семейства неизбежна, если в эту же ночь удар не будет отстранен». Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, он поспешно удалился. Граф Бассевич немедленно побежал передать это предостережение убитой горестью императрице. Наступила уже ночь. Государыня приказала ему посоветоваться с Меншиковым и обещала согласиться на всё, что они сочтут нужным сделать, присовокупив, что уверена в их благоразумии и преданности и что сама, убитая горем, ничего предпринять не в состоянии. Меншиков всю предшествовавшую ночь провел подле императора и потому спал глубоким сном, ничего не подозревая о готовившейся катастрофе. Бассевич разбудил его и сообщил ему об опасности, грозившей им и их покровительнице.
Два гениальные мужа, одушевленные сознанием всей важности обстоятельств, не замедлили порешить, что следовало сделать. Меншиков был шефом первого гвардейского полка, генерал Бутурлин[109] второго. Он (Меншиков) послал к старшим офицерам обоих полков и ко многим другим лицам, содействие которых было необходимо, приказание явиться без шума к её императорскому величеству и в тоже время распорядился, чтоб казна была отправлена в крепость, комендант которой был его креатурой. Между тем Бассевич отправился с донесением обо всём к императрице и постарался привлечь на её сторону Бутурлина, который по личной неприязни был против предводителей партии великого князя. Все приглашенные в точности исполнили полученное ими предписание. Извещенная об их прибытии, Екатерина, вместо того, чтоб спешить навстречу им и скипетру, продолжала без пользы обнимать своего умирающего супруга, который её уже не узнавал, и не могла от него оторваться. Граф Бассевич осмелился схватить ее за руку, чтоб ввести в кабинет, где Бутурлин и другие ждали её появления. «Присутствие ваше бесполезно здесь, государыня, — сказал он ей, — а там ничего не может быть сделано без вас. Герой короновал вас для того, чтоб вы могли царствовать, а не плакать, и если душа его еще остается в этом теле, которое ему уже не служит, то только для того, чтоб отойти с уверенностью, что вы умеете быть достойной своего супруга и без его поддержки.» — «Я покажу, что умею: и ему, и вам, и всему миру», сказала она, быстро делая над собой усилие и стараясь овладеть своими чувствами, на что способны только люди с сильным характером. Она величественно вошла в кабинет и отерла слезы, которые еще более трогали сердца всех, а за тем обратилась к присутствующим с краткою речью, где упомянула о правах, данных ей коронованием, о несчастьях, могущих обрушиться на монархию под управлением ребенка, и обещала, что не только не подумает лишить великого князя короны, но сохранит ее для него, как священный залог, который и возвратит ему, когда небу угодно будет соединить ее, государыню, с обожаемым супругом, ныне отходящим в вечность.
Обещания повышений и наград не были забыты, а для желавших воспользоваться ими тотчас же были приготовлены векселя, драгоценные вещи и деньги. Многие отказались, чтоб не сочли их усердие продажным; но архиепископ Новгородский не был в числе таких, и зато первый подал пример клятвенного обещания, которому все тут же последовали, — поддерживать права на престол коронованной супруги Петра Великого[110]. Архиепископа Псковского не было при этом. Его, как ревностного приверженца государыни, не было надобности подкупать, и она не хотела, чтоб он оставлял императора, которого напутствовал своими молитвами. Собрание разошлось, оставив других вельмож спокойно наслаждаться сном. Меншиков, Бассевич и кабинет-секретарь Макаров в присутствии императрицы после того с час совещались о том, что оставалось еще сделать, чтоб уничтожить все замыслы против её величества.
Князь полагал, что необходимо безотлагательно арестовать всех главных злоумышленников. Но Бассевич представлял, что такая мера может произвести смятение и что если противной партии удастся восторжествовать, то участь императрицы и её приверженцев будет тем плачевнее. По его мнению, следовало прибегнуть к хитрости и уклоняться от всякого предприятия, которое могло бы обнаружить всё дело перед глазами черни. Макаров был того же мнения, а императрица никогда не любила крутых мер; поэтому немедленно общими силами составлен был план для действия в решительную минуту, которая последует за смертью императора, и так как тут необходимо было содействие многих лиц, то каждый обязался дать надлежащее наставление тем, которые были ему наиболее преданы, или находились в его зависимости. Так прошло остальное время ночи.
Император скончался на руках своей супруги утром на другой день, 25-го января[111]. Сенаторы, генералы и бояре тотчас же собрались во дворец. Каждый из них, чтоб быть вовремя обо всём уведомленным, велел находиться в большой зале своему старшему адъютанту или чиновнику. В передней они увидели графа Бассевича. Большая часть из них смотрела на него, как на опального, и даже друг его Ягужинский не решался подойти к нему. Но он сам протеснился вперед, чтоб приблизиться к нему и сказал вполголоса: «Примите награду за предостережение, сделанное вами вчера вечером. Уведомляю вас, что казна, крепость, гвардия, синод и множество бояр находятся в распоряжении императрицы, и что даже здесь друзей её более, чем вы думаете; передайте это тем, в ком вы принимаете участие, и посоветуйте им сообразоваться с обстоятельствами, если они дорожат своими головами».
Ягужинский на замедлил сообщить о том своему тестю, великому канцлеру графу Головкину. Весть эта быстро распространилась между присутствовавшими. Когда Бассевич увидел, что она обежала почти всё собрание, он подошел и приложил голову к окну, что было условленным знаком, и вслед за тем раздался бой барабанов обоих гвардейских полков, окружавших дворец. «Что это значит? — вскричал князь Репнин[112]; — кто осмелился давать подобные приказания помимо меня? Разве я более не главный начальник полков?» — «Это приказано мною, без всякого, впрочем, притязания на ваши права, — гордо отвечал генерал Бутурлин, — я имел на то повеление императрицы, моей всемилостивейшей государыни, которой всякий верноподданный обязан повиноваться, и будет повиноваться, не исключая и вас».
Всеобщее молчание последовало за этою речью; все смотрели друг на друга в смущении и с недоверием. Во время этой немой сцены вошел Меншиков и вмешался в толпу, а немного спустя явилась императрица, поддерживаемая герцогом Голштинским, который провел ночь в комнате великого князя. После нескольких усилий заглушить рыдания, она обратилась к собранию с следующими словами: «Несмотря на удручающую меня глубокую горесть, я пришла сюда, мои любезноверные (mes chers fils), с тем, чтобы рассеять справедливые опасения, которые предполагаю с вашей стороны, и объявить вам, что, исполняя намерения вечно дорогого моему сердцу супруга, который разделил со мною трон, буду посвящать дни мои трудным заботам о благе монархии, до того самого времени, когда Богу угодно будет отозвать меня от земной жизни. Если великий князь захочет воспользоваться моими наставлениями, то я, может быть, буду иметь утешение в моем печальном вдовстве, что приготовила вам императора, достойного крови и именитого, кого только что вы лишились».
Меншиков, как первый из сенаторов и князей русских, отвечал от имени всех: что дело, столь важное для спокойствия и блага империи, требует зрелого размышления, и что поэтому да соблаговолит её императорское величество дозволить им свободно и верноподданнически обсудить его, дабы всё, что будет сделано, осталось безукоризненным в глазах нации и потомства. — Императрица отвечала: что действуя в этом случае более для общего блага, чем в своем собственном интересе, она не боится всё до неё касающееся отдать на их просвещенный суд; и что не только позволяет им совещаться, но даже приказывает тщательно обдумать всё, обещая с своей стороны принять их решение, каково бы оно ни было.
Собрание удалилось в другую залу, двери которой заперли. Князь Меншиков открыл совещание, обратившись с вопросом к кабинет-секретарю Макарову, не сделал ли покойный император какого-нибудь письменного распоряжения и не приказывал ли обнародовать его? Макаров отвечал, что незадолго до последнего своего путешествия в Москву государь уничтожил завещание, сделанное им за несколько лет перед тем, и что после того несколько раз говорил о намерении своем составить другое, но не приводил этого в исполнение, удерживаемый размышлением, которое часто высказывал: что если народ, выведенный им из невежественного состояния и поставленный на степень могущества и славы, окажется неблагодарным, то ему не хотелось бы подвергнуть своей последней воли возможности оскорбления; но что, если этот народ чувствует, чем обязан ему за его труды, то будет сообразоваться с его намерениями, выраженными с такою торжественностью, какой нельзя было бы придать письменному акту. Когда Макаров умолк, архиепископ Феофан, видя, что вельможи несогласны в мнениях, обратился к собранию с просьбою позволить и ему сказать свое слово. С трогательным красноречием указал он присутствовавшим на правоту и святость данной ими в 1722 году присяги, которою они обязались признавать наследника, назначенного государем. Некоторые возразили ему, что здесь не видно такого ясного назначения, как старается представить Макаров; что недостаток этот можно принять за признак нерешительности, в которой скончался монарх, и что поэтому, вместо него, вопрос должно решить государство. На такое возражение Феофан отвечал точною передачею слов императора, сказанных у английского купца накануне коронования императрицы, которыми его величество, открывая свое сердце перед своими друзьями и верными слугами, подтвердил, что возвел на престол достойную свою супругу только для того, чтоб после его смерти она могла стать во главе государства. Затем он обратился с вопросом к великому канцлеру и ко многим другим, при которых сказаны были эти слова, помнят ли они их? — Отдавая долг истине, те подтвердили всё приведенное архиепископом. Тогда князь Меншиков воскликнул с жаром: «В таком случае, господа, я не спрашиваю никакого завещания. Ваше свидетельство стоит какого бы то ни было завещания. Если наш великий император поручил свою волю правдивости знатнейших своих подданных, то не сообразоваться с этим было бы преступлением и против вашей чести, и против самодержавной власти государя. Я верю вам, отцы мои и братья, и да здравствует наша августейшая государыня, императрица Екатерина!» Эти последние слова в ту же минуту были повторены всем собранием, и никто не хотел показать виду, что произносит их против воли и лишь по примеру других. После того князь Меншиков, в сопровождении всех прочих, возвратился к императрице и сказал ей: «Мы признаем тебя нашей всемилостивейшей императрицей и государыней и посвящаем тебе наши имущества и нашу жизнь». Она отвечала в самых милостивых выражениях, что хочет быть только матерью отечества. Все целовали ей руку, и за тем открыты были окна. Она показалась в них народу, окруженная вельможами, которые восклицали: «Да здравствует императрица Екатерина»! Офицеры гвардии заставляли повторять эти возгласы солдат, которым князь Меншиков начал бросать деньги пригоршнями.
Таким образом Екатерина овладела скипетром, которого она была так достойна. Сенаторы, генералы и знатнейшие духовные лица в тот же час составили и подписали манифест о провозглашении её императрицею. Документ этот заслуживает быть приведенным здесь, потому что опровергает рассказы некоторых писателей об устном завещании Пера Великого, будто бы объявленном им перед государственными сановниками, собравшимися вокруг его постели. Вот он[113]:
«Ведомо да будет всем, что по воле всемогущего Господа Бога, всепресветлейший державнейший Петр Великий, император и самодержец Всероссийский, отец отечества, государь всёмилостивейший, чрез двенадцатидневную жестокую болезнь от сего временного жития в вечное блаженство отыде; а о наследствии престола Российского не токмо единым его императорского величества, блаженной и вечно достойной памяти, манифестом февраля 5-го дня прошлого 1722 года в народ объявлено, но и присягою подтвердили все чины государства Российского, дабы быть наследником тому, кто по воле императора будет избран. А понеже в 1724 году удостоил короною и помазанием любезнейшую свою супругу, великую государыню нашу, императрицу Екатерину Алексеевну, за её к Российскому государству мужественные труды, как о том довольно объявлено в народе печатным указом прошлого 1723 года ноября 15-го числа: того для святейший синод и высокоправительствующий сенат и генералитет согласно приказали во всенародное известие объявить печатными листами, дабы все как духовного, так воинского и гражданского чина и достоинства люди о том ведали и ей всемилостивейшей, державнейшей, великой государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице Всероссийской верно служили».
Красноречивый архиепископ Феофан, напечатав свою надгробную речь с похвальным словом Петру Великому, присоединил туда и описание его кончины[114]. Он говорит, что во время болезни монарх показал горячую привязанность к своей религии, и что после общей консультации всех петербургских медиков, уверившись в опасности своего положения, которое хорошо понимал, зная устройство человеческого тела и характер своей болезни, он повелел повсеместно освободить и избавить от всякого взыскания и наказания лиц, содержавшихся по обвинениям в оскорблении величества и в воровстве, дабы они молились за упокой его души. Вот как рассказывает архиепископ о восшествии императрицы на престол:
«Мы считаем своею обязанностью рассказать, в каком положении находились между тем дела общественные. Вечером, перед кончиной императора, сенаторы и члены синода положили между собою, что если по воле божией. они лишатся своего отца, то безотлагательно соберутся, чтобы прежде чем народ узнает о смерти монарха, принять необходимые меры для сохранения общественного спокойствия. Всё это и было исполнено. Лишь только распространилась печальная весть, все сенаторы, главные генералы и некоторые из бояр собрались во дворце вместе с четырьмя членами синода, которые провели там ночь, и приступили к совещаниям о наследовании престола. По мнению большей части из них оно принадлежало царственной вдове, которая, в силу своего коронования, имела даже неоспоримое право на управление государством без всякого избрания. Другие полагали, что коронование не может давать столь обширных прав, потому что у большей части других народов супруги государей коронуются, не получая прав на наследование престола. Но некоторые указали на цель, с которою император короновал свою супругу, и объявили, что до похода в Персию, он объяснял свои виды четырем сенаторам и двум членам синода, находившимся теперь в числе присутствовавших на совещании, сказав: что хотя в России и нет такого обычая, но что необходимость требует этого, дабы после его смерти престол не оставался праздным, и присутствие наследника не подавало никакого повода к смятению и недоразумениям. Когда слышавшие слова эти из уст самого императора засвидетельствовали их достоверность, все согласились, что царствовать должна августейшая Екатерина. После того возник вопрос: следует ли обратиться к мнению народа и войска, или по крайней мере, офицеров; но многие, и в особенности генералитет, воспротивились тому, утверждая, что всякое промедление будет опасно, и что дело идет вовсе не об избрании, так как решено уже, кому принадлежит право наследования. Тогда единодушно постановлено было считать настоящую конференцию собравшейся не для избрания, а лишь для торжественной декларации.
Немедленно составлен был манифест, который подписали все присутствовавшие в собрании, и который потом разослан был во все провинции империи. Сенат, синод и генералитет возвещали им о кончине императора, о восшествии на престол августейшей Екатерины и приглашали всех подданных государства к присяге и повиновению её величеству. После того собрание испросило себе аудиенцию у императрицы, и когда государыня вышла из комнаты покойного императора, оно стало умолять ее не отказываться от принятия на себя бремени правления, порученного ей Богом и вечно достойные памяти супругом её. Слезы и горесть не давали ей много говорить, но в знак своего согласия она протянула правую руку для целования. Так по милости божией, менее чем в час времени, окончилось это великое дело». Таков рассказ Феофана. К словам его следовало бы присовокупить, что Екатерина, подобно Траяну, не хотела ничего знать о заговоре, замышлявшемся против неё.
Тело великого императора было с пышною церемониею предано земле в церкви Петропавловской крепости, и вместе с ним погребена младшая шестилетняя дочь покойного Наталия Петровна, развитая не по летам и умершая с горя, причиненного ей кончиною родителя.
Послесловие составителя Записок
Можно без преувеличения сказать, что герой этот совершил чудеса. Он преобразовал совершенно нравы России, и несмотря на громадные траты по поводу стольких войн и сооружений, не смотря на множество погибших при том людей, рассчитано, что он сошел с престола втрое богаче и могущественнее, чем был при восшествии на него. Всё великое, сделанное в последующие царствования, было им начато или задумано. Никогда человек не совмещал в себе стольких должностей и не нес столько трудов. Он был законодателем государства и церкви, воином на море и на суше, математиком, лоцманом, архитектором, строителем кораблей, хирургом, плотником, — и всё это с необыкновенным знанием дела; имел прекрасные сведения во многих науках, искусствах и ремеслах, наконец сверх всего обладал великим даром управления государством. Правда, открытие С.-Петербургской Академии наук совершилось с лишком через год после его смерти, но основателем её был он, и находящиеся в её кабинетах сокровища любопытных предметов по естественной истории, в особенности по части анатомии, были собраны им. Он отдавал строгие приказания присылать со всех концов своей обширной империи редкие и чудовищные произведения природы. Щедрость его не имела пределов, когда дело шло о поощрении полезных талантов, а полезным он называл не только то, что служило к увеличению могущества государства, но и то, что способствовало счастию и просвещению отдельных лиц. Никогда не замечали, чтоб он страшился опасности, но из этого не следует еще, чтоб он верил в предопределение, потому что никогда также и не подвергал себя опасности безрассудно, за исключением лишь некоторых случаев, где уверенность в своем искусстве и в знании морского дела придавали ему смелости. Внешнего лоска ему не удалось приобрести; но имел ли он на то время, он, который занят был преобразованием государства? При многих добродетелях, он имел и два преобладающих порока — вспыльчивость и любовь к горячим напиткам. Воспитание могло бы искоренить их; но его воспитание было дурно и только способствовало развитию их. Впрочем вспыльчивость была у него следствием его пламенного темперамента, и ему-то он обязан был тою деятельностью и тою настойчивостью, которых требовала его реформа. Был ли он жесток? Это вопрос нерешенный. Он сочувствовал малейшим горестям людей честных, перевязывал раненных, лечил больных. Кровавая строгость допускалась им лишь тогда, когда того требовали правосудие и благо государства. Они часто предписывали ее, и иногда в ужасных размерах, но таково было положение дел. Поэтому он стоически мог смотреть на казни; рассказывают даже, что он до своих путешествий сам собственноручно казнил. Но остережемся делать отсюда заключения о его жестокости. Если мы назовем этим именем действия, очищающие землю от преступников, то можем увлечься до хулы полубогов, которые в дни битв проливают и заставляют проливать столько благородной крови. Несомненно впрочём то, что Петр Великий был одним из тех смертных, которым справедливо удивляются, — смертных, рожденных для прославления своего века в летописях мира, и Небо, увенчавшее жизнь его столькими славными успехами, щедро воздало должное памяти его, открыв путь к наследованию Российского престола Екатерине II-й.
Примечания
1
Граф Магнус Стенбок (род. 1664, ум. 1717 г.), один из известнейших генералов Карла XII. — После сдачи Тённингена его увезли в Копенгаген, где содержали в тесном заключении до самой его смерти. Украдкой и на клочках бумаги составил он записку о своем жестоком заключении, которая случайно была найдена после его кончины и напечатана уже в 1773 году.
(обратно)2
В северо западном углу Голштинии.
(обратно)3
Герцог Фридрих Голштинский, отец Карла Фридриха (что впоследствии женился на нашей царевне Анне Петровне) был женат на старшей сестре Карла XII, Гедвиге-Софии, и убит 19 июля 1702 года в известном сражении при Клиссове, близ Кракова, где шведы разбили наголову соединенные саксонско-польские войска.
(обратно)4
Карл XII не был женат и не имел братьев; поэтому ближайшим наследником его престола считали племянника его, малолетнего голштинского герцога. Таким образом слабая и вдобавок ежеминутно угрожаемая датчанами Голштиния получала в будущем важное значение, и это обстоятельство открывало обширное поле для всякого рода дипломатических каверз. П.Б.
(обратно)5
Магнус фон Веддеркоп, род. 1638, ум. 1721 был сверх того известным в то время ученым юристом, профессором и куратором Кильского университета. Жизнеописание его помещено в Цеддеровом универсальном лексиконе, 1747 г., ч. 53, стр. 1783–1786. В 1709 г., 31 дек, его заключили в упомянутую выше голштинскую крепость Тённинген, и только по сдаче её датчанам в 1714 г. он был освобожден. Многие последующие интриги Герца объясняются опасением, чтобы не выпустили из заточения Веддеркопа, который мог отомстить ему, освободившись. П.Б.
(обратно)6
По травендальскому трактату, заключенному между Швециею и Даниею 8 августа 1700 года, герцогу Голштинскому возвращены были его владения, захваченные Даниею при начале войны её с Швецией.
(обратно)7
Датский.
(обратно)8
12 декабря 1712 года. Гадебуш — небольшой городок в Мекленбургии, в 4 милях от Висмара.
(обратно)9
Граф Яков-Генрих Флемминг (род. 1667, ум. 1728 г.), фельдмаршал, первый министр и любимец курфюрста Саксонского и короля Польского Августа II.
(обратно)10
Августа II, короля Польского.
(обратно)11
Короля Датского.
(обратно)12
Гузум (Husum) — городок в герцогстве Шлезвигском.
(обратно)13
Здесь, вероятно, разумеется супруга короля шведского Карла XI и мать Карла XII, Гедвига-Элеонора, урожденная принцесса Датская.
(обратно)14
Т. е. Стенбока.
(обратно)15
Вандсбек, прежде дворянское поместье, ныне местечко на Эльбе, в Голштинии, в округе Итцегоэ.
(обратно)16
Суэд, Шведт или Свет — городок на Одере, в Пруссии, в нынешней провинции Бранденбург, прежде принадлежавший к Шведской Померании.
(обратно)17
Т. е. Карла-Фридриха, молодого герцога Голштинского, владения которого находились под секвестром Дании.
(обратно)18
Князь Василий Лукич, игравший впоследствии столь важную роль при восшествии на престол императрицы Анны Иоанновны и казненный в Новгороде в 1739 году.
(обратно)19
В рассказе о родственниках Екатерины Бассевич говорит по слухам и ошибается. Читатели Р. Архива найдут об этом предмете точные известия в одном из следующих выпусков нашего издания. П. Б.
(обратно)20
Иоганн-Христофор-Дитрих Остерман, старший брат знаменитого графа Андрея Ивановича Остермана, был также сперва в русской службе, но потом перешел в службу герцога мекленбургского и был довольно долгое время его резидентом при росс. дворе.
(обратно)21
Федор Павлович Веселовский, — известный дипломат Петрова времени. Впрочем, может быть, здесь назван брат его Исаак или еще другой — Яков, клевреты Меншикова.
(обратно)22
Секретарь посольства при Бассевиче.
(обратно)23
Отец Бассевича, Филип Куно, мекленбургский советник умер 2 марта 1714 г. (Цедлеров лексикон, ч. III, стр 632. П.Б.
(обратно)24
Т. е. Гузумское и Швабштедское, о которых упоминается выше.
(обратно)25
Супруга Станислава Лещинского, права которого на Польский престол, как известно, поддерживал Карл XII.
(обратно)26
Король датский.
(обратно)27
Главном городе Померании.
(обратно)28
Августа II, короля Польского.
(обратно)29
Разумеется, по всему вероятию, нынешний Невский проспект, самый город, как известно, первоначально был на правой стороне Невы.
(обратно)30
Т. е. наследственного герцога Голштинии, в то время 15 летнего Карла Фридриха, который с малолетства жил и воспитывался в Швеции у бабки своей с материнской стороны. Его владениями правил епископ-регент, его дядя по отцу и родной дед нашей Екатерины II.
(обратно)31
т. е. епископ-регент и молодой герцог голштинский Карл Фридрих.
(обратно)32
Карлу VI.
(обратно)33
Знаменитым представителем Германского деспотизма.
(обратно)34
Это происходило 16 августа 1716 г. Под начальством Петра было 800 кораблей. См. у Бюлау, т. IX, 1858 г., стр. 363, в биографии гр. Остермана, где есть подробности о том, как датчане боялись Петра.
(обратно)35
В то время немецкие государства, входившие в состав Германской Империи, разделялись на отдельные группы или округи, которые имели своих выборных охранителей и директоров из владетельных князей. Мекленбургия, Шлезвиг и Голштиния причислялись к Нижне-Саксонскому округу.
(обратно)36
Это тот самый Гиллембург, который может быть всех раньше, еще в Гамбурге, обратил внимание на гениальные способности Екатерины II, тогда еще дитяти. В 1744 г. он приезжал в Петербург, и по его совету великая княжна занялась философией и чтением классических писателей. Сама Екатерина признавала его своим учителем и образователем. Упомянутый заговор имел целью возвести на Английский престол так называемого претендента т. е. Стюарта. П.Б.
(обратно)37
Стюартом.
(обратно)38
«Этот и следующий параграфы суть краткие извлечения из очень редкой рукописи (может быть той самой, о которой говорит Вебер, если меня не обманывает память, и которой он тщетно искал). Она содержит в себе протоколы суздальского следствия и копии с писем царицы и епископа. Обер-камергер Берхгольц, вывезший ее из России, согласился дать мне ее на несколько дней».
Примеч. составителя Записок. Читатели припомнят, что печатаемые нами Записки суть собственно извлечения из бумаг Бассевича, о котором потому не редко и говорится в третьем лице.
(обратно)39
Евдокия, как известно, впоследствии до самого восшествия на престол Петра II содержалась также в Шлиссельбургской крепости. Царевна же Мария Алексеевна, кажется, находилась там недолго, потому что скончалась в 1723 году в Петербурге. — Тут оканчивается эта вставка в Записки Бассевича.
(обратно)40
Царевич Алексей был обезглавлен. См. Том III. моего «Магазина», стр 224. Примеч. Бюшинга. См. также предисловие к нашему Русскому переводу.
(обратно)41
Не следует забывать, что Бассевич — друг Меншикова и Екатерины.
(обратно)42
Впоследствии Петра II-го.
(обратно)43
Любопытная черта, показывающая, до какой закоренелости простиралось предубеждение иностранцев против русских! П. Б.
(обратно)44
Лещинского.
(обратно)45
Нынешней провинции Прусской (Provinz Preussen).
(обратно)46
Короля Английского и куроюрста Ганноверского.
(обратно)47
Князя Ивана Юрьевича Трубецкого (отца известного Ивана Ивановича Бецкого) и Автонома Михайловича Головина, а не графа Головина.
(обратно)48
Эдвига Элеонора.
(обратно)49
Эрих XIV, король Шведский (ум. 1577) знаменитый деспот.
(обратно)50
Вышеупомянутые Ванниер и Фриц.
(обратно)51
Собственно говоря, семейства у Карла Фридриха не было, так как он был круглым сиротою, не имел ни братьев, ни сестер. Но у дяди его, епископа-регента, Христиана Августа, было несколько человек детей, из коих один сын Фридрих-Адольф впоследствии возведен был имп. Елизаветою Петровною на шведский престол, а дочь, Анна Елизавета была матерью Екатерины II. Таким образом отец Петра III и мать Екатерины II были между собою двоюродными. Мы надеемся со временем изложить точнее родство и первоначальные судьбы великой государыни. П.Б.
(обратно)52
«Я чувствую, что в настоящих Записках слишком много говорится о герцоге голштинском; но подробности эти бросают новый свет на глубокую политику царя, который так искусно воспользовался надеждами, притязаниями и бедствиями этого молодого принца дли подготовки себе славного мира с Швецией), подписанного в Ништате; — мира, могущего показаться изумительным всякому, кому неизвестно, какое влияние имело на заключение его пребывание герцога в Петербурге». Примеч. составителя Записок.
(обратно)53
Генерал-майор Петр Лефорт, племянник знаменитого Франца Яковлевича.
(обратно)54
При Борисе Годунове(?).
(обратно)55
Английскому посланнику в Стокгольме.
(обратно)56
Супруг королевы шведской.
(обратно)57
Тогдашний первый министр в Англии.
(обратно)58
Федору Павловичу.
(обратно)59
Знаменитого французского банкира и финансиста.
(обратно)60
Фельдмаршал граф Матиас-Иоганн фон-дер-Шуленбург (род. 1660, ум. 1747 г.) прославился как отличный генерал, сперва в Саксонской службе в войну против Карла XII (1704), потом в Венецианской при защите крепости Корфу против турок (1715).
(обратно)61
Подполковник Сикье (Siquier) француз, находившийся в Шведской службе, о котором говорили, что он убил короля Карла XII. См о нём подробнее в Дневнике Берхгольца в особенности часть II, стр. 33 и др.
(обратно)62
Князя Матвея Петровича.
(обратно)63
После я узнал из писем более отдаленного времени, что царь только в шутку или даже в насмешку поручил ему эту должность и кроме того установил еще для него тост за процветание кораблей под названием «тоста за фамилию Ивана Михайловича». Примеч. составителя «Записок».
(обратно)64
Торжество Ништатского мира происходило 22 октября 1721 года. Из Берхгольца (Русский перевод И. Ф. Аммона, I, стр. 195) видно однако, что герцог голштинский участвовал в увеселениях этого дня. П.Б.
(обратно)65
Т. е. Миривейса. Этот знаменитый вождь, уроженец Кандагарской области, успел освободить свою родину из под власти Персидского шаха, нанес великие беды Персии и умер самостоятельным государем в 1717 г. (См. Zedlers Universallexicon, т. 22. стр. 1743–1744). Софи есть название Персидских шахов вообще. П.Б.
(обратно)66
Полн. Собр. Законов, т. VI, № 3842.
(обратно)67
Славленье, от слава, что значит хвала. Отсюда старинные имена знатных людей: Витислав, Примислав, Богислав и другие. Могущественная нация, древний язык которой был родоначальником стольких новейших языков европейских, называлась Славянскою, т. е. достойною хвалы. Впоследствии она была порабощена и рассеяна; множество взятых у неё пленных, употребленных на самые низкие работы, превратило прежде столь знаменитое имя Славов или Эсклавов в имя презрительное. Примеч. составителя «Записок».
(обратно)68
Полн. Собр. Законов, т. VI, №3816, 3817, 3825, 3836 и 3874.
(обратно)69
Все числа показаны здесь по старому стилю. Примеч. составителя Записок.
(обратно)70
Известная: «Правда воли монаршей», сочинение Феофана Прокоповича.
(обратно)71
В царствование Алексея Михайловича в Москве было около тридцати Приказов, т. е. коллегий и канцелярий, для управления делами разных провинций. Петр Великий многие из них уничтожил, а остальные привел в больший порядок Примеч. составители Записок.
(обратно)72
Синод тогда состоял из пятнадцати лиц, а именно: 2-х президентов императора и митрополита Рязанского; 2-х вице-президентов — архиепископов Новгородского и Псковского: 5-ти советников — архиепископа Крутицкаго и 4-х архимандритов, т. е. главные начальники монастырей в провинциях; 5-ти асессоров, из которых 2 протопопа, т. е. старших священника из белого духовенства, обязанных жениться, но, по смерти жен, не имеющих права на вступление во второй брак без совершенного выхода из духовного звания. Примеч. состав. Записок.
(обратно)73
См. в Полн. Собр. Зак, т. VI, №3765, Синодский указ от 20 марта 1720 года. Он касался вовсе не икон, а листов разных изображений, служебников и канонов, изданных без позволения Синода.
(обратно)74
Книга эта вышла в Гааге в 1725 году под заглавием: Mémoires du règne de Pierre le Grand, pas le baron Iwan Nestesuranoy 4 тома in 12°. Автором её был француз Руссео (Rousset).
(обратно)75
Известное сочинение брауншвейгского резидента в России Вебера «Das veränderte Russland etc.» вышедшее в свет в первый раз в 1721 году.
(обратно)76
Здесь разумеются большие немецкие мили, из которых каждая равняется 7-ми русским верстам. Примеч. составителя «Записок».
(обратно)77
Графа Михаила Петровича (1688–1760), который был старшим братом гр. Алексея Петровича, впоследствии славного канцлера. Это был первый по заключении мира наш посланник в Швеции; он получал жалованья 3300 рублей. П.Б.
(обратно)78
Или так называемое Гнилое море, большое озеро длиною 140, шириною 14 верст, находящееся на восточной оконечности Азовского моря, которое Керченским проливом соединяется с Черным морем.
(обратно)79
Мера, равняющаяся 5–6 футам, или 2 франц. метрам (около 21/2 аршин).
(обратно)80
Ссора Меньшикова с Шафировым в Сенате произошла 31 октября 1722 г; след. с декабря не прошло с того времени и двух месяцев.
(обратно)81
Хирург этот был известный при Петре Великом Жан Хови.
(обратно)82
Князь Дмитрий Михайлович, который в это время был президентом камер-коллегии, и впоследствии, при Екатерине I и Петре II находился в числе членов верховного тайного совета.
(обратно)83
В подлиннике Petershoff, но это явная опечатка.
(обратно)84
Князю Василию Лукичу Долгорукову и графу Александру Гавриловичу Головкину, который был не старшим, а вторым сыном великого канцлера: старшего его сына звали Иваном.
(обратно)85
Это было, как уже упомянуто выше, в Копенгагене 16 августа 1716 года.
(обратно)86
Нефти.
(обратно)87
Короля шведского, бывшего принца Гессен-Кассельского, супруга Ульрики Элеоноры.
(обратно)88
Т. е. герцогу Мекленбургскому.
(обратно)89
Perche — мера, равняющаяся 18–22 футов.
(обратно)90
Т. е. в 1761 г. Примеч. составителя Записок.
(обратно)91
Веронис или Верониц (Воронеж) был первою верфью, где русские увидели строение кораблей, под управлением славного Лефорта. Прим. сост. Зап.
(обратно)92
Здесь идет речь об известном деле полковника Полуботка с товарищами. Сам Полуботок умер в Петропавловской крепости.
(обратно)93
Принцессы этого дома, а также Мария Алексеевна, их тетка, сохраняли старинный титул царевен, т. е. дочерей царя; но когда Петр Великий принял титул императора, его принцессы стали называться цесаревнами, т. е. дочерьми императора. Примеч. состав. Зап.
(обратно)94
Это очень понятно, если взять в расчет, что все они предварительно были пытаны.
(обратно)95
Этот французский в Константинополе посланник (Jean Louis d’Husson, marquis de Bonac) за оказанные им важные услуги России, пожалован был кавалером орденом св. Андрея.
(обратно)96
Этот духовный сановник (Феодосий Яновский) первый в России после старого митрополита рязанского (Стефана Яворского) много содействовал к отклонению народа от суеверного поклонения образам и святым. Но он в то же время имел смелость прямо сказать императору, что не одобряет отобрания имений и доходов духовенства, а также установленного вследствие того точного распределения их для приличного содержания духовенства и назначения излишков на учреждение школ и больниц, в которых был повсеместный недостаток. По его мнению, государство от себя обязано было назначить им содержание, потому что принадлежащее служителям церкви не подлежит гражданскому управлению. Император, раздраженный этою дерзостью, обнаружил такой гнев, что заставил трепетать говорившего. После однако ж он уступил и сознался, что был неправ, и так как вообще прощал проступки людей способных или полезных для его реформ (чему доказательством служит князь Меншиков), а архиепископ просил помилования ради будущей коронации императрицы, то он даровал ему полное прощение и сохранил к нему, по крайней мере по наружности, уважение до самой своей смерти. Примеч. сост. Зап.
(обратно)97
Соборы Благовещенский и Архангельский.
(обратно)98
Петру Андреевичу.
(обратно)99
Так названа здесь военная коллегия.
(обратно)100
Кронштадта.
(обратно)101
Петр В. назвал четвертый из этих бастионов «Лефортом», в память великого адмирала этого имени, который пользовался от него такою нежною и заслуженною любовью. Примеч. сост. Зап.
(обратно)102
За то указом в январе 1724 г. всё русское дворянство обязывалось, смотря по количеству своих крестьян, строить красивые дома на одном из петербургских островов, называемом Васильевским, который составляет значительную часть города. Примеч. сост. Зап.
(обратно)103
Александр Иванович.
(обратно)104
Не над татарами, а над шведами. Место это показывает, что и Бассевич знаком был с русской историею не более других иностранцев.
(обратно)105
Таких городов было четыре, а именно Москва, Киев, Владимир и Новгород. Примеч. сост. Зап.
(обратно)106
Мария Лещинская, дочь короля Станислава, сочеталась браком с французским королем Людовиком XV.
(обратно)107
Уже 24-го декабря 1714 г. царь повелел обнародовать указ, чтоб отнюдь никто из состоящих в какой бы то ни было службе или должности не принимал подарков или посулов, под опасением лишения чести и жизни. Всякий обязан был доносить на тех, о которых узнает, что они приняли взятку, и даже крепостные люди в этом случае могли быть доносчиками на своих господ. Последующие указы часто подтверждали то же самое. Примеч. состав. Записок.
(обратно)108
В третьей части «Преображенной России» находится план преподавания богословия великому князю, составленный архиепископом Феофаном, по повелению императрицы, план, который заслуживает удивления и может быть образцом во всякой религии. Прим. сост. Зап.
(обратно)109
Иван Иванович.
(обратно)110
Когда воцарилась Екатерина, архиепископ Новгородский, видя, что она нисколько не ослабляет узды, наложенной её супругом на власть духовенства, начал действовать против неё и даже осмелился оказывать ей неуважение и говорить: что Бог сократил дни Петра Великого в наказание за его вины против духовенства. В мае 1725 г., по её приказанию, он был сослан и заключен в Корельский монастырь, на берегах Двины, а Феофан назначен вместо него архимандритом Невского монастыря и архиепископом Новгородским, главою первой эпархии в империи. Примеч. состав. Записок.
Показание Бассевича не противоречит подлинному делу архиеп. Феодосия, напечатанному в Русск. Архиве 1864 г, вып. 2-й. и поясняет оное относительно разговора в селе Покровском, см. выше, стр. 159.
(обратно)111
Он умер на 53 году своей жизни, родившись 30-го мая 1672 г. Императрица, по словам её, родилась 5-го апреля 1689 г.; принцесса Анна — 27 января 1707 г.; принцесса Елизавета — 18-го декабря 1709.; император сочетался браком с императрицею, в присутствии нескольких свидетелей, 19-го февраля 1706 г.; но титул царицы и величества дал ей только тогда, когда у неё обнаружились признаки беременности. Примеч. сост. Зап.
(обратно)112
Князь Аникита Иванович.
(обратно)113
Мы приводим подлинный текст этого манифеста, напечатанного в Пол. Соб. Зак, Т. VII, № 4643, от 28 января 1725. — По французски у Бассевича он передан верно.
(обратно)114
То и другое, в немецком переводе издано брошюрою in 4о в Гамбурге в 1725 году. Прим. сост. Зап.
(обратно)
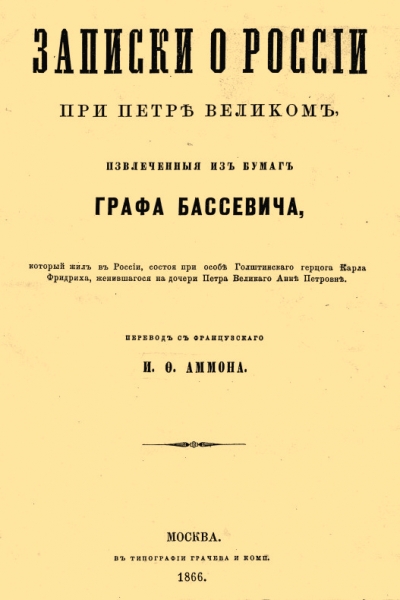

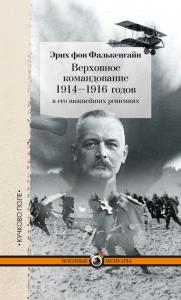
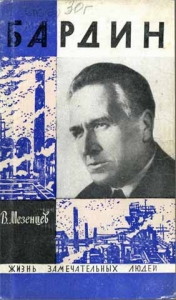

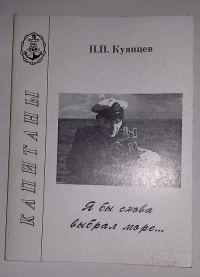
Комментарии к книге «Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича», Геннинг Фридрих фон-Бассевич
Всего 0 комментариев