Юрий Трифонов ЗАПИСКИ СОСЕДА Воспоминания
I
Дело не в том, что в течение нескольких лет мы были соседями по даче на Красной Пахре и наши участки разделял слабоокрашенный деревянный заборчик, возле которого мы часто стояли разговаривая. Дело в том, что мы оказались соседями по времени, по тому развеселому, разнесчастному, в котором досталось жить. А время всех ставит рядом: больших, маленьких, посредственных, ничтожных, всех, всех, всех.
Так вот: зима пятидесятого года. Сейчас ту зиму ощущаю совсем иначе, чем ощущал тогда. Если уж говорить о времени, то оно похоже на нас. Я был молод, крепок, подымал двухпудовые гири, и мне казалось, что так же молодо, крепко и способно поднимать небывалые тяжести время. Это был, конечно, верхний слой моего мироощущения, под которым находился другой слой — там тлело все горькое, что пришлось испытать за последние тринадцать лет и что как будто не оставляло надежд, — но под этим горьким находился еще один слой, еще более задавленный и скрытый, который все же грел меня странным и почти необъяснимым теплом. Год назад, в сорок девятом, я окончил Литературный институт, никуда работать не устроился, сидел дома и писал книгу. Зимой я эту книгу закончил. Куда нести? У меня были некоторые отношения с «Октябрем», напоминавшие вялый, тягучий и бесплодный роман временами я посещал кружок молодых писателей при этом журнале, давно уже потеряв надежду пробиться на его страницы. Все рассказы, что я приносил и отдавал благожелательной, мало что понимавшей старушке Ольге Михайловне Румянцевой, прочно застревали в ее столе. Впрочем, рассказы были плохие. Ну, а те, что печатал в своем журнале Панферов? Их хвалили в газетах, они получали премии, считались образцами современной литературы, но мне казалось, что они еще хуже моих рассказов. Я не мог прочесть из них ни страницы. На мой взгляд, это было совсем не то, к чему надо стремиться, да и попросту не литература. Причин такой решительности моих литературных оценок было две: действительно худое качество хвалимых романов и мое собственное наглое зазнайство, обыкновенное для начинающих.
Итак, «Октябрь» отпал (я показывал несколько глав из книги Ольге Михайловне, но, кроме обычных туманных и благожелательных обещаний, не услышал ничего), со «Знаменем» не было связей, оставался «Новый мир». Членом редколлегии «Нового мира» был Федин, руководитель моего семинара в Литинституте. Главным редактором недавно назначили Твардовского. Я упаковал пухлое, двадцатилистное произведение (не знал, как называть его — романом, повестью, не знал и названия) в две старые канцелярские папки довоенного образца, которые, наверное, использовал отец еще во времена Нефтесиндиката, и поехал в Лаврушинский переулок. Федин постоянно жил на даче в Переделкине, в Москве бывал редко, но мне удалось с ним созвониться и он назначил день. На семинаре в Литинституте я читал раза два главы из повести, и Федину они как будто нравились. Но одно дело — главы, а другое — пятьсот страниц на машинке. Читать два месяца! Я приготовился терпеливо ждать, лишь бы Федин согласился взять мои папки.
Федин, однако, поступил иначе, немало меня изумив.
— Я сейчас позвоню Твардовскому и скажу ему про вашу рукопись, — сказал он. — Здесь все примерно в том стиле, что и те две главы?
— Да, — сказал я. — Примерно в том.
— Вот и хорошо. Сейчас позвоним. Он как раз спрашивал меня, нет ли какой интересной прозы… — Федин уже набирал номер, продолжая вполголоса меня все более изумлять: — Он только что назначен… Полон энергии, ищет авторов… Александр Трифонович? Добрый день, это Федин. Вчера вы мне звонили, просили посылать молодых авторов, и вот, пожалуйста, выполняю вашу просьбу. Повесть о студентах. Автор — мой ученик по Литературному институту… Читается с интересом…
Федин говорил что-то хвалебное по моему адресу, я плохо слушал, подавленный внезапным недоумением. С одной стороны — тут было благодеяние, с другой — нечто обидное. Что ж, ему вовсе нелюбопытно прочитать мою рукопись? И если когда-то понравились те две главы, то неужели не хочется узнать, что же там случилось дальше! Я считался старейшим учеником Федина. Еще с первого, заочного курса, когда работал на авиазаводе. Федин подробно разбирал мои начальные, беспомощные сочинения, иногда защищал меня от ретивой критики (а мы топтали друг друга на семинарах нещадно!), иногда сам твердо и холодновато ставил меня на место. Но всегда я чувствовал какой-то интерес. Теперь же, когда я принес гигантский плод полуторагодичного, каторжного, графоманского труда — бывали дни, особенно минувшей осенью, в сентябре, на даче в Серебряном, где я жил один, когда выходило по пятнадцати страниц в сутки! — мой учитель даже не развязал тесемок на старых, из желтого глянцевитого картона папках.
Федин как будто почувствовал мои мысли.
— Дорогой Трифонов, — сказал он, — ваше произведение я прочитаю, когда оно будет напечатано в журнале. Не возражаете? Дело в том, что я занят сверх меры…
Я не возражал. Был благодарен: такая оперативность! В тот же день курьер из «Нового мира» должен был забрать желтые папки и привезти Твардовскому. Пока все шло замечательно. И все же что-то меня скребло. «Он поспешил от меня отделаться!» Прошло много лет, и теперь я знаю, что такое толстые папки, которые приносят начинающие писатели. Они напоминают маленькие, хорошо упакованные коробки с динамитом: что-нибудь непременно будет взорвано Ваша работа, ваше время, ваше спокойствие или ваши отношения с людьми. В этих папках слишком много заложено. Поэтому чем скорее от них отделаешься, тем лучше. Недавно ко мне пришел молодой человек, несомненно, талантливый, рассказы которого я читал, и принес новую повесть. Он написал много, но почти ничего не смог опубликовать. Знакомя его с бывшим у меня гостем, я сказал: начинающий писатель такой-то. Молодой человек дернулся, в его лице мелькнуло что-то, и он сказал, резко отчеканивая каждое слово: «Я не начинающий писатель!» Повесть его лежит на моем столе. И я боюсь к ней притронуться, как к пакету с динамитом.
Прошло дней десять или двенадцать, не помню точно сколько, очень немного. За это время кончилась зима. Внезапно пришла телеграмма: «Прошу прийти в редакцию для разговора. Твардовский». Не помню уж, почему телеграмма. Может, не работал телефон, не могли дозвониться. Едва чуя под собой землю и плохо соображая, с телеграммой в кармане, которую я бережно спрятал, как пропуск или квитанцию, я отправился в «Новый мир».
Редакция помещалась тогда на углу Пушкинской площади и улицы Чехова. Вход был с улицы Чехова. Помню — горы сырого снега, мокрый асфальт, солнце, предчувствие весны… В этот день я познакомился с Александром Трифоновичем Твардовским.
К Твардовскому уже в те годы, во времена Литинститута, мы относились, как к классику. И я, конечно, волновался не только от нетерпения узнать свою судьбу, но и от предстоящей встречи с известным поэтом. В домашней библиотеке было две его книги, «Поэмы» и «Книга лирики». Я перечитывал главы из «Теркина», «Дом у дороги», некоторые лирические стихи любил читать вслух: например, «Я убит подо Ржевом» и «В пути». Признаюсь, это последнее стихотворение, такое скромное и простое, трогало до слез. Пастернака я в ту пору знал мало, только маленькую книжечку «На ранних поездах», купленную случайно, Цветаеву и Мандельштама не знал совсем. Маяковским «переболел» давно. Самым любимым был Блок. И вот, когда собирались на Большой Калужской или в летнее время в Серебряном бору, после рюмки водки — впрочем, какой рюмки, пили тогда чашками и стаканами за неимением рюмок — непременно хотелось читать вслух, всегда читал Блока, «Куклу» или «Зодчих» Кедрина и вот «В пути». Твардовский в отличие от других поэтов поражал тем, что умел с какой-то удивительной простотой и силой говорить о самом сокровенном, что поэзии как будто и неподвластно, к чему может прикасаться лишь проза, да и то толстовская, чеховская: о домашнем, семейном, истинно человеческом. Отношения близких друзей. Сын и отец, мать и дети, муж с женой, родня, родные — и все это на фоне громадной жизни, горя, войны, потерь. «Ах, своя ли, чужая, вся в цветах и снегу… Я вам жить завещаю — что я больше могу?»
Поднялся я по высокой и очень широкой, но темной какой-то лестнице, вошел в дверь налево, маленькая прихожая, как в коммунальной квартире, повесил пальто и шапку на крюк, гардеробщица жестом показала на другую дверь. После казенных коридоров «Октября», лифтов, пропусков, величественных и холодных комнат тут было странно: какая-то домашность, семейность. И человечность, что ли? Вошел в небольшой зальчик без единого окна. Горел электрический свет. Справа у двери за столом сидела пожилая седоватая, сильно накрашенная дама в очках и клеила конверты. Она с любопытством уставилась на меня. «Вы к кому?» Тоже странно: в прежних редакциях (а кроме «Октября» я бывал еще в издательстве «Молодая гвардия») никто не смотрел на меня с любопытством. Я сказал, что вызван для разговора к Твардовскому.
— Подождите здесь! — Пожилая дама с живостью встала и исчезла за дверью с табличкой «Главный редактор Твардовский А. Т.».
Потом я узнал, что эта дама — могущественная секретарша редакции Зинаида Николаевна. Мне было велено подождать. Сидя на стуле возле двери с табличкой, я оглядывал зальчик. В него выходило шесть или семь дверей. Судя по всему, комнаты были маленькие. Да попросту говоря — клетушки. Одна «октябрьская» комната, где сидела Ольга Михайловна, была больше всего этого зальчика, не говоря о клетушках. Зато зальчик напоминал гостиную: здесь стояли овальный и как будто даже старинный стол, диван, на стенах висели рисунки. Из клетушек то и дело выскакивали люди и, перебегая по ковру, скрывались в дверях других клетушек. Все тут было невероятно уютно.
За столом Зинаиды Николаевны задребезжал звонок, и Зинаида Николаевна сказала:
— Заходите!
Я открыл дверь, но увидел не кабинет, а небольшой тамбур, куда были втиснуты маленький столик и два стула, то есть и это местечко было обжитое, удобное. Твардовский поднялся из-за стола и протянул руку. В те времена я имел обыкновение пожимать руки что есть мочи, но рука Твардовского ответила не менее мощным пожатием. Удивился: у классика такая сила в руке! А ведь Твардовский был тогда молодым человеком — тридцать девять. Впрочем, мне было двадцать четыре, и он мне казался умудренным годами, всего достигшим писателем. Почти таким же, как Федин.
Внимательно и как-то сверху вниз — с волос до галстука, — изучающе строго оглядывая меня, Твардовский спросил мое отчество. Я сказал.
— Так вот, Юрий Валентинович, я прочитал вашу повесть. Вызвали мы вас потому, что с рукописью надо что-то делать: во-первых, редактировать, во-вторых, может быть, сокращать, она великовата…
Первые фразы были сказаны сухо, даже несколько официально. Но смысл, смысл! Редактировать. Сокращать. Значит, хотят печатать? Конечно, я догадывался, что меня вызывают телеграммой не для того, чтобы сообщить плохое, и все же услышать от главного редактора слова с подобным смыслом мгновенный шум в голове, как от легкого теплового удара. Подробности разговора помню плохо. Какое-то смутное именинное настроение во мне самом. Помню, Твардовский выяснял, что написано до повести и что напечатано, и с недоверием переспрашивал: «Всего один рассказ?» Я, кажется, был смущен, потому что наврал, напечатано было два рассказа: в альманахе «Молодая гвардия» рассказ «В степи», о котором я упомянул, и еще один, бесконечно слабый, в журнале «Молодой колхозник». Про тот я скрыл. И в моем подавленном тепловым ударом мозгу мелькнула мысль: вдруг он читал рассказ в «Молодом колхознике» и теперь ловит меня на вранье? Стал поспешно оправдываться, бормотал про «Колхозник». Помню, он допытывался, откуда я родом: «Москвич? Коренной? Родители тоже москвичи?» Я объяснил про родителей. «Москва у вас хорошо видна», — сказал Твардовский, и это было, кажется, единственное прямое высказывание о повести. Потом познакомил меня со своим заместителем, Сергеем Сергеевичем Смирновым, который размашисто влетел из соседней комнаты в кабинет; молодой, быстрый, скачущий, суетливый, он двигался и разговаривал совсем в другом ритме, чем неторопливый Твардовский. «Тот самый Трифонов». «А? Так, так, так… — Здоровенной ручищей Смирнов тряс мою руку. — Будем готовить договор, Александр Трифонович».
«Редактировать. Сокращать. Договор.» — впервые эти слова, которые сопровождали меня потом то в реальности, а то в мечтах и в кошмарах всю жизнь, я услышал в тот день.
Прощаясь, Твардовский сказал:
— А Константин Александрович прав: читается ваша рукопись с интересом… Но сору там много. Дадим опытного редактора, поработаете как следует… — И вдруг прозрачно-голубые глаза, сохранявшие прохладную дистанцию, стали теплыми, близкими. — А знаете, Юрий Валентинович, моя жена заглянула в вашу рукопись и зачиталась, не могла оторваться. Это неплохой признак! Проза должна тянуть, тянуть, как хороший мотор…
Редактора для рукописи вскоре нашел сам Твардовский — Тамару Григорьевну Габбе. И должен сказать, что мне необычайно повезло и даже, точнее, посчастливилось с этим редактором. Тамара Григорьевна была близким другом Маршака, а Маршак был другом Твардовского, и в первые недели редакторства Александра Трифоновича в журнале, занятия, для поэта нового, Маршак — мудрый человек, искушенный в организации литературного дела, создавший когда-то в Ленинграде целую литературную фабрику по выделке детских книг, где, кстати, трудилась и Тамара Григорьевна Габбе — много и энергично помогал Александру Трифоновичу советами. Тамара Григорьевна рассказывала мне, что весною 1950 года Твардовский советовался с Маршаком по всяким редакционным делам очень часто. По-видимому, Маршак был тогда его главным советчиком. Он и рекомендовал Габбе.
Тамара Григорьевна, с которой во время трехмесячной работы мы очень подружились, признавалась мне, что вначале не хотела браться за редактирование: давно не занималась этим делом, утратила к нему интерес, да и своя литературная работа не оставляла времени (книги для детей, статьи, пьесы, среди них такая известная, как «Город мастеров»). Но Маршак настоял, говоря, что «Твардовский очень просит». Тамара Григорьевна решила посмотреть рукопись. Посмотрев, согласилась — рукопись ее заинтересовала. Рекомендации журнала — о них я тогда не знал, Тамара Григорьевна рассказала позже — были: сократить наполовину. Но это, кажется, был самый простой способ доработки рукописи.
Тамара Григорьевна оценила рукопись иначе: там не лишнее, а там не хватает. Надо углублять, мотивировать. По ее советам я написал почти три листа нового текста. Рукопись достигла двадцати трех листов. Редакторская работа по всей рукописи была проделана очень большая, но то было не мелочное перечеркивание фраз, не стрижка и не причесывание (в «Октябре», когда готовился один мой рассказ для какого-то мифического сборника, редактор всегда вымарывал слово «задумчиво» и писал «раздумчиво»), а насыщение смыслом. Тамара Григорьевна никогда не вписывала никаких своих слов и фраз. Она была, конечно, замечательный редактор, высочайшей квалификации, про нее говорили «лучший вкус Москвы», а еще раньше — «лучший вкус Ленинграда». (Впрочем, между ленинградской и московской школами редактирования существовало некоторое соперничество, что я обнаружил позже, когда работал с Софьей Дмитриевной Разумовской, тоже великолепным мастером своего дела.)
Примерно так: Разумовская относилась к рукописи так же, как Роден — к куску мрамора: «Я отсекаю все лишнее!» В результате вмешательства мастера возникает шедевр. Габбе доверяла силам автора, она их отыскивала, побуждала к действию. Тут был расчет на то, чтобы мрамор как бы ваял себя сам. Конечно, разделение грубое: и Разумовская полагалась на силы автора, и Габбе порой бестрепетно отсекала, но я говорю об общих, может быть, бессознательно осуществляемых принципах. Итак, мы работали. Почтя все лето. К нашей работе менее всего применимы слова «шедевр», «мрамор». Это была тяжеловесная и вместе водянистая проза начала пятидесятых годов. Несколько раз в день работу прерывали звонки Маршака: он советовался с Тамарой Григорьевной, читал по телефону стихи, отрывки из статей. Иногда звонил, чтобы прочесть одну какую-нибудь строчку. Тамара Григорьевна терпеливо выслушивала, подробно высказывалась. Я терпеливо ждал. Иногда мы отрывались от работы, чтобы поговорить о книгах, о писателях. Тамара Григорьевна удивляла меня своим спокойным, если не сказать, прохладным отношением к Хемингуэю, перед которым я — по традиции Литинститута — благоговел, зато бесконечно говорила о Толстом, о Герцене. О современных писателях отзывалась как-то иронически: «Мне кажется, они все в кого-то играют… Один — нынешний Тургенев… Другой — нынешний Достоевский…»
Она была маленького роста, живая, миловидная, быстро и легко двигалась, разговаривала мягко, шутливо. Трудно было поверить, что эта женщина перенесла тяжкие невзгоды. Муж ее погиб в лагере. О муже она рассказала, но позже, когда зашел разговор о моих родителях. В то время я ничего не скрывал. Мне казалось, что люди — обыкновенные — должны понимать все, как нужно. Одна знакомая моей матери по лагерю рассказала, что была свидетельницей гибели мужа Тамары Григорьевны. В Казахстане случилось страшное наводнение, люди спасались на крышах лагерных бараков, и муж Тамары Григорьевны, ленинградский врач, бросился с крыши в воду кому-то на помощь и так и не выплыл. Об этом я узнал потом. Тамара Григорьевна о своей жизни не говорила, о своем творчестве — тоже никогда. Вообще она была человеком необычайной скромности и бескорыстия. «Самуил Яковлевич считает, что у меня нет мускулов честолюбия!»
Для меня навсегда незабываемы встречи с Тамарой Григорьевной в ее крохотной комнатке на Сущевском, где стоял секретер красного дерева, на откидной крышке которого мы кое-как раскладывали бумаги, где за стеклом старинного шкафа теснилась обширная библиотека. (Сейчас книги находятся в библиотеке ЦДЛ, переданные туда как дар Тамары Григорьевны по ее завещанию, о чем сообщает табличка, и каждый раз, поднимаясь в библиографический кабинет, я вижу шкаф, табличку и знакомо мерцающие за стеклом книги, которые за двенадцать лет после смерти Тамары Григорьевны не вынул из шкафа, наверное, ни один человек, и на миг вспоминается давнее, что происходило в том смутном пятидесятом году со мной и со всеми вокруг, и скорбь сжимает сердце. Помните у Маршака: «Каких людей я только знал! В них столько страсти было! Но их с поверхности зеркал как будто тряпкой смыло».) И вот, говорю я, встречи в крохотной, загроможденной мебелью комнате, споры о словах, чтение вслух, работа без устали до поздноты, до сладостных ночных вагонов метро… И казалось, что все будут так же желать мне удачи, так же жадно подсказывать, радоваться хорошей фразе. И только так и никак иначе, казалось мне, делается литература.
Сейчас из романа «Студенты», изданиями которого набита целая полка в моем шкафу, я не могу прочесть ни строки. Даже страшновато взять в руки. Были бы силы, время и, главное, желание, я бы переписал эту книгу заново от первой до последней страницы.
Но зачем? Не надо возвращаться к тому, что ушло. Это все равно, что пытаться наяву переделывать нечто, существующее лишь во сне, или же бежать вверх по эскалатору, спускающемуся вниз.
С Твардовским не было встреч до конца лета, когда я принес в «Новый мир» законченную рукопись. Габбе считалась внештатным редактором, теперь следовало отдать повесть на просмотр и, может быть, доработку штатному новомирскому редактору. Им оказалась дама средних лет, восседавшая в одной из клетушек. С дамой сразу возник конфликт. Это была редактриса того распространенного типа, который я бы назвал типом бесталанного самомнения: талантом, то есть чутьем и пониманием литературы бог обидел, а самомнение наросло с годами от сознания своей власти над рукописями и авторами.
Почти сразу я почуял некоторую холодность к себе, к рукописи и, главное, через меня и рукопись — к Тамаре Григорьевне. Дама, кажется, была уязвлена тем, что для первой большой редакторской работы новый руководитель журнала позвал человека со стороны. Было сказано какое-то насмешливое словцо по адресу Тамары Григорьевны. Работа началась с чирканья и перестановки слов на первой же странице. Я вступил в спор. Дамское самомнение кипело. Я упорно не уступал. Больнее всего меня задело пренебрежение дамы не к моему тексту, а к авторитету Тамары Григорьевны. Чиркать и переставлять слова во фразе, ею одобренной! И эдак с маху, с налету! А Тамара Григорьевна вовсе не брала ручку и ничего сама не правила в рукописи. Да и что за замечания? «Которые… которые… как… как…» Можно не согласиться. Я решил не соглашаться. В то время я производил впечатление тюфяка, этакой флегматичной орясины, и дама была, кажется, изумлена, обнаружив мою гранитную неуступчивость.
— Я вижу, у нас дело так не пойдет! — сказала она гневно.
— Я тоже так полагаю, — сказал я.
Пожалуй, я вел себя рискованно. Но тогда этого не сознавал. Я пошел к Твардовскому и попросил назначить мне другого редактора. Он спросил: в чем дело? Мы друг друга не понимаем. Стал было рассказывать о предмете спора, но Твардовский прервал, ему все было ясно.
— Мы вам дадим другого редактора, хотя не думаю, что это необходимо. Габбе очень хороший редактор.
А вашей знакомой, с которой вы не сошлись характерами, нужна ведь не литература, а… — он выразился грубо.
Смирнов, стоявший рядом, осклабился. Спустя несколько дней дама была уволена. Не по моей, разумеется, жалобе, а потому, что настал ее черед. Твардовский менял людей, бывших при Симонове, хотя не всех. Кое-кто из симоновских кадров остался при Твардовском, потом снова при Симонове и снова при Твардовском, а некоторые даже дотянули до Косолапова. Дама, которая наскочила на меня, как баржа на мель, переплыла в «Советский писатель» и лет двадцать благополучно подчеркивала там слова «который» и «как».
Твардовского я не видел несколько месяцев, он выглядел иначе: как-то уверенней, энергичней, разговаривал кратко, твердо. К себе я не почувствовал большого интереса. Мне было сказано, что повесть планируется на осень. Она вышла в двух номерах: октябрьском и ноябрьском 1950 года. Моя жизнь изменилась. Внезапно я стал известным писателем. Теперь сомневаюсь: писателем ли? Но тогда, конечно, не сомневался ни минуты. Обрушились сотни писем, дискуссии, диспуты, телеграммы с вызовом в другие города. Все это началось в декабре и продолжалось, нарастая, в течение всей зимы. В редакцию «Нового мира» я заходил за письмами, которые Зинаида Николаевна собирала в толстые пакеты и, передавая их мне, шептала с изумлением: «Послушайте, ну кто бы подумал! Ведь только Ажаев получал столько писем!» Члены редколлегии, которые раньше меня не замечали и едва здоровались — с какой бы стати им замечать? — теперь останавливали меня в зальчике и задавали вопросы.
Катаев сказал, что в два счета сделал бы из меня Ильфа и Петрова.
— Небось уж подписались в Бюро вырезок? И носят вам на квартиру такие длинные конверты со всякой трухой? — спросил он.
Я не слышал, что существует какое-то Бюро вырезок. Твердо решил: не подпишусь. Но через год все-таки подписался.
Александр Трифонович ко всей этой внезапной и ошеломившей меня шумихе вокруг «Студентов» относился благожелательно. Ведь это был успех журнала. Десятый и одиннадцатый номера «Нового мира» достать было невозможно, в библиотеках записывались в очередь. Но официальное отношение к повести было пока неясно. До меня доносились слухи, что есть недовольные, говорят, что вещь чересчур бытовая. Елизар Мальцев, мой приятель по фединскому семинару и в то время уже лауреат, автор «От всего сердца», один из панферовской плеяды, сказал, что слышал такое мнение: «Слишком много евреев».
Твардовский сказал:
— Вы не думайте, что вы всех очаровали. Даже в нашей редколлегии есть люди, которые протестовали резко.
Я посмотрел вопросительно, перебирая в уме: кто бы это? Спросил:
— Бубеннов?
— Бубеннов! — строго и с нажимом произнес Твардовский. — Главный наш зоил. Мужчина серьезный, имейте в виду. Как он Катаева-то поставил по стойке «смирно»! Но мы с ним не посчитались. И вообще, я думаю, он у нас тут не загостится…
С Бубенновым я познакомился в сентябре в кабинете Твардовского. Твардовский и познакомил: «Миша, вот Юрий Трифонов, повесть которого у нас идет…» Наверно, был обо мне разговор, потому что Бубеннов поглядел внимательно, но ничего не сказал. Речи его прозвучали через полгода, когда меня поставили на правеж в секретариате Союза писателей. Твардовский угадал: Бубеннов продержался в журнале недолго, опираться ему было не на кого, Шолохов далеко, остальные члены редколлегии — Федин, Катаев, Смирнов и Тарасенков — стояли, конечно, за Твардовского. Заседания заканчивались руганью Твардовского с Бубенновым. Александр Трифонович умел людей, которые ему были неприятны или которых он мало уважал, подавлять и третировать безжалостно: и ехидством, и холодным презрением, а то и просто бранью.
В январе в «Правде» появилась статья Л. Якименко, положительно оценившая «Студентов». Верховное одобрение пришло. По тем временам это был громадный успех. Мне звонили товарищи, поздравляли. Посыпались всякие лестные предложения: с «Мосфильма», из театра, радио, из издательства. Люди, меня окружавшие, были ошарашены, я же, представьте, принимал все как должное. И вел себя глупо. На предложение «Мосфильма» писать по «Студентам» сценарий я ответил отказом: видите ли, посчитал для себя унизительным эксплуатировать успех. (В кругу приятелей мы потешались над одним слегка очумевшим автором, который сделал по своему роману фильм, пьесу и либретто для оперы.) В «Советском писателе» тоже гордо отказался от договора, ибо, как объяснил удивленному редактору, пригласившему меня, кажется, это был Кузьма Горбунов, я когда-то, полтора года назад, дал обещание редакторше из «Молодой гвардии» Вилковой передать книгу им. Горбунов резонно заметил: «Это молодежное издательство. Они все равно вас издадут». — «Нет, я обещал им первое издание. Не могу их обмануть». Горбунов отпустил меня с богом, издание в «Советском писателе» задержалось на несколько лет. Зато на предложение театра имени Ермоловой сделать инсценировку по «Студентам» я согласился. Мне очень понравился главный режиссер театра Андрей Михайлович Лобанов. Он прочитал повесть, как только она появилась, и сразу пригласил меня в театр.
Я сказал Твардовскому, что согласился на предложение театра. Александр Трифонович презрительно скривился.
— Зачем вам это нужно? Отдали бы на откуп каким-нибудь ловким дельцам.
Шум вокруг «Студентов» уже стал, мне кажется, Александра Трифоновича несколько раздражать. Спустя двадцать два года попробую разобраться в причинах шума. Что за время было в литературе? Лучшие книги, появившиеся в эти годы, были книги о войне: Некрасов, Панова, Казакевич, Гроссман. Небесталанной была и книга Бубеннова, первая часть. Все не о войне было значительно серее, недостоверней. Читателям же хотелось книг о сегодняшней, знакомой жизни. Качество прозы вообще резко снизилось по сравнению с тридцатыми, не говоря уже о двадцатых годах. На первый план выдвинулись бездарные романы Панферова, бесцветная проза Шпанова, Первенцева. Все это была мнимая литература, за которую, однако, выдавались премии, все блага жизни. О современных писателях Запада не могло быть и речи. Их не издавали вовсе. Цвела «холодная война». В «Правде» художники Кукрыниксы изображали «Выплатной день Уоллстрита». В очереди к кассе стояли шеренгой безобразные уродцы с портфелями: Синклер, Жид, Сартр (в дамских панталонах), Мальро, Хаксли. Подпись объясняла: «Очередь цивилизованных дикарей». Был настоящий читательский голод. Помню, каким событием оказалось появление американского романа, вполне посредственного, Айры Уолферта «Банда Тэккера». Его читала вся Москва. И, однако, жажда чтения, страсть к книгам были громадным, всеохватным увлечением — после войны, несчастий, карточной системы, после того, как книги продавали, чтоб купить хлеб. Поэтому произведения, где теплилась хоть какая-то правда, встречались с фантастическим и, казалось, необъяснимым восторгом. Дискуссии вокруг романов Ажаева «Далеко от Москвы» или «Кружилиха» Пановой собирали тысячные аудитории. А что было обсуждать? Вокруг чего дискутировать? Все там ясно, бесспорно. Этот шум, рассуждение с трибун, споры, крики были выражением страстной и истосковавшейся любви к книге.
В истории России никогда не было более благодарной читательской аудитории, чем после окончания войны.
И в повести «Студенты» была некоторая бытовая правда, были подробности, напоминавшие жизнь. И не где-то и когда-то, а жизнь сегодняшнюю, московскую. Обсуждения «Студентов» тоже собирали тысячные аудитории. В иных вузах диспуты длились по два дня. «Новый мир» в февральской книжке под рубрикой «Трибуна читателя» опубликовал подробную, на нескольких страницах стенограмму диспута в Московском пединституте. Помню, редакция «Нового мира» встречалась с читателями московского автозавода. Поехали Твардовский, Смирнов, Тарасенков, Катаев и я. Встреча была многолюдной в клубе ЗИСа.
Первое время я боялся встреч с читателями. Меня пугала не возможная критика, а необходимость выступать самому. Выступал я плохо, мямлил, бормотал и часто разочаровывал слушателей. Встречи длились обычно три, четыре часа, и уставшая публика ждала к концу в виде отдыха и развлечения остроумную речь автора. Я не оправдывал надежд. В президиум поступали записки: «Выступление т. Трифонова нас не удовлетворило». Но постепенно я, что называется, «поднатаскался». У меня отштамповалась со временем некая модель выступления с набором анекдотов и шуток, которые действовали безотказно. И я перестал бояться встреч с читателями. Впрочем, вру. До сих пор всякая такая встреча и вообще всякое прилюдное выступление с трибуны для меня — пытка, казнь.
В клубе ЗИСа я отбарабанил «по модели» десять минут. Твардовский, наклонившись, спросил тихо:
— Ну что, может, теперь усики заведете, как Симонов?.
Явное издевательство над моей «славой». Но я слишком любил Твардовского, чтобы обижаться.
— Нет, Александр Трифонович, не заведу, — пообещал я.
— А жениться не думаете?
— Нет.
— Что ж так? Это вы напрасно. — И вдруг всерьез: — А жениться надо рано. Я рано женился…
Я сказал:
— Я в Ленинград собираюсь, Александр Трифонович.
— Ну, это все равно, что жениться!
Опять мне почудилось, что надо мной издеваются. Я ему все прощал. Я считал: он имеет право надо мной издеваться, ибо я нахожусь в смешном положении едва испеченной знаменитости. В Ленинград я ехал по приглашению Ленинградского университета на дискуссию.
Мы разговаривали с Твардовским вполголоса в то время, как на трибуне кто-то говорил. Это был последний оратор. Когда все кончилось, спустились вниз, оделись, Твардовский спросил:
— Не хотите поехать с нами куда-нибудь посидеть за доброй чаркой?
Такое прямое приглашение в свою компанию от Твардовского я услышал впервые. За доброй чаркой мне приходилось сидеть с ним раза два, но бывало это случайно — я встречал его в баре № 4 на Пушкинской. Теперь же меня приглашали, как равного. И, конечно, я был польщен, мне страшно хотелось пойти с Твардовским и Катаевым в какое-то заманчивое «куда-нибудь». Но ведь я был нелепым молодым обормотом! Меня ждали девицы, компании, добрые чарки, и все было заранее договорено, предусмотрено — квартира находилась как раз неподалеку от клуба ЗИСа. Да, очень хотелось пойти с Твардовским и Катаевым, но, что поделать, к девицам хотелось еще сильней. И я честно признался в этом Александру Трифоновичу. Он, кажется, не понял моей откровенности, попрощался сухо. Утром я проснулся в чужой квартире, разбитый, с головной болью. Комната была перегорожена надвое. Приятели мои исчезли. На другой стороне, за шкафом, старуха мыла тарелки. И я с тоской думал о своей вчерашней глупости, но все же утешал себя: впереди долгая жизнь и я еще не раз отправлюсь с Твардовским и Катаевым «куда-нибудь».
Да, было, отправлялся, но спустя много лет, без Катаева и без того Твардовского, и без того меня. Впрочем, было-то иначе, не «где-нибудь», а по-домашнему, на веранде. То, что упущено в юности, упускается навсегда. Поэтому долгая жизнь оставляет много времени для сожалений.
Было несколько встреч в баре на Пушкинской. Александр Трифонович жил тогда рядом, на улице Горького, в бар заходил часто. А мы, бывшие студенты Литинститута, и вовсе считали бар своим домом. Всегда после стипендии туда! Помню, пришел с Евдокимовым. Твардовский увидел меня, пригласил за столик. Это было, наверное, в ноябре, сразу после выхода номера с окончанием «Студентов». Твардовский сидел один. Перед ним стояла водка в стакане, кружка пива и тарелка с ломтиком красной рыбы. К рыбе он за весь вечер не притронулся.
Если в редакции Александр Трифонович был со мной корректен, суховат и я не ощущал его истинного отношения, то теперь вдруг почувствавал какое-то непроизвольное движение теплоты, интереса к себе. Он так радушно жестом позвал меня за столик, так почтительно поздоровался с моим товарищем и так мягко, приветливо стал меня расспрашивать.
Я что-то говорил о своих планах. Планов было множество, но ничего определенного. Уже несколько недель я находился в состоянии эйфории.
— Да, вы теперь должны поднять новый пласт. Поехать куда-то на стройку, на завод… Только, бог ты мой, не пишите продолжения! — внушал он тихим голосом. — Нынче модно: первая книга, вторая книга… Чуть у кого такусенький успех, он сейчас на этом плацдарме окапывается, строит долговременную оборону. А надо дальше идти. И вот выжимают, выжимают… Не будете писать продолжения? Нет? Обещаете?
— Нет, не буду, Александр Трифонович. Точно не буду. — И не мог удержаться от хвастовства: — Хотя многие советуют…
— Дураки советуют! Не слушайте дураков! — сердито сказал он и вдруг другим тоном, как бы про себя, безучастно: — Ах, бог ты мой, дело ваше. Хотите, слушайте…
И была минута-другая какого-то внезапного ледяного отчуждения, он отсутствовал, смотрел в сторону, я мучился недоумением и не знал, что делать. Может, я ему опротивел? Встать и уйти? Но затем снова интерес, приветливость.
— Вот что я вам скажу: не спешите с новой вещью. Изучайте людей… Когда будете знать их так же хорошо, как вы знаете своего профессора Козельского…
Профессор Козельский — из моей повести, злой гений, формалист и низкопоклонник.
— И запомните еще: сейчас у вас самое ответственное время… Сейчас успех — опасность страшная! — Он грозил пальцем. И вдруг, приблизившись вплотную, зашептал на ухо, чтоб не услышал Евдокимов: — Мы вас на премию хотим выдвинуть. Только пока молчать! Ни я никому, ни вы никому. Ничего не известно, и, разумеется, я вам зря говорю… Забудьте, не придавайте значения…
Но как я мог забыть? И Евдокимов, сидевший рядом и, конечно, слышавший громкий шепот, при всем желании не мог бы забыть.
— Испытание успехом — дело не шуточное. У многих темечко не выдержало…
Это выражение — относительно темечка — я слышал от Александра Трифоновича не раз на протяжении лет. Говорилось о разных лицах, об авторах первого прихода Александра Трифоновича в «Новый мир» и об авторах второго прихода, когда в журнале получили литературное крещение многие таланты, и у иных «темечко не выдерживало».
Помню, тот вечер в баре закончился нелепой историей. Какой-то человек за соседним столиком — был уже поздний час, мы засиделись до полночи — вдруг заговорил, обращаясь к Александру Трифоновичу:
— Вы Твардовский? Автор «Василия Теркина»? Зачем же вы ходите в низкопробные, последние кабаки? — Человек говорил ровным, негромким голосом. То ли это был идиот, то ли особого сорта нахал. — И вам не стыдно? Сидите с кем попало, пьете водку… Разве Пушкин так проводил свободное время? А Лермонтов?
Александр Трифонович слушал с каким-то скорбным, терпеливым вниманием и кивал, кивал. Мы с Евдокимовым, уже в сильном подпитии, подскочили к человеку, грубо его оборвали. Кричали, что он, кабацкая шваль, не имеет права так разговаривать с великим поэтом. Хватали его за руки. Нам хотелось подраться. Человек был невзрачен, в пожилом возрасте, драться ему было ни к чему, и он, слабо сопротивляясь, вырывал свои руки из наших, продолжая восклицать:
— С Есенина пример не берите! Есенин не образец!.. Почему вы не берете пример с Пушкина?..
Но каким-то людям из-за соседнего столика хотелось подраться и они вступились за этого человека. Началась свара, толчки, подбежал официант. Александр Трифонович, не замечая всего этого и даже не глядя в нашу сторону, сидел один за столиком и, обняв ладонью лоб, по-прежнему скорбно, отрешенно кивал, кивал. Потом я провожал Александра Трифоновича домой — через Пушкинскую площадь в новый дом предвоенной постройки, где жила элита. Я дошел только до прихожей. Квартирка показалась мне небольшой. Александру Трифоновичу было в ней тесно. Он знакомил меня с женой, приговаривая настойчиво: «Маша, ведь ты читала?.. Ты же читала, Маша?..» Мария Илларионовна, маленькая озабоченная женщина, ни подтверждала, ни отрицала ей было не до того. Она лишь шепнула: «Спасибо вам», — и я исчез.
Другой раз там же, в баре. Опять случайная встреча. Твардовский сидел с каким-то писателем, познакомил меня. Был январь. Писателя, сидевшего с Твардовским, не помню. Помню только, что Александр Трифонович говорил ему «ты» и держался с ним по-простому, но немного свысока. Чем больше Александр Трифонович меня хвалил — а делал он это с преувеличенным напором, как бы нарочно, — тем более холодно, а потом уж вовсе с ненавистью глядел на меня писатель. Наконец попрощался сквозь зубы и ушел.
Александр Трифонович смеялся.
— Парень недурной, но уж больно завистник злой. Я его в шутку заводил. Вы всерьез мои слова не принимайте. Повестушку вы написали свеженькую, но не бог весть что…
Мы остались вдвоем. Не помню уж, как зашел разговор — я рассказал о судьбе отца и матери. Он слушал без особого интереса и так, будто все это ведомо, слышано. Не расспрашивал: «А с кем же вы остались? А есть ли какие сведения?» — что спрашивают обыкновенно, проявляя любопытство, ему все было понятно разом. А подробности не интересовали. Он заговорил о своем отце.
И тут я впервые понял, что то, что случилось с его отцом и что случилось с моим, — части единого целого российской трагедии. Это связано, слитно, это по какому-то высшему счету одно и то же.
Он говорил, как отец прощался, как его увозили…
И в голосе была открытая боль, что меня поразило, ведь он и старше меня, и разлука с отцом произошла давно, двадцать лет назад, а у меня тринадцать лет назад, но я думал об отце гораздо спокойней. Боли не было, засохла и очерствела рана. А он плакал.
— Наделали дел, бог ты мой! Старика, который всю жизнь трудился, шептал еле слышно. — Помню его руки, рабочие, на столе — в мослах, мозолях…
О чем он плакал? О безвозвратном детстве? О судьбе старика, которого любил? Или о своей собственной судьбе, столь разительно отличной от судьбы отца? С юных лет слава, признание, награды, и все за то, что в талантливых стихах воспел то самое, что сгубило отца. Он плакал, не замечая меня, наверно, и забыл, что сижу рядом. А я подумал: мы оба дети репрессированных. И пусть он наверху, на Олимпе, а я внизу, в жалкоте, в коммунальной гуще, но некая печать отверженности лежит на нас обоих. От этого вовсе не было горько, наоборот — было как-то покойно, тепло.
На другой день зачем-то пришел в «Новый мир», сидел в зальчике, разговаривал с Зинаидой Николаевной. Было начало дня. Вошел Твардовский в шубе, суровый, насупленный. Зинаиде Николаевне процедил «Добрый день», мимо меня прошел, как мимо стула, поглядел в упор, не видя. Я пробормотал «Здрасте», да так и остался с разинутым ртом. Зинаида Николаевна шептала, гримасничая своим старым, нелепо накрашенным, очкастым лицом: «Не обращайте внимания. Плохое настроение». Ну зачем мне понадобилось после прекрасного вечера лезть ему на глаза в «Новом мире»? Все это что-то напоминало. Я не сразу догадался — чаплинский миллионер! Потом привык к таким историям и почему-то не обижался. Лишь однажды обиделся. Но об этом речь позже.
Весною, кажется, в апреле, в Москве собрали Второе совещание молодых писателей. На Первом совещании, в 1947 году я был в семинаре у Валерии Герасимовой и подвергся убойной критике за два рассказа. Теперь попал в семинар к Гроссману. Как раз во время совещания в «Правде» появилось сообщение о премиях. За повесть «Студенты» — третья премия.
Тогда они давались пачками, чуть ли не по тридцать, сорок штук в год. Вместе со мной третьи премии получили Антонов, Караваева, Шагинян, Стельмах, Закруткин, Кассиль и еще человек шесть, вторые — Рыбаков, Бабаевский, Ибрагимов, еще кто-то, а первые — Гладков и Николаева.
Бурный расцвет литературы. Что же осталось сегодня из этого книжного Вавилона? Что можно читать? Ничего, пожалуй. Может, какой-нибудь рассказик с деревенскими пейзажами, да и то скука. Все ухнуло в колодец, дна не имеющий, который называется: забвение.
Но тогда, в апреле, ярким днем… Никому не ведомый, мальчишка, двадцать пять лет, едва выскочил на страницы журнала, даже книги нет и не член Союза — и вдруг лауреат! Факт ошеломительный, невыносимый. Ведь для большинства, для сотен бедных творцов за последние годы единственной целью и страстной грезой жизни стала не книга, не творение, а таинственная благодать — лауреатство. Это была земля обетованная, берег с райскими кущами, куда надо доплыть, и они плыли, гребли, махали руками, выбивались из сил. Правда, достичь берега удавалось многим, но все же не всем. Все это я понял гораздо позже. А тогда влетел в литературу, как дурак с мороза.
Помню, день объявления премий меня, конечно, обрадовал, но не то, чтобы потряс или осчастливил. Я принял известие довольно спокойно. К десяти утра, к началу занятий в семинаре Гроссмана, поехал в ЦК комсомола, к Ильинским воротам, где происходило совещание. В вестибюле меня встретил литинститутский приятель Медников, который глядел на меня минуту-другую с изумлением и потом спросил:
— Старик, ты газету читал сегодня?
— Читал. Насчет премий?
— А я думал, не знаешь! Старик, но по тебе совершенно ничего не видно!
И я замечал в тот день, что многие мои приятели потрясены этой новостью гораздо сильней, чем я. В лифте ехал на третий этаж с Медниковым, еще с какими-то ребятами из семинара, меня поздравляли, шутили, балагурили, только один человек не поздравил, не проронил ни слова, и я поймал на секунду злобно-черный, я бы сказал, испепеляющий взгляд. Это был один из руководителей нашего семинара, писатель Анатолий Калинин. «Ого! — подумал я. — Мы ведь почти не знакомы. За что ж он этак-то люто?»
Мне вспоминаются мелочи, чепуха, неуловимое, даже не поступки, не слова, просто взгляды. Но что делать, если взгляды запомнились. На этом совещании из меня, кажется, намеревались делать фигуру. Еще бы, участник совещания, комсомолец и уже лауреат! Я открывал прения. От меня ждали восклицаний, благодарностей, клятв. Я разочаровал, мямлил о чем-то несущественном. Вождь комсомола Михайлов в своей речи меня поправил и несколько осадил.
Но настоящая «осада» началась недели через три. Как гром среди ясного неба — исключение из комсомола за то, что я скрыл, что являюсь сыном врага народа. Начался новый пароксизм шумихи вокруг «Студентов», на этот раз скандал. Теперь уж я стал действительно знаменитостью или, говоря словами Слуцкого, «широко известен в узких кругах». Лауреат, которого следовало исключить. Ах, вот была жалость для руководителей Союза, что не успели меня принять в члены и теперь были лишены сладости исключать! Впрочем, некоторую сладость все-таки испытали, вопрос обсуждался на секретариате. Кажется, особенно свирепствовали Бубеннов, Соболев, Панферов и Шагинян. Она требовала чуть ли ни отобрать у меня премию. Были бы рады это сделать, но страх перед именем — премии-то сталинские — леденил руки. Эту историю я, может, расскажу когда-нибудь подробнее. Я ведь прошел все круги комсомольского исключения: собрание в Литинституте, где я состоял на учете, райком и горком. Дело завершилось строгим выговором с предупреждением. Оставили жить. Но райские кущи отодвинулись: договора на переиздания на меня, как на других лауреатов, не сыпались, а единственное договорное издание «Молодой гвардии» застряло и вышло лишь через год.
Кто же подставил плечо той нелепой весной, когда на меня, сбивая с ног, обрушилось почти одновременно два ливня: горячий и ледяной? Только друзья. Но они были молоды, слабосильны, не имели ни авторитета, ни связей. Из писателей — Гроссман. Он один выступил на секретариате в мою защиту.
Я прерываю писание, потому что пришел молодой человек, начинающий писатель. Ему тридцать лет, он работает в газете, пишет рассказы, повести. Он по-настоящему талантлив. Был болен, подвергся тяжелой операции и написал об этом повесть: «Операция». Его стилистика — от Платонова, Зощенко. Поговорив о его вещах, я решаюсь на эксперимент: читаю ему полный список лауреатов пятидесятого года, двадцать четыре человека. Кого он знает? Кто остался для него как писатель? Имена слышал, но почти никого не читал или же читал и забыл. Кажется, когда-то в начальных классах читал «Чайку» Бирюкова. А про «Студентов» даже не слышал. Он знает меня только по новомирским вещам. Все нравится, особенно «Предварительные итоги». Я показываю ему на полку, набитую «Студентами» на разных языках. Он глядит с недоумением и пожимает плечами.
Так вот, возвращаюсь на двадцать два года назад. Рассказывали, что на заседании Комитета по премиям, когда обсуждалась моя кандидатура, кто-то сказал: «Он сын врага народа». Не помню уж кто, то ли Бубеннов, то ли кто другой из этой компании. Была минута ужаса. Сталин присутствовал, и было сказано для его ушей. Но он спросил: «А книга хорошая?» В самом вопросе уже содержался намек на ответ, и Федин нашел мужество сказать: «Хорошая». Повесть была выдвинута на вторую премию, ей дали третью. Может быть, Сталин вспомнил отца, которого хорошо знал еще по Юго-Восточному фронту. Или вспомнил дядю Евгения, которого тоже знал и недолюбливал с царицынских времен? Это была любимая игра: дети целуют руки, обагренные кровью их отцов.
Итак, заступились Гроссман, Федин. Впрочем, Федин еще до того, как разыгралась свистопляска с моим исключением. Был еще один писатель, Ажаев, который сдержанно сочувствовал мне в тяжелую минуту. Он возглавлял Комиссию по работе с молодыми. Кстати, ему-то я признался перед тем, как заполнять анкету для премии, и спрашивал совета: писать правду про отца или нет? Ажаева я знал мало. Но мне казалось: свой брат, пострадавший, поймет и даст ответ. Он сказал: «Напишите. Они все равно знают». Я написал. Меня колотили за прежнее: за то, что скрыл при вступлении в комсомол и при поступлении в институт. Твардовский и редакция «Нового мира» держались нейтрально. Я к ним не заходил, они меня не искали. В день объявления премии я получил телеграмму от Твардовского, а затем наступило молчание.
Я задумывался: не оскорбил ли я Твардовского и «Новый мир» тем, что вокруг меня заварилась такая каша? Ведь им было бы гораздо спокойней, если бы ничего этого со мной не случилось. Они меня напечатали, выдвинули, хлопотали о премии. А я вместо благодарности устроил им такую неприятность. Ведь им же неприятно. Печатают, а кого, не знают. Замаскировался, вполз в доверие. Был даже такой слух: фамилия моя вовсе не Трифонов, я взял псевдоним, чтобы подмазаться к Александру Трифоновичу. Вот интересно: почему молодой писатель, еще не имевший врагов, не принадлежавший ни к какой группе, совершенно никому неведомый, оказался в изоляции и никто, кроме Гроссмана, не осмелился сказать доброго слова в его защиту? Ну, еще Ажаев сочувствовал. У других же обычное для нашей братии равнодушие, и ревность к успеху, и презрительное отношение к этому успеху. Но главное в ином. Это было время страшных слов.
От этих слов люди шарахались. Подальше, подальше! «Сын врага народа!» от такого словосочетания подскакивало давление, повышался сахар в крови и мог случиться коллапс. Люди берегли себя, вот и все.
Через год, весною пятьдесят второго, когда положение мое несколько упрочилось и определилось — а то было неясно, то ли я лауреат, то ли сын врага народа, едва не исключенный из комсомола — и в «Молодой гвардии» вышла наконец книга, я пришел в «Новый мир» просить командировку. Хотелось уехать подальше. Увидеть жизнь, не похожую на ту, о которой я писал прежде. Попросил командировку в Среднюю Азию, на стройку Туркменского канала. Александр Трифонович одобрил. В апреле я улетел на юг.
Мотался по Каракумам на вездеходах, на верблюдах, в маленьких самолетиках, знакомился, узнавал, записывал. В Черкесской экспедиции, стоявшей штабом в Казанджике, но с отрядами, разбросанными по всей пустыне, работала геоботаником сестра Таня, только что окончившая МГУ. Она помогла проникнуть в некоторые секреты полевой, изыскательской жизни. Я начал писать повесть об изыскателях на трассе канала. Писал осень, зиму — работа шла туго, материал был далек, необжит, необмят. Да и где было обжить и обмять за месяц галопа по пустыне. А я привык писать лишь о том, что знаю досконально. Дело стопорилось. Отвлекали великие пустяки жизни. Мне казалось, что я разучился писать. Но все же треть повести, страниц сто двадцать, была написана к марту пятьдесят третьего, когда умер Сталин. Я собирался весною снова поехать в Туркмению. Внезапно пришло известие: стройку Туркменского канала законсервировали как нерентабельную. После смерти Сталина многие «великие стройки» были в одночасье закрыты. Таня, приехав, рассказывала: все обрезалось враз, некоторые отряды, застрявшие в песках, не могли выбраться без транспорта и без денег.
Моя повесть застряла, как эти отряды в песках. Но без надежды выбраться. Кому нужна книга о стройке, которую закрыли? Ничего не писалось. Все бесконечно разговаривали. Писать по-старому было неинтересно, писать по-новому еще боялись, не умели и не знали, куда все это повернется. Говорили, что Твардовский плакал в президиуме в Доме кино на траурном собрании по поводу смерти Сталина. И слезы были, конечно, искренние. Такую же искреннюю скорбь я наблюдал в собственной семье. Мать, прошедшая карагандинские и акмолинские лагеря, боялась, что будет хуже. Бабушка горевала от души. Она знала Сталина с 1912 года, когда он жил в ее квартире на Васильевском острове в Петербурге, знала по Секретариату ЦК, где семнадцать лет, с двадцатого по тридцать седьмой, работала дежурным секретарем у Стасовой. Бабушка не пострадала. Но вся ее семья — сын, дочь, зять — попала под колеса тридцать седьмого. Зять, мой отец, расстрелян. Расстреляны почти все друзья. И, однако, книжечка главного палача «О Ленине и ленинизме» (первое издание, 1924 год) с надписью «Дор. товарищу Словатинской на память о совместной работе в нелегальное время. От автора» стояла на почетном месте в шкафу. В тот мартовский вечер, когда сотни людей погибли под сапогами толпы — а я с двумя приятелями ходил по Сретенскому бульвару, чему-то неясно радуясь, наверное, запаху перелома, который чуялся в воздухе, и рядом, стиснутое оградой и домами, медленно ползло вниз, к Трубной, это темное, шаркающее, глухо стонущее, объятое горем, ужасом, любопытством, болью и бессмысленным бараньим одушевлением, еще не ведающее своей судьбы, бедное человеческое стадо, — в тот вечер бабушка трижды прошла в Колонном зале мимо гроба со Сталиным. Как старого члена партии, ее проводили какими-то безопасными подземными ходами.
Близкие мне люди — один человек, меня воспитавший, другой, давший мне дорогу в литературу — плакали над этим гробом. Бабушка умерла через четыре года и вряд ли успела понять умом и душою то, что произошло. Твардовский прожил еще немалую и главную свою жизнь. Ах, боже мой, малую, мучительно малую, беспощадно малую прожил он жизнь!
Но за это время он во многом безоглядно переменился. Он не переменил положения своего тела, своих рук и ног — как делают многие, как делают большинство, кого тянет и переворачивает время, как бывает с камнями или бревнами, которые тащит и переворачивает поток, — он переменился сутью, естеством.
Однажды на Пахре я говорил ему о фильме, кажется, Бондарева, где о Сталине было сказано что-то хитро-мудро-хвалебное. Тогда было в новинку, и все обратили внимание.
— Как же можно сейчас хвалить Сталина? — сказал Александр Трифонович с искренним изумлением.
Теперь — после того, как узнали, что пережили, чем перестрадали. Теперь ему казалось немыслимо. А ведь и он писал когда-то: «Черты портрета дорогого…»
В пятьдесят четвертом я написал пьесу о художниках для театра Ермоловой. Ее поставил Андрей Михайлович Лобанов. «Советская культура» напечатала разносный подвал. Пьеса, конечно, была жидкая. Но в спектакле кое-что удалось, били меня, по-моему, чрезмерно ретиво и вусмерть. Я сунулся в театральные дебри, где хозяйничала мафия, и получил по сусалам. Вспоминаю этот эпизод, потому что с пьесой была связана еще одна попытка — последняя в «первый приход» Александра Трифоновича — напечататься в «Новом мире». Вдруг позвонил Смирнов и попросил немедленно прислать экземпляр пьесы. Выпал из номера какой-то материал, срочно искали замену. Я не верил, что пьеса пройдет в журнале, все-таки чувствовал ее слабину. А вот мужества отказаться, не послать — не нашлось! Послал. Через два дня вернули. Мне было стыдно перед Александром Трифоновичем.
И потом в том же пятьдесят четвертом я пришел в журнал с просьбой о договоре на новый роман. Признаться, надеялся получить аванс, так как сидел без денег. Дело обыкновенное. Премия давно растаяла, деньги за молодогвардейскую книгу пролетели, а заграничные издания, которые на меня посыпались, не приносили ни копейки. Я был нищ, у меня не было квартиры, автомобиль, купленный сгоряча в пятьдесят первом году, мы продали.
Просьба о договоре окончилась ужасным и незабываемым конфузом.
Так как эта история наложила отпечаток на дальнейшие несколько лет моих отношений с Александром Трифоновичем, я расскажу о ней подробнее. Вообще-то в просьбе о договоре не было ничего зазорного или дурного. Все писатели живут от аванса до аванса. Но в моем случае был ряд причин, которые делали эту просьбу рискованной. Я должен был почувствовать, что отношение Александра Трифоновича ко мне за последние года два заметно охладело. Я, может, и чувствовал кое-что, но не придавал значения и не задумывался. Ну что ж, не зовут в журнал, не приглашают на встречи с читателями, не предлагают командировок, а когда встречал вдруг Александра Трифоновича в Доме литераторов, он кивнет сдержанно и пройдет, как проходят мимо постороннего и малознакомого человека: естественно, полагал я, ведь я ничего не пишу и интерес пропал. Я сам виноват. Помню, шел как-то с Ниной, увидел Александра Трифоновича, шепнул: «Вон Твардовский! Сейчас я вас познакомлю!» — бросился к нему, волнуясь, бормотал что-то, он холодно поклонился и, ни слова не сказав, прошел дальше. Тут была не просто утрата интереса, тут было уже нечто другое: неприязнь. Нина была поражена, ведь я ей столько рассказывал о Твардовском. «А он тебя не любит!» Я этого не понимал, ибо не понимал главного: за что бы он мог меня не любить? Пускай я бездарность, не напишу больше ни строчки, но зачем же не любить, окатывать этаким ледяным холодом? Впрочем, Александр Трифонович — человек особенный. Он относится к литературе очень страстно, лично.
Я вспомнил, как в другие времена, когда он еще меня любил, он говорил, что литературу надо любить ревниво, пристрастно. «Мы в юности литературные споры решали как? Помню, в Смоленске в газете затеялся какой-то спор о Льве Толстом, один говорит: „А, Толстой — дерьмо!“ — „Что, Толстой дерьмо?“ — не думавши, разворачиваюсь и по зубам. Получай за такие слова! Он с лестницы кувырком…»
Вот я и думал, что перемена отношения Александра Трифоновича ко мне оттого, что я творчески скис. Ни черта ведь не получалось, не писалось. Оно так и было, конечно. Но было и другое. Позднее, когда я узнал Александра Трифоновича ближе, я понял, какой это затейливый характер, как он наивен и подозрителен одновременно, как много в нем простодушия, гордыни, ясновельможного гонора и крестьянского добросердечия, как легко он поддается внушениям, как трудно меняет свои мнения о людях. Были какие-то разговоры, какие-то сплетни, слухи. Ведь наша среда в этом смысле окаянная. Об этих наговорах и сплетнях впервые услышал от Леши Фатьянова, с которым иногда схлестывались то в «Коктейль-холле», то в ВТО у «Бороды», а Леша был соседом Александра Трифоновича по его новому дому на Фрунзенской набережной. Леша каждый раз сообщал неприятное: «Твардовский по твоему адресу бурчит», «Твардовский покривился, когда я сказал о тебе». А однажды передал такое: кто-то Твардовскому сказал, что на какой-то литературной встрече я отозвался о нем будто бы неуважительно. Это уж был вовсе бред. Я заорал: «Кто сказал? На какой встрече?» Леша пожимал плечами. Подробности неизвестны. За что купил, за то продал. Но, кажется, испытывал удовольствие. Мне советовали пойти к Твардовскому и попробовать объясниться. Я не решался. Казалось глупым: зачем напоминать о своей персоне? В конце концов, для меня одного это важно и болезненно, даже более чем болезненно — перемена Твардовского меня глубоко ранила, в чем я никому не признавался, — для него же, может быть, все это пустяки, несущественность. Забыл и забыл. А приходить, напоминать, «размазывать» — вроде чеховского чиновника, который чихнул на лысину генерала и все пытался потом объясниться.
Таковы были мои отношения с Твардовским к тому дню, когда я отправился насчет договора. Вернее, отношений не было, были лишь смутные переживания по поводу их отсутствия и надежда как-то дело поправить. Между тем Александру Трифоновичу было вовсе не до меня в эти дни. Журнал подвергался критике. Именно в пятьдесят четвертом году в «Новом мире» появились приметы той литературы, которая составила ему славу в шестидесятые годы, и критика это учуяла — началась пальба. Били статью Федора Абрамова «О деревенской прозе», били — и жестоко — статью Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Забот и тревог у Александра Трифоновича хватало.
Сначала я поговорил со Смирновым в его маленьком кабинетике, потом Смирнов, ничего не решив, предложил зайти к главному редактору. В кабинете кроме Твардовского были Тарасенков и Сутоцкий.
Твардовский церемонно со мной поздоровался. Я стал объяснять: есть замысел романа, современного, действие происходит в Москве, хотелось бы договор, если это возможно. Александр Трифонович слушал, затягиваясь папиросой и глядя на меня пристально и сощурившись. Не дав мне договорить, он усмехнулся и сказал, обращаясь к присутствующим:
— Роман написать! Да сейчас Шолохов не может романа написать, а вы говорите! Присутствующие одобрительно закивали.
— Какой роман? О чем? Что за идея? — продолжал он с напором. — То, что вы рассказали, весьма туманно и, простите меня, неубедительно. У нас нет возможности рисковать договором. Ведь вы же куда-то ездили, что-то собирались делать. Совсем не то, о чем рассказываете сейчас.
Я объяснил про Туркменский канал, про закрытие, про свою брошенную повесть. Александр Трифонович, внимательно выслушав, вдруг сказал резко:
— Вот о чем надо писать. Об этом и пишите: как планировали, кинули миллионы, вдруг закрыли…
— Вы такую повесть напечатаете?
— Да вы напишите сначала! — крикнул он раздраженно.
Я молчал, понимая, что всякое возражение бессмысленно. Попал в дурную минуту. Члены коллегии тоже молчали — для них это было вроде спектакля. Твардовский не спешил меня отпускать. Он стал говорить о том, что все хотят писать романы, дилогии, трилогии, эпопеи, а не могут путем написать рассказ. И мне предлагал:
«Начните с рассказа. Попробуйте написать рассказ на десять страниц и приносите». И это начните говорилось редактором, который недавно — хотя какое недавно? Четыре года прошло! — напечатал мою книгу в двадцать с лишним листов. Значит, ее как бы и нет? Как бы и не существовало? В то время я не мог с этим согласиться. Показалось, что меня намеренно обижают. Впрочем, так оно и было. Мало того, что отказали в договоре, но еще и отняли то, что было: мое блистательное начало. Как говорили некоторые. А я, дурак, верил.
Оторопевший от такого афронта, я все же пытался защитить свою честь.
— У вас, по-моему, не так-то много молодых писателей… — глупо пробормотал я.
Эта фраза, в которой слышался своего рода укор, окончательно взорвала Твардовского. Злорадно фыркнув, он сказал:
— Знаете, у нас в деревне говорили: к одному мужику пришел сын, просил денег. Тятя, говорит, ты своему дитю должен помочь! А сам вот этой штукой стучит по столу…
Члены редколлегии покатились со смеху.
Я попрощался и ушел. Смирнов догнал меня в зальчике, где Зинаида Николаевна остолбенело таращилась на меня: как видно, я был заметно не в себе. Смирнов счел нужным подбить итог:
— Понимаете, Юрий Валентинович, есть элемент недоверия…
Чего же не понимать? Я понимал. Не понимал одного: зачем этот элемент надо проявлять с таким охотничьим азартом? И я решил никогда больше не переступать порога «Нового мира».
II
Спустя двенадцать лет я опять напечатался в журнале Александра Трифоновича. А что до того? Время текло, ломалось, падало белой стеной и разбивалось с грохотом: водопадное времечко! И мы неслись в его пене, вертелись в водоворотах, ныряли, тонули, выскакивали на свет божий с безумной надеждой в глазах. А насчет писания дело у меня не очень клеилось. Я мотался в Туркмению едва ли не каждый год. В пятьдесят восьмом сочинил несколько туркменских рассказов, и очень захотелось понести их Александру Трифоновичу, который как раз тогда опять возглавил журнал. Обида помнилась мне, но слабо.
Кого только не обижали в те годы! И самого Александра Трифоновича: сняли с редакторства, четыре года он был как бы проштрафившийся.
Но все же прийти прямо к Александру Трифоновичу я не решался. Принес рассказы в отдел, Заксу. Тот быстро прочел и отверг. Приговор был лаконичный: «Какие-то общечеловеческие темы!» До Твардовского мои сочинения не дошли. Эти рассказы — их было штук десять, я относился к ним всерьез и считал в некотором смысле своим достижением — я показал Тамаре Григорьевне Габбе. Тамара Григорьевна жила в новой квартире, у «Аэропорта». Мы не виделись долго, но я вновь ощутил тепло, интерес к себе. Ничего особенного, но как это было дорого, непривычно! Рассказы Тамаре Григорьевне понравились. «Не огорчайтесь отказом Закса. Я попробую через Самуила Яковлевича сделать так, чтобы их прочитал Твардовский».
Через некоторое время Тамара Григорьевна смущенно сообщила, что Маршак говорил с Твардовским обо мне и тот сказал: «Закс мой работник, я ему доверяю». И не стал рассказов читать. В 1959 году они вышли в «Знамени». С этого времени примерно на шестилетие я стал автором «Знамени». С Александром Трифоновичем почти не виделся. Была встреча на похоронах Тамары Григорьевны Габбе в шестидесятом году, и опять я невольно сделал так, что восстановил Александра Трифоновича против себя. Еще более восстановил!
Тамара Григорьевна умерла еще не старой женщиной, пятидесяти семи лет. Близких людей, кроме Маршака, у нее не было. Александр Трифонович очень сочувствовал горю старшего друга. Был звонок из Союза писателей: от имени Твардовского меня просили выступить на траурном митинге. Я сказал, что не смогу, не умею. Это была истинная правда. С трудом и то в силу величайшей необходимости я выступал на собраниях, а на траурном митинге, где каждое слово должно быть значительно, я не смог бы выговорить двух фраз, бормотал бы постыдно.
Прошло много лет с тех пор, я многих похоронил, научился тупо стоять в карауле, притерпелся к скорбному обиходу, к повязкам, цветам, выносу, вносу, тихим разговорам и на собраниях выступаю довольно связно, но заговорить над гробом — а ведь есть что сказать! — и теперь не хватает духу. Это только кажется, будто есть что сказать. Нету слов для этого. Не существует…
Встретились с Александром Трифоновичем в тесной, набитой людьми квартире Тамары Григорьевны, вместе несли гроб с третьего этажа, и Александр Трифонович глядел на меня не то что неодобрительно, а как бы с изумлением: и как же ты мог? Да, да, мог, вернее, не мог. Постепенно, я чувствовал, у Александра Трифоновича возникало отчетливое представление обо мне — весьма далекое от того, что я есть на самом деле. Но ничего поделать было нельзя. Я надеялся на время: что-нибудь сочиню совсем не так, как сочинял прежде, меня напечатают, тогда поговорю, объясню, докажу. Хотя что, собственно, надо было доказывать? Все это пустое, недоказуемое. Иногда мне мерещилось, будто моя безответная приверженность к Александру Трифоновичу, скрытно мучающая, какое-то неизжитое мальчишество, незрелость души. Да черт бы меня взял! Какой-никакой, я все же самостоятельный писатель, и находились люди, правда, не так-то много, которые считали меня хорошим писателем, а мои родные считали меня даже очень хорошим писателем, но, едва завидев Твардовского, я краснел и покрывался потом, как мальчишка, встретивший вдруг на улице своего любимого спортсмена. Впрочем, тут не было странного — я был не одинок. Наступали годы, когда имя Твардовского приобретало все больше приверженцев, болельщиков, прямо-таки фанатических поклонников среди читающей России. А затем очень скоро, с непостижимой быстротой это имя сделалось легендарным.
В конце шестьдесят второго года, когда я закончил роман «Утоление жажды» и Кожевников вдруг отказался его печатать — а я писал роман по договору со «Знаменем», — из «Нового мира» прилетело предложение показать роман. Предложение от Евгения Герасимова, который заведовал отделом прозы. «Покажите! А вдруг?» Я показал. Через день Герасимов позвонил с отказом. Не понимал тогда, не понимаю теперь, как можно за день прочитать роман в двадцать печатных листов.
Скорее всего, тут подействовало то, возникшее с годами отчетливое представление обо мне и о том, что я могу написать. Александр Трифонович мог и не знать, что Герасимов звонил насчет романа, а узнав, покривился. Роман вышел в «Знамени», а «Новый мир» отозвался кисло-сладкой рецензией Феликса Светова. Я был уязвлен, счел рецензию несправедливой и со Световым перестал здороваться. Господи, какая глупость! Сейчас мне плевать на все, что обо мне пишут. Лишь бы не убивали, конечно. Я нисколько не уязвляюсь самыми злобными статьями (такие появились именно сейчас, что там кислятина Феликса!) и не шибко радуюсь похвалам. Все это элементарно, но до такой элементарности надо доползти, докарабкаться — должны пройти годы. Со Световым мы сейчас добрые приятели и нас ничто не разделяет. Кроме единственного: той проклятой рецензии, на которую я давно наплевал.
В 1964 году мы с Александром Трифоновичем оказались соседями по дачному поселку Красная Пахра. Александр Трифонович купил дом недавно умершего Дыховичного, я почти одновременно приобрел недостроенную дачу Слободского. Участки находились рядом и соединялись калиткой — соавторы, как видно, часто бегали друг к другу. Первое время соседство с Александром Трифоновичем никак не отражалось на наших отношениях, по-прежнему далековатых. А. Т. заколотил калитку. Мы встречались изредка, здоровались через забор. По утрам Александр Трифонович возился в саду, трещал сучьями, жег костер или рубил дровишки на маленьком рабочем дворе за своей времянкой, как раз возле угла нашего общего забора. Часов в шесть утра я слышал кашель Александра Трифоновича, знал, что он уже встал, возится с сучьями, и тоже вставал и выходил в сад. Я делал гимнастику, приседал и махал руками в еще сыром и темном саду, приближаясь к тому углу забора, неподалеку от которого работал Александр Трифонович. Какой у меня сад! Лес, высокая трава, ели, березы, осина… Приблизившись к забору, я говорил в ту сторону, откуда раздавался треск сучьев: «Здравствуйте, Александр Трифонович!» Иногда мы разговаривали о садовых делах. Александр Трифонович советовал разредить лес, вырубить молодняк, в особенности осину.
Я был совершенно ничтожен как сельский хозяин. Александр Трифонович это сообразил и перестал давать мне советы — не в коня корм. Он только говорил иногда с оттенком удивления о том, какой отличный сельский хозяин Григорий Яковлевич Бакланов, живший в нашем поселке.
В то лето, первое на Пахре, нам все там очень нравилось: лес, воздух, дорога на речку, речка, магазинчики, молочница на велосипеде. Единственное, что отравляло жизнь, — радио. Звуки радио доносились с участка Александра Трифоновича. В тихом воздухе радиоголоса и музыка были казнью. Я мучился много дней, не мог работать. Обратиться к Александру Трифоновичу и попросить его сделать радио потише представлялось мне бестактностью. Наконец не вынес и как-то утром, когда запело радио и одновременно стал слышен знакомый треск сучьев, подошел к углу забора, поздоровался и спросил:
— Александр Трифонович, это не у вас радио поет?
— Нет, — сказал Александр Трифонович, кажется, даже растерявшись от моего вопроса. — У нас радио никогда не поет. Мы его вообще не заводим.
Оказалось, радио пело на участке, находившемся за участком Александра Трифоновича. Ему оно мешало еще больше, чем мне. Почему же не попросить людей?
Он пожимал плечами.
— Как попросишь? Мы незнакомы. И неловко как-то — взрослые люди… Такова была его деликатность. Может, на дне этой деликатности, в глубине самой находилось нечто иное, например, гордыня. Ведь надо же попросить! А это непросто. Дело кончилось тем, что я обратился к приятелю, тоже нашему соседу, Юзику Дику, а тому никакой черт не страшен и никакая просьба не в тягость, он поговорил с теми людьми, радио заткнулось.
Зимою шестьдесят пятого я на Пахре не жил, только недели две в январе. Александр Трифонович жил на даче круглый год. Житье там ему, по-видимому, очень нравилось. Время было шумное, журнал Александра Трифоновича набирал высоту и силу. Верней сказать, высоту он набрал года два назад, когда появился Солженицын, а теперь старался держаться на уровне, что было трудно. Во всех смыслах. Авторы, которые считались истинно новомирскими и еще недавно там густо печатались, теперь уже не выдерживали критерия — планка поднялась высоко. Не столько в смысле о чем, сколько — как. Всякого рода «остроту» в журнал тащили все, но отбор прозы становился строже. Я ничего не давал в «Новый мир», было несколько рассказов, но дать их не решался. Было известно, что в отделе прозы сидит необыкновенно требовательный редактор Анна Самойловна Берзер, или, как ее называли все, даже неблизко знавшие, Ася Берзер, и вот «пройти» через эту Асю страшно трудно. Так говорили мои знакомые, печатавшиеся в «Знамени» и в других журналах, но получившие отказы в «Новом мире». Много было обиженных, уязвленных, раздраженных против журнала и его редактора за эти отказы, говорилось о групповщине, чванстве, дурном вкусе, об отсутствии широты, но в этих разговорах звучал писк лисицы по поводу винограда — на самом-то деле все литераторы, хоть чуть себя уважавшие, стремились стать авторами журнала Твардовского. То было всеобщее писательское вожделение. Не обошло оно и меня.
Но, боже мой, как не хотелось получать по мордасам! Ведь мы солидные авторы, нас хвалит печать, издают в «Роман-газете». А журнал Твардовского, как говорили сведущие люди, ко всем относится одинаково: к секретарям, к маститым, к начинающим, к неведомым авторам из самотека. И больше того: неведомые авторы из самотека даже пользуются, по слухам, некоей предпочтительностью по сравнению с маститыми. «Надо пройти Асю!» — говорили сведущие люди за столиками ЦДЛ. Ася имеет большое влияние на Дороша. Пройти Асю — значит, пройти отдел. Ну, а там все зависит, конечно, от того, как посмотрит АТэ.
«АТэ» — таково было внутрижурнальное, кодовое имя, произносимое, конечно же, за глаза, со школьным благоговением и трепетом, и люди, позволявшие себе всуе, за столиками ЦДЛ, произносить это имя, как бы причисляли себя — уже одним этим знанием кода — к сонму близких посвященных. Увидеть АТэ, поговорить с ним было для всех, не только для авторов, но и для сотрудников журнала делом редким и непростым.
Я же встречал АТэ возле забора, разговаривал о сжигании листьев, уборке мусора. Зимою по вечерам мы сталкивались на темных обледенелых аллеях издалека были слышны его твердые шаги и стук палки. Той зимой он часто ходил один, быстро, не задерживаясь ни с кем из встречавшихся на дороге знакомых, напряженно о чем-то думая. Одинокая его фигура казалась мощной, большой, порывисто куда-то устремленной. Думал ли он о журнале, о своих друзьях и врагах или о том, что происходило в стране и в мире? Может быть, в эти минуты под стук палки и скрип снега возникали стихи? Но помню отчетливо: эта фигура, быстро шагавшая чуть обочь дороги, чтобы не мешать дачникам, гулявшим кучно, семейно, поражала необычайной сосредоточенностью.
Если мы разговаривали о чем-то, то о делах поселка, о новостях, принесенных эфиром и почтальоншей, но никогда о журнале. Я старался не задавать вопросов, которые могли показаться попыткой проникнуть в редакционные тайны. Слишком много людей хотело бы проникнуть в эти тайны.
Постепенно в разговорах обнаружилось, что мы на многое — на дачных соседей, на события и на книги, о которых между прочим, между разговорами о жестянщике Коле, большом плуте и обманщике, и о сбрасывании снега с крыши, вдруг заходила речь — смотрим с Александром Трифоновичем одинаково. Летом мы стали встречаться и разговаривать чаще. Александр Трифонович еще не чувствовал во мне полного единомышленника, хотя я был именно таковым, привычная настороженность и какие-то старые недоразумения еще давали о себе знать, но доверие росло, правда, медленно. Был разговор о повести «Отблеск костра», Александр Трифонович впервые после долгого перерыва — лет в тринадцать, что ли? — проявил интерес к моим сочинениям. Расспрашивал об отце, Миронове, Сольце. Интерес был, но сдержанный. Мне кажется, крупным недостатком повести в глазах Александра Трифоновича было то, что она напечатана в «Знамени». Все, напечатанное в «Знамени», выпестованное «Знаменем», имевшее хоть какое-то отношение к «Знамени», встречалось Александром Трифоновичем недоверчиво. Все должно было быть с изъянцем.
В повести «Отблеск костра» изъянцы, разумеется, существовали, но не в том смысле, какой предполагался традиционным новомирским мышлением. В «Знамени» ничего не может появиться! Если же появляется, то вопреки. Между тем появлялось.
И как раз вещи того смысла, о котором горячее других хлопотал «Новый мир». Повесть «Отблеск костра» вышла своего рода сенсацией — резкий антисталинский тон в ту пору, когда уж казалось, что ничего более не дадут сказать.
Сильно антикультовской оказалась повесть Бакланова «Июнь 1941», отвергнутая «Новым миром». Александр Трифонович разнес баклановскую рукопись, Гриша был убит, понес Кожевникову, тот напечатал. Теперь Александр Трифонович, наверное, сожалел о том, что упустил баклановскую повесть. Это было время, когда журнал Твардовского с помощью новой мерки перекраивал ряды авторов. В разговорах «между Колей-жестянщиком и уборкой мусора» я слышал краткие, но довольно суровые, порой иронические, порой едкие отзывы о недавних любимцах «Нового мира». Про одного говорилось, что «темечко не выдержало», у другого «нет языка», третий «слишком умствует, философствует, а ему этого не дано». Давно не печатались в журнале Тендряков, Бондарев, Липатов, Бакланов, зато возникли новые имена: Домбровский, Семин, Войнович, Искандер, Можаев.
И вот об этих, пришедших в последние годы, говорилось с интересом, порою увлеченно. Если в журнале готовилась к опубликованию какая-нибудь яркая вещь, Александру Трифоновичу не терпелось поделиться радостью, даже с риском выдачи редакционной тайны.
— Вот прочитаете скоро повесть одного молодого писателя… — говорил он, загадочно понижая голос, будто нас в саду могли услышать недоброжелатели. — Отличная проза, ядовитая! Как будто все шуточками, с улыбкой, а сказано много, и злого…
И в нескольких словах пересказывался смешной сюжет искандеровского «Козлотура».
Так же в саду летом я впервые услышал о можаевском Кузькине. Об этой вещи Александр Трифонович говорил любовно и с тревогой. «Сатира первостатейная! Давно у нас такого не было. И не упомню, было ли когда…» А тревога оттого, что вещь еще не прошла цензуру, и Александр Трифонович беспокоился на сей счет.
— Если там не заколодит, прочитайте обязательно.
То, что Александр Трифонович делился со мной такими редакционными сокровенностями, значило много, и я гордился этим. Иногда Александр Трифонович приходил утром, очень рано, стучал палкой в стекло веранды.
— Тургенев говорил: русский писатель любит, чтобы ему мешали работать…
Признаюсь, я действительно радовался приходу Александра Трифоновича, откладывал писанину, работа прерывалась на несколько часов, а иногда на целый день. Я приближаюсь к теме больной и необходимой. В том смысле необходимой, что ее не обойти. Если писать правду. Он сам требовал этого от литературы, и, говоря о нем, нельзя об этом не помнить. В правде не бывает купюр. Горе Александра Трифоновича, горе близких ему людей и всех, кто любил его, заключалось в вековом российском злосчастии. Это было то, что — вкупе с врагами Александра Трифоновича — отнимало у него силы в великой борьбе почти в одиночку, которую он вел последние годы. «России веселие есть пити» — в этой легендарной премудрости скрыта, если вдуматься, тысячелетняя печаль.
Я никак не мог для себя решить: что правильнее, раздувать пожар вместе или пытаться гасить? Правильней, конечно, было второе, да только средств для этого правильного ни у меня, ни у кого бы то ни было недоставало. Пожар сей гасился сам собой, течением дней. Мария Илларионовна однажды сказала: «Он все равно найдет. Уж лучше пусть у вас, и мне спокойней». И верно, находил. Были знакомцы по этой части, специалисты по «нахождению» в любой час, на рассвете, в полночь — среди них Коля-жестянщик первый. Коля — забавнейший тип. В нем была какая-то обманчивая доброта, привязчивость, готовность сию минуту помочь и сделать что-либо бескорыстно; кипела страсть изобретательства, он выдумывал, сочинял, бросался в разные артельные и единоличные предприятия, ничем не гнушался, но вершиной всех его хитроумнейших замыслов бывало одно: трояк на бутылку. Почему это я вдруг вспомнил про Колю? Он как-то прочно впаялся в мою жизнь на Пахре. Мы часто говорили о нем с Александром Трифоновичем, обсуждали его живописные качества. Угадывали его хитрости, смеялись над его словечками. «Александр Трифонович, жализо для крыши не надоть? Могу завтра принесть. Только сегодня трояк нужен — ребятам отдать…» Его так и звали: Коля-жализо.
Александр Трифонович относился к Коле хорошо, поручал ему изредка мелкую работенку — то водосток сделать, то колпачок над трубой, — до того дня, когда Коля, на свою беду, не совершил вопиющей неосторожности. Александр Трифонович однажды заметил, как Коля, находившийся на соседнем участке и собиравшийся прийти к нему, вздумал сократить путь и сиганул через забор. Александр Трифонович крайне возмутился.
Несколько раз Александр Трифонович рассказывал об этой истории с гневом:
— Человек, который прыгает через забор, когда есть калитка, способен на все…
Вначале такая категоричность показалась мне странной, потом я понял, что резон тут есть. И Коля впоследствии, кстати, доказал, что способен если не на все, то на многое…
Александр Трифонович был ровен, проницателен и как-то по высшему счету корректен со всеми одинаково: с лауреатами премий, с академиками, с жестянщиками. Те ровность и демократизм, которые были свойственны редактору «Нового мира» в его отношении с авторами, отличали Александра Трифоновича и в обыденной жизни, и поэтому он пользовался необыкновенным уважением всех людей, которые как-либо с ним соприкасались. Ну, и я был одним из этих людей, соприкасаясь с ним посредством деревянного заборчика, возле которого мы часто стояли и, держась за его сыроватые планки, разговаривали о всякой всячине.
И мне казалось невероятным, что когда-то я был автором Александра Трифоновича, а он был моим редактором, добрым редактором! Все то, что было пятнадцать лет назад, исчезло навсегда и окончательно. И я не огорчался. Ибо это, исчезнувшее, было связано со временем, справедливый удел которого был исчезнуть. Александр Трифонович как будто и в уме не держал, не вспоминал о том, что я писатель. Пожалуй, я был для него читатель, квалифицированный, толковый, правильно мыслящий, с кем небезынтересно поговорить о литературных новинках. К его фразам, которые он произносил иногда, прощаясь после прекрасного застолья на свежем воздухе в саду или на веранде с открытыми окнами, вроде такой: «Почему вы нам ничего не приносите? Приносите! Нам интересна каждая ваша страница!» — я относился с мучительным недоверием. Я подозревал в них глубоко — впрочем, и не очень глубоко — спрятанную иронию. Может быть, я ошибался, но, скорей всего, так и было. Уж очень непохожей на него была эта фраза: «Нам интересна каждая ваша страница!» Конечно же, он смеялся надо мной, когда уходил, прощаясь после прекрасных вечеров на свежем воздухе.
Повторяю: у меня были рассказы, но дать их Александру Трифоновичу я не решался. Кроме того, что пугал возможный отказ, удар по самолюбию, я еще боялся нарушить наши отношения, умеренно дружественные. Боялся того, что он подумает, что я думаю, что, коль мы встречаемся по-соседски, это дает мне право…
Осенью 1966 года Борис Слуцкий взял три моих рассказа и отдал Асе Берзер. Спустя несколько дней Ася Берзер позвонила мне и сказала, что рассказы ей понравились и она думает, что они будут напечатаны. Во всяком случае, два из трех: «Вера и Зойка» и «Был летний полдень».
Эти два рассказа прошли с необыкновенной быстротой все ступени редакционной лестницы и появились в декабрьском номере того же, 1966 года. Я снова стал автором «Нового мира». В марте следующего, 1967 года «Новый мир» напечатал рецензию И. Крамова на книгу «Отблеск костра», только что изданную «Советским писателем», — это был первый и, пожалуй, единственный основательный отклик на книгу, появление которой в тогдашние времена представлялось фактом загадочным. Весною 1967 года я поехал по командировке «Нового мира» в Ростов — собирать материалы для документальной книги о двадцатом годе.
Помню, Александр Трифонович зашел в маленькую комнатку ответственного секретаря Хитрова, когда тот выписывал мне командировку, и, узнав, что я еду в Ростов, сказал одобрительно:
— Хорошо, хорошо. Надо его посылать…
В этих словах было много: «хорошо» для редакции, «хорошо» для меня.
Я написал рассказ о поездке в Болгарию — «Самый маленький город», отнес Асе Берзер. С этим рассказом дело было так. Прочли в отделе, прочел Дорош, кто-то из членов редколлегии, одобрили, послали в набор. Александр Трифонович читал обыкновенно верстку — кроме крупных вещей, с которыми знакомился, конечно, в рукописи. Летом шестьдесят седьмого я на Пахре не жил. Приехал как-то осенью, встретился с Александром Трифоновичем, и он сказал мне, что только что прочитал «мой рассказик». Так и сказал: ваш рассказик.
Я почувствовал холодноватость отношения к «рассказику». Да, разумеется, это было не свое, новомирское — по манере, по стилистике, по художественной задаче. В рассказе «Самый маленький город» не было ничего из того, что особенно ценилось журналом «Новый мир» и ставилось во главу угла, из так называемого социального. Хотя, на мой взгляд, социальное в глубинном, высшем его понимании — изображение общества как сплетение характеров — должно существовать и существует во всякой истинной литературе, какой бы далекой от социологизации она ни казалась. Один мой приятель, литератор, в конце пятидесятых годов всегда спрашивал, когда речь заходила о каком-либо романе, о рассказе или повести: «Против чего?» Скажешь ему, что пишешь, мол, рассказ или повесть, он сразу: «Против чего?» Все лучшие новомирские произведения, напечатанные за последние годы, очень четко отвечали на этот вопрос. А рассказ о Болгарии был как будто ни против чего. Несколько лет назад Б. Закс сказал по поводу туркменских рассказов с неодобрением и даже, пожалуй, презрительно: «Какие-то вечные темы!..» Те рассказы были отвергнуты, на этот же раз отдел меня одобрил, хотя и со скрипом. Донеслось ворчливое высказывание Ефима Яковлевича Дороша: рассказ написан в какой-то западной манере, но печатать можно. «У Трифонова есть свой читатель».
В общем, ко мне относились гораздо лучше, чем несколько лет назад, и это было основанием надеяться на то, что рассказ пойдет. Очень хотелось его напечатать, он казался мне настоящим. Я и сейчас считаю его одним из лучших — из пятерки — своих рассказов. Кроме того, мне непонятно высокомерие, с каким иные литераторы говорят о западной литературе, будто эта литература — какой бы высокой и значительной она ни была — все же чем-то ниже отечественной, все же где-то «литература второго сорта». Там, мол, чтиво, а здесь пища мозгам; там стиль, а здесь коряво, но правда. Все это ползет от непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века, не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений — от гениального Достоевского до полуграмотного Шевцова. Пусть простят меня почитатели великого писателя за то, что соединяю его имя в одной фразе с именем графомана, но делаю так лишь затем, чтобы показать, сколь необъятна эта система и как много в ней всякого рода, всяких масштабов орбит. Есть там и орбита Ефима Яковлевича Дороша, да и весь «Новый мир» — теперь пусть простят почитатели замечательного журнала — тоже крутится где-то в этой вселенной, ядром которой является нечто, называемое «почвой» или, скажем, «родной землей».
В рассказе «Самый маленький город» было на ортодоксальный новомирский взгляд три порока: он был написан о Болгария, а не о родной земле (о Болгарии должны писать болгары, а иные попытки — от лукавого), в его стилистике замечалось влияние не русской классической прозы, скажем, Толстого или Бунина, а скорее Хемингуэя, и вдобавок в нем совершенно не было «против чего». Но я-то считал, что «против чего» там было. Ну, может быть, так: против горечи жизни, против несправедливости судьбы, против… да бог знает против чего еще! Против смерти, что ли. Против обыкновенного житейского ужаса нигде и никогда, с чем мы примиряемся и живем.
Но все это было чересчур обще и не нужно.
Я не удивился тому, что Александр Трифонович сразу обнаружил холодность к рассказу, хотя сказал довольно мягко:
— Я понимаю, вы хотели бы такой памятничек… Но на вашем месте я бы рассказ теперь не печатал. Пусть полежит.
Никакого «памятничка» я не хотел. Даже в уме не держал. Написалось, и все. Возражать я не стал и спокойно принял известие, что рассказ не пойдет. Почему-то была уверенность в том, что напечатаю в другом месте. Но Александр Трифонович неожиданно и каким-то безразличным тоном произнес:
— Если хотите, мы его напечатаем. Как хотите. Но мой вам совет подождать.
Подумавши полминуты, я сказал:
— Александр Трифонович, я хочу его напечатать.
Это был странный разговор с редактором: хотите, не хотите. Мне было неловко, что не внял доброму совету, пошел наперекор Александру Трифоновичу, и, однако, уж очень мне хотелось этот рассказ напечатать.
Итак, рассказ был одобрен и определен в один из ближайших номеров. Между тем был у меня еще один рассказ, застрявший в отделе: «Голубиная гибель». Он, кажется, не очень понравился Дорошу или Асе Берзер, потому что был отсечен от тех двух, напечатанных в шестьдесят шестом. Я считал, что по качеству он ничуть им не уступает, да и по смыслу не худ. Словом, я набрался наглости и передал его как-то осенью в один из приездов на дачу — прямо через забор — в руки Александру Трифоновичу. Это было первый и единственный раз, когда я действовал помимо отдела, воспользовавшись выгодой соседства. Прошло всего дня три, а Александр Трифонович сказал, что рассказ ему понравился и он передал его в отдел.
— Он лежал у меня на столе, Мария Илларионовна прочитала, — сказал Александр Трифонович. — Хороший, говорит, рассказ, но почему конец такой грустный? Прямо, говорит, жить не хочется. Вы там что-нибудь сделайте с концом…
Потом был разговор об этом рассказе в редакции. Меня вызвали туда срочно. Звонил сам Дорош. Тут я понял, что значило для отдела, когда материал со своим «добром» передает Александр Трифонович. Все делалось с поразительной быстротой, с опаской не успеть, не доделать. Я должен был мгновенно учесть все замечания на полях, потому что рассказ добавлялся к болгарскому и шел в первый, январский номер шестьдесят восьмого года. Александр Трифонович просил зайти к нему в кабинет, на второй этаж. Об этом мне так же поспешно и с некоторым волнением сообщил Дорош.
Александр Трифонович подробно прошелся по всему тексту. Замечания его были точные, четкие. Ни одно не вызвало возражений, все шли на улучшение, уточнение рассказа. Он, например, подчеркнул везде слово «карниз» и заменил его словом «отлив». Предложил убрать несколько фраз в сцене ареста Бориса Евгеньевича, отчего все стало выразительней и сильнее.
— Хорошо он у вас говорит: «Разве вы не знаете, я же вчера человека убил?»
Я признался, что эту фразу не придумал, она из жизни. Мне рассказывала вдова Виктора Кина Цецилия Исааковна Кин, что, когда Кина уводили ночью из дома в тридцать седьмом году, няня их сына воскликнула: «Виктор Павлович, да за что же?» Кин ей ответил: «Разве ты не знаешь, Федора, я же вчера человека убил».
Александр Трифонович помолчал супясь. Все было ведомо, слышано много раз, передумано с болью, и каждый раз боль снова. Он покачал головой.
— Эта фраза, я думаю, не пострадает, а вот во что вцепятся: полковник в отставке. Он у вас довольно зло… Вцепятся непременно.
— Убрать, вы думаете?
— Убирать пока погодим. Но вы увидите, они его не пропустят.
Речь шла о члене домкома Брыкине. Я писал сей персонаж почти с натуры. Концовка рассказа тревожила Александра Трифоновича меньше, чем этот Брыкин, он лишь посоветовал снять в конце фразу о смерти Сталина, обозначавшую перелом времени. Фразу я снял. Внимательный читатель поймет, о каком времени говорится.
Оба рассказа были пропущены без замечаний, однако «Голубиная гибель» только в «Новом мире» прошла в первоначальной редакции. В двух сборниках моих рассказов, вышедших в «Советской России» и в Гослитиздате, рассказ опубликован в изувеченном виде: сцена ареста изъята и вся тема «голубиной» гибели этой семьи отсутствует. Теперь это просто сентименталь-ный рассказ.
«Новый мир» в это время подвергался все более ожесточенным нападкам, номера с трудом продирались через цензуру и выходили с опозданием иногда на два, на три месяца. Все, что печаталось в журнале Твардовского, официальная критика рассматривала в лупу. За всем виделись злоумышления, второй план. Именно теперь модным, у всех на устах сделался литературоведческий термин «аллюзия», известный прежде лишь профессорам. («Аллюзия» от латинского allusio — шутка, намек).
Январский номер с двумя рассказами вышел лишь в марте. Весной я написал рассказ «В грибную осень», отдал Асе Берзер. Ко мнению Аси я прислушивался более, чем ко мнению любого другого сотрудника журнала — за исключением, разумеется, Александра Трифоновича. Вообще роль Анны Самойловны Берзер в становлении новомирской прозы очень велика, гораздо выше той скромной должности — помощницы Дороша, — которую она занимала. Фанатическая преданность литературе, огромная работоспособность, тонкий, болезненный ко всякой фальши вкус и умение ненавязчиво, великодушно и вместе с тем твердо отстаивать свои взгляды — эти качества Анны Самойловны как редактора и собирателя прозы были, конечно, неоценимо полезны журналу. К ней тянулись молодые писатели. Она умела разглядеть, угадать, почувствовать талант, умела и без колебаний, невзирая на маститость и положение, отвергнуть слабую рукопись. Для будущих исследователей тринадцатилетней истории «Нового мира» явится задачей — определить КПД деятельности Анны Самойловны в журнале. И можно сказать с уверенностью: он высок. При тех отношениях, какие у меня сложились с Александром Трифоновичем, я мог бы отдавать рукописи прямо ему он даже предлагал это, когда бывал в добром расположении духа, — но я проявлял осмотрительность и отдавал в отдел. (Так было и со следующей вещью, повестью «Обмен».) Кроме всех прочих соображений для меня было важно и существенно мнение Аси Берзер.
Прочитав рассказ «В грибную осень», Ася сказала: «Очень сильно!» Я ликовал, не показывая вида. Ася сказала, что будет предлагать рассказ в какой-то из летних номеров, седьмой или восьмой. Все шло поразительно удачно: как что ни принесу, все идет с хода! Рассказ вышел в августовском номере. Этот номер был сдан в набор тридцатого мая, а подписан к печати девятнадцатого октября. Подписчики получили его в ноябре.
Вот так обстояло теперь дело с «Новым миром». Шли разговоры о том, что журнал разгоняют, Твардовского снимают. Этим слухам верили и не верили. Да, номера выходили с трудом, каждый рождался в муках, приходилось пробивать, отстаивать, спорить с чиновниками, и все же номера выходили, дело двигалось. Тут была какая-то странность. В печати, на собраниях журнал честили почем зря, обвиняли чуть ли ни в антисоветчине — особенно кидались на «Новый мир» те, кому досталось от отдела критики, армия этих оскорбленных с каждым годом росла и злобнела, — но почему-то оргвыводы не делались; изъятие Дементьева и Закса из редколлегии не изменило, разумеется, ничего. Ибо два литератора мало что решали. Решал Александр Трифонович и решал напор авторов, а оба эти фактора продолжали существовать. И в замороченных мозгах интеллигенции уже зрела такая безумная догадка: «Новый мир» никогда не будет разогнан, ибо он для чего-то нужен.
Летом шестьдесят восьмого я отдыхал на Рижском взморье, каждый вечер слушал новости из Чехословакии. Там происходило нечто громадно важное. Первого августа я вернулся в Москву. Сразу же по приезде на дачу встретил Александра Трифоновича, мы разговаривали долго — не о литературе, а о том, что происходило, о чем тогда разговаривали все, и я давно не видел его таким энергичным, упругим, в каком-то празднично веселом возбуждении.
— Вот видите, не могут они этого сделать! Не могут, не могут! — говорил почти с торжеством. — Кишки не хватает! — и шепотом: — И с нами то же самое: и хочется, и колется, и …не могут!
Но прошло три недели и оказалось: могут.
Двадцать первого утром я был в Москве и услышал о том, что могут, по радио. На другой день поехал в Пахру, и в тот же вечер или, может, спустя день Александр Трифонович зашел ко мне. Вид его был ужасен. Он был то, что называется убит. Взгляд померкший, разговаривал еле слышным шепотом.
— Конец… Все кончилось…
Мы сидели на веранде за большим пустым столом. Он ничего не хотел. Палку, с которой ходил обычно, поставил между ног, опирался на нее двумя руками тяжело, бессильно. Вдруг заговорил со мною на «ты»:
— Хорошо, что у тебя тут дача… Вот и живи тут, копайся в саду… Правильно сделал, что купил…
Он говорил так, и состояние его было таково, будто все уже произошло, он изгнан, журнал уничтожен. Однако он ошибался, как многие. Дали отсрочку еще года на полтора.
И прошло отчаяние, как все проходит, опять были заботы о номере, пробивание, борьба, надежды, радость…
Зимою мы виделись редко, а в начале лета следующего, шестьдесят девятого года, когда я переехал на Пахру прочно, решив там жить все лето и работать, — я писал тогда повесть «Обмен», — мы виделись с Александром Трифоновичем чуть ли не каждый день.
Стоял свежий теплый июнь.
Каждое утро мы ходили с Александром Трифоновичем купаться на речку. Мне было неловко заходить за ним — боялся быть навязчивым, — а он по дороге от своей дачи на речку заворачивал на мой участок, благо калитка не закрывалась ни днем, ни ночью, подходил к открытому окну на кухне или к веранде и говорил громко: «К барьеру!» Бывало это рано, часов в восемь. Я тут же выходил с полотенцем, и мы шли по шоссе, еще не успевшему нагреться, тихому и пустынному, солнце пекло нам в спины. На дачах никто не шевелился. Проезжала молочница на велосипеде, здоровалась с Александром Трифоновичем. Он кланялся ей степенно. В этой деревне, называемой Красной Пахрой, где жили писатели и бог еще знает кто, он был, конечно, самый знаменитый и уважаемый человек. Мы сворачивали налево, проходили через калитку на территорию моссоветовских дач, потом шли парком, спускались мимо заброшенного каменного здания клуба крутой тропинкой к рощице ивняка, и вот уже был берег нашей речонки Десны, повсюду узкой и жалкой, а здесь довольно широкой из-за плотины. Берег в этот час был безлюден. Может быть, два или три рыбака крылись где-то в укромных убежищах, в густой осоке или под счастливым деревом. Ни лодок, ни детского крика. Мы переходили по мостику на остров и там в гущине, в тени, возле коряжистой, изломанной старой ивы располагались на нашем месте.
Александр Трифонович не любил цивилизованного пляжа, вообще пляжа. Население поселка ходило обыкновенно к излучине реки, где было подобие такого пляжа, песок, мягкое дно, даже вышка для прыжков в воду, там днем и вечером гомонили купальщики, дети, молодежь, играли в волейбол, читали книжки, загорали, текла летняя жизнь. Александр Трифонович не ходил туда никогда. Он любил островок, где ивы, уединение, вязкое дно, всегда немного тинисто и грязно, но лишь на первый взгляд грязно, на самом-то деле грязь на пляже, а здесь самая чистая вода на всей реке. Потому что ключи; местами даже стынью обдает, плывешь, плывешь и — холодом по ногам.
Сход в реку был удобен: подходили к глинистому обрывчику, хватаясь за склоненный низко над водой — будто по заказу — не толстый, но и не тоненький, пружинистый ствол ивы и, сделав два шага, оказывались на глубине. Александр Трифонович был крепок, здоров, его большое тело, большие руки поражали могутностью. Вот человек, задуманный на столетие! Он был очень светлокожий. Загорелыми, как у крестьянина, были только лицо, шея, кисти рук. Двигался не спеша, но как-то легко, сноровисто, с силой хватался за ствол, с силой отталкивался и долго медленно плавал.
В июне шестьдесят девятого года теплыми утрами на реке, от которой парило, я видел зрелого и мощного человека, один вид которого внушал: он победит! Настроение у Александра Трифоновича в те дни было и вправду боевое. Номера выходили хорошие. Только что опубликовали новую повесть Быкова «Круглянский мост», на выходе был Белов; какие-то уморительные «байки» или «бухтины», о которых Александр Трифонович говорил с удовольствием. Интеллигенция все еще жужжала восторженно о двух повестях Катаева (редактор восторга не разделял, но было приятно, что вокруг журнала шум), а тут снобам новая сласть: повесть «Кубик». Оглянувшись с озорным видом, будто кто мог подслушать, шептал: «А я вам говорю — дерьмо!» Я спорил. Катаев мне нравится. Первую повесть я считал блестящей и даже написал какую-то статью в ответ Дудинцеву, но «Литературка» не напечатала. Впрочем, дудинцевской грубой и высокомерной статьей Александр Трифонович был возмущен. Мы с ним говорили. Но то было давно, а теперь его уже раздражало ликование снобов. Напечатанием катаевских вещей он все же гордился, так как считал их, конечно же, литературой в отличие от многого, что печаталось, и литературой, имевшей право на существование, но ему не близкой и даже в некотором смысле чуждой, однако же вот печатал, и не одну вещь, а три. Была известная гордость собой, своей широтой, великодушием. Отношение Александра Трифоновича к Катаеву меня не удивляло. Это был твердый, закаленный годами труда и размышлений вкус: видеть в литературе не стиль, а суть. Стиль часто мешал сути. (При этом забывалось изречение Бюффона.) Писатели из окружения Александра Трифоновича исповедовали ту же эстетику, одни подлаживались к нему, другие совершенно искренне, как, например, Казакевич и Дорош. В письме о моей первой книжке рассказов Казакевич ругал как раз те рассказы (туркменского цикла), которые мне казались лучшими в сборнике, заметив при этом: «Для меня нет ничего ненавистнее стиля».
Александр Трифонович начисто отвергал Набокова. Однажды был разговор о прекрасной книге воспоминаний Набокова «Другие берега». Я читал ее с упоением. Александр Трифонович сказал, что она фальшива, искусственна, ничтожна, глупа и что у него терпения не хватило дочитать до конца. О «Лолите» говорил как о пакости. Нет, не читал ее, ибо пакость противно брать в руки. Из западных писателей он, по-моему, более других ценил Томаса Манна.
В июне по дороге на речку и с речки мы разговаривали о разных вещах. Не помню уж сейчас, о чем, когда и как. К сожалению, ничего не записывал, и это было величайшей глупостью. Рассуждения Александра Трифоновича всегда отличались своеобразием, глубиной, острыми и неожиданными мыслями. Тут мой грех: непривычка вести дневник, записные книжки. Помню, много говорили о статье Дементьева в последнем, недавно появившемся апрельском номере «Нового мира» и в связи с нею о журнале «Молодая гвардия» и группке критиков, возомнивших себя новыми славянофилами.
Об этой публике Александр Трифонович говорил презрительно. Помню, он признался, что не читал Розанова, никогда не было желания искать и читать этого писателя, а теперь захотелось познакомиться. Слишком много разговоров о нем. У меня была одна книга Розанова — «О легенде „Великий инквизитор“». Александр Трифонович попросил ее и, вернув очень скоро, дня через два, сказал, что разочарован, все где-то читано, знакомо.
Был один писатель, в оценке которого мы сходились полностью. Александр Трифонович говорил о нем восторженно и — странно было слышать из его уст почти с преклонением. Как-то сообщил мне секретно — это было не июньскими прогулками, а раньше, — что читает новый роман. Речь шла о «Круге»[1]. И шепотом, с какой-то необыкновенной значительностью, даже палец подняв: «Это велико!» А в то лето так же по секрету сказал, что получил начало нового романа, исторического, и поражен: как сильно! Ему казалось, что сей автор может замечательно писать только о том, что пережил сам, и потому брал рукопись с некоторой тревогой. Историческое произведение — это ведь совсем другой жанр, другая специфика. Однако те сто страниц, которые ему привезли — привез сам автор, приезжал на своем «Москвиче» сюда в Пахру, — совершенно его покорили. Проза густая, полновесная, удивительно достоверная. В этих нескольких главах появляются, наверно, пятьдесят действующих лиц, и все живые фигуры! И какая беда, что русский читатель, для кого это писано, не сможет прочитать…
Не знаю, может быть, я много на себя беру и это дерзость с моей стороны — рассказывать о литературных вкусах и пристрастиях Александра Трифоновича. Он сам об этом писал, и люди, более близкие к нему, работавшие с ним в журнале, напишут авторитетней и подробней. Со мной-то Александр Трифонович говорил мимоходом, а с ними — с тем же Дементьевым, жившим у нас на Пахре — разговаривал куда чаще и больше, обстоятельней, откровенней. Но не знаю, когда и что напишут другие, поэтому позволю себе записывать все мелочи, все мимолетное, оставшееся в памяти, может, это и покажется кому-то «превышением права».
Июнь шестьдесят девятого — это была, кажется, лучшая пора в последнем году Александра Трифоновича — редактора, физически он был крепок, духом бодр, как видно, ему хорошо работалось. И все же давление страшного атмосферного столба, которое то увеличивалось до чугунной тяжести, то чуть отпускало и даже якобы исчезало, обманчиво вовсе, чувствовалось над головой журнала постоянно.
И если это чувствовали все мы, авторы близкие и далекие, чувствовали читатели необъятной России, то каково же было ему!
Помню, был разговор, от которого сжалось сердце. Очень хорошо помню: на моем участке в саду спустились со ступенек крыльца и шли к калитке. Он вдруг остановился и сказал тихо, с какой-то невыразимой, правдивой болью:
— А знаете, Юрий Валентинович, иногда проснешься утром и думаешь: а не бросить ли все это? Не послать ли куда? Ведь сил не хватает на борьбу… Ведь, ей-богу же, и сам я кое-что еще могу написать, руки есть, голова есть… А вот силы кончаются… А потом подумаешь — сколько же людей ждут этот журнал, как праздник, как надежду какую-то! В захолустных городках где-то, в деревнях подписываются, ждут, я же знаю… обмануть их? Уйти в благополучную жизнь? Нельзя, невозможно. И говоришь себе, как протопоп Аввакум своей Марковне: «А до самой смерти, Марковна». Она его спрашивала: «Доколе нам, Петрович, так мучиться?»
Окончилось это спокойное время начального лета поездкой Александра Трифоновича в гости к Соколову-Микитову. Александр Трифонович любил старого писателя, они были земляками, дружили. Я не знал, что он уехал. Сказала мне Мария Илларионовна, и как-то с опаской: «Боюсь, как бы он не сорвался…» Да, видно, уж точно знала, обреченно предчувствовала: сорвется. Так и вышло. Случайно я был на шоссе, когда Александр Трифонович возвращался. Машина остановилась, дверца отхлопнулась, и Александр Трифонович крикнул что-то, зовя меня. Я подошел.
Мне почему-то кажется, что после этой поездки началась вся цепь дальнейших несчастий.
Впрочем, все шло к тому, к несчастьям, неотклонимо, и поездка ничего изменить или прибавить не могла. Александр Трифонович оступился, упал с лестницы в своем доме — лестница вела на второй этаж, — сильно разбил голову, повредил шею и был увезен в Кунцевскую больницу. Случилось это, кажется, в августе. Недели две или три были невозможны ни работа, ни чтение. И, наверное, он не мог по-настоящему вникать в ту отвратительную кампанию клеветы и травли, которая развернулась тогда, летом, на страницах некоторых газет и журналов. «Социалистическая индустрия», «Огонек» и какая-то еще газетка, не помню сейчас, какая, печатали гнусные статейки теперь уже не против «Нового мира», а против его редактора лично. Такого беспардонного вранья, такого рассчитанного и циничного хамства в нашей печати давно не бывало — со времен, может быть, пресловутой «борьбы с космополитизмом».
Неизвестно, откуда дул ветер и кто был закоперщиком кампании. Возможно, инициатива шла снизу, из тех газет и журнальчиков, где сидели господа, особенно люто ненавидевшие «Новый мир». Это догадки. Кто-то знает доподлинно, я не знаю.
Так или иначе, шла артподготовка к главному сражению: снятию Твардовского с поста редактора. А сделать это было, как видно, непросто. Уж очень велики в народе, в интеллигенции, в армии, во всей стране популярность и авторитет создателя «Василия Теркина».
Мы читали пасквильные сочинения, возмущались, надо было противодействовать. Решили написать письмо. В какое-то августовское воскресенье на даче у Бакланова такое письмо настучали. Не помню сейчас, в какой именно адрес: то ли в секретариат Союза писателей, то ли куда-то выше. Письмо было очень короткое, резкое. Возмущены кампанией клеветы, которой подвергается любимый поэт советского народа и главный редактор лучшего в стране журнала, и требуем ее немедленного пресечения. Что-то в этом духе.
Тут же вечером побежали по поселку за подписями. Тендряков подписал, разумеется, сразу. Бондарев несколько мялся и редактировал текст, Бакланов с ним не кланялся и не разговаривал, поэтому он ждал на аллее, а вел переговоры я, затем, получив подпись Бондарева, пошли к Нагибину, который в своем музейном, в золоте и бронзе, кабинете поставил подпись легко. Утром в понедельник поехали с Баклановым в город, зашли к Бедному, старому приятелю по Литинституту, и он, к изумлению моему, не то что помявшись или поколебавшись, а очень решительно отказал:
— Нет, ребята, я этого подписывать не стану!
Тут мне открылось многое. Мне представлялось раньше, что громадное большинство писателей стоят на стороне Твардовского и только очень немногие — из числа «подонков» — являются врагами Александра Трифоновича и его журнала. Однако дальнейшее показало, что между друзьями и врагами Александра Трифоновича колышется необмерное море не тех и не других, но все же склоняющихся ближе к недоброжелателям, а еще точнее — к ущемленным, обиженным за что-то, когда-то.
Я, вообще говоря, убежден в том, что «Новый мир» погиб оттого, что взорвался пороховой погреб писательских самолюбий. Слишком многих писателей этот журнал задел, слишком важные персоны раздел, обнаружив голых королей.
Роковыми для журнала оказались не повести Семина или Можаева, а статьи против Алексеева, Кочетова или Кривицкого.
Письмо в защиту Александра Трифоновича подписали еще несколько человек: Антонов, Рыбаков, Каверин, Алигер, еще кто-то. Я ездил в Переделкино, Александр Трифонович об этой деятельности, разумеется, ничего не знал. Сейчас уж не помню, повлияло ли наше письмо или действия Симонова и Суркова, но газетная травля прекратилась. Скорее всего, ее прекратили намеренно, и вовсе не под воздействием наших писем, а потому, что свою роль она выполнила.
Александр Трифонович долго находился в больнице. Слухи о ходе его болезни и лечении доходили неясные. Все были удручены неизвестностью, переспрашивали друг у друга, передавали сведения от Марии Илларионовны и удивлялись тому, что все так затянулось и так неясно. Кто-то говорил, что лечат неправильно и что Александру Трифоновичу давно должно бы стать лучше, а ему хуже. Те, кто навещал его в больнице, говорили, что он сильно изменился. Раньше Александр Трифонович очень прямо и гордо держал голову, это было характерно для его фигуры, а теперь — как рассказывали те, кто видел его в Кунцеве, — неузнаваемо сгорбился. От падения повредились шейные позвонки. Все эти рассказы вызывали тревогу.
Летом я закончил повесть «Обмен», отнес ее в «Новый мир». Ася Берзер прочитала быстро, ей понравилось. Сказала, что это лучшая моя вещь. Прочитали Дорош, другие члены редколлегии, все были «за». Повесть пошла в набор и была намечена на декабрьский номер. Александр Трифонович вернулся из больницы где-то в сентябре, скорей всего, в начале сентября. Встретив его случайно в один из приездов на дачу, я с болью почувствовал, как правы были больничные посетители: он постарел резко, это бросалось в глаза. Двигался медленно, голову держал слегка опущенной, как бы постоянно понурив, отчего весь облик принял неприветливое, чуждое выражение. Какая-то стариковская согбенность — вот что выражал его облик, и это было так дико, так несуразно и несогласно со всей сутью этого человека!
Надеялись на то, что болезнь пройдет, все восстановится. И наверняка бы восстановилось, если бы другая жизнь… Да где было ее взять, другую?
В начале ноября, перед праздниками, исключили из Союза писателей Солженицына. Это был удар, разумеется, не только против злокозненного автора, но и против журнала, его открывшего, и против редактора, его взлелеявшего. Новая кампания! Александр Трифонович едва отдышался после летней газетной травли, кое-как восстановил равновесие и сохранил журнал. Что же теперь? На ноябрьские дни я приехал на дачу. Помню, восьмого ноября Александр Трифонович зашел ко мне, как он выражался, «на огонек». Он был в осеннем просторном бушлате, с палкой, ясный и спокойный. Принес книгу, которую брал читать, не помню уж какую. Кажется, какой-то номер «Красной летописи». Сели за столом внизу, Александр Трифонович достал пачку сигарет: курил он, несмотря на болезнь, по-прежнему много и все один сорт, крепчайшую, без фильтра «Приму».
Александр Трифонович сказал, что ему прислали верстку декабрьского номера, он прочитал повесть «Обмен», сделал некоторые замечания на полях, хорошо бы, я зашел к нему сегодня или лучше завтра, он эти замечания покажет. Разговор был обыкновенный деловой. Отношения к повести Александр Трифонович не высказал, но было очевидно, что он не против опубликования, а стало быть, повесть им одобрена. Я, конечно, был безмерно счастлив, хотя обстоятельства, окружавшие Александра Трифоновича и журнал, были невеселые. И радоваться теперь было как-то неприлично. О Солженицыне Александр Трифонович сказал скупо несколько фраз, спросил, нет ли каких новостей из эфира по этому поводу, и сразу разговор прекратил. Заговорил о «Красной летописи», где была занятная статья — ради нее и брался журнал Книжника-Ветрова о семнадцатом годе в Питере. Оценки и суждения Александра Трифоновича были, как всегда, остры, метафоричны.
Однако было ясно, что ни моя повесть, ни «Красная летопись» не занимали Александра Трифоновича по-настоящему, мысли его были захвачены событиями в Рязани[2]. То было самое страстное, самое жгучее и болезненное переживание праздничных дней ноября шестьдесят девятого года, непереносимо мучительных еще в силу своей праздничности и невозможности действовать.
На другой день, созвонившись с Александром Трифоновичем, я зашел к нему на дачу и мы посидели полчаса в его маленькой рабочей комнатке на нижнем этаже, где был стол, заваленный письмами и бумагами, загроможденный книгами, книжные полки, и больше ничего. Настоящий кабинет с библиотекой был на втором этаже, но Александр Трифонович любил работать здесь, внизу, видя перед собой дорожку в саду и в глубине, за деревьями, калитку. Теперь я услышал одобрительные слова о моей повести, несколько замечаний по языку, с которыми согласился, и одно конструктивное предложение:
— Зачем вам этот кусок про поселок красных партизан? Какая-то новая тема, она отяжеляет, запутывает. Без нее сильный сатирический рассказ на бытовом материале, а с этим куском — претензии на что-то большее… Вот вы подумайте, не лучше ли убрать.
Я был совершенно убежден в том, что убирать нельзя. Может быть, Александр Трифонович не слишком внимательно читал — было не до того, — а может, в виду сгущавшейся опасности проявлял некоторую осторожность, нежелание рисковать зря. Повесть мою он, наверное, не считал кардинальной вещью журнала, а рисковать и подставляться под копья следовало только ради чего-то кровного и дорогого. Могли быть нападки, очень нежелательные в то огнеопасное время. Но, когда я сказал, что поселок красных партизан для меня важен и убирать его не стоит, ибо исчезнет второй план, Александр Трифонович легко согласился: «Пожалуйста, оставляйте…»
В этом легком согласии я почувствовал не только великодушие редактора, но и некое грустное безразличие…
И это было то, что омрачало радость.
«Обмен» появился без единой цензурной поправки. Как мне сказал один из членов редколлегии: «Подержали в зубах и выпустили». Видимо, вопрос о журнале был уже решен и следить за добропорядочностью последних номеров не имело смысла. «Обмен» вышел в предпоследнем номере, подписанном Твардовским, а последним оказался первый, январский семидесятого года с повестью «Белый пароход» Айтматова.
III
Сразу после ноябрьских праздников, а может, через день или два я пришел зачем-то в Дом литераторов и увидал в фойе Можаева, Окуджаву и Максимова, которые меня весело и энергично окликнули. Оказывается, собрались идти депутацией к Воронкову по поводу Солженицына. Пойду ли с ними? Сказал, что пойду. Настроение было приподнято-шутливое. Ждали Бакланова и Антонова, те вскоре подошли, и мы направились через служебный выход в соседнее здание «большого» Союза. Там в приемной к нам присоединился Тендряков. Разговор с Воронковым был очень краткий. Говорили два златоуста — Можаев и Бакланов. О том, что нам не ясны причины исключения Солженицына из Союза писателей и хотелось бы услышать об этом на заседании правления. Все было очень достойно и в рамках правил. Воронков так же достойно, со всей мерой уважения к товарищам пообещал, что доложит о нашем пожелании секретариату.
— Мы вам ответим, товарищи. Вы получите ответ, — обещал Воронков, с чувством пожимая каждому из нас руку.
Мы разошлись по своим делам. Было впечатление, будто совершили поступок, хотя дураку было ясно, что все это бесполезность и ерунда. Вечером об этом поступке уже трещал эфир, безбожно путая имена, и один мой приятель прибежал ко мне с вытаращенными глазами: «Вы слышали?..» На следующий день я пришел в «Новый мир». Я обещал Александру Трифоновичу, что зайду именно в этот день: он должен был вернуть мне рукопись Гроссмана, которую я дал почитать несколько дней назад. (Видимо, речь шла о рукописи повести «Все течет».)
Прежде чем подняться на второй этаж, я зашел, как обычно, в комнаты на первом этаже: в отдел прозы и в клетушку завредакции. Аси Берзер не было в редакции. Дорош отсутствовал. Зато за своим столом, утопающим в верстках, казенных письмах, рапортичках на папиросной бумаге, сидела Наташа Бианки, моя добрая знакомая по очень старым новомирским временам, когда я печатал «Студентов». Она, как всегда, была в курсе последних новостей. Она сообщила, что все нервничают, Твардовский нервничает, редколлегия нервничает, что вчера приезжал — не желая произносить имени, что было вздором, жестом изобразила бороду — и привез копию своего заявления[3]. Тут она заперла дверь на защелку и показала страничку текста. Успели перепечатать. Заявление было вызывающе резкое. Пока я вникал в текст, она пошла за чем-то на второй этаж, предусмотрительно замкнув меня на ключ, а вернувшись через короткое время, сказала, что Александр Трифонович спрашивал, не пришел ли я.
— Я сказала, что ты здесь. Он просил зайти…
Я пошел наверх, абсолютно не подозревая, что через три минуты совершу один из самых идиотских поступков в своей жизни.
Александр Трифонович молча пожал мне руку, затем достал из ящика стола рукопись, аккуратно завернутую в толстую оберточную бумагу и даже перевязанную бечевкой — Гроссман, но в тщательно упакованном виде, — и протянул мне, сказав «спасибо». И это было подчеркнуто все о Гроссмане. Спустя несколько месяцев был разговор об этой рукописи, которая Александру Трифоновичу не понравилась. Кажется, его коробило то, что Гроссман взялся описывать ужасы коллективизации. Он сказал тогда довольно грубо: «Понимаете, тут есть некое „вай-вай“». И добавил извинительно, но в то же время настаивая на своем праве выражаться именно так, наиболее точно и верно: «Не мне говорить и не вам слушать…» Мне рукопись Гроссмана нравилась чрезвычайно. Я понял тогда, что тут имеют место какие-то застарелые предвзятости. Предвзятости не общечеловеческие, а персональные, касающиеся конкретных людей. Что касается предвзятостей общечеловеческих, то Александр Трифонович был их лишен, но в силу насмешливого и острого ума допускал в своем кругу безобидные, домашние шуточки, иногда, впрочем, ядовитые. Таково, быть может, было отношение Чехова к проблеме: в серьезную минуту он выказывал твердость, а в каком-нибудь рассказе мог проявить едкую наблюдательность. В общем, это было вполне невинно и напоминало мне отца, которому мать однажды сказала полушутя: «Все-таки ты евреев не любишь!» — на что он ответил: «А почему я должен их любить?» У отца были друзья евреи, он женился на еврейке, но он не понимал, почему он должен любить евреев вообще. Это было, по его мнению, так же бессмысленно, как не любить евреев вообще. О Гроссмане не проронили ни слова. Я спрятал рукопись в портфель. Александр Трифонович был мрачен, как-то собран, напряжен.
— Слышал о вашем походе, — сказал он. — Расскажите, кто да кто…
Я рассказал коротко. Он внимательно слушал, затягиваясь «Примой».
— Это не худо, конечно, но… — сделал движение рукой, как бы желая сказать «толку не будет», однако не сказал.
И тут я ляпнул — черт меня дернул за язык! — о том, что прочитал письмо Солженицына. Александр Трифонович спросил быстро:
— Где взяли?
Я сказал: в редакции, на первом этаже.
Он изменился в лице. Глядя на меня белыми остановившимися глазами, крикнул:
— Кто вам дал письмо?
Тут я понял, что совершил ужасную глупость. Я сказал:
— Нет, Александр Трифонович, я вам сказать не могу.
— Анна Самойловна? — кричал он. — Кто дал письмо? Не хотите говорить? Ну хорошо, а как вы к этому письму относитесь?
Он сверлил меня взглядом такой ярости, что я опешил, забормотал невнятное:
— По-моему, очень… сильное письмо…
— Это не письмо, а листовка! Провокация! Нож в спину тем, кто хотел ему помочь! Зачем это сделано? Для того чтобы шум поднять, тарарам на весь свет? — орал он, мечась по кабинету, в то время как я стоял неподвижно, как соляной столб, оглушенный криком и смыслом того, что до меня долетало. Кому на руку? Только его и нашим врагам! И в каком виде мы теперь предстаем? Мы же головы ломаем, мы на все идем, чтобы его спасти, а он на всех наплевал! Темечко-то не выдержало, голова от всемирной славы кругом пошла! Нет, я к этому человеку не могу теперь относиться, как прежде…
И что-то еще кричал. Даже кулаком стучал по столу. Никогда не видел его в таком состоянии — истинного бешенства. Я, грешным делом, подумал — после уж, задним числом, а в ту минуту я и думать не мог, только лишь трепетал и сокрушался по поводу собственной глупости, — что шуму и крику чересчур много для меня одного. Ей-богу, тут был какой-то перехлест. Он словно взорвался и шарахнул в меня всем, что копилось днями. Выкричал то, чего не докричал вчерашнему гостю. Гнев и мысли накатили с опозданием.
Но, может, этак кричать и буйствовать было ему для чего-то необходимо, ведь редакция — организм сложный, непрозрачный, попробуй разберись в нем со стороны…
Я вышел из кабинета, пошатываясь, ничего не понимая, кроме одного — что я идиот.
Не заходя никуда, я пошел домой. Вечером посыпались телефонные звонки от людей, близких к «Новому миру». Берзер я встретил днем у железной калитки — я выходил из редакции, она туда возвращалась. Рассказал в двух словах, что произошло. Ася побледнела.
— Какое счастье, что меня не было в журнале! — сказала она, бросаясь к подъезду с таким пылом, будто в помещении начался пожар и надо спасать детей.
Вечером она сообщила мне по телефону, как развивались события после моего ухода. Было бог знает что, АТэ поднял редакцию вверх дном. Кто дал Трифонову письмо? Такого неистовства она не помнит за все годы. Продолжалось часа два. И опять Ася повторяла: «Какое счастье, что меня не было!» Самое смешное, что «секретное» письмо, о котором автор его сообщил АТэ вчера, будто оно существует лишь в двух экземплярах, вчера же вечером было передано по эфиру. После Аси звонила Наташа Бианки. «Что случилось? Ты сошел с ума?» Я оправдывался: «Я думал, что у вас, так сказать, одна семья, нет секретов…» — «Хорошенькая одна семья! Меня топтали, уничтожали». Трубку взял Саша Письменный, муж Наташи, который сказал, что не поверил Наташе, когда она рассказала эту ужасную историю. Неужели, Юра, вы действительно могли это сделать? Мог, мог.
Разбирательство в журнале длилось несколько дней. Как раз в это время сдавался в типографию номер с «Обменом», я приходил по каким-то делам, встречался с Александром Трифоновичем. Он был со мной сдержанно приветлив, как всегда. Инцидент с письмом не поминался. Ася и Наташа спрашивали с тревогой: «Как он с вами?» Я говорил: ничего, нормально. Наташа Бианки хотела, кажется, признаться Александру Трифоновичу, но ее отговорили, дело заглохло.
А отношение к автору письма, тогда меня поразившее, Александр Трифонович изменил очень решительно и скоро. Вновь я слышал от него слова высокого уважения.
Напряженность росла. Опять пришло время последних слухов: решено окончательно, есть приказ, приказа нет, но вопрос согласован, закрывают, заменяют, исключают, снимают, выводят… Вышел двенадцатый номер. Давно не бывало: ни одной цензурной поправки ни в одном материале! Это была совсем дурная примета. «Обмен» имел читательский успех. Многие звонили мне с изумлением: «Как удалось это напечатать?» Я догадывался, что тут просто удачно сложились печальные обстоятельства. Настроение у меня было смутное. С одной стороны — успех, с другой — неизвестность, тревога. Эти неизвестность и тревога касались как будто не меня лично, а журнала, Твардовского, редколлегии, но и меня тоже. В том-то и дело, что неизвестность и тревога переносились с общего, громадного понятия «журнал» на нечто маленькое и конкретное — на меня лично и одновременно на нечто еще более необъятное и величественное — на всю русскую литературу, имеющую быть в будущем. Но где? Под какой крышей? В журнале «Октябрь», где шумела несъедобной ботвой кочетовская псевдолитература? Или в «Знамени», где через десять фильтров процеживали дистиллированную воду?
Не помню, видел ли я Александра Трифоновича до февраля. Может быть, и нет, потому что на дачу зимою я ездил редко. И вот в середине февраля наступил «день икс». В «Литературной газете» появилось сообщение о переменах в редколлегии «Нового мира».
Для меня день икс выразился в следующем: в послеобеденное время, часу в пятом, когда я мирно сидел за столом и, по выражению Казакевича, «махал ручкой», раздался звонок. Звонила Ася Берзер. Обыкновенным голосом спросила, не буду ли я сегодня в редакции. Я сказал, что не собирался. Зачем-то я нужен? Да, было бы хорошо, если бы, не откладывая в долгий ящик, вот сейчас я приехал. Меня хочет видеть и проконсультироваться о каком-то молодом писателе Юра Буртин. Зная новомирскую манеру тайн и иносказаний, я сообразил, что меня ждут по важному делу. Сел в такси и поехал.
Таинственность продолжалась: Ася, ничего не объясняя, пошла за Буртиным, тот спустился на первый этаж и, также ничего не объясняя, попросил меня выйти вместе с ним на бульвар. Он накинул пальто, мы вышли. На бульваре стали прохаживаться по аллейкам — как сейчас помню, было сыро, Буртин без шапки, рыжие волосы всклокочены, весь он как-то ежился, мялся то ли от зябкости, то ли от волнения, — и он сообщил, что вывод из редколлегии нескольких человек есть прямой удар по Александру Трифоновичу, вынуждение его подать в отставку. Хорошо бы, чтоб писатели, несколько авторов, близких к журналу, написали по этому поводу спокойное, разумное письмо. Что-то вроде болванки было им составлено. Действовать нужно немедленно, так как дорог не только каждый день, но каждый час. Александр Трифонович об этой деятельности не знает и не должен знать.
Я сказал, что сделаю, что смогу. Тут же позвонил Можаеву и попросил прийти в редакцию. Он примчался через пятнадцать минут. Теперь уж я повел его на бульвар, но не на Страстной, где мы гуляли с Буртиным, а в сквер на Пушкинскую площадь. Решили завтра с утра ехать вдвоем в Переделкино.
С этого вечера началась эпопея борьбы, в которой было много шуму, страстей, суеты, волнующих разговоров, но не было надежды и прока. Впрочем, тогда нам так не казалось. Мы верили, что можем изменить ход дела. В Переделкине сразу пришли к Рыбакову, вызвали туда по телефону Каверина и составили текст.
События марта так переплелись, встречи и разговоры так сплавились в моей памяти, что весь этот месяц представляется теперь как один суматошный, трагический, шумный, нелепый день бреда, что-то вроде русских поминок. Мы с Можаевым метались на такси то в Пахру, то в Переделкино, то еще куда-то. Писатели встречали нас в халатах, в пижамах, в гостиных среди золотых багетов, на аллейках с палочками после инфаркта, на дачных верандах, на улицах и в пронизанных миазмами коридорах Дома литераторов. Было много неожиданного, забавного и достойного кисти Айвазовского. Писатель А. поставил свою подпись в самом углу и такими мелкими буковками, что надо было брать лупу, чтобы прочитать. Писатель Б., вскормленный «Новым миром», решительно отказал. Другой сказал, что подпишет только в том случае, если Александр Трифонович будет поставлен в известность и одобрит, то есть он не хочет делать чего-либо против воли Александра Трифоновича. По сути, это был отказ, ибо условие, поставленное им, было невыполнимо. Писатель В., когда-то много печатавшийся в «Новом мире» и гордившийся дружбой Александра Трифоновича, сказал, что подумает и ответит на другой день. Позвонив рано утром, он сказал мне, что решил не подписывать. Я представил себе, какую бессонную ночь провел В. в разговорах с женой. Еще один писатель, Г., так же, впрочем, как и писатель Д., подписал с необыкновенной легкостью, даже не вчитываясь в текст. Писатель Е., которого Александр Трифонович любил и много печатал, честно признался, что он боится и, если подпишет, повредит себе.
Писатель Ж. пригласил меня пить чай и желчно объяснял, почему он не станет подписывать. Причин было две. Во-первых: почему он должен защищать журнал, который ни разу не защитил его? Робкое замечание: но ведь он, журнал, безотказно печатал вас. Еще бы им не печатать! Но они не ударили палец о палец, когда я подвергся газетной травле. И, во-вторых, кто же подписал прошение — А., Б., В., Г., Д. и Е.? Разве это писатели? И уж тем более К. Сосед. Нет, одно письмо вместе с К. он никогда не подпишет. Это значило бы плюнуть себе в лицо. Зато писатели М. и Н., которые, нам казалось, вряд ли подпишут — один слишком осторожен, язвительного ума, всегда держался особняком, а другой презрительно отвергался журналом, подписали немедленно без раздумья. Писателя Ч. мы встретили на шоссе. Он был бел, сед, ветх после болезни, и ему бы, конечно, пристало думать о боге. По-видимому, он и думал о боге, потому что прочел письмо с видом полнейшего равнодушия и, покачав головой, пошел себе дальше.
Я далек от того, чтобы кого-либо осуждать за конформизм и кого-либо восхвалять за доблесть. Просто хочется сделать этот моментальный снимок пусть фотография останется без комментариев, даже без названия, — а лет через сто люди будут потешаться над этой фреской из жизни русских шестидесятников. Какая крамола была в нашем жалком прошении? Мы защищали самого большого поэта России, известного своим патриотизмом и преданностью Советской власти, усыпанного правительственными наградами и любимого народом. О, я, кажется, сбиваюсь на комментарии и, что хуже, на осуждение, посему прикушу язык.
Где-то у Пушкина в дневниках: когда долго сидишь в нужнике, перестаешь замечать запах. Не надо делать вид, будто ты задыхаешься от вони. Если задыхаешься — умирай. А если живешь, значит, дышишь наравне со всеми, приладился, приспособил носовую полость, легкие, сердце, потроха.
Комментировать и осуждать — дело не наше, а тех, кто явится на свет божий через много, много лет.
Было, кажется, не одно письмо, а несколько, в разные адреса. Каждый день внизу, на первом этаже редакции на подоконниках, столах громоздились шубы, портфели и шапки, сбегались авторы «Нового мира», передавали слухи, сочиняли проекты, гадали и спорили. Приходили Бек, Тендряков, Искандер, Войнович, Корнилов, Владимов, Светов и многие еще. Прибегал Евтушенко, обещал протекцию «своего человека» где-то на самом верху. У Владимова тоже были какие-то связи. Можаев обнаруживал поразительное могущество: он знал «Петьку», мог поговорить с «Васькой», тот имел прямой ход к «Ивану», так что наше письмо в понедельник утром, в пятницу в три часа дня, в четверг сразу после обеда будет лежать на столе. Каждая надежда теплилась не долее двух дней.
Ответов на наши письма не было.
Александр Трифонович и члены редколлегии заседали на втором этаже. Они тоже ждали ответа или хотя бы телефонного звонка. Александр Трифонович приходил каждый день, строгий, собранный, как никогда, скованный напряженным ожиданием. Он не хотел уступать своих людей и работать с теми, кого ему навязывали. Это было гордое, отчаянное сопротивление, и, однако, то, что окончательного ответа до сих пор не было, вселяло ничтожную надежду, какую-то тень надежды. Однажды пришел Солженицын. Можаев познакомил меня. Новоявленный Нобелевский лауреат выглядел крепким, бодрым и каким-то очень трезвым и уравновешенным по сравнению с возбужденными авторами и подавленно молчаливыми — со следами отрешенности на лицах — членами редколлегии. Солженицын пожал мне руку, глядя внимательно и, как мне показалось, приветливо, и сказал: «А, вот он какой, наш Юра!» Не знаю, что он имел в виду, потому что встреча была на толчке, в коридоре, он спешил наверх к Александру Трифоновичу.
Большинство из нас, собиравшихся внизу, в отделе прозы, не подымались наверх, не желая обременять Александра Трифоновича унылым и бесполезным сочувствием. Ведь никакой конкретной помощи не мог предложить никто. Однажды добрый и суетливый Бек загорелся какой-то идеей спасения, показавшейся ему гениальной, и он побежал наверх, чтобы поскорей сообщить идею Александру Трифоновичу. Тот был занят разговором со своими помощниками и, не дослушав Бека, прервал его довольно грубо, и Бек, сконфузясь, ушел. Планов спасения не существовало. Следовало предаться року. Вниз проскочил слух, что Исаич, как любовно называли первого автора журнала, уговаривал Александра Трифоновича не подавать заявления об уходе, принять какую угодно редколлегию, но остаться. Более всего там желают его ухода. Не надо идти навстречу.
Теперь, по прошествии времени, я думаю, это был правильный совет. Александр Трифонович переварил бы каких угодно членов, даже такие дубины, как Б. и О., тем более что оставались старые члены редколлегии: Хитров, Марьямов, Дорош. Оставался сплоченный, готовый самозабвенно трудиться и бороться коллектив редакции. А этот коллектив, такие люди, как Буртин, Озерова, Берзер, Бианки, Борисова, Койранская, значили для журнала и делали для него не меньше, а больше, чем иные члены редколлегии. Кроме того, вполне вероятно, что четыре вновь назначенных члена редколлегии — Косолапов, Смирнов, Рекемчук и Литвивов — стали бы поддерживать во внутриредакционной борьбе Александра Трифоновича. Самым оскорбительным и непереносимым было включение О., который недавно на каком-то собрании назвал Александра Трифоновича «кулацким поэтом». Введение его было сознательной гнусностью, делавшей невозможной работу Александра Трифоновича в такой редколлегии.
«И все же, все же, все же…» — говоря словами Александра Трифоновича. И все же можно было пойти на все, и на это, и на борьбу, если бы не две силы, управляющие, как мне кажется, поведением Александра Трифоновича.
Одной силой было понимание или, может быть, ощущение того, что сил нет. Для тяжелейшей нечеловеческой борьбы, какую предлагал Исаич, требовались громадные силы. И не только духа, а просто физические, что, впрочем, в наш век и в нашей жизни есть одно. Раньше Александр Трифонович с его богатырским зарядом справился бы с этим подвигом, но теперь, после шестнадцати лет непрестанного напряжения, порох был на исходе.
Другой могущественной силой, руководившей Александром Трифоновичем в эти роковые дни, была природа его существа — он был в высоком смысле человеком чести. Был абсолютно не способен на поступок, называвшийся в старину неблагородным, то есть на такой, который унизил бы его в собственных глазах. Согласие на вывод Лакшина, Кондратовича и других представлялось ему предательством товарищей.
Так что все было предопределено.
И все же, все же, все же… Сознание долга в его высшем, историческом понимании — долга перед Россией, перед судьбой народа — было так велико в этом человеке, что он еще раз победил себя, победил свою физическую слабость, свою усталость, победил самое свое существо. К концу марта, когда все средства борьбы оказались исчерпанными, он, по-видимому, решил отступить до последней черты: он согласен на вывод намеченных лиц, но предлагает ввести вместо них других, по своему выбору. Я знаю это потому, что в один из последних дней марта встретил Александра Трифоновича у подъезда редакции — я туда спешил, а он выходил оттуда и направлялся к черной редакционной «Волге», стоявшей в двух шагах от подъезда, — мы поздоровались, и он, задержав мою руку в своей и помедлив мгновение, сказал:
— Юрий Валентинович, если вам, возможно, позвонят и спросят, согласны ли вы быть членом редколлегии «Нового мира», вы, пожалуйста, не отказывайтесь.
— Хорошо, — сказал я. — Конечно, Александр Трифонович.
— Если позвонят. Не думаю, чтоб это случилось, но чтоб вы знали.
Я молча кивнул. Александр Трифонович выглядел бесконечно усталым, голову по-прежнему держал опущенной, смотрел исподлобья. Было ясно, что предложение о новом составе редколлегии было жестом отчаянным и бесплодным: никто не надеялся, что наверху дадут согласие. Александр Трифонович сел в машину, а я с тяжелым сердцем пошел в редакцию. Знак доверия Александра Трифоновича в эту последнюю минуту перед кончиной журнала не то что не радовал меня — радовал, конечно, но радостью ума, а не чувства. Я как бы удостоился генеральского звания в армии, которая проиграла войну и теперь должна была думать не о будущих битвах, а о нудном прозябании в лагерях для интернированных.
Не знаю, каких еще писателей прочил Александр Трифонович в эту несостоявшуюся редколлегию. Конечно, никто мне не позвонил. Дня через два явился Косолапов и произошла сдача дел.
Потом еще несколько месяцев жизни на даче, встреч, разговоров необыкновенно печальных, спокойных, мудрых. Горе было безмерное, но он нес его с великим достоинством. Иногда шутил над собой: «Я теперь, как министр в отставке, стану писать воспоминания…» Это было всерьез. Он работал. По его словам, должна быть книга о работе в журнале, о всех событиях долгих шестнадцати лет, и называться будет: «Шестнадцать лет». Вообще он мне часто говорил, как важны воспоминания очевидцев, пускай в рукописях, без надежды напечатать: это та правда времени, которая не должна пропасть. Высоко оценивал воспоминания Газаряна, написал интереснейшее письмо их автору. Книга Евгении Гинзбург нравилась ему меньше, но он считал ее полезной. О первой части книги Рыбакова (Рукописный вариант «Детей Арбата») тоже отзывался одобрительно и, помню, сказал: «Ведь был вполне обыкновенный автор, что-то там для детей, юношества, а как коснулся пережитого — совсем другой писатель. И читать интересно».
Должен признаться, что и мою книгу «Отблеск костра» Александр Трифонович считал небезынтересной и, помню, попросил меня подарить ему второй экземпляр, так как кто-то у него книжку зачитал. Однажды он рассказал, как, отдыхая в Барвихе, познакомился с Поскребышевым и убеждал его написать книгу воспоминаний о Сталине и как Поскребышев вдруг заплакал и сказал: «Ах, не могу я о нем писать, Александр Трифонович! Ведь он меня бил! Схватит вот так за волосы и бьет головой об стол…»
У одних не хватало мужества, у других терпения, третьим неизжитое холуйское чувство не давало написать правду — даже такую ничтожную, какую поведал Поскребышев.
По-видимому, Александр Трифонович придавал своей работе над книгой «Шестнадцать лет» очень большое значение. И это наверняка была бы замечательная книга.
Весной и в начале лета семидесятого года я часто бывал на Пахре. Опять просыпался рано, слышал кашель поутру, треск сучьев — в углу неподалеку от забора затевался маленький костерок и тянуло дымом. Я выходил для своей вялой гимнастики в сад, здоровался с Александром Трифоновичем. Он спрашивал: «Какие новости?» Вопрос был обычный, интерес к новостям спокойный. Я что-нибудь рассказывал, хотя сам знал немного.
— Мало, мало у вас новостей, — шутливо укорял Александр Трифонович. — А для нас, пенсионеров, новости — первое дело.
Вокруг этой темы — отставки, пенсии — крутился в мыслях, в шутках постоянно.
— Что это у вас, Юрий Валентинович, ботинки без шнурков? Этак одни пенсионеры ходят, им уж все равно…
В один из майских дней гуляли по аллейке и он по привычке высматривал в траве по обочинам сухой хворост, палки, дощечки — все, что годилось для костра. Собирал охапкой и тащил к себе на участок, сжигать. Я тоже подбирал какие-то палки, щепки ему в помощь. И за этим занятием разговаривали. О наших общих знакомых, моих сверстниках, которые быстро продвигались по лестнице казенных успехов: один стал секретарем, другой недавно ездил в Америку в компании с писателем, который только что травил Александра Трифоновича. Александр Трифонович недоумевал: «Не понимаю, как с ним можно ехать в Америку!» Недоумение было совершенно искреннее: обоих писателей он считал своими, ибо известность им принес «Новый мир».
— А вот вы, Юрий Валентинович, ничего не добьетесь, — сказал он вдруг. — На собраниях вы молчите, выступать не умеете. Какой-то вы тугой…
Было это сказано без одобрения или сочувствия, но, однако, и без осуждения.
От этого определения — «тугой» — я даже внутренне вздрогнул. Показалось: точно. Разговор как-то перекинулся на мою персону, и Александр Трифонович стал расспрашивать об отце, его гибели, как это произошло. Когда подошли к его участку, к калитке, он спросил:
— Вы пойдете к себе на дачу? Идите, я к вам зайду через короткое время.
И не объяснил зачем. Я вернулся на дачу, ждал. Мучился загадкой: зачем зайдет? Вместо него вдруг зашел мой сосед и старинный приятель Юзик Дик. У Александра Трифоновича с Диком были отношения добрососедские, они даже говорили друг другу «ты». Александр Трифонович часто говорил мне, что восхищается диковским жизнелюбием, веселым и добрым нравом: «Ведь другой бы на его месте волком сделался!» Как писателя он Дика не рассматривал вовсе, но как соседа ценил. Заходил к нему, стучал палкой в стекла маленькой диковской верандочки и говорил: «Иосиф, на выход!» Дик отвечал немедленной пионерской готовностью. Разговаривали они между собой шутливо, дружески.
Пришел он через полчаса, степенный, неторопливый, с палкой. Увидев Дика, сказал:
— А, и ты здесь! Это хорошо…
Мы сели в пустой комнате на первом этаже, залитой солнцем. День был изумительно свежий. Александр Трифонович вынул из кармана сложенные вдвое листки, развернул их — оказалась верстка — и стал читать:
Сын за отца не отвечает Пять слов по счету, ровно пять, Но что они в себе вмещают, Вам, молодым, не вдруг понять. Их обронил в кремлевском зале Тот, кто для всех нас был одним Судеб вершителем…Александр Трифонович прочитал целиком всю поэму и два стихотворения. Я, конечно, знал, какой вокруг этих вещей разгорелся сыр-бор, но читать не приходилось. В журнале по требованию Александра Трифоновича очень строго следили за всеми верстками, боялись утечки. И все равно утекло, мне достался список, но то было позже. Теперь же я услышал впервые и из уст самого автора! Стихи были замечательные и ударили нас с Диком в самое сердце. У Дика на глазах были слезы. Ведь это о нас, обо мне и о Дике:
О, годы юности немилой, Ее жестоких передряг. То был отец, то вдруг он — враг… И здесь, куда — за полководьем Тех лет — спешил ты босиком. Ты именуешься отродьем, Не сыном даже, а сынком… А как с той кличкой жить парнишке, Как отбывать безвестный срок, Не понаслышке, Не из книжки Толкует автор этих строк…Да, все, о чем говорилось в стихах, мы трое знали не понаслышке. И это знание горестной солидарностью и любовь к нашим отцам внезапно соединили нас — на миг — в тот майский день с солнцем, пением птиц…
Тогда же, весной, развернулась история с якобы сумасшедшим Жоресом Медведевым. Александр Трифонович проявил в этом деле большое мужество и благородство. Вместе с Тендряковым он ездил в Калугу в психиатрическую больницу, разговаривал с Жоресом и врачом Лифшицем. Тендряков рассказывал мне, что на обратном пути всю дорогу спорили.
— Не могу я с ним! — признавался Володя с горечью. — Как заходит разговор о литературе, так спорим, прямо до ругани…
Характеры обоих были чем-то похожи: оба предельно независимые, со своими остро обозначенными пристрастиями и вкусами. Оба не очень-то умели соглашаться с другим мнением. И оба то, что называется «гонористые». Володя рассказывал с возмущением:
— Ты понимаешь, на обратном пути из Калуги проголодались, решили остановиться где-то, закусить. Нашли какую-то чайную, поели, я расплатился, у него денег в кармане не оказалось. Потом спорили до крика. А когда приехали на дачу, он просит меня подождать на улице и выносит пятерку… Ты представляешь?! Этакая фанаберия! Ну, тут уж я ему выдал! Тут я отыгрался! Он очень сконфузился, пятерку забрал…
И все же, хотя и спорили временами, отношения между соседями — дачи их стоят одна напротив другой, через дорогу — были, конечно, глубоко дружественные. Во всем главном они были единомышленники. И вместе добивались спасения Жореса Медведева. Победа, которой окончилось это дело, очень обрадовала Александра Трифоновича. Может быть, даже окрылила. И, может быть — не ручаюсь, не знаю, но есть смутная угадка, — вселила какую-то надежду на то, что и его дело еще не закрыто окончательно, еще переменится. Ведь было однажды: сняли с редакторства, потом призвали обратно. Участие Александра Трифоновича в вызволении Медведева, такое открытое и демонстративное, было актом мужества и независимости, ибо, по некоторым сведениям, Александра Трифоновича в связи с его шестидесятилетием в июне ожидала высокая награда — чуть ли не звание Героя Социалистического Труда. Все понимали, что теперь это вряд ли состоится.
День рождения Александра Трифоновича — двадцать первое июня. Это число особое. Самый длинный день в году. День начала войны. А в моей жизни число роковое: в ночь с двадцать первого на двадцать второе июня тридцать седьмого года был арестован отец. Был такой же жаркий солнечный день, такая же теплая ночь. Александр Трифонович дня за два пригласил меня прийти «выпить чайку». Я ломал голову: что подарить? Было дома старинное, лет полтораста, деревянное блюдо, расписанное каким-то народным мастером. Александру Трифоновичу подарок пришелся по душе. Он мне сказал потом:
— А ваша-то штука настоящая! Мне молодые сказали, они у меня художники, понимают.
Мария Илларионовна, хлебосольная хозяйка, пригласила всех на веранду. Пришли друзья и добрые знакомые Александра Трифоновича из числа пахринских жителей: Верейские, Ильина с Реформатским, Дементьев, Тендряков, Фиш, Владимир Жданов, Бакланов, Антонов, Федоров, Дик, Гердт, приехали из Москвы Закс, Кондратович, еще кто-то. Накануне Александра Трифоновича навестили сотрудники «Нового мира», остававшиеся пока там работать: Берзер, Озерова, Бианки, Борисова, Койранская, Марьямов, Буртин и автор журнала, критик Левицкий. К этому времени уже сделалось чувствительным больное место, которое вскоре превратилось в открытую и тяжкую рану: момент сотрудничества с новой редколлегией. Женщины, приехавшие с самоваром, а также Марьямов и Буртин продолжали работать в аппарате, так же как Хитров и Дорош. Марьямов и Дорош подали заявления об уходе, но начальство просило их остаться. Они остались вопреки своей воле временно, на три или четыре месяца. Хитров тоже временно оставался ответственным секретарем. Буртин то подавал заявление, то брал его назад. До меня доносились слухи о том, что Марьямов и Дорош, а также женщины из отделов прозы и критики сурово осуждены кем-то из ушедших работников за то, что остались в журнале. Атмосфера была нервная. Кто-то с кем-то перестал здороваться, кто-то с кем-то порвал отношения. Осуждение честнейших Марьямова и Дороша, так же как полезнейших работников Берзер, Озеровой, Борисовой, представлялось мне несправедливостью. Казалось, вначале ее можно было объяснить только некоторой затуманенностью мозгов горячими парами обиды, что вполне объяснимо. Но время шло, а осуждение не гасло, наоборот, разгоралось. Тогда стало ясно, что подчас люди заботились не о деле, судьбы литературы отступали на второй план.
Это было грустное зрелище. Недавние творцы и охранители «Нового мира» спешили как можно скорее его разрушить. Они требовали, чтоб все старые работники покинули журнал, чтоб авторы забирали свои произведения. Некоторые авторы так и поступили. А между тем надо было делать как раз обратное: стараться не уничтожать, а всеми силами продолжать громадное дело Александра Трифоновича — собирание русской литературы! По-моему, тут была сама очевидность. И жизнь показала, что Александр Трифонович воздвиг такое мощное здание, заложил такие основы, что окончательно уничтожить все это не удалось ни чиновникам, ни вновь пришедшим деятелям, ни разрушителям из числа бывших строителей, которые твердили «чем хуже, тем лучше» и полагали, что чем ужаснее будут произведения на страницах журнала, тем полезней.
Раскол становится все глубже, но Александр Трифонович, по-видимому, не знал всех подробностей того, что происходило после его ухода. Не знал, наверное, того, что Солженицын заходил к Асе Берзер в редакцию и говорил, что она должна оставаться там как можно дольше, что некто, встретившись с Асей на улице, не поздоровался. Работа Аси в редакции превращалась в двойную пытку: угнетала необходимость иметь дело с новыми руководителями журнала и мучили, конечно же, разговоры за спиной бывших коллег. А ведь Ася Берзер, как и все оставшиеся в журнале, стремилась к единственному: сохранить все, что возможно, от старого «Нового мира» и как можно более долго. Бывшие коллеги говорили: ничего не удастся! Напрасно себя обманываете. Надо уходить, и пусть этот журнал станет еще хуже, чем «Октябрь».
Разумеется, старый «Новый мир» умирал. Но кое-что — усилиями таких людей, как Ася — на его страницах продолжало появляться. В течение семидесятого года появились рассказы Абрамова, Искандера, Тендрякова, Семина, Некрасова, цикл рассказов Шукшина, повесть Быкова «Сотников», публикация Паустовского, последняя часть «Деревенского дневника» Дороша, роман Фоменко «Память земли». Мне хочется сказать о том, как непредвиденно сложно и мучительно происходило умирание журнала. Он не хотел умирать! Он сопротивлялся, как мог сопротивлялся молодой, полный сил и жажды жизни организм. Этот организм был — молодая литература, созданная Александром Трифоновичем и его журналом и ставшая магнитом для всей читающей и пишущей России. Куда, по мнению бывших коллег, должны были направлять свои рукописи десятки начинающих авторов из российских медвежьих углов и тьмутараканей? А ведь все это по привычке текло сюда и попадало все к тем же Берзер и Борисовой. И они делали, что могли. И терзались при этом. И каждый день решали для себя вопрос: уйти или еще подождать?
Драма и гибель Александра Трифоновича повлекли за собой другие драмы, другие гибели, поводом для которых были не только одно главное, но и какие-то вторичные страдания.
Очень скоро сгорели Дорош и Марьямов, не вынесшие разгрома журнала и осуждения, которому они подвергались со стороны некоторых бывших товарищей. «Преступление» Дороша было двойное: во-первых, он задержался в редколлегии, во-вторых, напечатал в сентябрьском номере свой «Деревенский дневник». После смерти Александра Трифоновича Дорош и Марьямов не прожили и года.
Все эти роковые болезни и смертельные исходы уже завязывались — пока еще недоступно зрению — в тот жаркий июньский день. Александр Трифонович не знал подробностей раскола. Ему не рассказывали, да и он, вероятно, мало интересовался. Женщины волновались, направляясь на дачу. Как-то он их примет? Может быть, убийственно сухо, обольет презрением? Ася рассказывала: встретил очень обрадованно и тепло. Подарок, который они привезли самовар, — был поставлен на видное место, на стол в углу веранды, и, когда я пришел с другими гостями на следующий день, Александр Трифонович, показывая на самовар, говорил: «Это мои привезли!» Говорил с удовольствием. И то, что «мои», значило много. Нет, не прощение, не отпущение грехов, а великодушие, широту сердца и ума, вот что значило это «мои».
Вообще в тот день, двадцать первого июня семидесятого года, Александр Трифонович был как-то необыкновенно прост, радушен, спокоен и терпелив. Терпеливо, с мудрым смирением выслушивал заздравные речи, иные из которых были довольно трескучие и помпезные. Но были и речи замечательно искренние, от которых слезы наворачивались на глаза. Ведь всем хотелось сказать хоть несколько слов. И он был одинаково терпелив и внимателен ко всем. А потом читал стихи, написанные в последнее время. Читал по листочкам, по рукописям. Все это происходило на веранде, гости сидели вокруг стола уже в некотором подпитии, уже затевался шум, общие разговоры, кто-то вышел в сад, кто-то сидел в комнатах, и вдруг все протрезвели и притихли. Стихи поразили нас. Они были о конце жизни. О смысле жизни. О том, что жизнь прекрасна, несмотря ни на что… В суете и волнениях вокруг журнала, принимавших, надо сказать, планетарный характер — разгон «Нового мира» обсуждался в эфире на всех языках, — как-то отодвинулось и порой совсем выпадало из сознания то обстоятельство, что Александр Трифонович — поэт громадной мощи, может быть, самый большой поэт сейчас на этой планете, занятой шумом вокруг его журнала. И вот негромкий голос напомнил об этом. И мелькнула, вдруг благодарная мысль: а может, все к лучшему? У него будут теперь время и силы для главного дела, к которому он призван на землю.
Но к лучшему ничего не было. Время и силы подошли к концу.
Как-то в июле, вскоре после дня рождения, сидели мы с Александром Трифоновичем и Диком на маленькой диковской веранде с пивом, воблой и сигаретами «Прима», и Дик вдруг сказал со своим простодушием детского писателя:
— А все же, Александр Трифонович, зря ты подал заявление об уходе. Не надо было тебе уходить.
Это была бестактность, но Дику-то все прощалось. Я думал, что Александр Трифонович отмахнется презрительно или же вовсе не обратит внимания, как если бы человек сделал за столом нечаянную оплошность. Но Александр Трифонович внезапно закрыл руками лицо и с необычайной болью и силой прошептал:
— Да как же вы не понимаете, что я не мог, не мог иначе! Не мог!
Тогда же или чуть позже, в августе. Зачем-то он зашел ко мне на участок. В углу участка у забора лежали доски, оставшиеся от строительства терассы. Хозяин я нерадивый, и доски лежали плохо, не укрытые ничем — мне на них, честно говоря, было плевать, я считал, что они не понадобятся. Помню, года четыре назад Александр Трифонович просил у меня несколько досок для каких-то своих нужд. И вот, зайдя в августе, вдруг сказал:
— Я когда-то все удивлялся: как это можно, думаю, оставлять доски вот этак лежать под дождем, гнить… А сейчас думаю: правильно, а чего беречь? И сами сгнием…
Печаль была непомерная. То, что называется, смертная печаль.
К концу лета он стал чувствовать себя хуже, как-то заметно ослаб. Жаловался на эмфизему. Врачи велели бросить курить, но он и этого сделать не мог. Несколько дней телефон у него на даче почему-то не работал, и А. Т. заходил ко мне чуть ли не ежедневно: звонить.
В один из начальных дней сентября у нас произошел такой разговор. В августе я закончил повесть «Предварительные итоги», дал почитать знакомым, среди них Софье Дмитриевне Разумовской. Софья Дмитриевна редактировала мои вещи в «Знамени», я ценил ее вкус, давал ей читать свои сочинения в рукописи. О «Предварительных итогах» Софья Дмитриевна сказала: «Кожевникову это нельзя даже показывать!» Итак, «Знамя» отпало. «Дружба народов» тоже отпала из-за фигуры туркменского поэта, написанного ядовито. С «Москвой» не было никаких отношений и идти туда не имело смысла. Словом, я решил по старой привычке дать почитать Асе Берзер и отнес повесть в «Новый мир». Мне не хотелось, чтобы Александр Трифонович узнал об этом от работников журнала, а не от меня, и я сказал ему:
— Александр Трифонович, я был на днях в вашем бывшем журнале.
— Зачем же? — спросил он.
Я сказал, что отнес повесть. Выговорить эти слова было тяжело и неприятно, но нужно. Александр Трифонович, помолчав, сказал:
— Что ж, Юрий Валентинович, время прошло… Первые полгода было как-то трудно примириться, а теперь, что ж, мне все равно. А вам, я понимаю, тяжелей идти к Кожевникову, чем к этим людям, вам неизвестным…
Почему-то он упомянул именно Кожевникова, что точно соответствовало моим размышлениям. И сразу после этого заговорили о другом.
Были еще разговоры и встречи в сентябре. Погоды стояли теплые, я дольше обычного задержался на даче. Помню, числа одиннадцатого Александр Трифонович жаловался, что ночью с ним сделалось так худо, что «думал уж, помираю». Эмфизема проклятая замучила. Потом-то выяснилось, что мучила не эмфизема, а опухоль в легком. Дышал Александр Трифонович невероятно тяжко, шумно, в груди сипел целый орган. Такое бывало и раньше, но теперь это приняло характер катастрофический. И при этом курил без передышки свои сильнейшие сигареты «Прима». Когда я по этому поводу заикнулся, он махнул рукой. Семнадцатого сентября я уехал с дачи. Через пять дней Александра Трифоновича увезли в Кунцевскую больницу.
Борьба с болезнью длилась год и три месяца. Я несколько раз навещал Александра Трифоновича, когда его привезли из больницы на дачу. Был на последнем в его жизни праздновании дня рождения, когда он сидел в кресле, с пледом на коленях, перед накрытым столом, и встречал всех входивших добрым, мучительным взглядом, а к некоторым тянулся лицом, и мы его целовали. Говорить он уже не мог. Слишком тяжело обо всем этом вспоминать, и я умолкаю. Скажу лишь: могучий организм, задуманный на столетие, сопротивлялся с отчаянной и поражавшей медиков силой. Но что можно сделать с болезнью, смертью и злобой людской? В декабре семьдесят первого он умер. И о похоронах писать нет сил. Напишут другие, людей было очень много. Я сидел в фойе на втором этаже, смотрел на полумертвые лица писателей и каких-то неведомых людей, толкавшихся в скорбных кучках, и думал: «Господи, да ведь это какой-то знакомый ужас! Ведь с Россией все это уже было! Почему же снова? Зачем же? И неужели никто, никто, никто не может понять, что так нельзя?»
1972Примечания
1
А. Солженицын. В круге первом. (Прим. ред.)
(обратно)2
Речь идет об исключении из Союза писателей А. Солженицына, жившего тогда в Рязани. (Прим. ред.)
(обратно)3
Копия письма А. И. Солженицына в Союз писателей. (Прим. ред.)
(обратно)


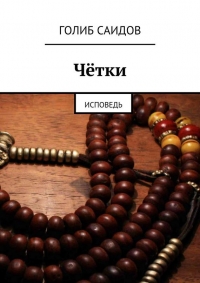
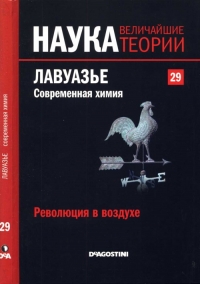

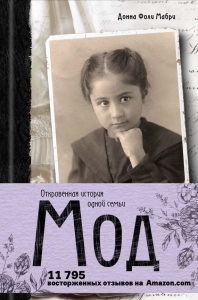
Комментарии к книге «Записки соседа», Юрий Валентинович Трифонов
Всего 0 комментариев