Борис Николаевич Ширяев Никола Русский. Италия без Колизея
© М. Г. Талалай, А. Г. Власенко, составление, 2016
© Н. Л. Казанцев, статья, 2016
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016
Предисловие
Имя Бориса Николаевича Ширяева (1889–1959) стало известным на рубеже XX–XXI вв., когда была переиздана огромными тиражами и разными издательствами его книга о первых годах Соловецкого лагеря – «Неугасимая лампада». Высокий литературный слог, трагическая тематика, сила «первосвидетельства» не могли не впечатлить современного русского читателя: автором заинтересовалась самая широкая публика.
Постепенно – и не до конца – стали открываться контуры прикровенной и противоречивой биографии Ширяева. О нем начали часто писать литературоведы и историки[1].
Внешние вехи его жизни таковы. Борис Ширяев родился 27 октября 1889 г. по старому стилю, в Москве, где окончил гимназию и историко-филологический факультет (некоторое время он учился и в Германии). Перед талантливым студентом, оставленном при университете, открывалась научная карьера, но началась мировая война, и 25-летний филолог ушел добровольцем на фронт, в ряды 17-го Черниговского гусарского полка, дослужившись до офицерского звания. После развала фронта Ширяев вернулся в Москву, ставшую «красной». С началом Гражданской войны, сделав свой политический и моральный выбор, он отправляется на Юг России, в Добровольческую армию. Попав в плен к «красным», был приговорен к смертной казни, однако сумел бежать – в Одессу, а затем в Среднюю Азию, где участвовал в антибольшевистском сопротивлении, а после его поражения, выданный из Ирана красноармейцам, работал надсмотрщиком табунов на азиатских пастбищах.
Ширяев однако мечтает вернуться в Россию и пробирается в Москву, но в 1922 г. снова попадает под арест с очередным смертным приговором, замененным на десять лет каторги.
Тяжкий труд в Соловецком лагере особого назначения фантасмагорическим образом соединился у него с трудом литературным. В странной атмосфере начала 20-х гг. даже в лагере выходил журнал «Соловецкие острова», где появились первые произведения Ширяева: повести «1237 строк» и несколько стихотворений («Соловки», «Диалектика сегодня», «Туркестанские стихи» и др.). Вместе с соузником литератором В. Н. Глубовским он собрал и записал лагерный фольклор, изданный отдельным сборником. В 1927 г., при «разгрузке» лагеря, каторгу заменили на ссылку – в Среднюю Азию, где писатель сотрудничал в нескольких газетах, преподавал в университете (Ташкентском), и со свойственным ему филологическим темпераментом изучал местную культуру. Одно свое изыскание, «Наднациональное государство на территории Евразии» ему удалось опубликовать заграницей, в альманахе «Евразийская хроника», под редакцией П. Н. Савицкого (Париж, 1927, № 7). Другие очерки вышли в СССР, в журналах «Прожектор», «Огонек», «Вокруг Света» и прочих. Публиковал он и брошюры, в том числе по азиатскому искусству, самой крупной из которых стала «Кукольный театр в Средней Азии».
По окончании срока ссылки литератор возвращается в Москву, но будучи «под колпаком», снова подвергается аресту и – ссылке на три года в слободу Россошь (Воронежская обл.). По отбытии очередного срока Ширяев переселяется далее на юг, в Ставрополь, где работает преподавателем педагогического института и женится на студентке, Нине Ивановне Капраловой.
Немецкую оккупацию бывший каторжник и ссыльный расценил как возможность легальной борьбы с большевизмом: он становится редактором ставропольской газеты «Утро Кавказа» (она же «Ставропольское слово»), а затем симферопольской газеты «Голос Крыма»[2]. Публикуя антисоветские и прогерманские материалы, он ведет широкую социальную работу, добиваясь освобождения ряда военнопленных и помогая многим, иногда даже рискуя своим положением. Позднее этот драматический опыт отразился в романе «Кудеяров дуб» (1958), где поднимается больная проблема судьбы русского патриота-антикоммуниста, пошедшего на сотрудничество с немцами.
С наступлением Красной Армии литератор бежит в Берлин, а оттуда – в Белград, где в 1944 гг. провел несколько месяцев. В феврале 1945 г. вместе со своей семьей он переправляется в Италию. Во Фриули, в предгорьях Альп, проживает при штабе казачьей армии генерала Доманова и в течении несколько месяцев – до исхода казаков в Австрию – выпускает газету «Казачья земля». При наступлении союзников, в отличие от большинства казаков, он вместе с семьей остался в Италии.
Можно с уверенностью сказать, что именно в Италии Ширяев окончательно сформировался как писатель. Несмотря на постоянный страх насильственной репатриации и полуголодное беженское существование здесь, в колыбели европейской цивилизации – а к глубокому историческому фону он, филолог по образованию, был особенно чувствителен – бывший журналист ощутил и сильное литературное призвание, и собственный дар. После первого, чисто филологического труда, «Обзор современной русской литературы», вышедшего по-итальянски (Венеция, 1946), он пишет свой изначальный рассказ, «Соловецкая заутреня», ставший камертоном последующей «Неугасимой лампады».
На рубеже 1940–1950-х гг. в самых различных эмигрантских изданиях – в «Нашей стране», «Русской мысли», «Часовом», «Гранях» – выходят художественные произведения Ширяева, сочиненные им в итальянских городах и весях.
В 1952 г. выходит его первая большая книга, написанная на основе самых свежих впечатлений – «Ди-Пи в Италии»; в следующем году – сборники очерков «Я – человек русский» и «Светильники Русской Земли». Еще через год, в 1954 г., нью-йоркское «Издательство им. Чехова» выпускает его самый важный труд, «Неугасимая лампада», принесший ему посмертную славу[3].
Как Гоголь в Риме создал картины русской провинции в своей поэме «Мертвые души», так и Ширяев, писавший эту книгу под Неаполем, воскресил атмосферу соловецкой каторги. Об обстоятельствах и времени ее написания сообщает сам автор: окончательный текст «Неугасимой лампады» появился в конце 1940-х гг., когда он оказался в беженском лагере под Неаполем, в местечке Пагани.
В Италии эмигрант получил статус «Ди-Пи» – от displaced persons, «перемещенные лица» – почти забытая ныне аббревиатура, в середине прошлого века ставшая символом судьбы миллионов людей, и не только русских: после окончания Второй мировой войны и победы в странах Восточной Европы режимов сталинского образца «перемещенные лица», а по сути беженцы, предпочли потерю Родины, нежели покорность чуждому им строю. Кроме того, многие «Ди-Пи», живя прежде на оккупированной немцами территории, при приближении Красной Армии не без оснований опасались расправы за коллаборационизм – добровольный или вынужденный. Выдача этих беженцев назад, на плаху и в советские лагеря – темное пятно на «ризах» западных демократий. В Европе до сих пор неохотно говорят о драме дипийцев, в особенности, – в Италии, где в течение почти полувека в культуре доминировала левая идеология, изымавшая из истории цивилизации ХХ столетия все «реакционные», по ее мнению, явления.
Жизнь Ширяева в Италии протекала, действительно, не только в атмосфере непреходящей угрозы насильственной репатриации, но и постоянной борьбы с мифологизированным сознанием итальянцев, представлявших СССР «раем для трудящихся». Возможно, именно полемика с левой итальянской интеллигенцией, особенно культивировавшей тогда миф о Сталине и большевизме, подтолкнула еще сильнее Ширяева к созданию обличительного (но и высокохудожественного) повествования – книги о советской концлагерной системе.
Страшный соловецкий опыт в целом становится точкой отсчета его творчества. Даже стихотворный пространный эпиграф к «Ди-Пи в Италии» отсылает нас к беломорскому архипелагу: «И связали вас крепкие нити / С далью прежних любимых сторон, – / Вы с трибуны отважно громите / Погубивших Россию и Трон. // В эти дни, когда с ревом и свистом / Были сорваны славы венки, / Против воли вы стали „туристом“, / Посетив, например, Соловки» (так обращался к Ширяеву его коллега по «второй волне» Д. С. Товдин). С Соловками он сравнивает лагерь для «Ди-Пи» на острове Липари близ Сицилии…
Сама книга «Ди-Пи в Италии», с подзаголовком «Записки продавца кукол»[4], открывает нам как и уникальные обстоятельства его жизни, увязанной с малоизученной «второй волной» эмиграции, так и легкость его пера, его юмор и иронию, которые, впрочем, оставляют место для драматического и эпического жанра (на тех страницах, например, где повествуется о насильственной выдаче беженцев сталинским карателям, называемых автором «охотниками за черепами»).
Попав, после разных злоключений в неаполитанский лагерь, Ширяев, как сам признается, вытащил «счастливый билет». Среди роскошной природы, гостеприимных и веселых южан, в хорошо оборудованном лагере, где прежде стояли войска англо-американских союзников, можно было заняться и литературой. Конечно, беженская жизнь была скудной и ради содержания семьи он принялся за (успешное) изготовление кукол, но, тем не менее, ожидать тут, близ Неаполя, заокеанской визы было много спокойнее, а главное – имелась возможность писать. Вот как он сам сообщает об условиях своего тогдашнего творчества:
«Войдя в ворота [Помпей], я разом прыгаю через два тысячелетия и погружаюсь в мудрую тишину могилы. Я часто бываю здесь по будням. Захвачу свои тетрадки, сяду в излюбленном уголке в доме какого-то Клавдия Луция, к счастью его, давно испепеленного, и пишу свою „Неугасимую Лампаду“, горевшую в иной могиле – на Соловках. Тихо. Редко-редко донесется трескучий речитатив гида, выкрикивающего свои затверженные годами объяснения» («Ди-Пи в Италии»).
Пособие как беженцу и продажа кукол тогда служили единственными источниками доходов. Писатель и его семья оказались в нищенской обстановке, свидетельством чему служит текст одного письма 1952 г., опубликованный много позднее, в 1986 г.:
«Надо помочь Ширяеву. ‹…› Находится он в Италии – лагере Ди-Пи – до сегодняшнего дня. И, может быть, вообще безнадежно – навсегда. Дело в том, что у него – в результате Соловков и прочих советских переживаний открылся туберкулез легких. Для него он не страшен – ему больше 60 лет, но какую-либо надежду на переселение куда бы то ни было отнимает навсегда. Пребывает он в связи с этим в состоянии полного отчаяния. У него жена и 14-летний сын. Всё то, что он пишет – не оплачивается, и они до сих пор живут на лагерном пайке и нуждаются так, что он собирает окурки. Лично от себя я послал ему пару посылок, но большего сделать я не могу. Единственным реальным способом помощи я считаю издание книги»[5].
Что же касается главного труда жизни – «Неугасимой лампады», то его замысел вынашивался Ширяевым еще до Италии и до Пагани. Естественно, в качестве «подсоветского» гражданина он не имел никакой возможности писать о лагерях, а если и вел заметки, то, вероятно, делал это скрытно.
Общая идея соловецкого произведения со временем уточнялась: из обличения оно становилось свидетельством, согретым христианской верой. Повествование – как и другие крупные книги Ширяева – по сути дела в итоге представляет собой искусно собранную серию очерков, объединенных сквозной интонацией «сказителя» (но не историка). Для Ширяева было важным изложить именно сказание, предание, былину – отсюда и обескураживающие порой неточности, касающиеся истории Соловков[6] – их автор мог, при желании, устранить, будучи вхожим в папский колледж Руссикум в Риме с его богатейшей библиотекой. Следовательно, и читателю книги следует, вероятно, подходить к ней с другой меркой, как к литературе не о жизни, а о житии, в центре которой – коллективный «Угодник Божий», Святая Русь. Главный пафос книги, сформировавшийся уже позднее, в эмиграции – это вера в сокровенную родину, сберегшую свою былинную красу и мощь. Как некий Китеж, она укрылась при победе Третьего Интернационала, ведомого врагами страны – внешними и внутренними, но Святая Русь – по вере Ширяева – воскреснет вместе с «белым» царем во главе.
Стремление к агиографическому жанру присутствует и в мелочах, даже в «подписи»: в конце книги автор ставит особую географическую траекторию: «Соловки – Капри», с острова несвободы – на остров неподцензурного творчества (не было ли здесь и вызова Горькому, писавшему на Капри вольные, но левацкие тексты и ставшему в итоге прославителем Соловков и прочих атрибутов большевицкого режима?). При этом названия места, где реально писалась «Лампада» – Пагани – автор явно избегает, не желая неприятных ассоциаций.
В Италии уточнились и политические воззрения Ширяева, патриота и монархиста. Оттачивает он и свой публицистический дар: под эгидой «Русского собрания», литератор основывает в 1946 г. периодический орган «Русский клич». Журнал первоначально размножался гектографическим способом в лагере беженцев в Риме, а затем стал издаваться в виде типографской брошюрки. «Русский клич» по замыслу был непартийным изданием и ставил своей задачей объединение русских людей в тяжелых условиях эмиграции, однако постепенно стал журналом монархическим. При нем существовал большой литературно-художественный кружок и проводились поэтические и прозаические конкурсы. Ширяев вошел также в правление «Российского народно-монархического движения», созданного И. Л. Солоневичем в Аргентине. В целом он необыкновенно много и неутомимо пишет, как будто в «подпитке» от могучего культурного слоя страны.
В Италии, наконец, Ширяев сделал и «выбор веры». Его переход в католичество не раз подвергался критике в его собственном стане, и поэтому на страницах книги «Ди-Пи в Италии» об этом важнейшем для автора духовном событии нет ни единой строчки. Однако читателя деликатно «подводят» к обоснованию подобного решения: это описание и духовных сокровищ Западной Церкви, и гуманизма католического клира, и благоговейные образы русских католиков в Риме. Вне сомнения, Католическая Церковь сыграла большую роль во время скитаний семьи Ширяевых по Италии. Его знакомый, В. Орехов в некрологе прямо пишет: «Свое спасение, благодаря помощи итальянского католического духовенства (курсив наш), он описал в повести „Ди-Пи в Италии“»[7]. Католическая вера вновь затронула и поэтические струны его души: он вновь пишет стихи – на сей раз переводы гимнов Франциска Ассизского, небесного покровителя Италии. Сборник религиозно-литературных эссе Ширяева и стал его последней, посмертной книгой, выпущенной католическим издательством «Жизнь с Богом» («Религиозные мотивы в русской поэзии», Брюссель, 1960).
Парадоксально: вся книга «Ди-Пи в Италии» повествует о драматической битве автора за право уехать из Италии, что в итоге ему и удается: он уезжает в Америку, вслед за сыном. Однако проходит несколько лет, и Ширяев при первой возможности сюда возвращается. Здесь же, в предместье милого курортного городка Сан-Ремо, на берегу Лигурийского моря, и закончился земной путь каторжника и изгнанника, еще одной жертвы ушедшего века, сумевшей, однако, своим творчеством победить палачей и гонителей: 17 апреля 1959 г., в два часа пополудни, на улице Борго Опако, № 74, в предместье Сан-Ремо, писатель скончался.
Его вдова уехала в Америку, к сыну[8]. Согласно их распоряжению могила Бориса Николаевича на городском кладбище Армеа не может быть упраздненной, даже если ее никто и не посещает[9] – как нельзя упразднить и написанные им книги о драмах русского народа.
* * *
Многочисленные художественные и публицистические эссе Ширяева, которые он широко публиковал в различных эмигрантских изданиях, никогда не были собраны под одной обложкой. Из их многообразия публикатор отобрал только те, которые имеют прямое отношение к Италии, а также к судьбам русских беженцев на Апеннинах, к числу которых принадлежал и автор. Он и сам подумывал о такой публикации, не раз обозначая внизу своих статей: Из книги «Италия без Колизея». Однако при жизни писателя его замысел не осуществился…
Идея сборника возникла во время переписки с главным редактором старейшей эмигрантской газеты «Наша Страна» Николаем Леонидовичем Казанцевым, которому выражаем нашу искреннюю благодарность, в т. ч. за специально написанный биографический очерк (см. Послесловие). В сотрудничестве с Н. Л. Казанцевым, А. Г. Власенко проделал долгий и кропотливый труд по выявлению публикаций Ширяева и по их подготовке к печати.
В 1950-е гг. в Америке вышли две главные книги писателя: «Ди-Пи в Италии» (Буэнос-Айрес, 1952) и «Неугасимая лампада» (Нью-Йорк, 1954). Эти книги уже опубликованы на родине их автора. Теперь к ним прибавляется третья, прежде нигде не изданная.
Первое издание, составленного нами совместно с Андреем Власенко, «посмертного» сборника итальянских эссе Бориса Ширяева – «Италия без Колизея» – вышло в 2014 году.
Всё так же с А. Власенко мы подготовили еще один сборник писателя, на сей раз, посвященный исключительно русской литературе. Во время новой работы пришлось еще раз поразиться исключительной плодовитости и эрудиции автора, а также его неиссякаемому патриотизму. Одновременно литературоведческий сборник отразил весьма цельное мировоззрение Ширяева, который направил свой талант критика на выявление всего светлого, жизнеутверждающего и созидательного у русских писателей и поэтов, подвергнув критике всё, по его мнению, растлевающее, болезненное и разрушительное. Такая ясная линия подсказала общее название новой «посмертной» книги, по одной из статей, – «Бриллианты и булыжники». Ширяев-критик оказался также необыкновенно внимателен к современной ему советской литературе (которую, подчеркивая ее подневольный характер, называл, как и многие в русской эмиграции, «подсоветской») и, особенно, к творчеству «второй волны», с которой был связан единой дипийской судьбой – но при этом, будучи в ней «старшим», оставаясь культурно и эстетически более близким к «волне первой». Книга «Бриллианты и булыжники» вышла в самом начале 2016 г. в издательстве «Алетейя», взявшей в последние годы трудную роль извлечения творчества Ширяева из небытия.
Собирая тексты для этой книги и тщательно работая далее над его наследием, мы нашли ряд редких эссе про Италию, прежде нам неизвестных, так что сборник «Италия без Колизея» теперь стал намного шире, и его второе издание получило новое название: «Никола Русский» (по открывающей его статье и по одной из постоянных забот автора – о русском храме-памятнике в Бари).
Остается приятная задача – выразить благодарность помогавшим нам во время работы над книгой людям: это – Андрей Мартынов (Москва), Марина Моретти (Сан-Ремо), Стефания Сини (Милан), о. Вячеслав Умнягин (Москва-Соловки).
Михаил Талалай.
Милан, март 2016
Никола Русский
– Видишь эту икону? Вон ту, с темным ликом, в серебряной ризе с золотыми кружочками по краешку? Это наша, семейная, родовая… Давно она у нас. С каких времен – сама не знаю. А только с прапрадедушкой твоим, Николаем Петровичем, секунд-майором, под Измаилом она была. Это верно. Когда пошли наши на штурм бусурманской крепости, твой прадед на шею ее себе поверх мундира надел, милости Николы Заступника себя поручил. И уберег его Святитель Русский: залез прадед твой на стену, а янычар ему в грудь копьем наметил. Замахнулся уже, но увидел лик Угодника, устрашился, копье свое бросил и убежал. Поэтому и золотые кружки по краям оклада, а наверху, видишь, крест? Это орденский крест, за взятие Измаила, а кружки – пуговицы с прадедова мундира. Они позолоченные были. Теперь пообтерлись, конечно. Много времени прошло… А риза – из турецкого серебра, какое в Измаиле взяли. Прадед твой, как вернулся из похода, тогда и отлить ее приказал, пуговицами украсил и награждение свое, государыней дарованное, Святителю принес.
– Прими, Заступник, не мне эта честь, а тебе, твоею помощью басурман низвержен.
Так рассказывала мне моя бабушка, обыкновенная русская бабушка, какие в каждой семье были, есть и будут. В каждой. Разница в них лишь в том, что одни были в букольках и чепцах, а другие – в полинялых темных платках на седых космах. Есть они и теперь, ибо они неистребимы, так же как неистребимо само наше прошлое, которое они несут в себе и бережно хранят.
Была такая бабушка и у Пушкина. О ней много писали, и ее имя знают. Были такие и у его михайловских мужиков. О них ничего не писали и их не знают. Но так же повествовали они о неистребимом, неугасимом прошлом, то скорбном и страшном, то радостном, светлом и благостном. И так же, как я в те годы, слушали, слушают и будут слушать их внучата.
Извечна возлюбленная в нашей юности, извечна и бабушка в нашем детстве.
Я слушал ее и видел – так ярко, как это бывает только в детские годы – и секунд-майора, махающего блестящей шпагой, и страшного, огромного янычара с тяжелым копьем… А между ними… Седенького старичка, заслонившего собой грудь прадеда… Видел…
А бабушка плела дальше свое тихоструйное кружево.
– … Первый год, как я за деда твоего замуж вышла – мама твоя еще не родилась, – страшеннейший пожар приключился. Загорелось в овине, в овинах тогда еще хлеб сушили. Потом и на строения пламя перекинуло. Дым – ничего не видать. Все, как обезумели: орут, кричат без толку. Скотина ревет по дворам. Столпотворение! Крыши-то соломенные тогда были – от них огненные «галки» летят… ветер…
– Под Твою милость, Чудотворец, прибегаем! Оборони!
Взяла я тогда этот образ из кивота и стала с ним насупротив ветра.
– Оборони, Святитель, Заступник!..
– И что ж ты думаешь? – зацветало улыбкой лицо бабушки. – Не попустил! Заступил Угодник! Дымом, меня душит, искрами палит, а я стою… Капот от искры затлеет, – отряхну, приглушу ладошкой и стою.
Глядь, и ветер назад повернул. Стихать стало. А я всё стою. Так и миновалось. Услышал меня Чудотворец и приспел с помощью.
В редкой русской семье не хранилось таких преданий о чудесах, совершенных Угодником Мирликийским, и в редком доме, хоромах или избе не было его иконы.
Эти предания тянулись крепкими нитями из прошлого в современность, крепили связь меж веками – единство жизни и истории русского народа. Нет числа этим преданиям. Они всюду, в каждом углу Руси. В каждом городе и в каждой глухой деревушке есть свой собственный сказ о чуде Святого Николы.
Древнейший из них, вероятно, Киевский, о Николе Мокром, связанный с первым на Руси храмом, воздвигнутым в начале XII века в честь вросшего в русскую жизнь Чудотворца.
Ватагу рыбаков на Днепре застала буря. Ветер ревет, хлещет дождь. Сорваны паруса, сломано правило, да и как управить им по таким волнам? Спасение только в чуде.
Погибающие рыбаки взмолились тогда к тому посреднику между Господом и людьми, весть о котором в те годы едва лишь достигла Руси – к Николе Чудотворцу. И видят: стал у сломанного руля седенький старичок и повел их ладью к берегу по ревущим волнам… А ветер бушует, дождь всё хлещет и струями стекает с лица старичка.
Привел. Спаслись. И в память спасения воздвигли храм, а в нем образ Заступника, такого, каким видели они его во время бури – правящего рулем, залитого дождем и брызгами волн, мокрым.
Этот образ погиб при одном из разгромов Киева, но церковь стояла и хранила свое имя Николы Мокрого до наших дней. Сохранилась ли она теперь, при разгроме Киева – не знаю[10].
Никола Угрешский, Никола Можайский, Никола Белевский, Тихвинский, Устюжский… Сколько храмов его имени воздвигнуто на Святой Руси? И каждый из них хранит не одно, но множество преданий о совершенных Святителем чудесах.
Современный человек с размельченной, затертой, как монета, душой, иссушенной и обескровленной всевозможными «измами», утратил силу для живого представления о чуде, хотя жадно рвется к нему, тоскует о нем. Не случайно же в атеистическом Париже – десять тысяч всевозможных «чудотворцев», «ясновидящих» и гадателей…
Это парадоксально, но наиболее яркие проявления веры в чудо Господне мне приходилось видеть теперь в СССР. Там эта вера еще живет в людских сердцах. Быть может потому, что именно там, в безысходности социалистического быта, творящиеся и в наши дни чудеса заметнее, ярче, чем в тусклой, сытной обывательщине Запада.
* * *
Восприятие духовного образа святого Николая Мирликийского религиозным сознанием русского народа глубоко уходит в историю. Его корни близки ко времени освобождения честных мощей Святителя из плена захвативших Ликийские Миры сарацин[11] – к одиннадцатому веку. Празднование дня их прибытия в город Бари было установлено киевским митрополитом Ефремом, возглавлявшим русскую Церковь с 1089 по 1098 г., следовательно, всего через десять-пятнадцать лет после совершения этого благочестивого дела, чрезвычайно быстро в условиях передвижения и связи того времени.
В молитвословном песнопении Православной Церкви это событие запечатлено словами: «Радуется светлый град Барийский и с ним вся вселенная ликует».
Характерно и то, что празднование этого события 9 мая на Руси было всецерковным, в Италии же оно лишь местное, Барийское, а греческою Православною Церковью этот день совершенно непочитаем.
Но и эта дата еще не исток восприятия Русью духовного облика Мирликийского Чудотворца. Из четырех дошедших до нас записей очевидцев перенесения мощей в город Бари (где они находятся и по сей день) три написаны по-латыни и одно по-русски, примерно, тем же языком, как и слово о полку Игореве. Подписи нет.
Кто же его автор? Кем был этот человек, находившийся на южном берегу Адриатики и вполне, литературно, по тому времени, писавший по-русски? Как мог он попасть туда и не он ли, вернувшись на Русь, принес живую весть о благочестивом подвиге барийцев, произведшую столь сильное впечатление на киевлян, что день этого подвига был утвержден, как всецерковный праздник?
Вряд ли автор этой записи был духовным лицом. Русского духовенства, тем более высоко грамотного, было тогда еще мало в самом киевском княжестве, и эти немногие ученые монахи и священники не могли отлучаться от епархии на продолжительные сроки – слишком были они нужны в ней самой и по всей, еще полуязыческой в глухих углах Руси.
Вернее будет предположить, что автор этого документа был, подобно творцу «Слова о полку Игореве», интеллигентом-дружинником, возможно даже, что обрусевшим норманном-варягом. Таких в тот век было немало. По последним изысканиям советских литературоведов, «Слово о полку Игореве» было впервые исполнено, как песенный сказ, на свадьбе князя Владимира Игоревича и Кончаковны в 1187 г. Вероятно, и слагалось оно ко дню этого торжества, как тогда было в обычае и у русских (баян) и у варягов (скальды). А раз автор готовил столь художественное произведение, но не трафаретную пиршественную песнь, следовательно, и аудитория была близка к нему по ее культурному уровню.
Мог ли такой интеллигент-дружинник попасть тогда в Бари?
Разберемся в обстановке того времени. В Киеве в те годы княжили ближайшие потомки Ярослава Мудрого, одна из дочерей которого была выдана замуж за варяжского викинга, позже норвежского короля Гаральда Гардграда. Этот викинг служил сперва в дружине Ярослава и лишь ради соискания любви пленившей его сердце русской княжны устремился к подвигам за морем, как это было в обычае того времени. Пробыв недолго на службе Византийского императора, он повел, самостоятельные морские операции в районе Сицилии и южной Адриатики.
– Я город Мессину в разор разорил… – пишет о нем Алексей Толстой и имеет к тому подтвержденные Карамзиным основания, кроме чего в Норвегии сохранились стихи-песни самого Гаральда, посвященные Ярославне.
В Сицилии в то время сформировалось норманнское государство конунга Гискара, в сферу которого входил и крупный в то время торговый порт Бари. Древние сицилийские хроники сообщают о наличии в войсках Гискара варягов, племени Русь, отличавшихся большой храбростью.
Очень вероятно, что некоторые дружинники Гаральда Гардграда и других, шедших тем же путем через Киев и Византию викингов, могли осесть в родственной им среде сицилийских норманнов. Некоторые из них могли и вернуться в блистательный тогда Киев, как вернулся тогда туда после своих морских походов сам Гаральд Гардград:
Но ныне к тебе, государь Ярослав, Вернулся я в славе победной…Не одним ли из таких удальцов была составлена русская запись о перенесении честных мощей Чудотворца? Не был ли и он сам обрусевшим варягом, участником этой действительно героической экспедиции, совершенной только одним кораблем, напавшим на потрясавших Византийскую империю сарацин и разгромившим важный для них город – Миры Ликийские?
Так это было или не так, но ясно, что почва для религиозного восприятия облика Святителя Николая была уже подготовлена в Киеве и что этот облик его был глубоко близок и родственен духовному строю Руси того времени. Только в силу этого, событие, произошедшее в отдаленной стране, могло быть так горячо воспринято в Киеве, так быстро утвердиться в русской среде как всехристианское торжество.
Какие же черты многогранной, всесторонней, безмерно одаренной Господом души Святителя Мирликийского были столь близки русской народной душе? Какие стороны его земной жизни и деятельности затронули созвучные им струны мироощущения людей иной уже эпохи, иной страны, иного исторически-бытового уклада?
Святой Николай был в земной своей жизни византийцем эпохи смены идейного строя современного ему общества. Античный эллинизм умирал. В Афинах доживала свои последние годы уже утратившая свои творческие силы академия. Пустели храмы древних богов. Эстетические идеалы отмирали и на смену им мощной волной шли новые, этические представления.
Были ли они однородны в своем составе, в своей сумме?
Конечно, нет. Слово Христа, комплекс идей, внесенных в сознание античного мира апостолами и первоучителями христианства, воспринимался и преломлялся различно, в зависимости от духовного строя и темперамента прозелитов, их быта и расовых черт. Нервозный, склонный к фанатизму сириец устремлялся к аскетическому подвигу, приносил свое тело полностью в жертву духу, становился пустынником, постником, столпником и даже самоистязателем. Выросший в традиции организованной государственности римлянин делал первые попытки обобщения Церкви с Государством. Примитивный, но действенный германец нес на служение новому идеалу свой меч.
* * *
Византия, бурно разрасталась тогда в мировой культурный центр и, в силу этого, в ней скрещивались все течения новой идеологии. Разномыслие (ереси) было неизбежно. Столь же неизбежна была и борьба между группами разномыслящих, и эта борьба обострялась тем, что Византийский император был главой всего Средиземноморского культурного мира. Вовлечение его в свое идеологическое русло было равносильно полной победе.
В этой сфере земная личность св. Николая, епископа Мир Ликийских, выражалась в качестве мощного и самоотверженного борца за истинное понимание Слова Христа и самой сущности Богочеловека.
Его противник Арий нес по существу лишь новую форму видоизмененного античного идеала, подменяя Богочеловека старым культом обожествленного человека, сверхчеловека, Прометея, победившего дряхлый Олимп.
Борьба с ним была очень трудна для св. Николая. На Никейском Вселенском Соборе единомышленники Ария составляли большинство. За ними стояла мощная придворная партия, порой и сам колебавшийся император. Пережитки античного культа обожествления человеческой личности были базой этой сильной группы еретиков.
Только безмерная, поистине боговдохновенная энергия и невероятная сила укрепленного Господом духа, помогли Мирликийскому епископу отстоять истину Слова Христа на первом Вселенском Соборе.
Такова одна сторона земной жизни святого Николая.
Но его жития показывают нам и другую – тихую, скромную, но столь же великую и прекрасную – любовь к человеку, творческую, действенную, христианскую любовь к нему.
Живший позже блаженный Августин писал: «Кто говорит, что он любит человечество, тот не любит человека». Эту глубокую и подлинно христианскую истину св. Николай выражал повседневной деятельностью среди своей паствы, при соприкосновении с императорской властью и в чудесах, дарованных Господом по его молитве.
Помощь ближнему, «одному из малых сих», защита угнетенных и оскорбленных, насыщение голодных, исцеления болящих и страдающих, утешение страждущих и скорбящих, спасение невинно осужденных, заблудшихся, погибающих в хаосе стихий – такова другая сторона земной жизни св. Николая, угодника Божьего и Чудотворца.
При чтении в его житии о множестве совершенных им чудес ясно видна их общая направленность и общий внешний характер: все эти чудеса абсолютно лишены того, что на нашем вульгарном современном языке называется эффектом, театральностью. Сравним их с ветхозаветными чудесами Моисея. Там цель чудес обоснована племенным эгоизмом, почтенным, но не благостным чувством, пафосом борьбы, стремлением распространить на окружающих свою личную волю.
Ничего подобного мы не видим в чудесах, сотворенных св. Николой, Угодником Божьим. В тягчайшие, острейшие моменты своей борьбы за святость истины он несет всю тяжесть этой борьбы сам, но не молит Господа о подкреплении себя чудом, не испрашивает его для себя.
Он просит Бога о чуде только для других, «малых сих», для тех, кому своей человеческой силой он помочь не может.
– Ниспошли на них, Господи, Святую Волю Твою!
– Помоги им, Господи, ибо сам я не в силах помочь. Помоги алчущему, страждущему, скорбящему, убогому, униженному и угнетенному… Помоги человеку.
* * *
Какая же из двух этих сторон земной жизни и творческой деятельности св. Николая ближе, роднее и созвучнее духовному строю русского народа?
Он, русский народ, ответил на это сам теми эпитетами, которыми наделил имя Угодника.
Никола Утешитель, Никола на водах спаситель, Никола Милостивый, Никола Заступник, Никола скорый помощник, Никола Радости…
Какою близостью, родственной теплотой звучат даже такие, непонятные при первом взгляде названия церквей, как Никола Мокрый, Никола в Сапожках… Ведь эти «сапожки» были мечтой многих, очень многих лапотников, недостижимой их мечтой, и в этом наивном эпитете слышна их радость при виде обутого в эту «мечту» любимого Святителя. Я не знаю, есть ли подобные, дышащие интимной близостью, названия греческих церквей, но в Италии я таких не встречал.
В описаниях чудес, совершившихся в русской земле по молитве Николе Угоднику, звучат те же ноты его любви к «малым сим», помощи обессиленным, облегчения угнетенных. Никола Угодник в представлении русского народа прежде всего таков: он покровитель бездомных, странников и заблудшихся путников, он спаситель от гнева стихий, огня и воды, утишитель бурь, он покровитель и помощник в тягостном труде, утешитель в скорбях, заступник грешников перед Господом, разрешитель гнетущих сомнений и в обобщении всех этих ипостасей – заступник земли русской, ее людей, всех вместе и каждого в отдельности.
Глубочайший знаток души русского народа Н. С. Лесков не раз дает на страницах своих произведений яркие, правдивые до последнего слова иллюстрации этой части русского религиозного мышления. Измученная пыткой старуха Плодомасова[12], не чая ниоткуда помощи, молится именно ему, Скорому Помощнику, зовет его, и уверенная в его помощи, торопит его приход:
– Поспешай, поспешай! – кричит она, ощущая всем своим духом его близость.
И чудом или «случаем» он приходит.
Насквозь русский «Очарованный странник» всей своей русской душой обижается на очень симпатичного и нужного ему в тот момент башкирца за «обделение» Николы Угодника пожертвованием. Он оскорблен этим в своем национальном достоинстве.
Многие, очень многие русские крестьяне не верили даже священникам, говорившим, что св. Николай был грек, а не русский.
Никола Милостивый, Никола Заступник был близок и родственен им, но они не знали и не представляли Святителя Николая в образе грозного воителя, устрашающего и поражающего еретиков. Тот же Лесков вкладывает это понимание лишь в речь самодура-купца, требующего изображения св. Николая, «заушающего Ария» и тут же он опровергает эту неподтвержденную легенду словами профессора-богослова.
Не в силе Бог, а в правде! Не силой своей, не гневом, но верою в истину победил Святитель еретика!
* * *
В этом [1952] году мне удалось выполнить давнишнюю мечту – побывать в г. Бари, поклониться мироточивым мощам Чудотворца на месте их упокоения.
Я приехал туда вечером 8-го мая, как раз к началу знаменитой на всю Италию традиционной морской процессии.
Современный Бари, красивый, элегантный городок, обрамляющий своей широкой набережной одну из красивейших бухт Адриатики. К этой бухте уже подвигалась процессия. Впереди выступали конные герольды в средневековых живописных костюмах. За ними, высясь над толпой, колыхалась огромная статуя Святителя, одетая в тяжелую, вызолоченную парчу, блистая митрой архиепископа. В ее руке высокий, изогнутый вверху посох – символ власти, почти никогда не изображаемый на русских иконах св. Николая. Нести эту статую могут только природные барийцы, и право на эту честь закреплено за древними почетными родами города.
Далее многолюдный сонм духовенства, монахи различных орденов в черных, белых, коричневых, алых сутанах, ряды религиозных, благотворительных и общественных корпораций со своими знаменами, детские религиозные организации, то в белых костюмах украшенных голубыми и розовыми лентами, то с ангельскими крылышками, то девочки в длинных кисейных платьях с фатами «Христовых невест». Еще далее толпы нарядных горожан и резко разнящихся от них по внешности пришедших из деревень богомольцев.
Хоругви, светильники, факелы, огромные букеты цветов на длинных вызолоченных шестах…
Процессия подходит к расцвеченному лучами множества прожекторов заливу. Там ее ждет ярко иллюминованная и столь же пышно украшенная барка.
* * *
Два десятка барийских церквей ударяют во все колокола. Несколько оркестров, расположенных на набережной, гремят торжественным хоралом. В небо взлетают и рассыпаются в нем сотни ракет.
Барка принимает на палубу статую и реликвии. Она тихо плывет по искрящейся глади залива и за ней сотни лодок, яхт, катеров. С них также взлетают радужные ракеты, фонтаны искр, слышится треск петард…
Я был потрясен, оглушен, поражен, но в этих потоках, каскадах, волнах, в этом потопе красок и звуков я вспомнил о другом…
… крестном ходе в тот же день 9-го мая в селе Никольском, на реке Вязовне. Там была только одна небольшая темная икона св. Николы, украшенная для этого дня холстинным суровым полотенцем, с вышитой крестиками каймой. Только один священник, седенький, прихрамывающий отец Василий, да рыжий дьячок Александр Павлович шли во главе крестного хода… Нужно ли рассказывать вам, русский читатель, о тех, кто шел за ними тогда, по зацветавшему лугу реки Вязовни, мимо березового перелеска, вдоль весенних, бледных еще всходов овса и уже взявшихся за силу, оживших озимей?
Шла Русь. Шла и молилась своему Заступнику. Так молилась вся она, как не молился ни один человек в раскинувшейся передо мной блистательной и громозвучной процессии на берегу роскошного залива, воспетой всеми поэтами мира Адриатики.
На следующее утро столь же торжественно и величаво звучал орган в огромном романо-византийском соборе. Под его строгими сводами, под тяжелыми серебряными паникадилами над ракой святого струились трели звонких голосов Ватиканских певчих…
Весь город был праздничен. На площадях толпились продавцы иконок, статуэток и медальонов с изображением Чудотворца. Около входов в храмы стояли его пышно одетые статуи, картины, изображающие сотворение им чудес. На перекрестках улиц – алтари и огромные макеты причудливого корабля викингов, привезшего в Бари мощи Святителя.
* * *
В этом году я был единственным русским, приехавшим на Барийские торжества, в силу чего, а также и привезенных мною рекомендательных писем, был окружен особым вниманием приора собора, который приставил ко мне ученого монаха.
Этот тихий, углубленный в себя старик с профилем Данте, показал мне все красоты древнего (XII века) собора, все его достопримечательности и реликвии. Мы смотрели колонну, прибывшую вместе с мощами из Мир Ликийских – все, что сохранилось от первой усыпальницы Святителя, спускались в нижнюю подземную крипту, где покоятся его мироточивые мощи.
– А прежде здесь бывали русские? – спросил я монаха.
– О да! Многие! Духовенство, генералы, князья, родственники царей! Их имена у нас записаны. Потом, когда у вас произошла революция, этот поток пресекся, но в недавние годы, уже после войны, эти стены снова увидели русских. Ведь здесь, в Бари, и в соседней Барлетте были лагеря для беженцев.
– И многие из них приходили сюда?
– Многие. Очень многие, – ответил монах, задумался и добавил: – И как они молились! С поклонами до земли, со слезами… Вы, русские, странные люди.
– Чем странные, падре?
– Там, у себя, вы уничтожаете церкви, а здесь вы устремляетесь к ним.
– Быть может, стремимся и там… Многое я мог бы рассказать вам, падре…
– И там молятся Чудотворцу? Теперь?
– Молятся и теперь. Только не так, как у вас здесь.
– А как же? – удивленно взглянул на меня монах.
– И не тому Святителю, которому молитесь вы, а ему же, но иному.
– Иному? Я вас не понимаю.
– Да иному… Без этих пышных одежд, без грома торжественных хоралов и блеска огней… Не великому епископу, не гневному победителю Ария.
– Взгляните, – подвел меня монах к большому, высеченному из серого камня образу-горельефу, – это древнейшее в мире изображение Чудотворца. Мы можем утверждать, что оно ближе всего к его земному облику. Видите, он таков здесь.
– И если бы вы показали этот образ верующим русским крестьянам, падре, немногие из них поверили бы, что это тот Святой Никола, которому они воссылают свои мольбы.
– Да, конечно, католицизм и православие по-разному трактуют сущность его духовного подвига.
– О, нет! Дело тут не в толковании официальных церквей. Ведь прославление св. Николая началось у нас до их разделения и развилось в те века, когда смысл этого трагического в истории христианства события не был еще осознан даже верхами тогдашнего русского общества. Наш князь Ярослав Мудрый, высокий интеллигент своего времени, выдал всех своих трех дочерей за католиков: короля Франции, короля Норвегии и Потентата Венгрии. Он оживленно сносился с Папой и глубоко уважал его. Отрицательное отношение русских к католицизму выработалось значительно позже, как защита своей национальной самобытности и государственности против агрессии Польши и Тевтонского ордена.
– Но в чем же вы видите тогда корни вашего русского представления о св. Николае?
– В самом строе нашей души, падре, в ее изначальном характере. Даже в ее дохристианской, языческой религии.
– В идолопоклонстве? – строго и сухо спросил монах.
– У нас не было тогда идолов, падре. Археологи их не находят, а историки сообщают лишь об одном фетише, об одном вещественном изображении Перуна в столице, в Киеве. Оно было, вероятно, уникой. Другие боги древних славян совсем не имели реальных образов в представлении их поклонников. Мы поклонялись тогда стихиям – материальным выражениям творчества Господня, понятному примитивному мышлению тех веков, но никогда не обожествляли человека, как это делал Запад.
– Мы?! Обожествляем человека?! – с ужасом отшатнулся от меня монах.
– Да, падре! Вспомните Прометея, Геракла, античный культ полубога, обожествление Цезарей в Риме…
– Но это было в языческие времена!
– В них и уходят корни, глубоко вросшие в вашу душу. А дальше Возрождение с его насквозь материалистическим, плотским гуманизмом. Мадонна Рафаэля – только красивая женщина, но духа в ней нет, и прав был Савонарола, истребляя этих идолов.
– Но Савонарола был католиком!
– Я не говорю вам, что католицизм привил это обожествление человека западной душе. Оно вне религии. Ницше отрицал все религиозные представления, но обожествил человека. Атеистом был и Гитлер, реализовавший его идеи и создавший государственный культ сверхчеловека. Нам это чуждо. Мы не творили и не творим ни полубогов, ни сверхлюдей. В нашем языческом мифотворчестве не было ни Прометеев и Гераклов Эллады, ни дважды рожденных Хутухт Тибета, ни Гаяваты индейцев. Мы не обожествляем самих себя.
– Но кто же вы тогда? Какой вы религии? – уже не враждебно, но с огромным интересом спросил меня монах.
– Мы – русские. Вы нас видели, падре, здесь, в этом храме. Вряд ли кто-нибудь из приходивших недавно сюда русских беженцев смог бы объяснить вам догматическое различие между византийским православием и римским католицизмом. Думаю, что никто. Большинство этих людей, тех, чью горячую молитву у гроба Чудотворца вы видели здесь, большинство их вообще не знают, не знают, падре, ни православных, ни католических догматов, а о филиокве никогда не слыхали. Но вдумайтесь, Нерон преследовал христиан всего лишь два месяца, Диоклетиан – полтора года. Религию этих людей, их веру в Бога преследуют уже более тридцати лет, ее подавляют не только грубыми физическими методами, но систематически отравляя их сознание при помощи всех сил интеллектуального, эмоционального, экономического, политического и психического воздействия. И всё же они пришли в этот храм. Они молились и, как вы видели, искренно, пламенно молились у раки Святителя. Почему?
Тонко вычерченное лицо моего собеседника становится напряженным и словно каменеет в этом напряжении. Его сходство с Данте усиливается до предела.
– Нет. Вы мне скажите – почему?
– Потому что они – русские, падре. И он, святой Никола, тоже русский… Погодите, – останавливаю я протестующий жест монаха, – дослушайте. Окружающее для нас, бедных духом, ограниченных в разуме людей таково, каким мы его видим, слышим, чувствуем. Византия с ее ересями, схоластикой, сухим догматизмом нам неощутима и так же чужда, как церковная государственность Рима. Мы не знали в своей истории, сколь-либо значительных ересей и не имели побуждений к борьбе с ними. Наше восприятие истин Христова учения не византийско-церковное, но народно-русское, поэтому у нас и вырабатывались своеобразные народно-религиозные течения, например, старчество. Я не в силах перевести вам этого слова, выражающего народное, творческое, если хотите, «практическое» христианство. Слыхали вы о нем? Пожалуй, вам, итальянцам, Византия даже ближе, чем нам. Взгляните на стиль этого собора, в нем – Византия. Припомните мозаики Равенны, Сан-Марко Венеции и сравните его или этот собор с нашими многоглавыми, узорчатыми, шатровыми церковками русского Севера, если вы видели их изображения. Или вот, хоть это чистого русского стиля паникадило, подаренное вам нашим Мучеником-Царем. Где тут Византия. Вы, итальянец, природный знаток искусства, вы должны видеть это. От Византии была далека и наша государственность, наше самодержавие… Я снова не могу перевести вам точно этого слова, но это не абсолютизм, как говорите вы, не утверждение человеческой воли, своего господства над людьми, но выполнение Помазанником воли Божией. Это не наследие Византии, а ваш Макиавелли насквозь византиец в своем монархизме: увертливый, казуистический… Но, простите, я увлекся и отвлекся… Эти вопросы слишком волнуют нас, русских!
– Нет-нет, то, что вы говорите, очень интересно и… ново.
– Так же и с нашим представлением о личности св. Николая. Не грозного епископа, столпа Церкви видим мы в нем, а того близкого, простого, вдохновенного Господом человека, который выводит на дороги замерзающих, заблудившихся в снежной пустыне, спасает тонущих, охраняет борющихся за правду воинов… и любит нас так, как мы любим его, нашего Русского Николу, как полюбили его еще тысячу лет назад, будучи почти язычниками.
– Безмерно одаренная Господом душа Угодника столь велика, что обычный человек не в силах воспринять ее полностью. Мы, итальянцы, приняли одну ее часть, вы, русские, очевидно, другую, – задумчиво ответил мне монах.
– Более близкую нашей душе, падре, нашей извечной, жившей еще до принятия христианства душе, нашей русской душе, живущей в нас и теперь.
– И, быть может… – старый монах замолкает и долго смотрит мне в глаза, словно ища в них чего-то.
– Что, быть может? – не выдерживаю я молчания.
– Быть может, более чем другие… «рожденной христианкой», как говорит Святой Тертуллиан.
«Наша страна», № 147–149,
Буэнос-Айрес, 8, 15, 22 ноября 1952 г.
Неугасимая лампада в Риме
Внешняя поверхностная часть истории Pontificium Collegium Russicum – Русской католической семинарии в Риме, а вместе с нею и всего Восточного обряда Западной Церкви, ясна.
Линия, проведенная по ней вглубь веков, идет через Вл. Соловьева, несколько русских аристократических семей, виллу кн. Зинаиды Волконской, до сих пор носящую в Риме ее имя, П. Я. Чаадаева, тайный католицизм мистических поисков Александровской эпохи, мальтийский крест Павла Первого, дипломатические миссии Поссевина, Флорентийскую Унию и упирается в нерушимую стену Московского Православия, у подножия которой упала шапка единственного русского кардинала Исидора[13] и венчанная Мономаховой шапкой голова неизвестного удальца[14], тайна имени которого до сих пор скрыта в архивах Ватиканского книгохранилища.
Но история времен грядущих нащупает и другую, внутреннюю линию к разгадке этого странного горения русской одинокой иноческой лампадки среди блистательных, пышных паникадил величественной столицы Престола Святого Петра. Эта линия скрыта в глубинах религиозного сознания и идет в обратном направлении из веков к нашим дням.
Что привело к тихому свету русской лампады аристократа французской крови и французской культуры отца Филиппа де Реджис[15], немцев, итальянцев и даже испанцев, ставших священниками Восточного обряда, черпающими сладость молитвы не в звонком ансамбле каскадов латинского фонтана, а в тихоструйном журчании одинокого славянского ручья? Что?
Что заставило этого потомка крестоносцев Людовика Святого понять и принять мятущуюся душу капитана РККА[16], а теперь студента Руссикума Павла Б., знавшего о Христе только из учебника Емельяна Ярославского? Что?
Что, вопреки голосу всего «священного» и «прогрессивного» Западного мира, клеймившего нас «изменниками» и «предателями», побудило повторить здесь позабытые этим «просвещенным» миром слова: «Братья во Христе?».
Что?
В непознанных глубинах нашей духовной памяти живут непонятные нам самим представления. Отблески единого, одаряющего жизнь источника света. Порой они вспыхивают, и тогда мы видим позабытое, засыпанное пеплом сгоревших дней, но всё же живое и живущее в нас.
Златоустный Иоанн, воспринявший высокий пафос Гомера, в увядавших садах Афинской Академии, излил его с епископской кафедры Византии в пламенном прославлении Распятого.
Другой Иоанн, визирь великолепного Халифа, возросший в неге царственного Дамаска, вышел из пышной столицы с нищей сумой, чтобы в пустыне слагать Ему славословия и трагически покаянные гимны.
Не их ли огненные слова, не их ли проникновенные песнопения донеслись сюда из глуби веков?
Свет с Востока. Не один ли из его лучей упал сюда, в этот тихий, полный молитвы храм, неприметный рядом с пышным великолепием одетого в мраморные ризы святилища Запада?
Выйдя из мягкого сумрака русской церковки на залитую колючим солнцем площадь, я замираю перед величественной громадой собора Санта Мария Маджоре. Внутри него – торжественная тишина. В католической церкви в этот час нет службы. Я медленно иду между разубранными всеми оттенками мрамора, вызолоченными колоннами, вглядываясь в величавые статуи и пышное, сочное, земное многоцветие фресок. Я иду и вдруг останавливаюсь…
…Из-под купола, над блистательным жертвенником, на меня смотрят глаза Жертвы, бледного, скорбного лика закланного Агнца. Под ним и с боков – такая же бледная прелесть зелени неземных райских деревьев… Не лавров, не мирт, а каких-то очень похожих на весеннюю, исполненную благой радости Воскресения березку.
– Что это?
– Византийские мозаики IV века, – поясняет мне монах в серой сутане.
Через год я случайно узнал, что в горах Сицилии до сих пор сохранилось несколько православных приходов[17], – а еще через два года в маленькой церковке лагеря Пагани[18] служили панихиду по Мученике Русском Царе. В то время там подобрался хороший хор. Председатель местной монархической организации синьор Сальваторе Розалио пришел на эту службу.
Очень милый, рядовой итальянский провинциал, владелец кондитерского заведения, он взял поданную ему свечу и стал внимательно слушать «русскую мессу».
– Николая, Алексия, Александры… – ловил он знакомые звуки имен. Это было просто и понятно, но вдруг иные, незнакомые, непонятные ему, неаполитанцу, звуки полились в стенах маленькой бедной церкви, захватили и понесли куда-то в безбрежную высь Духа его маленькую душу фабриканта леденцов.
– Со святыми упокой…
И взвилась эта душа выше господствующей над всем Пагани кампаниллы Св. Альфонса, выше вершин видного с его улиц Везувия…
…Христе, души раб Твоих…
Куда летала она, этого не знал синьор Сальваторе Розалио, кондитер. Не знал он и того, почему крупные слезы покатились по его обожженным южным солнцем щекам, почему, выходя с панихиды, не мог вымолвить слова он, неаполитанец, никогда не закрывающий своего рта.
Если это узнает, разыщет под грудами мусора наших дней, на свалке пустых, растленных слов историк дней грядущих, то он найдет внутреннюю линию, ведущую в маленькую русскую церковку на площади столицы великих Пап, живую и живущую рядом с величавой громадой Собора Санта Мария Маджоре.
* * *
Запад есть Запад, Восток есть Восток, И с места они не сойдут,– писал поэт Запада, ненавидевший Россию и презиравший ее с высоты своего англо-саксонского мирового величия[19]. Но…
В древнем соборе города Реймса и теперь хранится Вечная Книга, на которой клялись следовать велениям Единой Истины все короли Франции. Это Евангелие переписано рукой Анны Ярославны, русской княжны и французской королевы.
Величайший из материалистов Запада, Карл Маркс, на седьмом десятке лет своей жизни выучился русскому языку, чтобы прочесть в подлиннике поэму о русской душе русского князя Игоря, написанную в том веке, когда Лондон, где читал «Слово о полку Игореве» Карл Маркс, был жалкой, грязной деревушкой на острове свинопасов, притоне морских разбойников.
Сотни художников всего мира бродят теперь по тихим храмам Равенны, ловя в откровениях, покрывающих их стены восточных мозаик, отблески утраченного Западом духа…
Практичные янки упростили эту задачу: скупили и перевезли в Нью-Йорк всё творческое наследие русского художника Н. Н. Рериха, глубже всех наших современников проникшего в недостижимую даже для всемогущего доллара тайну Востока.
На полках библиотеки Руссикума много русских книг. Часть их попала сюда, будучи спасенной из Синодальной библиотеки при распродаже ее в розницу американским коллекционерам, любителям непонятных редкостей. Самые ценные из этой уцелевшей крупицы хранятся не в самой библиотеке, а в келье древнего старца, философа и богослова отца Станислава Тышкевича[20].
Я был у него, и мы бережно перелистывали пожелтевшие листы крупной густой славянской печати, узорной вязи полууставной рукописи.
В углу кельи темнел скорбный лик Спаса, а под Ним светилась желтеньким огоньком самая простая стеклянная – какие в каждой избе бывали – неугасимая лампадка…
Где видел я ее, – вот такую, – в последний раз?
Где?
В туманных глубинах памяти всплывают неясные тени черных елей под усыпанным бледными звездами небом, в дебре далекого северного острова; окно землянки последнего еще жившего в ней схимника Земли Русской, огонек такой же, совсем такой же лампады под таким же темным ликом Спаса.
Сам я смотрю сквозь окно, не смея взойти… Я вижу только темную тень инока, склоненного перед Неугасимым Светочем, и его белую бороду, спадающую на грудь из-под схимничьего клобука…
Я стряхиваю туман видений. Не надо! Ведь я же в Риме, а не там… не на Соловках…
Передо мной белая борода отца Станислава. Над ним – лик Спаса, со светящейся бледным огоньком неугасимой лампадой.
– Братья?
«Ди-Пи в Италии. Записки продавца кукол»
Буэнос-Айрес: изд. Наша Страна, 1952, гл. Х
Воздвигнут Царем-Мучеником…
… Упокой, Господи, душу умученного раба Твоего, Благочестивейшего, Благовернейшего Императора нашего Николая; Александровича и сотвори Ему вечную память!..
Тихо и проникновенно струится голос старика священника в темном храме, освещенном только семью свечами. Больше в ящике не нашлось. Служит один священник, без дьячка. Его нет в причте. На коленях перед древним образом Св. Николая Чудотворца стоит только один молящийся. Дата этой панихиды – 9 мая 1952 г. – день тезоименитства Царя-Мученика. Место – русский храм Св. Николая в г. Бари, в Италии, близ мироточивых мощей Чудотворца[21]. Священник – отец Андрей Копецкий[22]. Молящийся – автор этих строк.
Не счесть храмов, воздвигнутых на Руси в честь и прославление Святителя, духовный облик которого глубоко врос в душу русского народа, не только в его религиозное сознание, но и в основу его бытовой, повседневной морали. Никола Милостивый, Никола Земли Русской Заступник, Никола страждущих Утешитель, Никола на водах Спаситель – вот в честь кого возросли по всей Руси бесчисленные храмы Никол Можайских, Зарайских, Дворищенских, Хвалынских, Лиленских, Великорецких… Самый древний из них – храм Николы Мокрого – воздвигнут в Киеве в XI веке не князьями, нет, а бедными рыбаками, чудесно спасенными Святителем.
Есть и русский Никола Барийский на берегу блистательной Адриатики, но о нем мало кто знает. Его воздвиг отдавший свою жизнь за русский народ его последний Государь.
Странным, трудно понимаемым чувством трепещут сердца увидевших этот храм русских людей. Тут и грусть, и тихая радость, и скорбь униженного, и гордость вознесенным, и тоска бездомного, и успокоение обретшего свой дом… Родные, близкие, свои, скромные главки храма высятся меж темных вершин кипарисов, и, кажется, что не кипарисы это, а вековые ели заповедного бора. И меж ними – тихая пустынь, приют молельников за Землю Русскую, за ее страдников и мучеников, за ее ратников и пахарей, за вся и за всех, живот свой за нее положивших.
Проектировавший этот храм, академик Щусев глубоко чувствовал религиозный строй русской души и умел выразить его направленность и характер в архитектурных формах[23]. Веяние исконной, нерушимой Руси – Суздальской, Белозерской, Углицкой – охватывает пришедшего уже в воротах, таких, какие охраняли от суетного мира скитские пустынные старцы, тихие стражи святынь русской души.
Не перевелись они и теперь. Один из них – отец Андрей Копецкий, настоятель и хранитель храма Николы Русского в Бари. Он один, без помощи прихожан (в Бари нет русских, кроме него) сохранил в неприкосновенности и порядке этот воздвигнутый Государем храм и в годы Первой войны, и при фашизме, и в хаосе последовавших за его падением событий[24]. Буквально нищенствуя и голодая порою, он спас эту крупицу русской души, реально воплощенную под небом Италии Царственным Зиждителем храма сего.
Покойный Государь начал постройку храма в Бари незадолго до начала Первой войны. Успели выстроить лишь церковь и подворье, а внутренне изукрасить – лишь нижний, темный ее притвор. Но и здесь в каждой частице церковной утвари видна любящая рука Строителя храма. Небольшой иконостас с древними ликами святых, просиявших в Земле Русской, лампады, паникадила, даже свечной ящик и лавки у стен – всё строго выдержано в подлинном древне-русском стиле, всё – работы лучших художников-кустарей Палеха и Мстеры.
Верхняя большая церковь осталась без внутреннего убранства и так простояла 38 лет. Но за все эти годы отец Андрей не утратил стремления и воли к ее убранству, и довершению святого дела, начатого Царем-Мучеником. Теперь он осуществляет его: на собранные им средства он поставил уже основу иконостаса, который теперь безвозмездно расписывает приехавший из Парижа художник А. Бенуа[25].
В листе пожертвований – крупнейший вклад от Главы Династии[26], а рядом – россыпь мелких пожертвований от тех русских людей, что сквозь кровь, огонь и грохот войны прорвались сюда, под небо Италии, и здесь, вероятно, неожиданно для самих себя, нашли духовное успокоение, приют их истомленных сердец в храме, воздвигнутом Царственным Мучеником за Русскую Землю. Это – лепты на украшение храма, внесенные русскими дипийцами из бывших в Бари и соседней Барлетте[27] лагерей ИРО[28].
Последний Русский Царь – Глава Русской Царственной Династии – русские люди порабощенной России… Единение в жертве. Разве это не символ?
Панихида окончена… Звучат славославия молебна, акафиста Заступнику Русской Земли, милостивому, родному ей Николе. Что из того, что в храме нас только двое, что горят перед ликами русских святителей только семь свечей, что тихо струится моление седого отца Андрея.
Я знаю, что «там» тысячи, миллионы русских сердец пламенеют и кровоточат тою же молитвой о Руси, о спасении ее, устремленною к тому же ее Святому Заступнику. Я знаю это!
И я верю, что настанет день, когда освобожденный из плена Великий Единый Российский Народ довершит строительство храма, над которым трудились и которому в жертву принесли свои жизни Мученик-Царь и Мученик Его Дед, – этот храм наречется Свободной Великой Единой Россией, умиротворенной, насыщенной, успокоенной и увенчанной всероссийским народным Монархом.
Верю или знаю?
И верю, и знаю. Вижу просветленными молитвой очами моей души, знаю из прожитого, пережитого, увиденного в ней, в порабощенной, умученной ныне, но всё же живой, сущей, сохранившей свою вечную душу России.
«Наша страна», № 130,
Буэнос-Айрес, 12 июля 1952 г.
Из записной книжки
8 мая 1952 г., Бари
Поезд припоздал, и мы попали в Бари уже затемно. Спрашивать дальше о пути не было надобности. Радужное зарево разноцветных огней, танец лучей десятков прожекторов, сотки беспрерывно взвивающихся в небо ракет ясно указывали нам нашу цель, и через десять минут мы были уже на берегу залива… Эта торжественная вакханалия световых волн развертывалась под аккомпанемент грома нескольких оркестров и ликующего перезвона всех церквей древнего города, на фоне блистательной Адриатики…
Итальянцы умеют создавать грандиозные эффекты. Это, пожалуй, единственное качество, которое сохранили они от великого Рима Цезарей.
В лучах прожекторов светло, как днем. Корабль и плывущая за ним толпа лодок видны вполне ясно. Можно рассмотреть и саму огромную статую Святителя Николая, высящуюся над палубой. Морская процессия медленно оплывает искрящийся огнями залив. Так, из года в год, свершается уже более 800 лет.
Но вот, эта похожая на чудесную птицу барка у пристани. Конные герольды. Трубят фанфары. Шествие медленно двигается к собору. Мощная, одетая в тяжкую парчу статуя архиепископа Мир Ливийских проплывает перед нами, высясь на плечах именитейших граждан Бари. Да! Такой Святитель мог поразить неистового Ария, мог повелевать императорам и вести за собой несметные полчища воинов истинной веры…
Огни гаснут. Молился ли я? Мог ли я молиться, – спрашиваю я себя. Нет, – отвечаю себе, – поражен, оглушен, ошеломлен, порабощен, но молиться я не мог. Нет, не молился.
9 мая 1952, г. Бари
В пять утра я уже у собора. И хорошо, что рано пришел: там уже толпа, но я успею еще до начала службы осмотреть этот дивный памятник XI века. Как величав его строгий византийско-римский стиль! Как отдыхают глаз и душа после вычурной роскоши итальянского барокко! Огромная чеканная серебряная рака Святителя – чудо красоты, но перед ней…
… Я снова поражен: перед ракой Чудотворца висят соответственно ей тяжелые и огромные серебряные паникадила… в чистейшем русском (суздальском) стиле!
– Что это? Откуда!
– Приношение русского царя Николая II.
Я опускаюсь под ними на колени и кладу земной поклон.
– Он же выстроил здесь русскую церковь, – называют мне улицу и номер. Я изумлен: прожив более шести лет в Италии, зная почти всё ее русское население от Венеции до Неаполя, я ни разу не слыхал об этой церкви. И, едва дослушав хоралы знаменитой Ватиканской капеллы и не дождавшись выхода процессии, которой предстоит еще шесть дней обходить город и округу, я несусь туда.
Весь город полон памятью о Святителе: на перекрестках улиц – временные алтари перед его изображением; огромные макеты его корабля; на базарах – бойкая торговля его изображениями всех видов и размеров, образками, статуэтками; у церквей – его большие статуи… Но вот, из-за крыш элегантных вилл тихого квартала показываются такие знакомые, такие близкие, скромные главки с крестами, суздальские звонницы. Я стучусь в ворота, словно перенесенные сюда, под яркое, южное небо из Углича или Керженского скита. Академик Щусев, строивший этот храм, тонко знал русский стиль…
Кованую калитку открывает настоящая русская просвирня. Так и оказалось потом: землячка моя, тульская, из-под Венёва[29]. Теперь я на Руси. Тишь и благодать. Церковный садик упоен запахом сирени и жасмина, столь редких в стране пальм и олеандров.
Вот и наш деревенский батюшка в истертой скуфеечке идет мне навстречу. Это отец Андрей Копецкий. Он с матушкой и монашка-просвирня – всё население этого уголка Святой Руси на берегу Адриатики, у святых мощей ее небесного заступника. Прежде, при церкви было и обширное русское подворье, выстроенное также Царем-Мучеником. Теперь, к стыду нашего Зарубежья, оно продано. Но это, как и многое другое печальное, я узнал потом, а теперь – в церковь, в маленькую, нижнюю, темную, временную. Большая верхняя до сих пор не отделана: работы прерваны в 1914 году.
Мне приходится самому брать свечи из чудной кустарной работы ящика, мастерства знаменитых палешан. Я хочу взять двенадцать, но там только семь и огарки. Господи, до чего же бедно! Русь моя! Святая и бездольная, нищая и униженная!
Сначала молебен. Мне есть за что благодарить Святителя Русского. Мало тех, кто, как я, припадал бы к мощам св. Савватия на Соловках и св. Николая в Бари. Из живущих, вероятно, я сейчас единственный.
Свечи озаряют темный лик древнего русского письма. Это тоже, как и всё здесь, приношение Государя Николая Александровича. В их сиянии на меня смотрит не грозный повелевавший кесарям иерарх, борец и победитель темных сил, но бесконечно милостивый, родной и ласковый утешитель, страждущих утолитель, немощных и грешных исцелитель, наш небесный заступник – Никола Милостивый, Никола Русский…
Здесь – да! Здесь я молюсь. Здесь могу, хочу, должен помолиться всей душой моею!
После молебна – панихида. Упокой, Господи, души трех Николаев!
Царя моего, отца моего и друга души моей, последнего на Руси певца Имени Твоего![30] Все трое умучены. Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих!
Двое нас было в церкви с отцом Андреем, двое и теперь в садике. Много, много печального, но много и радостного чудесно русского слышу я от него. При Муссолини русская церковь в Бари могла небогато, но сносно существовать. С приходом к власти демократии она впала в буквальную нищету. Отец Андрей голодал. Не было денег ни на свечи, ни на вино и муку для богослужения. Спасло знание о. Андреем греческого языка. Перейдя на него при совершении Святого Служения, он заручился маленькой поддержкой местных греков.
Мы восприняли христианство из Византии. Это верно. Но тяжело и скорбно слушать Св. Литургию не по-русски, не по-славянски в русском храме, воздвигнутом последним Русским Императором.
Отец Андрей не сложил рук. Борясь в одиночку, он сумел собрать средства на завершение верхнего светлого храма, и теперь его уже расписывает приехавший из Парижа худ. А. А. Бенуа, расписывает бесплатно. В листе пожертвований я с гордою радостью прочел под самым крупным взносом имя Великого Князя Владимира Кирилловича. Далее – князь Багратион, много знакомых по Риму русских фамилий… Но есть и горечь, и стыд: многих тоже хорошо известных по Риму имен я не увидел… А именно эти-то люди больше всех кричат о своей «борьбе за православие»… Ведь все русские в Риме знают друг друга… Знаю их и я… знаю их средства. Становится стыдно, но стыд снова сменяется радостью. Я вижу еще целые группы знакомых фамилий.
– Как они попали к вам, батюшка?
– Эти-то? А когда в Бари лагерь ИРО был, тогда много из него в церковь приходило. Всего несли: и денег, и вещей, и продовольствия… Новые это, из России…
– Жива ты, Русь, Мать наша Святая! Пришла ты поклониться своему Заступнику!
10 мая 1952. В пути
По привычке подвожу итоги. Что же, двух Святителей видел я? Два лика? Конечно, нет. Лик Св. Николая Угодника, епископа Мирликийского один, но величие, мощь и необъятность его избранного Господом духа невместима во всей своей полноте в наших малых грешных душах. Правы и итальянцы, видящие в нем грозный и могучий столп истинной веры; правы и мы, ощущающие безмерную любовь к меньшим братьям, сиявшую в словах и делах святого Николая Милостивого, Николы Русского… Каждому – свое…
Да, не забыть, записываю я еще: сообщить всем русским людям, по всему миру в рассеянии сущим и желающим помочь отцу Андрею в его святом деле восстановления храма Св. Николая в Бари, заложенного Царем-Мучеником, сообщить его адрес.
«Знамя России», № 66,
Нью-Йорк, 14 июля 1952 г.
Дело Царя-Мученика закончено
Русский храм Святого Николая Чудотворца в городе Бари – место упокоения мироточивых мощей Угодника Божия – наконец-то, закончен внутренним украшением и будет торжественно освящен в день перенесения кощей Чудотворца в этот город 9/22 мая с. г. [1955] Освящать храм будет митрополит Владимир в сослужении с епископом Сильвестром[31]. Настоятель храма, отец Андрей Копецкий, жертвенными трудами которого святое дело, начатое Царем-Мучеником, доведено ныне до конца, ожидает приезда многих паломников не только из Италии, но из других европейских стран. Возможен даже приезд Главы Династии [Владимира Кирилловича] с его Августейшей Супругой [Леонидой Георгиевной], так как свое желание помолиться на предстоящем торжестве Великий Князь высказал в личном письме к настоятелю храма.
Восстановим в памяти читателей историю этого оплота русского православия близ гробницы столь высоко чтимого всею Русью Чудотворца. Храм был заложен Царем-Мучеником[32] и в основном выстроен перед Первой мировой войной. Трагическая кончина Государя прервала это благочестивое его дело, и в течение почти сорока лет храм оберегал подвижник наших дней отец Андрей Копецкий, порою буквально голодая, но продолжая свое жертвенное служение[33].
Два года тому назад православная общественность русского зарубежья была осведомлена несколькими национальными изданиями о существовании и положении этого храма. Тотчас же со всех концов российского рассеяния потекли пожертвования, которые и дали возможность отцу Андрею закончить святое дело. Щедрый вклад внес Наследник Престола. Художник А. А. Бенуа безвозмездно расписал внутренность храма и украсил высокохудожественными иконами его иконостас. Посещение храма и города Бари Главою Династии произвело глубокое впечатление на местных жителей-католиков и мэр города Бари также внес свой вклад, проведя в церковь электричество за счет города Бари и ремонтировав окружавшую ее ограду.
Однако храм Св. Николая Чудотворца в городе Бари нуждается еще во многом и мы надеемся, что пример благочестивого иноверца вызовет отклики во многих русских сердцах, в силу чего сообщаем адрес настоятеля храма отца Андрея Копецкого, с помощью Божией закончившего свой подвиг.
Адрес о. Андрея:
Rev. А. Kopezky, Chiesa Russa
Corso Sicilia 130, Bari, Italia.
«Наша страна», № 274,
Буэнос-Айрес, 21 апреля 1955 г.
Своя Русская линия
Передо мной пачка смятых, изорванных тетрадей. Многое прочесть уже нельзя, иное стерлось, иное за писано неразборчиво. Писал в тряском товарном вагоне, в хаосе разрушенных городов, в полутьме бомбоубежищ…
* * *
1942–1950 гг., Ставрополь-Берлин-Рим[34]
В этих пунктах поставлены главные вехи пройденного пути, пути поисков и метаний, жуткого и скорбного пути «нового» эмигранта…
* * *
5 августа 1942 г., совхоз Демин, хутор близ Ставрополя
Позавчера город взяли немцы. Происходит интересный процесс: спадают маски. Наш бухгалтер оказался священником, тракторист – убежавшим из Колымы казаком, кладовщик – тоже беглым из какой-то ссылки тамбовским крестьянином. Я тоже снял свою – сторожа совхозного сада.
Маски спадают и с душ. Когда мимо совхоза пронесся первый патруль немецких мотоциклистов, наш зоотехник, молодой парень, активист и главный оратор на всех собраниях, облегченно вздохнул:
– Кончилась чёртова советская власть.
Мы собрались в опустевшей совхозной конторе.
– Что теперь будет?
– Известно что! – отозвался ка зак, – под немцем будем. Он порядок наведет.
– Порядок, это конечно, – рассуждает тамбовец, – мы не против того. Порядок нужен. Только ведь он для себя стараться будет. Не иначе.
– И тебе останется. Хуже не будет…
– А Российской Державы не установит? Какая была при царском ре жиме?
– Чего захотел! А царя где возьмешь? Всю Фамилию перебили.
– При НЭПе сообщали в газетах об императоре Кирилле, – говорит священник-бухгалтер. – Только, кажется, помер он[35].
– Може сыны от него остались? – допытывается тамбовец.
– Неизвестно.
– Эх, кабы своего! Что б свою русскую линию гнул… для народа!
* * *
12 сентября 1942 г., Ставрополь
Я вернулся в город и, пользуясь хаосом первых дней новой власти, занял комнату. Много офицеров. Узнав, что я говорю по-немецки, они охотно знакомятся, расспрашивают и сами рас сказывают. С некоторыми из них я даже сблизился. Вот, например, д-р Шуле[36], глава их пропаганды, вдумчивый, глубокий и хорошо знающий нашу эмиграцию в Германии. Это мне особенно интересно.
– О, да! Русская колония в Берлине очень значительна, – рассказывает он мне, – там живут ваши генералы Бискупский, Лампе[37]. Много русских ресторанов, церкви, газеты, издательства…
– А политическая жизнь?
– Конечно, вы, русские, не можете жить без политики. Есть группы, партии.
– Какое течение преобладает?
– Трудно сказать. Пожалуй, монархисты.
– Значит, есть возможный монарх? Претендент? Кто он?
Лицо д-ра Шуле разом каменеет.
– Я далек от деталей русской политической жизни. Не знаю.
Словоохотливость немцев всегда имеет предел. В каждом из них сидит «орднунг»[38].
* * *
26 декабря 1942 г., Ставрополь
Узнал. В сочельник один бывший «русский» немец подвыпил и проболтался.
Он есть. Его зовут Владимир. Он сын Кирилла. Где Он – узнать не удалось.
Странное дело. Немцы охотно и да же откровенно говорят со мною, даже «Майн Кампф» дали прочесть, что русским обычно строго запрещено, но, как только речь заходит о русской монархии – молчок.
– Ваша монархия умерла и уже не может возродиться.
То же и в нашей газете. Цензура немцев – слабая, но при малейшем упоминании о монархии статья летит в корзину, и обычно любезный цензор превращается в цербера. Почему?
Спросил об этом одного из немногих просочившихся к нам русских эмигрантов, переводчика горных стрелков «Эдельвайс». Тот рассмеялся.
– Да разве вы не понимаете? Ведь Русская Монархия – синоним великой и могучей России, т. е. имен но того, чего немцы, да и не только немцы, как огня боятся. С коммунистами они, в случае победы, сговорятся легко. Два сапога – пара. С социалистами тоже поладят, а вот с монархией компромисс невозможен. Они это прекрасно понимают.
Это так. Мне вспоминается наш совхозник-кладовщик и его «чтобы царь свою русскую линию гнул». Немцы тоже знают эту «линию».
* * *
30 июня 1943 г., Симферополь
В русской газете «Голос Крыма» – сообщение об организации Русской Освободительной Армии. В городском театре был посвященный ей митинг в присутствии всего немецкого генералитета, Зал был переполнен, у две рей театра – толпа.
Открыто бюро записи в РОА. По валили валом и русские, и татары, хотя у них есть свои национальные формирования.
Я провел целый день в бюро, присматриваясь и прислушиваясь.
В большинстве записывается молодежь, но есть и старики. Видел даже деда, отца и внука, записавшихся разом. Между прочим – армяне. Интересны крымчаки. Один, лет тридцати, крепкий, самоуверенный, ораторствует:
– Генерал Власов? Пожалуйста! Война есть – генерал очень нужен. Пожалуйста! Мир будет – на генерала царь нужен. На всю Россию один царь. Царь есть – хорошая жизнь есть. Царя не будет – опять колхоз будет, коммунист будет.
Пожалуйста! Опять, она, «линия».
* * *
15 сентября 1949 г., лагерь Баньóли[39], Италия
Русских в лагере много. Перезнакомился. Самым интересным оказался Александр Иванович, шахтер из Донбасса.
В первый раз мы встретились с ним на медицинском осмотре. Я залюбовался его могучим обнаженным торсом. Он заметил, расправил плечи и напряг туже желваки бицепсов:
– Ничего, есть силенка!
Потом мы подружились. Ему 33 года. С детства работал в шахтах. Грамоте научился уже здесь, в Италии, куда пришел пешком из Чехии, вырвавшись из окружения при ликвидации РОА.
Основные черты Александра Ивановича – сила и упорство, целеустремленность. За что возьмется – уж не выпустит из рук. Теперь взялся за самообразование: учится у меня русской грамматике; медленно, но основательно прочел очерки по русской истории.
Мозги у него, как жернова: тяжелые, неповоротливые, но всё в муку перетрут. Хороша – проглотит. Плоха – по ветру пустит. На веру, не перетерев, ничего не берет. Признаюсь, я полюбил эту цельную, самобытную натуру.
Мы с ним купаемся в море и подолгу беседуем.
– Вот Вы, Борис Николаевич, всё за монархию пишете. Это верно, что без царя у нас, если и Иоську свернут, так лет на двадцать еще безобразия хватит. И то верно, что при царе народу лучше было. Мне это батька мой, да и другие – подтверждали. Только…
– Что только, Александр Иванович?
– Только тогда время другое было, и народ другой был. Тогда легко было царю править. Вся организация его была. И то из десяти императоров пятерых убили.
– Ну, так что же?
– А то, что очень это тяжелая профессия. На такое дело особенный человек ну жен, тем более, когда всю организацию надо наново строить.
– Договаривайте.
– Я вот что скажу. Я не против Великого Князя. А сам-то он захочет на такую тяжелую работу идти?
– Вы же читали его обращение к русским людям? Значит, принимает на себя всю тяжесть служения.
Александр Иванович молчит и перетирает какую-то мысль своими жерновами.
– Всё это так. Только…
– Опять, только?
– Только из Мадрида смотреть, это одно, а в России совсем другое будет. Тут большая сила нужна, смелость нужна, тоже и любовь… к на роду… вот какие качества требуются. Чтобы взял свою линию, да и держал бы ее крепко. Иоська на коммуну ведет, а царь должен на народ весть. Тогда дело будет. Здесь особенный человек нужен.
– Что ж… и поведет.
– Как вы это говорите? А вы его видали?
– Нет.
– То-то и оно. Тут видеть надо. Самому удостовериться.
– Бог даст, увидим и услышим.
– Вы, может быть, увидите, а я нет. Послезавтра в Австралию. Оттуда не увидишь.
– Ну, если я увижу, то напишу вам, тогда поверите?
– Вам-то? А как же! Вы мне это время вроде отца были.
– И приедете, когда Он позовет?
– Будьте на этот счет спокойны, – расправляет широкие плечи Александр Иванович[40].
* * *
14 октября 1950 г., Рим
Сегодня я имел честь представиться Главе Династии и долго беседовать с Августейшей Четой[41].
Я откладываю тетради и пишу письма.
Александру М…
Мельбурн, Австралия
Дорогой Александр Иванович! Я долго не отвечал Вам, т. к. был это время в Риме. Помните наш разговор перед Вашим отъездом? Так вот, в Риме [14 окт. 1950 г.] я видел Великого Князя [Владимира Кирилловича] и Его Супругу [Леониду Георгиевну]. Видел не на торжественном приеме, не на банкете, а запросто и говорил с Ними тоже просто и откровенно, так же, как мы с Вами говори ли когда-то. Теперь я могу рассказать Вам то, что обещал.
Говорят, что первое впечатление о человеке всегда самое верное. Мое первое впечатление от Великого Князя я определил бы двумя словами: Его простота в обращении, умение стать близким к каждому, понять его, и могучая сила, не физическая (хотя этим Его тоже Бог не обидел), а духовная, внутренняя сила. Такой человек, если уж возьмет на свои плечи бремя, так выдержит, вынесет. Помните, в Баньоли, я рассказывал Вам сказку о богатыре Святогоре? Она Вам тогда очень понравилась.
Вот и в Великом Князе эта Святогорова кровь чувствуется. Не побоится взять на себя всю тягу земли Российской. По колени в землю врастет, а выдержит! Наше это, народное, русское, Александр Иванович! Мое, Ваше и многих еще миллионов. Я рассказывал Ему о тех русских людях, среди которых мы с Вами жили, о тех, что погибают за проволокой концлагерей, о голодных колхозниках, обо всем, что мы с Вами знаем, что сами испытали. И в Его ответных словах, в Его вдумчивых, глубоких вопросах я услышал, почувствовал, увидел то, о чем мы говорили с Вами при Вашем отъезде: любовь к народу, великую, безмерную любовь к нему, к Вам, ко мне, ко многим, многим миллионам, любовь большой, высокой, царственной души. Значит, те «качества», о которых Вы говорили, имеются, а, если так, то и «линию поведет» правильно, на народ и на тягу земную, для которой «особенный человек» нужен. И Великая Княгиня Ему под стать. Если бы Вы Ее глаза виде ли, когда я о Соловках рассказывал, так и в душу бы к ней заглянули. Она вся светилась в Ее глазах.
Простите за короткое письмо. Не скучайте по России в Австралии, как Вы пишете. Вернемся еще!
По-прежнему любящий Вас,
Борис Ширяев
1 ноября 1950 г.
«Наша страна», № 60,
Буэнос-Айрес, 23 декабря 1950 г.
Путем назначенным
Отец Лука держится прямо, ступает твердо, размеренно, тоже прямым путем идет. Смотрю на него и думаю: эх, еще посоха, тоже прямого, высокого посоха, ему не хватает! А то каким бы он выглядел игуменом! Настоящим, русским… Хозяином-владыкой какого-нибудь северного, в полуночной дебре утвержденного, за Онегой или за Ветлугой воздвигнутого монастыря.
Рядом с ним – отец Феофан. Ростом поменьше, а бородой поокладистей, с лица же всегда тихий свет струится. Тоже он русский инок, только обличия другого. Такие не в игумены шли прежде, а в мирские печальники. Закидывали они за плечи убогую котомочку и брели по путям и тропинам Русской Земли, из Почаева на Соловки, из Валаама в Киев, от нетленных святительских мощей к явленной иконе Нечаянной Радости и сами нечаянную радость с собой несли, несли и щедрой рукой, не ведая, что творят, раздавали ее алчущим, страждущим и убогим… Радость чистой голубиной веры в милость Господню из ковчегов голубиных душ своих.
Не похожи они друг на друга, но оба они – Русь, Русь единая и многоликая в своем единстве.
Когда они оба появились в нашем стихшем уже и опустевшем, по ликвидации ИРО, лагере Пагани, вошли в него в своих скуфейках с вышитыми восьмиконечными крестами, в потертых монашеских подрясниках, то по апельсиновым аллеям запахло смолистой керженской елью. Я ясно ощущал ее запах.
Отец Феофан – разом к пчелам. А итальянская администрация рада тому безмерно. Специалист, организовавший нашу пасеку, эмигрировал, и без ухода пчелы совсем захирели. Теперь же бесплатный работник нашелся, очистил ульи, каких-то маток пересадил, какие-то рои сдвоил, и разом ожили Божьи труженицы, зажужжали весело и радостно Подошла мягкая итальянская осень, дохнуло прохладой с гор, и мы стали часто вечерами прогуливаться с отцом Лукою по залитой оранжевой луною роще. Садились на каменные лавки и то говорили, то молчали, но оба знали: мы рядом, мы вместе, мы – Русь, путаными, непостижимыми уму человека тропами, бредущая неустанно какой-то своей, ей одной понятной, святыне – к скрытому в тайне Преображенному Китежу.
Тропы наши пролегали далеко одна от другой и в незримом Царстве Духа, и по зримым Царствам Земным. Его по земле – от Графской пристани[42] к сербскому монастырю, где он принял игуменский посох, потом сквозь гонения, сквозь скорбь утраты своей паствы – сюда, в тихое Пагани. Здесь его тропа скрестилась с моею, извивно метавшейся… но о ней я писал уже много. Повторяться не стоит.
– Не сами люди избирают себе пути земные и духовные, но Господь ведет их по ним, – тихо говорит отец Лука, не то мне, не то просто в лунную тишь, – каждому своя тропа, каждому свой назначенный предел. Одному – прямая широкая дорога, другому – путаная, извилистая. Но все к одной цели, к одному последнему пределу. А разве в материальном мире не так? Смотрите, вон ослик со своей ношей карабкается по крутизне, а внизу, в долине, по широкой страде несется мощный авто. Но оба они идут к своей цели, к назначенному им пределу, и в целом их движение обобщено. А смогла бы разве эта мощная, тяжелая машина пробраться по узкой, обрывистой тропинке? И, наоборот, смог ли бы ослик нести с такой быстротой тяжелый груз авто?
– Каждый своим путем? – спрашиваю я. – И на путь Голгофы тоже?
– А как же, – отвечает отец Лука, – и туда пролегал у каждого свой путь. Разве не шел к ней на спасение благоразумный разбойник своим разбойным путем?
Я молчу, но знаю, что мы оба мыслим о наших различных тропах в мире Духа и в мире Земном. О разном, по-разному и, вместе с тем, созвучно и едино. Не так же ли мыслил и говорил своей тихой протопопице, бредя угрюмой тайгой, несокрушимый в своем упорстве Аввакум. Ведь и он – русский и русскою шел тропой.
Подоспел Новый Год, итальянский, не русский, чужой, с золотящимися в густой зелени апельсинами. Мы решили встречать его вместе, в нашей крохотной комнатке, – два монаха и блуждающая по земным тропам семья. Засветили лампадку перед маленькой иконкой Владимирской Заступницы, прибрали свой закуток, украсили, чем смогли. Жена наварила янтарного студня, а я изготовил флакончик русской водки из спирта… Убогая, нищая Русь. По ней пролегают наши тропы, бродяжьи, бездомные… Но Русь.
Подошло к двенадцати, отец Лука стал пред иконой и мерно, неся в себе тайну путей, зазвучали слова молитв…
– … о погибших во брани и смуте… о земле нашей многострадальной… – молит Господа отец Лука, и отец Феофан вторит ему.
Трепетно мерцает лампадка. Здесь – тихая, смиренная Русь. Ее уголок. Крупица. Но сколько таких крупиц рассеяно сейчас по безбрежному миру? Какие пути вели к ним русских людей и куда поведут от них?
Каждому – свой путь и все пути – к своим пределам, к единому общему пределу, единому в многоликой Руси.
Благословение Господне на вас… – осеняя грядущий год крестом, возглашает отец Лука.
Кое-как, теснясь, уселись за наш, сконструированный из ящиков, стол.
С Новым Годом!
Стукнулись разномастными, разнокалиберными чашками.
А «там»? Как «там» встречают? Вернее, уже встретили. Ведь «там» живут на два часа впереди.
Я включаю радио в волну 50, и в нашу комнату врывается брызжущий удалью разлив русской песни, русского трепака. Частым перебором вьются балалайки вокруг плавно вышивающей мелодию гармони, соловьями заливаются жалейки.
Мой сынишка вдруг срывается со своего чемодана и, уперев руки в бока, делает «выходку»… Да какую! «Первый парень на деревне» позавидовал бы!
– Откуда? – широко открывает глаза жена. – Откуда? Как он выучился? Ведь он же никогда в своей жизни не видал русской пляски? – дергает она меня за рукав. – Откуда и как пришло это к нему?
– Путем незримым, – отвечаю я, – тем путем, который не обозначен ни на одной карте, но который во много раз тверже и вернее проложенных по земле дорог. Путем крови… Русской крови в жилах. Помнишь полный запрет танца вообще, а русского в особенности во времена военного коммунизма? А потом помнишь «заптанцы»[43] и «джимку»? Теперь же вот трепака заплясали. Да еще как отхватывают! Кто пляшет? Ведь не старики же, помнящие его, а такие же, как Лоллюшка? Кто научил их?
* * *
Прошел год, и мы снова готовимся к встрече грядущего. Жена что-то «изобретает» на том же столе, а я развожу аптекарское снадобье и сыплю в него лимонную цедру.
– Далеко теперь те, с кем мы встречали нынешний год, – грустно говорит жена. – Нету наших монашков. Они в какой-то Небраске, и весь Пагани опустел. Русских почти совсем не осталось.
– Ничего, – утешаю ее я этим замечательным, всеобъемлющим, только в русском языке живущим словом, – что из того, что они в Небраске, но ведь ты знаешь, что они вспомнят о нас в своей молитве в тот же час, в ту же минуту нового года, как и мы их. Вот и будем вместе, встретясь снова на пути незримом.
Знаешь, какой тост я предложу теперь? Не угадаешь. Я подниму стакан не за новый грядущий год, но за старый, минувший, за всю вереницу истекших годов наших жизней, за пройденные, преодоленные этапы. Ведь каждый из них был дорожной верстой, отрезком предназначенного нам поприща и каждый приближал нас к пределу, к цели. К назначенному. Я выпью за всех русских людей, шедших своими различными путями: извилистыми тропинами и гладкими, широкими дорогами, горами и лесами, оврагами и равнинами. У каждого – свой, и все вместе – русские. Я выпью за твердых в шаге своем и за слабых, колеблющихся; за избравших путь верный и за заблудшихся, за павших в пути и за достигших им назначенного… За всех. Ибо все они – Русь, великая в своем многоличии, и все они идут к ней как зримыми, осознанными, так и незримыми, непонятными им самим, путями… Идут к назначенному.
* * *
Я поднимаю свои стакан, дорогие читатели! Чокнемся!
«Знамя России», № 100,
Нью-Йорк, 7 января 1954 г.
Я – человек русский
От Баньóли, пригорода Неаполя, до врезавшейся в море острой косы Поццуоли[44] весь берег густо усыпан купальными кабинками. По вечерам, когда спадает жара, вагоны трех ведущих сюда линий метро, трамвая и электрички выбрасывают крикливую толпу веселых купальщиков. Кабина стоит двести лир. Нам, баньольским дипийцам, такой расход не по карману. Да и к чему он, когда можно, выбрав пролет между кабинными поселками, спокойнейшим образом перелезть через ограду набережной, выбрать под нею подходящий плоский камень и, непринужденно расположившись на нем, пользоваться всеми морскими радостями абсолютно бесплатно. Даже интереснее: тут и медузы, тут и крабы, тут и настоящие неаполитанские лаццарони[45], которым американские туристы деньги платят за позирование перед фотоаппаратами.
А выкупавшись и постояв в позе Пушкина (по Айвазовскому),[46] любуясь голубеющим вдали Капри, можно заглянуть и в прибрежную кафетерию. Пол-литра кианти[47] – шестьдесят лир, и сиди с ним весь вечер, слушай море, вопли осликов, песни бродячих певцов – ту Италию, которой ни в Риме, ни во Флоренции, ни в Милане уже не увидишь. Неаполитанский юг любит свое прошлое и не хочет с ним расставаться.
Сегодня воскресенье, и я с трудом нахожу место в набитом купальщиками кафе-поплавке. Купальный костюм имеет здесь все права гражданства; выпить чашечку густого кофе или глоток коньяку, а потом опять в голубую теплынь волны.
Музыкальных гастролеров тоже больше, чем в будни, и их репертуар разнообразнее. Сейчас вихрастый парень с гармонией, отдав должное традиции тягучей, как сироп «Санта Лючия», заплатил современности навязчивым модным фокстротом, а потом заиграл «Катюшу». Это в порядке вещей: после войны «Катюша» успешно конкурирует с устаревшей «Лючией», а «Стенька Разин» даже вытесняет «Стелла дель маре»[48].
В вихрах парня что-то не итальянское и как будто знакомое. Где я их видел? Разве вспомнишь это теперь, разве разыщешь этот кадр в прошедшей перед глазами калейдоскопической киноленте? Но знакомое… знакомое…
Парень закидывает за спину трехрядку и теперь к его правой руке маленькая гармошка, а левой он подносит к губам какой-то похожий на черную раковину снаряд. Гармошка взвивается кверху, стремительно опускается и начинает четко выговаривать:
Как по улице Варваринской Шел-бежал мужик комаринский… А раковина подсвистывает ей, как Соловей-разбойник: Эх, боярыня ты Марковна, У тебя ли шуба бархатна…Бронзовый юноша-купальщик в трусах пытается вложиться в залихватский ритм фокстротной закачкой, но это не выходит и он начинает выколачивать чечетку босыми пятками. Мои соседи подстукивают пивными кружками. Песня русской беспредельной равнины яркою, пестрою лентою вьется над голубым волнистым заливом.
Парень обрывает лихой подсвист и гордо произносит: «Io sono uomo russo! Я – русский человек!».
Затерявшийся в калейдоскопе кадр выныривает из пестрого месива памяти и становится перед моими глазами.
– Алеша, – кричу я, – Алеша Пшик! Русский человек! Декоративная часть вынырнувшего кадра очень далека от окружающей нас обстановки.
…Набитый беженцами товарный вагон. Посредине его – горящая печка; вокруг нее плотное, сбитое в войлок кольцо людского месива, а над ним, стоя на куче мешков, вот этот самый Алеша играет на этой самой гармошке ту же самую залихватскую песенку и покрикивает: «Веселей! Жизни давай! Мы – русские люди!..»
Алеша Фролов – мой земляк по Ставрополю. У его тещи там домик на Подгорной улице. Но знали и звали там Алешу не Фроловым, а Пшиком. Таков был псевдоним его, эстрадного музыкального иллюзиониста, игравшего на гармониях, метлах, бутылках «рыковской», сиренах авто и каких-то совсем непонятных инструментах.
Вдруг разом происходят три события: вагон сотрясается на стрелке, дверь открывается сама собой, песня обрывается и Алеша орет со своей эстрады: «Стой! Бабку потеряли!».
Дальше крики, свистки, гудки, остановка маневрировавшего поезда и бабка, Алешина теща, сидящая на снегу и ругательски ругающая ни в чем неповинного Алешу.
– Чёрт лупоглазый! Нашел время песни играть!
– Я – русский человек, мамаша, и без песни жить не могу…
– Чуть до смерти не убилась через твои, идола, песни… Чего суешься? И сама в вагон влезу!
Приехав в Киев, мы с Алешей потеряли друг друга, чтобы встретиться снова здесь, на берегу Неаполитанского залива. В причудливом узоре сплетаются в наши дни пути русских людей.
– Какой чёрт занес вас сюда, Алеша? – трясу я его за плечо. – Садитесь, пейте и рассказывайте, почему вы здесь?
– Я здесь потому, что я русский человек, – веско и убежденно отвечает Алеша.
Но такое логическое построение непонятно, и я требую разъяснений.
– Очень просто, – отвечает Алеша, – в Киеве, на беженском пункте регистрируюсь, пишу фамилию сценическую, конечно, известную… Майор читает и что-то по-немецки начинает лопотать. Я же, как вам известно, кроме «гут» – ни гу-гу… Однако, вижу, что дело на мое колесо поворачивается: скажет майор «Пшик», тыкнет меня пальцем в живот и улыбается. Я планирую: наверное, он меня по сцене знает, и ему в ответ: «гут». Он мне тоже: «гут»? И я ему: «гут». Дал мне бумагу какую-то подписать, талоны в столовку на всю семью, а ефрейтор в комнату отвел. Очень хорошая комната, и дрова… Недели не прошло – приходит вахтмейстер с переводчиком. «Собирайся, – говорит, – в Германию со всем семейством». «На какого она мне чёрта, Германия, – отвечаю, – я – человек русский!». «Нет. Ты – немец, фольксдойч, по собственному твоему заявлению…». Бабка разом запсиховала: «Вот, – кричит, – до чего нас твоя музыка довела! На немцев повернули и в Германию гонят, а у меня, слава Богу, дом еще не отнятый на три комнаты и сарай…»
Однако делать нечего, у немцев во всем порядок, тем же вечером и уехали мы в Мюнхен.
– А там в «остовцы»[49] на работу попали?
– Нет, извиняюсь, у немцев такого порядка нет, чтобы артиста к станку ставить! В Германии нам мировая житуха была! В Мюнхене мне обратно комнату дали, полное содержание, зарплата 300 марок и ежедневные выступления в солдатских клубах. Успех – мировой!
– По-немецки там выучились?
– На какого это чёрта? Я – человек русский и всех немцев там русским песням выучил. Куда ихним Бетховенам со своими «Лили Марлен»[50] до нас! Как выйду на эстраду, весь зал орет: «Тройка! Тройка!». Это я их «Гайда тройке» и «Тройка мчится» обучил – их с глухими бубенцами исполняю, а вся солдатня подпевает. Вот как!
– Ну, а как же в Италию попали?
– Обратно очень просто. Назначили меня в турне на итальянский фронт. В Венеции капитуляция пристукнула. Наши русские армяне говорят: «Мы в свой монастырь – есть здесь такой – спрячемся, а тебе амба…»[51] Армянский батальон там стоял… Говорят: «Топай ты в Болонью, там поляки. У них ховайся…»
– Нашли поляков? Приняли вас?
– Ну, а как же? Прихожу к полковнику и говорю: «так и так, я человек русский, и, кроме как к вам, деваться некуда. Гроб». Поляк попался сознательный, сочувственный, оценил ситуацию. «Ладно, – говорит, – оставайся. Только записать тебя надо поляком, по фамилии Пшек, всего одна буква разницы, а по-польски это складнее получается…» «Мне, – говорю, – этой буквы не жалко, пан полковник, чёрт с ней, только я человек русский…» «И я сам, – говорит, – по существу русский офицер, а вместе с тем – поляк. Ничего не поделаешь!» Ну, и я «и» на «е» переменил и стал как бы врид-поляком…
– Каково же вам жилось?
– Знаменито в мировом масштабе! Играл по вечерам в офицерской кантине[52]. Зарплаты, правда, не давали, но английский паек на всю семью. Жена с тещей стиркой на солдат занимались… пока поляки в Англию не поехали.
– А вы куда?
– Мне полковник сказал, что в Англию меня протащить невозможно – контроль очень строг, и к украинцам меня направил, в Милано… Я было обрадовался, а вышло совсем даже наоборот.
– Как это наоборот?
– Очень просто. Я к ним со всей душой, свои ведь… «Я, говорю, русский человек», а они «не разумем москальской мовы»… Я, конечно, ставрополец, сам не хуже их по-украински балакаю, а тут зацепило меня… Растакие вы сякие, думаю, когда я вам в Киеве куплеты пел, так разумели? Вынул свою «малютку», да и затянул под нее:
Ще не вмэрла Украина, Може скоро вмэрти, Бо такие голодранци Довэдуть до смэрти.– Ну? – спрашиваю я.
– Еле ноги унес, вот вам и «ну». Итальянские карабинеры отстояли, однако препроводили в лагерь Римини за проволоку[53].
– Это до выдачи Советам было или после?
– Аккурат через неделю. Там – полная паника… Все русские, кто в чехов, кто в сербов, кто в мадьяр перелицовываются…
– А вам в кого пришлось превратиться?
– Ни в кого. Надоело мне это. Комендант мне говорит: «возвращайтесь на родину», а я ему: «извиняюсь, я – человек русский, сами туда катитесь, а я подожду…» Подрезал ночью проволоку и… к тузу десятка – ваших нет! Ариведерчи, о-кей, грацие!
– А жена и бабка?
– И они выползли. Я дыру по-стахановски размахнул. Рекордную.
И ящик с инструментами выволок. Деньжонки были, подался сюда, в Неаполь, белое соджорно[54] выхлопотал… Ну, и живу!
– А за океан как же? ИРО вам не миновать.
– Пускай она сама за океан плывет. Я – человек русский, мне отсюда до дому ближе. Живу и проживу. Синдикат на эстраду не пускает? Не возражаю. Мало, что ли, остерий? Портовая матросня во как меня встречает – мировой успех! Да что мы с вами ради встречи эту кислятину тянем? – Камарьеро! Уна бутилья Асти да милле лире![55] Шипучего… Мы – люди русские!
Бутылка во льду вызывает сенсацию среди итальянцев.
– Русси… русси…, – проносится по кафе.
Алеша лихо взбивает свои вихры. Мы чокаемся.
– На чёрта мне этот океан с его Америкой? Зато здесь я человек русский, хоть на плакат меня ставь… Одно только плохо, – сбивает вихры на лоб Алеша.
– Что же?
– У итальянцев буквы «шэ» совсем не имеется.
– Вам-то до нее какое дело?
– С фамилией моей некультурно получается. «Псико» меня матросня зовет… Выходит не то псих, не та псина… Не сценично по моей известности…
«Наша Страна», Буэнос-Айрес, 1953
(Сб. «Я – человек русский»)
Письмо из Конго от Алеши Пшик
Многие наши читатели заинтересовались дальнейшей судьбой Алеши Пшик – человека русского – и спрашивали меня о ней. Я не мог дать ответа, так как знал лишь то, что Алеша из Сицилии укатил, вернее, уплыл куда-то в Африку. Но недавно я получил от него письмо и спешу поделиться им с читателями.
Письмо объемистое – на нескольких страницах и отдельных клочках. Писал он его, очевидно, не сразу, а с перерывами. Чисто личные сведения и наметки дальнейших планов Алеши я выпускаю, сохраняя лишь, так сказать, художественно-лирическую часть его манускрипта, в которой, кроме знаков препинания, ничего не изменяю. Итак…
«Здравствуйте, дорожайший Борис Николаевич с фамилией!
Привет вам из страны называемой Конго, где я теперь гастролирую с успехом на тысячу и более процентов! Даешь Конго!!!
Доехали мы сюда благополучно, только сначала в Казабланке попали в небольшой переплет: трамваи и автобусы повалены и французы на улицу выходить боятся. А мне что? Я ведь не француз, а человек русский. Хожу по всем кафанам и, если замечу, что арапы бузу затирают, – тычу себя в грудь и кричу: русс, русс!
Успех, конечно, имел, особенно с бубенцами, но вижу, что особых достижений ожидать нельзя, так как полицейские патрули не в свое дело мешаются. Решил ехать дальше.
Документы там выправить очень просто, если на доллары. Однако в целях гражданства пришлось временно стать белым арапом египетского месторождения и нанять для этого четырех свидетелей по доллару. Теперь я Али-Ша-Шейк. В общем и целом, незначительное изменение. Проворачивал это дело мой теперешний компаньон по антрепризе – настоящий черный арап, по социальному положению фокусник, жена его балерина, специальности голого желудочного танца. Очень высокий класс. Мамаша, как увидела – три дня плевала. При ее возрасте такая художественность, конечно, не усваивается.
Билеты на пароход пришлось купить, однако, за время пути оправдали. Даже в первый класс меня и фокусника приглашали, а танца не допустили по причине присутствия детского возраста. Так до Леопольдвилля доехали, а дальше гастрольным порядком, этапами, вверх по этой самой Конге-реке. Ничего особенного. Река как река, только купаться в ней нельзя при учете крокодилов. А по реке различные комбинаты и новостройки. Однако живут в них французы вполне замечательно, а негритянские нацмены обыкновенно, по-советски: в бараках и голые ходят. Ресторанов и кофеен много, но театральная часть на очень низком уровне. Успех нам везде обеспечен, как с желудочной хореографией, так и без нее. Население здесь белое разное, больше французы, но есть и русские. Даже русская водка в барах, только дорога. И негритянские нацмены разные. Одни совсем черные, а другие, как пригорелая каша. Я с ними по-русски говорю, и они все понимают. В общем и целом, живем – не плачем, даже и мамаша. Только под русское Рождество в высокой степени запсиховала, так что я даже в лес смылся от такого нарушения общественного порядка.
Иду лесом и сам психую, потому что этот конговый лес даже и на лес не похож, одна путаница и попугаи. Дошел до негритянского хутора, вроде колхоза: одни бабы работают и во всем полная недостаточность. Сел я под деревом, вынул „малютку“ – она всегда при мне, и „соловей“ тоже. Заиграл я „Вниз по Волге-реке“, а сам плачу… Как-никак, Конго – не Волга…
Публики разом набежало – полный сбор! Лупят на меня гляделки и зубы скалят. Ах, вы, думаю, цветнокожие нацмены, на русское горе смеетесь? Так я вам враз докажу, что такое есть русский человек.
Смахнул рукавом слезу и как наярю „Светит месяц“ с переборами, да с соловьиным присвистом!!
Даже попугаи орать перестали! Ей-Богу, не вру!
А публика – один сплошной аплодисмент африканским способом: у них по животу ладонями аплодировать принято.
У меня, конечно, духу добавилось.
– Крути веселей! – кричу. – Потому что сегодня у нас по русскому календарю Христос рождается, и вы это должны отметить!
А им того только и надо. Все поняли и прыгать стали. Для танца у них, конечно, мало развития – одно телодвижение, вроде физкультурной зарядки. А я, принимая во внимание их нацменство, гопака им зажариваю и сам ногами их инструктирую. Пошло дело! Правильности, конечно, не получилось, но в основном освоили.
В результате же вышла целая программа. Натащили они своего просяного пива (вкус ниже среднего, но берет), говядины жареной, барабаны приволокли, вроде артельных котлов, и сами номера ставят. А меня самый толстый старик абсентом угощает. Я им еще играл, и потом сказал заключительное слово:
– Поскольку вы, – говорю, – со мной наше Рождество празднично отметили, то должен вам разъяснить, что я – человек русский. Россия же такая страна, где по низвержении большевистского террористического режима будет всем жить более чем возможно. На этой основе и вы сможете тогда к нам эмигрировать и будете безо всяких ограничений в правах жительства, в профессии и зарплате… Потому что у нас свои нацмены всегда на равноценном положении. Пока!
Задрал себе рубашку и им по местному способу поаплодировал, чтобы понятнее было.
Далее следует длинный рассказ Алеши о его дальнейших планах поездки вокруг Африки, это я выпускаю – потом подпись:
„С уважением и приветом от жены и мамаши тоже, ваш Али-Ша-Шейк, но, извиняюсь, человек русский“.»
А после подписи приписка:
«Возвращаюсь домой, смотрю на небо, а там уже полностью вызвездило. Я себе думаю: государства разные и разные в них народы, что я теперь практически усвоил. Однако, небо одно для всех. Вот тут и корень вопроса, с которым я к вам обращаюсь, на базе того, что вы в настоящем царского времени университете обучались, а я отмененной религиозности в школе не проходил. Если так рассуждать об общественности неба, то почему Христос в то время не в России родился, а в колонии? Я так соображаю, что в среде русских людей это было бы более подходяще и целесообразно. Надо думать, что тогда и вся мировая политика по-другому бы перестроилась. Пожалуйста, обязательно ответьте».
«Наша страна», № 207,
Буэнос-Айрес, 2 января 1954 г.
Девять помидор
Госпитальный поселок ИРО, в котором пребываем теперь мы с Андреем Ивановичем, раскинут в густом апельсиновом саду. Наши койки стоят рядом. Между ними – большое окно, а перед окном – крохотная площадка рыхлой вулканической почвы, на которую целый день бьет горячее солнце через прорывы в густой зелени апельсинов и фиг.
На этой площадке – девять кустов аккуратно, со знанием дела посаженных и всегда обильно политых помидор. Десятый куст не уместился.
Мы оба с Андреем Ивановичем больны плевритом. Болезнь эта долгая и скучная, но не тяжелая: ходим в городок, учимся на ремесленных курсах, можем и поработать легонько…
Помидоры посадил Андрей Иванович. Это его единоличное хозяйство.
– Андрей Иванович, – говорю ему я, – да ведь урожая-то мы с вами не увидим, выздоровеем же, выпишут нас…
– Что из того, – отвечает Андрей Иванович, – другому препоручу. Он увидит. А земля-то пустует. Нельзя же…
Андрей Иванович и сам смеется, называя землей три квадратных метра вулканической пыли, но вся его натура протестует, видя что-либо пропадающее зря. Когда санитар собирает полный бачок объедков после нашего обеда, Андрею Ивановичу становится не по себе.
– Эх, какого бы кабана можно с них выкормить!
Он – крестьянин из-под Пятигорска, прямой потомок первых колонизаторов и устроителей этого края. Свое родословие он знает:
– Прадед мой мальчишкой-поводырем со слепцами под Пятигорск пришел. Потом подрос, укрепился, землю исхлопотал, ну и стал жить…
Дальнейшая история рода Андрея Ивановича и его самого типовая, как говорят в советах, разве что ярче других подобных. Отец по столыпинской реформе вышел на отруб. Совсем хорошо зажили. В тридцатом году его раскулачили и сослали. Из ссылки бежал, попался и пропал. Сам Андрей Иванович уцелел, мыкаясь под многими личинами. Воевать за Сталина не пожелал, а вырыл себе подземелье под печкой и пролежал в нем… ровно год до прихода немцев. Выходил только ночью, да и то в женском платье.
Романтика? Нет, быт, подлинный быт нашего времени или безвременья, чёрт его знает. Таких «подпольщиков» я знаю десятки.
Когда немцы начали пятиться, Андрей Иванович запряг пару «благоприобретенных» коней, посадил жену, сына Колю и пошел с обозом таких же Андреев Ивановичей по льду Азовского моря, по степям Украины, Карпатским горам, до самого Толмеццо, итальянского городка. Приходилось порой и пробиваться, отстреливаясь от советских патриотов (таким обозам немцы выдавали оружие).
Тоже романтика? Нет, тоже быт. Северокавказских крестьян в «Казачьем стане» ген. Доманова было не меньше, чем самих казаков и на пригнанных ими коней сели пять казачьих полков.
Дальнейшие приключения подсоветского графа Монте-Кристо рассказывать нет места. По окончании войны он побывал и турком, и мадьяром и далее гражданином неизвестного в ООН государства Новохорватии… обнажив свое лицо лишь в 1949 г. Но кто бы из пятигорских соседей узнал теперь Андрея Ивановича, колхозника?!
И галстух, и шляпа, и пиджак, – не дрянной ировский, а умело купленный по случаю, – сидит на нем, как и полагается. По виду он схож теперь с добропорядочным немецким бюргером и много более европеец, чем вечно расхристанный и взлохмаченный итальянский контадино[56].
Годы лагерного сидения Андрея Ивановича и Коли также не пропали зря, как и все, что попадает в их руки. Коля стал хорошим столяром, а Андрей Иванович – мастером по изделию портфелей, сумочек, кожаных портсигаров. Теперь, собираясь в США, оба учат английский. По-итальянски говорят, конечно, не дивными созвучиями Петрарки и Тассо, но в переводчике не нуждаются.
Теперь в лазарете Андрей Иванович внимательно, не спеша, прочитывает все получаемые мною газета и журналы. Перед сном мы беседуем.
– Вот господин Февр в этой статейке про колхозников пишут, что они на царя согласны будут, коли он им по рупь двадцать крупчатку даст. Не с того краю он подходит. Крупчатку-то не царь мужику, а мужик царю или кому другому даст. А от того рублик настоящий потребует, чтобы он, рублик, действительно этой крупчатки стоил. С «патретиком», как «романовские» были. Вот и итальянцы болтают, когда у них «рей»[57] был – вино лиру стоило, а теперь – сто сорок. В «патретике» дело, в личной известности, как бы в соседстве, а то – нынче один, завтра – другой… какая ей может быть доверенность?
Тоской по родине, такой, какой изображают ее наши, извините за выражение, поэты, Андрей Иванович ни в какой мере не страдает, но и за океан не торопится.
– Заедешь, а потом, как вертаться?
– А вертаться будем, Андрей Иванович?
– А как же? Обязательно. Вот будет война…
– Так по-вашему будет?
– К тому все идет. Иначе быть не может.
– Ну, а крестьянство опять за Сталина не встанет?
– Это, как Америка организует, но, надо полагать, что второй раз Власова в петлю не сунут. Есть же у них рассуждение.
– Так и второй Власов будет?
– Найдется. Мало ли их, генералов. Не в них, а в колхозе дело. Раздавал бы Гитлер землю крестьянству, думаете, много солдат у Иоськи осталось бы?
* * *
Андрей Иванович не исключение. Он обычный современный русский крестьянин, из тех, кого в советах называют передовиками. Он
– реальность, а не призрак, созданный «старой» ли, зарубежной или «новой» профтехнической интеллигенцией. Первая скомбинировала этот призрак нетленных мощей Антона Горемыки и Платона Каратаева, добавив по неизжитой памяти о разгромленных «дворянских гнездах» кое-что от разбойника Чуркина. Вторая изобразила его по своему образу и подобию – нищим духом, растертым в порошок гражданином очередей, учрежденского планового очковтирательства и жилплощади в 6 кв. метров, а он-то подлинный российский Иван, не непомнящий, а твердо помнящий свое родство, прикатил сюда в зарубежье на своей тачанке и рассказывает здесь об этом родстве и кровью Дахау – Лиенца – Римини[58], и… девятью помидорами, посаженными, «чтобы земля зря не пропадала».
Этот Иван – реальный факт, лежащий в данный момент на соседней койне. Помидоры за окном тоже реальны. Реально и содержание чемодана, который повезет этот Иван или Андрей Иванович при все более и более возможном возвращении. В нем и галстух, и освоенные ремесла, и, главное, ясное понимание сочетания рублика, пуда крупчатки, его самого – Ивана и «патретика».
А что мы повезем в наших чемоданах, господа «старые» идеалистические и «новые» профтехнические интеллигенты? Что?
[Алексей Алымов]
«Наша страна», № 51,
Буэнос-Айрес, 19 августа 1950 г.
Вавилонская башня
Вспоминается мне прошлое, еще сравнительно недавнее, но уже бесконечно далеко ушедшее: наше «плюсквамперфектум»[59]. Передо мной «колхозный базар». Я в мясной лавке.
– Граждане, которые с мозгами – на этот край, а которые с печенками – туда топайте… Вася, вышиби мадамочке мозги без очереди, видишь – детная. Печеночка у нас сегодня мировая, на все сто, кругом шестнадцать! – рассыпается бойкий продавец, а из очереди слышится томный голос:
– Я сюда прямо от зубника прикатилась… так переживала, так переживала, – нерв умерщвлял!..
– Товарищ в спецовке, вы что там подхалимаж разводите! Без очереди не всовывайтесь – бедный будете! Не бузите!
* * *
Довольно базара… Я в университете. В том самом, где, кажется, еще так недавно лилась искристая русская речь В. О. Ключевского.
– Прорабатывая эти установки в плане марксо-ленинской активизации, в общем и целом мы выявляем две большие разницы… – слышится с кафедры.
Вон из Москвы! Я – в вагоне.
– Всего! До скорого! Давайте пять! С приезда – телеграфьте – напутствует меня приятель.
* * *
Тоже прошлое, но более близкое. Перфектум[60].
Время немецкой оккупации. Прошел лишь месяц, как заняли этот город, а звонкий девичий голос уже звучит в вечернем сумраке:
Тебя я долго ждала. Варум ты не пришел? Цвей штунде я дрожала. А с неба вассер шел…В закатную элегию врывается трагический вопль:
– Ирод, кровопийца! У тебя пять киндеров голодных сидит, а ты водку тринкаешь!
* * *
Время летит, наступает сегодня – презенс. Лагерь ИРО под лазурным небом Италии.
– Что ни говорите, а в том кампе лучше было: ляпенчиков завели, парочку галинок…[61]
– Несравнимо лепше у том лагере… Одна шума[62] что стоила…
* * *
И вот, сидя в тени пиний, я рисую себе наше будущее – футурум. Когда-нибудь, и, быть может, скоро, буду я сидеть над широкою Волгой, где-нибудь в Плесе или Кинешме.
– Сбегай, спроси, когда абфарт пироскопа, – скажет жена сыну.
– Не шухери, мама! Времени у нас вагон! – ответит сын. Подбежит запыхавшаяся знакомая:
– Ах, батюшки, на гар опоздала, в забавишне задержалась, у меня там три непотинчика…
– А зачем же вам треном? – отвечу я, – навиром много интеллигентнее: в граде все шамовки заключены, а здесь похарчить на большой с присыпкой можно. Стерлядочка стопроцентная… Поманджарим, потрепемся… Хряемте аванти…[63]
[Ал. Алымов]
«Русская мысль», № 101,
Париж, 12 января 1949 г.
Ди-Пи фантастика
Каждый день, когда солнце касалось чуть заметной черты, отделяющей бирюзу неба от сапфира Неаполитанского залива, эта пара неизменно появлялась на бульварчике перед нашим кампом Баньоли. Они шли рядом, но не под руку. Он нес подушку и коврик. Шли тихо, степенно, порой останавливаясь, чтобы перекинуться приветливым словом со знакомыми.
Одеты оба скромно, но аккуратно и чисто. У нее белый, как у немки воротничок, а на голове русский платочек.
– Смотри, как платок повязан, – говорит мне жена, – по-нашему, по-казачьему. Ваша рязанская баба никогда так не повяжет.
– Это верно. Так, да не так. И в нем ясно казак виден. Скажу точнее – донец. У меня на казаков глаз настрелянный. По усам, по выправке видно.
– А все-таки они – «старосветские помещики», – говорит снова жена, – только преломленные в аспекте нашего проклятого времени. И зовут их сходно: Афанасий Александрович и Лукерья Ивановна.
– Тоже верно. Но как ты думаешь, выдержали бы те, гоголевские, такую передрягу, как эти? Мне вчера Афанасий Александрович целый вечер свою повесть рассказывал. Ведь он выехал из Крыма с Врангелем, в 20-м году, а жена и дети остались. Но в Сербии он начал торговать лошадьми, быстро оперился и в 23-м году нанял ловкача-адвоката, ухитрился выписать семью через Германию. Тогда это было возможно. Германия дружила с СССР, да и НЭП к тому же. Вот и покатила Лукерья Ивановна с детьми с Дона на Дунай. Шутка ли? Через два месяца всё же доехала и зажили. Купили домик, землю. Сыны подросли, поженились, совсем хорошо всё пошло. Тут опять война. Сыновей немцы старостами какими-то назначили, и при отходе немцев с Балкан пришлось им уезжать, а старики остались сторожить добро. Только не укараулили. Тито всё отобрал, а их потаскал по тюрьмам и выгнал.
– А вышло все-таки к лучшему! – отвечает жена. – Теперь старики к своему потомству едут, в Чили, те уж там ферму купили, доллары им шлют, выписали их. Позови-ка стариков, спроси, как их дела.
Афанасий Александрович сдержанно улыбается, а Лукерья Ивановна вся сияет. Мелкие морщинки, покрывающие ее круглое, по-старушечьи полное личико, так и танцуют.
– Бог не без милости, казак не без счастья! Все разрешения пришли. Уже паспорта нам выписывают, сегодня карточки с нас снимали…
– Слава Богу! – искренне говорим мы, – кончились ваши мытарства. Да и пора отдохнуть. Сколько вам годков, Афанасий Александрович?
– Мне 72, а супруге ровно 70 стукнуло. Внучка в Чили замуж уж вышла за тамошнего нашего казака. Вот как!
– Дай вам Бог правнуков увидеть!
– Повидаем, – бодрится дед, расправляя усы, – наша казачья кровь на завод крепка!
Через несколько дней мы опять, как всегда в тот же час, снова встретили наших старичков. Афанасий Александрович улыбался, но как-то смущенно, Лукерья Ивановна была явно в грустях.
– Что случилось? Опять задержка?
– Вроде, как будто, и так…, – мнется Афанасий Александрович, – дополнительные документы требуются.
– А их нет?
– В том то и беда. И не было.
– Метрик, наверное? Это не беда. Нужно пятерых лжесвидетелей нанять и муниципио выдаст. Лжесвидетели у нас дешевы, такса – 200 лир. За полторы тысячи всё дело справите, а для срочности лучше еще чиновнику полтысченки дайте. В демократиях это просто!
– Метрики у нас есть. Сохранили. А вот свидетельство о браке требуют. Кто ж его в наше время брал? Оказывается, без него нельзя.
– Да-а. Это хуже, – сочувственно тяну я, – муниципио такого не выдаст… А с ировскими чиновниками не говорили «по душам»? Ведь пара-другая долларов у вас найдется? Скупиться в этом случае не нужно.
– Не знаю я этого, что ли? Говорил. И за совет дал. Выходит одно только средство…
– Ну, и cлава Богу! Какое?
– Ожениться нам со старухой наново, – смущенно отвечает Афанасий Александрович, – вот оно какое дело.
– Что ж поделаешь? Бог простит, – муниципио зарегистрирует, – утешаю я его, – сербский батюшка перевенчает, он человек понимающий, сам Ди-Пи…
– Я тоже так думаю, да вот она…, – кивает старик на жену.
– Стыда-то, стыда-то сколько, – утирает она слезы чистеньким, свернутым, как салфетка, платочком, – на старости лет…
– А вы договоритесь с батюшкой, чтобы пораньше повенчал, когда спят еще в кампо… Без огласки…
Наутро, когда мы с женой шли в столовку пить кофе, пока она не набита нашей разноплеменной дипийской толпой, на пустой еще площади лагеря нам встретились наши старики. Они шли так же тихо и степенно, рядышком, прифранченные, чинные и… радостно смущенные.
– Ну? – кинулся я к ним, – всё слава Богу? Повенчались?
– Слава Богу. Всё тихо обошлось. Без наглядности… батюшка двери в церкви запер, а свидетели потом распишутся. Без срамоты, слава Тебе Господи!
– Что ж, – несколько растерялся я, – значит… имею честь поздравить с законным браком и пожелать вам… – я снова замялся. Чего ж можно пожелать этим «новобрачным», кроме мирной и тихой христианской кончины? Но жена выручила меня с чисто женским тактом.
– Ах, какое на вас хорошенькое платьице, Лукерья Ивановна! Светленькое и фасончик модный. Откуда оно? ИРО дало? Новенькое!
– Разве ИРО такое даст? – расцвела разом «новобрачная», – это я от внученьки вчера получила. Она первенького своего родила… мальчика, правнучка мне, – любовно погладила она платье, – так, будто как бы от него.
– Пиши рассказ, пиши тотчас рассказ, – затрясла мой рукав жена, когда «новобрачные» чинно проследовали далее, – какая тема-то!
– Да, ведь никто не поверит такой теме, – покачал я головой, – невозможна она в жизни! Перевенчать наново семидесятилетних супругов при наличии правнука к тому же! Этого ни Гофман, ни Эдгар По в самом жесточайшем запойном бреду не смогли бы выдумать. Невозможно!
– А вот самые обыкновенные демократические чиновники выдумали, – возражает мне жена, – значит возможно и… жизненно в наши дни. Пиши!
[А. Алымов]
«Наша страна», № 86,
Буэнос-Айрес, 8 сентября 1951 г.
Самоопределение Рождественского Деда
Кто только не писал о Рождественском Деде!
Перечислить всех таких авторов нет никакой возможности. Эту чрезвычайно популярную личность изображали во всех странах, во всех видах и под множеством различных имен. Но беда в том, что все авторы писали о Рождественском Деде с чужих слов и поэтому нередко уклонялись от истины. Никто из великих и невеликих писателей, сам лично ремеслом Рождественского Деда не занимался.
А вот мне довелось! Да, дорогие читатели, в числе множества моих подсоветских, подИРОвских и прочих профессий значится и такая. Поэтому я и пишу сейчас не рассказ, не очерк, а скорее мемуары или даже нечто вроде социологического исследования этой специальности.
Задумался ли кто-нибудь из литераторов над вредностью и даже опасностью работы Рождественского Деда? Над его национальным происхождением и расовыми чертами? Над его политическими убеждениями, наконец?
Никто. Никто не потрудился, как говорится, рассечь его в этом аспекте.
А между тем, материала для этого исследования достаточно. В Англии, например, этот почтенный труженик, в силу славных британских традиций, визитирует своих клиентов, неуклонно пролезая сквозь каминные трубы. Каково ему в столь почтенном возрасте заниматься подобной эквилибристикой! В Швеции он путешествует всегда в самые злейшие метели. Тоже приятного мало. В Калифорнии, по свидетельству столь солидного знатока, как Брет-Гардт[64], Рождественский Дед получает иногда по паре пуль в оба плеча. В Старой Сербии… ну, о трагизме его работы в этой стране я сообщу в конце рассказа.
Итак, мне довелось стать Рождественским Дедом пару лет назад в лагере ИРО Баньоли, на берегу зеркального Неаполитанского залива. Влип я в эту историю по своему крайнему легкомыслию. Каюсь! Ну, ничего, бывает и хуже!
Началось, как всегда, с пустяка. В первых числах декабря приходят ко мне приятели.
– Так и так, – говорят, – напиши детскую пьеску к празднику, чтобы наши ребятишки поразвлеклись, не всё же тебе липовые анкеты в банановые страны сочинять.
– Что ж, – отвечаю, – можно.
Это верно, не всегда же врать, надо когда-нибудь и правду сказать. А ребятишки у нас хорошие, российские всевозможных самостийностей, с отделением и без отделения: и великие карачаи[65] есть, и кривичи имеются, сано-донских скифосарматов сколько хочешь, а иногда даже и русские попадаются. Материал богатый. Ладно, сварганю пьеску по методу АБН.
– Как это? – спрашивают.
– Очень просто. Разузнаю у ребят, кто в какую дудку может дуть, самоопределю их в соответствующих направлениях и получится целая программа. Сделаю! Образцы для такой работы имеются.
А наши российские ребята в Баньоли действительно к этому делу подходили. Ира Ю., например, лихо гопачок отхватывала. Боря К-янц такого «Шамиля» разделывал, что у всех сотрудников «Свободного Кавказа» кишки бы полопались от зависти, Розочка из Бердичева полагающийся ей по званию боярский танец… И даже такой мальчуган нашелся, который умел маршировать не хуже Павловского гренадера и брать на-караул по старому уставу. Словом, все подлежащие освобождению народы были представлены в своих высших исторических достижениях. Один лишь мой сынишка, в качестве наичистейшего руссака, своего самоопределения не имел. Ну, что ж? Для него я придумал роль кота, ибо мяукать по-русски все-таки разрешалось даже и в свободной Европе.
Пьесу же мы ставили по-итальянски. Фабула ее была проста: дети уходят на елку, бросив свои старые игрушки и кукол. Появляется традиционная фея, игрушки оживают и каждая выполняет свой номер. А в финале приходит Рождественский Дед с елочкой и поздравляет всех с праздником – торжественный марш и занавес.
Писатели, отдававшие свой талант Рождественскому Деду, проглядели один важный вопрос: была ли у Рождественского Деда своя Рождественская Бабка? Я же могу удостоверить: несомненно, существуют и Рождественские Бабки! Без них Дедам никак не обойтись. Именно моя бабка и подготовила к спектаклю все нужные костюмы. Да еще как подготовила! С полной исторической и этнографической точностью. Боря К-янц превратился в лихого конвойца Е. И. В., с газырями, башлыком, а гренадер Васюк щеголял в полном Преображенском мундире 20-х годов прошлого столетия и даже в кивере с султаном. Словом, когда занавес раздвинулся, многонациональная публика Баньоли ахнула.
Да, простите, о самом главном я позабыл рассказать: выполнять роль Рождественского Деда должен был мой друг, Александр Иванович[66], грудастый богатырь, с бицепсами, как у Поддубного[67], но высокие специалисты ИРО накануне спектакля зачислили его в разряд крайне худосочных и тотчас же отправили в соответствующий худосочию лагерь, километров за триста. Эта неожиданность привела к тому, что Рождественским Дедом стал я сам. А у меня и без того хватало работы. Надо было и одевать и гримировать моих артистов, и свет пускать, и занавес раздвигать, и даже стучать в пустую банку от мармелада, заменявшую необходимый для исполнения «Шамиля» бубен.
Ничего! Вышли и из этого положения. Смастерили скафандр из круглой картонки, обшили его непомерной ватной бородой, непромокаемый плащ тоже обшили ватой и получилось так, что всё это снаряжение я мог разом надевать перед самым выходом к выполнению дедовских обязанностей.
Всё это было продумано, как в примернейшем промфинплане. И все-таки… все-таки получилась неувязка!
Точно определив нацпринадлежность каждого из моих артистов, я позабыл выяснить историческое прошлое самого Деда, а Рождественские Деды, как известно, тоже разные бывают, и в зависимости от своего племени и самоопределяются.
Но спектакль шел прекрасно. Бравый преображенец лихо маршировал, а кот еще лише мяукал. Ирочка залихватски отстукала гопака с присядкой, конвоец Боря в шелковой черкеске крутился, как пламенный вихрь, и, глядя на него, я сам пришел в такой восторг, что даже прошиб мармеладную банку и дошел до седьмого пота.
Наконец, мой выход. Нахлобучиваю свой скафандр, хватаю зажженную елочку и торжественно выступаю на сцену.
– Боно Натале![68]
А навстречу мне несется рев не то восторга, не то ужаса.
В чем дело? Почему после всех блестящих номеров мой трафаретный выход произвел такой колоссальный эффект?
Пианист за сценой грянул бравурный марш. Преображенец и конвоец торжественно повели всю колонну самоопределенных кукол, а мне вдруг припекло левую щеку. Да так припекло, что я разом понял причину оваций, сбросил загоревшийся от елочной свечки ватный скафандр, вспыхнувший ватный плащ и, превратившись из величавого Рождественского Деда в далеко не величавого ировца, позорно бежал за кулисы, блистая заплатой на тыловой части брюк. Кто– то догадался дать занавес.
Но зал гремел аплодисментами и вызывали именно меня: Деда, Деда! Пришлось натянуть затоптанный обгоревший плащ и, почесывая обожженную щеку, выйти на вызов.
– Лепо! Лепо! Врло лепо отыграл господине свою улогу! – сыпались на меня похвалы на всех балкано-славянских наречиях.
Причину этого бешеного успеха я узнал лишь вечером от старого сербского полковника. Оказалось, что в деревнях Старой Сербии до сих пор еще жив обычай сжигать на святках чучело Рождественского Деда, как на нашем севере, еще на моей памяти, сжигали веселую Масленицу. Национальность же Деда, в которого я перевоплотился, не была заранее определена, и он, учтя балканское большинство публики, соответствующе самоопределился на самых безупречных демократических основах.
Спорить мне на этот счет с ним, конечно, не пришлось, но только я больше ни в какого Деда, кроме своего старика Русского Мороза, ни перевоплощаться, ни самоопределяться не буду. Две недели после этого самоопределения не мог левую щеку брить. Так и ходил с одною бакенбардою, приводя в восторг всех неаполитанских мальчишек. Хорошо, что этим отделался. Мог и совсем погореть. Самоопределение – опасная авантюра даже и для аполитичных Рождественских Дедов.
«Наша страна», № 155,
Буэнос-Айрес, 3 января 1953 г.
Рождественская сказка
Жил-был мальчик, Самый обыкновенный мальчик, каких было миллионы в той стране. Зимой он бегал в шубке, сшитой из старого бабушкиного капота, и катал салазки, сделанные из ящика папиного стола. Самый стол сожгли в печке – в той стране было очень холодно, а дров не было. Набегавшись, он съедал принесенную мамой булочку, одну маленькую булочку, – хлеба в той стране было очень мало.
Мальчик был совсем еще маленьким и совсем обыкновенным. Но это еще не сказка, а только присказка.
* * *
Сказка, настоящая сказка, началась тогда, когда злой чародей, завладевший той страной, затеял войну с соседним страшным колдуном, Мальчик жил тогда в соломенном шалаше. Его папа стерег сад с вкусными сочными яблоками, а сам мальчик бегал по этому саду босиком, ботинок тоже было очень мало в той стране.
Однажды, ранним утром, по небу пронеслись страшные железные птицы. Они бросали на землю смерть. Грохотал гром, к небу вздымались огромные огненные столбы, рушились стены домов, и по саду метались охваченные ужасом люди.
Так началась сказка. Она захватила мальчика и понесла его через леса и широкие реки, через горы и равнины, по далеким, неведомым странам… Она кружила в своем вихре мальчика, его папу и маму, заводила их то в темные, глубокие пещеры, то в покрытые зеленым лесом горные ущелья и, наконец, принесла к теплому, лазурному морю, в раскинувшийся на его берегу чудесный, залитый солнцем город…
Эти скитания длились многие годы, и зачарованный сказкою мальчик подрос, но все-таки был еще мальчиком. А сказка текла дальше, играла и искрилась… Дивный солнечный город открывал перед глазами зачарованного мальчика всё новые и новые чудеса. Невиданные звери из дальних стран, рыбы из темных глубин моря, удивительные игрушки за стеклами больших окон безудержно пленяли мальчика из страны, в которой завладевший ею чародей отнял все эти радости у всех детей. Но лучше всего были марки, – те, что приходят из далеких обольстительных стран, где в джунглях рычат настоящие тигры, где черные раскрашенные люди еще мечут бумеранги в пестрых какаду, где… всего не перескажешь, потому что каждая из марок шептала мальчику свой особый затейливый рассказ.
Мальчик слушал их повести, бережно укладывал марки в конвертики и, спрятав их на ночь под подушку, видел во сне алые коралловые рифы и смелых ценителей морей – пиратов и капитанов…
Сказочницам-маркам нужен был свой дворец – альбом… Иx много было за стеклами больших окон магазинов. Мальчик жадно рассматривал их, вздыхал и отходил… Мечта оставалась мечтой. И марки жили в конвертиках.
… А сказка дальше творила чудеса, возможные только в сказке.
В столицу той страны, где жил мальчик, приехали царевич и царевна – истинные властители родины мальчика, захваченной злым чародеем. Царевич захотел узнать от папы мальчика правду о своей стране, и тот рассказал ему о многих, очень многих мальчиках, таких же, каким был и его сын, пока сказка не взяла его на свой ковер-самолет. Рассказал о нем и его мечте, и о том, что у оставшихся там мальчиков тоже есть свои мечты… мечты о могучем царевиче, который освободит их от оков чародея, о прекрасной царевне, с нежным, как пена моря, сердцем, которая осушит слезы, слезы многих, очень многих таких же мальчиков в той стране.
Слушая о них, царевич сжимал свои мощные руки, а на ресницах прекрасных лучистых глаз царевны сверкали росинки слез…
Но это еще не конец сказки.
Он настанет лишь тогда, когда распадутся оковы колдуна и царевич с царевной вернутся в свое царство. Тогда сказка станет былью для томящихся в той стране мальчиков, а для этого, о котором идет рассказ, она стала былью теперь. Он был очень счастливым мальчиком, обласканным сказкою.
Однажды утром около его подушки оказался большой пакет, а в нем – мечта.
Знаете ли вы, что такое осуществленная мечта, дорогие читатели? Увы, не многие из вас видели ее. Но этому мальчику сказка ее подарила. Дивная сказка, царевна-сказка.
В пакете было то, что на грубом языке взрослых называется альбомом для марок. Марки получили свой дворец – такой удобный, роскошный и красивый, каких даже не было за стеклами больших окон магазинов солнечного города.
Те, кому хоть раз в жизни было даровано осуществление их мечтаний, поймут радость этого мальчика, перенесенного сказкой с его холодной и голодной родины к берегам теплого лазурного моря.
На первом листе сказочного дворца-альбома стояла надпись: «Лоллику Ширяеву. С надеждой, что этот маленький подарок ему пригодится. Рим, 1950» и две подписи. О них – речь впереди.
Остается досказать совсем немного. Во-первых, то, что сказки творятся и в наши серые, сумеречные дни, подтверждаю это тем, что рассказанная сейчас сказка – истинная быль. А если так, то нужно назвать и имена таящего в себе великую силу царевича, прекрасной царевны с сердцем белой голубки, и счастливого, обласканного сказкою мальчика.
Имя сказочного царевича – Глава Династии Великий Князь Владимир Кириллович.
Царевна – Его Августейшая Супруга Великая Княгиня Леонида Георгиевна.
Мальчик – Лоллик Ширяев, «новый» эмигрант, которого полюбила и осчастливила сказка наших дней. Вот и всё.
Но почему же, спросят меня читатели, я назвал эту сказку рождественской?
Вот почему. В этой правде-сказке рассказано об осуществленной мечте только одного мальчика. Но в той стране, где он жил прежде, остались еще многие миллионы таких же мальчиков. У каждого из них есть своя мечта, мечта о счастье. В Рождественскую ночь эта мечта горит особенно ярко и неудержимо зовет к себе этих мальчиков.
Но в той стране, скованной чарами злого колдуна, нет сказочной царевны с нежным сердцем, полным любви к этим мальчикам, и их мечта не оживает…
Помолимся же все в эту Святую ночь, попросим Рожденного в ней о том, чтобы сгинули чары, сковавшие ту страну, чтобы вернулись в нее царевич с мощной рукой и царевна с горящим любовью сердцем, чтобы сказка одного мальчика из той страны стала бы былью для всех его братьев, оставшихся там…
От редакции
Эта «сказка» правдива. Желающие получить подтверждение могут посылать мальчику Лоллику, «новому» эмигранту, почтовые марки для заполнения «сказочного альбома». Они получат ответ от него лично. Адрес: Lolly Sciriaev, IRO-Campo, Pagani (Salerno), Italy.
А разве, в самом деле, не сказка, что мальчик с Поперечной улицы[69] г. Ставрополя проносится через всю Европу и получает высокую необычайную для него честь? Разве не сказка, что его отец, после двух смертных приговоров и 13 лет каторги и ссылок, удостоен личного приема Главой Династии? Мог ли автор думать о чем либо подобном, сидя на Соловках? Это чудо, подлинное чудо, посылаемое Господом Богом многострадальным русским людям.
«Знамя России», № 32,
Нью-Йорк, 1 июля 1951 г.
Шпага генерала Грациани
У сказки, которую я рассказал читателям на Рождество, есть продолжение. Течет жизнь – течет сказка. Порою они струятся мирно, сливаясь одна с другою, но иногда их волны сталкиваются, разбиваются друг о друга. Тогда взлетают брызги слез, всплывает пена гнева, обиды…
После моего рождественского рассказа о мальчике Лоллике, прекрасной царевне и ее подарке ему – волшебном дворце для пришельцев из дальних стран, эти самые пришельцы из этих самых тридевятых царств повалили толпою в их новый дворец. Откуда только они ни приплывали на волнах творимой сказки! Чуть не с каждой почтой сказочный мальчик получал письма то из привольной богатой Америки, то из нищей подневольной Германии, то из крикливой Франции, то из молчаливой Британии… потом стали приходить из совсем чудесных стран: Чили, Перу, Марокко… В каждом конверте были десятки марок и письмо. А в каждом письме – десятки ласковых слов и сердечных пожеланий мальчику, которого полюбила царевна сказки…
Население дворца разом возросло с двух до пяти тысяч. Двойниками наполнилась целая коробка, а письма легли в толстую пачку.
В них писали:
«Шлю тебе сердечный привет. Буду рад встретиться с тобой в Америке. Н. Рыбинский. Нью-Йорк».
«Посылаю тебе бразильских новинок. Шли мне итальянские. Я такой же мальчик, как и ты. Павлик Бибиков».
«Расти, Лоллик, скорее! Догоняй меня. Я тоже не так уж давно катал салазки, только не из ящика сделанные, а из дырявого корыта, и не по Поперечной, а по Сталинской улице. Расти. Пойдем вместе под Андреевским флагом и резанем энкаведистов с автоматов. А. Савков. Мельбурн».
«Отыщи на карте Венецуэлу: оттуда я тебе шлю это письмо. А. Вернер. Каракас».
«Видел твоего папу в Крыму и в Белграде. Рад узнать, что ты еще цел и жив. В. Бутков. Казабланка».
– Никогда не думали, что Лоллику придется учить географию с такими живыми пособиями! – говорит мама.
– Добавь, и историю, – отвечает папа, – слушай: «посылаю тебе старых русских марок, чтобы ты знал, какие были марки, когда Россией правил Русский Царь, а не злой колдун. На некоторых портреты Царей и Императоров, а Сказочного Царевича я знал, когда Он сам был еще мальчиком. Е. Шильдкнехт. Чили».
«Будущему гвардейцу личного конвоя Его Величества Царя Русского – Лоллику. Недаром рука Всевышнего спасла тебя от гибели и смерти. Помни это! О. и М. Васильевы. Итцехое – Германия».
– А что такое личный конвой? – спрашивает Лоллик.
– Ну, это уже безобразие – не знать конвоя. Тебе стыдно! – возмущается мама. – Дед твой всю жизнь свою в Собственном Его Величества Конвое прислужил. Черкеска алая, башлык белый, усы седые. Как на картине мне представляется сейчас… грудь в орденах… кинжал в золоте… тоже царский подарок за джигитовку.
– А что такое джигитовка?
– Это на коне скакать… лучше, чем ковбои… шашкой рубить. Ты лучше у папы спроси. Он, хоть не казак, но гусар, и знает… Рубить шашкой знаешь как надо конвойцу? Дед твой уж совсем старый был, а раз подгулял на Покров (я еще меньше тебя была, чуть помню) и протанцевал наурскую с стаканом воды на голове, и ни капли не пролил. Потом кричит: «Шашлыку свежего хочу! Гоните первейшего барана!» Пригнали. Он снял со стены свою шашку – «гурда» у него была – как полоснет!.. С одного удара барана надвое. Куда до него твоим ковбоям!
– Чтобы так рубить, нужно с детства тренироваться, – говорит папа, – мы так не могли…
Лоллик задумывается, и дня три у него идут какие-то таинственные переговоры о Душаном из соседнего барака, уезжающим на днях в Австралию. На четвертый день он врывается в наш картонный закуток, потрясая блестящей, как солнце, шпагой.
– Все-таки выменял! – кричит он, ликуя, сто марок-двойников дал Душану! Дорого, но смотри какая!
– Замечательная сабля, – хвалит папа, – эфес вызолочен и весь в эмблемах! Ликторские прутья! Римские орлы! Скажи на милость! Наверно сам генерал Грациани голых абиссинцев ею крошил[70].
О том, что этой бутафорской шпажонкой нельзя разрубить и сосиски, папа скромно умолчал. К чему лить деготь повседневности в мед мечты?
«Тьмы низких истин нам дороже Нас возвышающий обман…»Сказка творит чудеса. Вряд ли эта безнадежно тупая «зубочистка» блистала той славой побед на бедре ее первого владельца, бросившего ее потом в помойку (откуда ее извлек Душан), какой покрылась она в руке будущего конвойца Императора Всероссийского. При появлении Лоллика, вооруженного этой замечательной шпагой, в кругу своих сверстников, он был тотчас признан вождем всеславянской армии. Чех Фреди, серб Милош, хорваты Бруно и Стано сразу стали под ее знамена. Даже Джокио и тот не устоял перед блеском сабли конвойца Лоллика, а сама она вновь обрела душу, потерянную в помойке… Эта душа была многолика, и превращала свое современное никелированное тельце то в твердую сталь ятаганов героев Косова поля, то в тяжкий меч Яна Жижки, но чаще всего на ее клинке искрились отблески духа той ее отдаленной прабабки, которую здесь, в Италии, подарил Багратиону Суворов… Тогда победа была обеспечена…
Но пришел час, и искристая сказка-мечта столкнулась с серой повседневностью. Это случилось как раз в тот момент, когда царь Леонид спартанский, вопреки утверждению истории, гнал сквозь Фермопилы (дыру в окружающей лагерь проволоке) полчища персов (городских мальчишек, вторгнувшихся с явной целью присвоить развешенное близ границ Лаконии белье). Воины Ксеркса выли, пролезая на четвереньках сквозь фермопильские колючки, а победители-спартанцы осыпали их беззащитные тылы градом шишек славных римских пиний…
К моменту полной победы волна сказки-мечты столкнулась с серой реальностью в лице лагерного полицая, именно того, которому надлежало охранять лаконийское имущество от диверсантов фермопильского пролаза. Он, как и полагается итальянскому стражу, спал на солнышке и был разбужен победными кликами.
– Оружие, – завопил он, ухвативши клинок, – идем в квестуру. Руки он, конечно, не порезал, но душа тотчас же отлетела от ожившего клинка…
Унесся в мрачный Аид и доблестный царь Леонид, а русский Ди-Пи, аполид[71] мальчик Лоллик поплелся в квестуру под конвоем «героя нашего времени»… Увы, нашего! Прихватили и папу…
В квестуре обоих долго опрашивали, потом столько же долго писали, о том, что двенадцатилетний Ди-Пи Лоллик Ширяев купил за 100 почтовых марок у восьмилетнего Ди-Пи Душана Басича оружие славной армии итальянской демократической республики.
– Знали ли вы, что в руках вашего сына смертоносное оружие? – спросил инспектор папу Лоллика.
– Давайте установим его смертоносность. Берите его вы, сеньор инспектор, a я возьму вон ту швабру, и попробуем.
– Знали ли вы, что это оружие итальянской армии?
– Если арсенал этой армии – в мусорной свалке, то знал.
– Знали ли вы, что живущим в нашей республике не дозволено хранить такое оружие?
Потом, к утратившей душу шпаге подвязали билетик с номером и поставили ее труп в угол. Лоллик и его папа расписались и ушли, а волна сказки-мечты разлетелась брызгами слез, повисших на ресницах будущего конвойца…
– Не печалься, – сказал ему папа, – ты потерял вместе с шпагой только сотню старых марок, но твои товарищи по такой же потере – Петэн, Мак-Артур[72], да и сам возможный владелец той шпаги генерал Грациани утратили много больше. Ведь у них нет ни оживающей в тебе царственной сказки, ни живого Царевича, в конвой Которого ты станешь, ни ярких весточек-марок, слетающихся к тебе со всего света от друзей, что помогут тебе добыть новую шпагу…
Брызги разбитой мечты на ресницах конвойца снова сливаются в стремительную волну… а руки его сжимаются в кулаки…
– Настоящую! Какая была у дедушки! Чтоб я, как барана… когда вырасту…
Растущий конвоец возвращается домой. А там его ждет уже новый пакет дружеских весточек-марок и к ним приписка:
«Будь здоров и да хранит тебя Господь. Прошу об одном: молись за Россию. Спасителю нашему особенно угодны молитвы чистых детских сердец. Г. Жиховский. Чикаго».
– Сколько таких писем получил бы ты «оттуда», откуда мы вырвались? Если бы «там» могли их послать? – спрашивает Лоллика папа…
«Знамя России», № 40,
Нью-Йорк, 1 июня 1951 г.
Лампада и звезда
– Ну, значит и в Боливию путь закрыт! А уж как ты на нее надеялся! Говорил: всех туда пускают. Теперь уж и стран таких не осталось, куда бы мы ни толкнулись. Погибель…
– На всё воля Господня. Не оставит нас Пречистая Мать-Заступница…
Перегородки в нашем бараке тонкие, картонные и на три метра до потолка не доходят. Так, только ширмочка для видимости. Всё сказанное даже шепотом у соседей, мне слышно от слова до слова. Поэтому я полностью в курсе всех злоключений Семена Ивановича и Марии Александровны. Даже не только слышу их, но и вижу отблески самого сокровенного в их жизни. Когда в 11 часов тушат в бараке свет и разноязычный гомон, детский крик и радио-вопли смолкают, я еще долго лежу с открытыми глазами и слежу за чуть заметно мелькающим отблеском тихого огонька на потолке, над углом их картонного закутка.
Я знаю, что это отсвет неугасимой лампадки перед иконой Владимирской Божьей Матери – Владычицы нашей небесной.
Семен Иванович – столяр и вообще большой искусник на всякую руку; вырезал из какого-то журнала снимок с иконы Владимирской Заступницы народа Русского, сам умело раскрасил его, вызолотил, обрядил в самодельный же, Бог весть из чего сотворенный, резной киотец, освятил у батюшки и водрузил в правом углу.
Как полагается, Володимирская – наша первая Заступница Русская. И от татар, и от ляхов, и от француза нас отстояла Царица наша Небесная.
Семен Иванович и сам «володимирский», из Мстеры. До сих пор «окает». Должно быть из этой знаменитой своими кустарями слободы он и «художества» свои привез.
А какой подлинный он художник! Киотец – хоть на выставку! А перед ним лампадка висит, и никто не догадается, что она из аптечной баночки им сделана. Такие в Мстере были мастера!
– Неугасимая. Как полагается. Когда из лагеря в лагерь перегоняют – в руках ее переношу. У меня и особый футлярчик к ней для этого сделан, из консервной банки. Не грех это, коли по нужде… – сообщил мне Семен Иванович.
В молодости он был матросом на каком-то миноносце. В бою, в Рижском заливе осколок немецкого снаряда ему вдоль всего живота скользнул.
– Сохранила тогда Пречистая, оборонила… только поверху черябнул, а кишку не тронул. Страху на рупь, а порчи на грошик.
Страху даже и теперь много: через весь живот тянется шириной в ладонь морщеватый багровый шрам. Он-то и губит теперь Семена Ивановича, пресекая ему все пути за все океаны. Куда только он ни записывался! И всюду одна и та же загвоздка! Всем пройдет: и годами, и зубами, и ремеслом, а как увидят этот шрам доктора – конец:
– Оперирован. Нетрудоспособен. Баста! – дальше и разговаривать не хотят.
Получив гарантию от кого-либо, мог бы он выехать, да от кого ее Семену Ивановичу получить? Все двадцать пять лет эмиграции он прожил в каком-то глухом углу Македонии. Хорошо жил там, благодаря всему разнообразию своих ремесл, а как пошла завируха, стало крутить его, как осенний лист. Из Македонии в Банат, из Баната – в Триест… В результате сюда, в Баньоли, под Везувий… Старых друзей – никого. С кем он там, в своей Македонии, мог сдружиться? Значит, и гарантий некому прислать.
– Плохо Ваше дело, Семен Иванович! – сочувствуют ему, остающемуся, отъезжающие счастливцы. – Вряд ли кто вас выручит. Чудо только, да чудес теперь не бывает.
– Чем плохо? – отвечает он. Выручить некому? Как это? А она-то, Заступница наша Володимирская разве не выручит?
«Ей, всех скорбящих радости» – его молитва и хвала. В ночной тишине, приложив ухо к перегородке, я улавливаю его шепот:
– Достойно есть… Присноблаженную и Пренепорочную… Матерь Бога нашего…
Это ночами… а сейчас я слышу тихие всхлипывания Марии Александровны:
– В такой-то день… последнего лишились… у людей-то у всех праздник великий. Глянь-ка, что на базаре творится… Кто курей, кто гусей… и несут, и везут…
Мне хочется отвлечь Семена Ивановича от мыслей о крушении его последней надежды.
– Сосед, а сосед! – кричу ему я, – пока не стемнело, пойдемте по Неаполю прогуляться! Вернемся как раз к звезде; водочка у меня приготовлена, встретим Рождество, хоть и итальянское, а всё же праздник! А? Интересного вам там много; все ихние «презепио»[73] видали? Вроде наших «вертепов»!
– Не наше это, Борис Николаевич. За душу не берет. Праздник, конечно, праздником. Так я лучше дома своей Володимирской воздам.
– Ну, ваше дело…
Вот и солнце ушло за косу Поццуоли. Темная завеса ложится на залив. Не видно уже ни Капри, ни островка, на котором томился покинувший Русь опальный царевич Алексей, сын Петра I[74].
К соседям кто-то стучится. Это серб Тонни, очень добрый малый. На его обязанности лежит выдача срочных писем, «espresso», но он даже по квартирам их разносит.
– Тонни, мне есть что-нибудь? – спрашиваю я.
– Вам – ничего! А соседям вашим, что-то очень интересное. С печатями, из Канады.
Минут пять молчания… потом крик:
– Борис Николаевич, зайдите помогнуть! Вы по-английски разбираете.
Семен Иванович сует мне большую красивую грамоту с невиданной бумажной красной печатью. В английском я слаб, но всё же понятно: «Accommodation and maintenance, and guarantee that they will not become public charges in Canada»[75].
– Семен Иванович, да ведь это полная вам гарантия! И квартира, и работа, и содержание на случай болезни… Теперь – пляшите!
– Потом и попляшем, а сейчас…
Семен Иванович осеняет себя широким, размашистым русским крестом и припадает в долгом земном поклоне перед Ликом Пречистой, оборонявшим Русскую рать на Куликовом поле…
Я смотрю на чуть поблескивающий огонек неугасимой, и мне чудится, что вижу за окном его яркий сверкающий отблеск… Нет. Это над заливом зажглась первая блистательная звезда. «Вифлеемской звездой» зовут ее итальянцы.
– Семен Иванович, – спрашиваю я его, уже вставшего с колен, – да кто же вам это прислал?
– Сам его в глаза не видал и имени его не слыхал доселе. Господин Прохоров из Виннипега какого-то. Вот, прочтите, – подает он мне письмо.
«Прожив уже два года в Канаде, я имею теперь свой дом и счет в банке, следовательно, все права вызвать вас на свое иждивение», – читаю я. Кто же он? Вот дальше и о себе пишет: молодой еще, из «новых», должно быть, власовец… Дальше – «о вас я узнал случайно от новоприбывших русских, сказали мне и ваш возраст, и имя… меня не благодарите, а только Господа Иисуса Христа и Пречистую Его Матерь. Для них, во имя их я и делаю… Приезжайте скорее, о чем буду молить Господа. Ваш родственник во Христе Андрей Прохоров».
– Да, ведь, это – чудо, Семен Иванович! – кричу на этот раз я, – подлинное, истинное чудо.
– Два, а не одно, – слышу я тихий ответ, – два: видимое и невидимое.
– Как это? Не пойму я?
– Очень ясно. Первое – сам этот факт, вызов этот, видимый и ощущаемый, а второе сотворено в душе этого неизвестного мне раба Божия Андрея, в духе его неугасимости, лампаде вот этой подобном.
– Опять не пойму. Объясните?
– Как вы думаете, много этот Андрей, в советчине родившийся и там выросший, о Христе знал? Если и слышал – так одну хулу и поношение. Сами знаете. А пронес же вот чрез врата адовы неугасимую искру Духа Господня в себе? Может ли человек без чуда Господня сотворить такое? Нет, поверьте, и на апостолов Дух сей чудесно сходил по воле Божией, так что же о нас-то, грешных, говорить…
… Неугасимая лампада светилась своим тихим пламенем перед скорбным Ликом Заступницы Владимирской, Заступницы Земли Русской, и благостным образом рожденного Ею Искупителя…
… Ее ярким искристым отблеском пламенела на темном бархате ночного неба «Вифлеемская звезда»…
… Вера и Надежда. Но превыше их Любовь. Сим победиши!
* * *
Год назад, дорогие читатели, я рассказал вам о сказке, ожившей в наши тяжелые серые дня. Теперь – о чуде.
С Рождеством Христовым, дорогие и далекие!
«Знамя России», № 54,
Нью-Йорк, 7 января 1952 г.
Дети Ди-Пи
Не откажите поместить на страницах вашей уважаемой газеты некоторые уточнения к заметке В. Б. «Дети Ди-Пи из Италии на каникулах в Марокко», напечатанной в № 579 «Русской Мысли».
Автор этой заметки совершенно справедливо сообщает о благородной инициативе французов в Марокко, решивших оказать истинно-христианскую помощь русским детям, до сих пор находящимся в лагерях Италии, главным образом, в лагере для больных и инвалидов – кампо Пагани. Столь же справедливы и его сообщения о том, что этот благой порыв французов был возбужден русской марокканской организацией НОРР[76], что особенно ценно. Ценно и то, что представитель международного Красного Креста г. Вотье выразил похвалу инструкторам НОРР и обещал в дальнейшем оказывать помощь и поддержку русской молодежи.
Но далее в заметке сообщается, что в первой группе детей, привезенных на самолете в Касабланку, русских не оказалось. Все дети были сербского происхождения или от смешанных браков. Эти строки невольно вызывают недоумение, однако, и они вполне соответствуют истине.
Дело в том, что гуманное начинание французов из Касабланки, возбужденное и поддержанное русской организацией НОРР, не было доведено до сведения русского населения итальянских лагерей. Ни одна семья, живущая в Пагани, не знала о приезде французских благотворителей, к которым были вызваны только лица других национальностей. Лично я узнал о гуманных действиях французских христиан лишь из письма ко мне г. В. Буткова, предлагавшего гостеприимство одной русской семьи в Каcабланке персонально моему сыну. Это письмо было получено мною приблизительно через месяц после приезда в лагерь Пагани французов, о котором, мы, русские, ничего не знали. Аналогичные сведения получены мною из лагерей Сант-Антонио, Капуа и наиболее обездоленного лагеря в Триесте, где до сих пор находится свыше полутора тысяч русских.
Из лагеря Пагани в Марокко не выехал ни один ребенок, хотя желающих послать туда для отдыха и поправки своих детей в этом лагере немало, но никто из нуждающихся не был извещен о предложениях французов.
Вот чем объясняется полное отсутствие русских детей в первой прибывшей в Касабланку группе. Факт очень печальный, но возлагать ответственность за него всецело на итальянскую администрацию лагерей было бы большой ошибкой. Большая доля вины ложился на организации, непосредственно ведающие помощью русским беженцам.
Переходя к практическому разрешению вопроса, я позволю себе порекомендовать всем русским благотворительным организациям, желающим оказывать помощь русским людям, находящимся в южных лагерях Италии, обращаться непосредственно к отцу Евгению Аракину[77], единственному православному священнику, самоотверженно обслуживающему духовной помощью все пять южных лагерей Италии. Французам, как католикам, можно осуществлять свою помощь через Коллегиум Руссикум (Рим, виа Карло Каттанео, 2).
Как отец Аракин, так и священники Руссикума беспрерывно находятся в тесном общении с русским населением лагерей, знают его и чутко реагируют на его нужды.
«Русская мысль», № 592,
Париж, 25 сентября 1952 г.
Истребление стариков
Лагерь Пагани, в котором под опекой религиозно-филантропической организации «Аюто миссионари делла паче»[78] – АМП – жило в хороших yсловиях около двухсот беженских инвалидов и стариков, в том числе двадцать русских, окончил свое существование. Наследница и последовательница недоброй памяти ИРО, сменившая ее организация AAI[79] после долгой междуведомственной борьбы завладела ускользнувшими от ИРО стариками, ликвидировала их приют, а их самих рассовала по четырем оставшимся в распоряжении AAI лагерям, условия жизни в которых несравнимо хуже, чем были в Пагани.
Результаты этой перетасовки сказались немедленно. Бывший офицер «Железной дивизии»[80], а теперь инвалид-астматик И. Пузенко умер в припадке астмы в первый день по прибытии в приморский лагерь AAI Меркателло[81], где ему, как астматику, климат был более чем вреден. В последующие дни врачебная часть AAI, главным образом возглавляющая ее в лагере Капуа доктор Chiappini начала «чистку» стариков, отбирая всех больных туберкулезом и подозрительных по этой болезни, то есть именно тех, для кого был в прошлом организован лагерь Пагани.
Эти старики и инвалиды направлены в близлежащий лазарет-изолятор «Казаджиове»[82], где питание значительно хуже, чем даже в лагерях, холод, помещения сыры настолько, что стены покрыты плесенью, а лечения вообще никакого нет, так как врачи не делают ежедневных обходов палат. Активные туберкулезники там перемешаны с подозрительными, и последние там поставлены перед реальной угрозой заразиться. Кроме того, всем, попавшим в этот изолятор, запрещено появляться в лагерях, они разлучены со своими семьями и лишены возможности получать доступный даже бедным беженцам уход.
По этой «чистке» особенно пострадали русские и югославы. Остальные национальные группы, имеющие защитников вне лагеря, в изоляцию не попадают. Так, например, среди изолированных нет ни одного итальянца-триестинца, хотя больных туберкулезом, продолжающих жить в лагерях, среди них много.
За последнее дни в изоляцию из одного только лагеря Капуа попали следующие русские: гг. Мережко, Недожогин, Куликовский, проф. Б. Ширяев, Дарсавалидзе, Вальсагов и Литвянский. Большинство из перечисленных имеют закрытую форму туберкулеза и не заразительны для окружающих, в чем ими предоставлены анализы и другие удостоверения от авторитетных медицинских учреждений, как, например, от клиники Международного Красного Креста в Неаполе. Но ничто не помогает им вырваться из поставленной AAI ловушки: старший консультант изолятора «Казаджиове» профессор Паппия, пользующийся, кстати сказать, в неаполитанских врачебных кругах очень незавидной репутацией, голословно отвергает все мнения прочих врачей, даже не ознакамливаясь с ними, но сопровождая свои «диагнозы» далекими от вежливости характеристиками этих врачей.
В чем же разгадка этих более чем странных действий AAI? Разрешить этот ребус можно, конечно, лишь проникнув в само управление этого достойного учреждения, но невольно приходят на ум некоторые общеизвестные факты, как, например, тот, что при ликвидации ИРО за каждого старика и за каждого члена его семьи было внесено по 1 500 долларов на его дожитие. В целом это представляет очень значительную сумму, которая вместе с самими стариками и их семьями переходит к тому учреждению, под чью опеку они попадают, в данное время – к AAI. Факт второй: такса платы за каждого больного, поступающего в изолятор «Казаджиове» по своей воле – 1700 лир; за беженца же – 2500 и 3000 лир в день. При развитии в Западной Европе системы всякого рода комиссионных оплат владельцы изолятора «Казаджиове» (предприятие это частное) несомненно могут выделить достаточный комиссионный процент тем, кто доставляет им хороших клиентов, да еще в массовом порядке.
Удобно и то, что русские и югославы – национальные группы беженцев, поставленные волею судьбы в особо тяжелые формы бесправия и белого рабства, не могут выразить своего протеста, так как не имеют достаточно авторитетных защитников.
[Н. Удовенко]
«Русская мысль», № 627,
Париж, 27 января 1954 г.
Золотой век
Всё вы, господа, нашу эпоху ругаете. И такая она, и распротакая, не эпоха, а прямо сплошная коллективизация. Ложись и помирай! Извините, но я с вами не согласен. Наша эпоха: кому – как. По выражению Маяковского: «Кому бублик, а кому дырка от бублика, то есть демократическая республика».
Вот, например, нашему брату – фельетонисту эта самая эпоха – золотое дно, Клондайк, Торгсин. Покуривай и темы лопатой греби!
В прежнее время во Франции знаменитый фельетонист Рошфор всю жизнь про Наполеона Третьего писал. И Наполеона уж нет, а он всё пишет. Читатель плачет от скуки, а Рошфору где другую тему взять? Пусто. Ничего фельетонного.
Или у нас был В. М. Дорошевич[83]. Так он целыми днями у Тестова в трактире сидел, всех знакомых и незнакомых за полы ловил:
– Миленький, пожалейте хоть вы меня, дайте темочку! Федор, – кричит официанту, – услужи, дай тему, пятерки тебе не пожалею.
– Всей бы душой для вас, Влас Михайлович, – да не могу: всё в порядке. Расстегайчиков не прикажете?
А теперь? Берите любую газету и начиняйте прямо с сенсационной информации.
Мориссон из Лондона Массадыку кричит:
– У нас национализация – это социализм, а у вас национализация – это грабеж! Я тебя в Гаагу к мировому потащу!
Массадык на своей тегеранской кровати лежит, Иноземцевы капли стаканами глотает и ему в ответ:
– Хлеб-соль в ООН вместе, а табачок в Персии врозь. Плюю я на твоего Гаагского мирошку!
Чем не фельетон? Другой желаете? Извольте, тут же: 101 заседание в Розовом Дворце или «Вампука» в мировом масштабе! Н. Н. Евреинов[84] на такой теме всероссийское имя себе сделал… И теперь еще в «Возрождении» вспоминает…
Наш эмигрантский фельетончик, хотите? Пожалуйста. Читайте «Новое Русское Слово» хоть бы номер от 8.6.1951. Почитаем:
«Опыт ознакомления с политическим обликом новой, послевоенной эмиграции… обнаружил всю несостоятельность, если не обреченность идеи демократической коалиции». Оказывается вся эта новая эмиграция «влечется к сближению с монархическими кругами».
– Что это такое? – удивляется читатель, – И. Солоневич стал в «Новом Русском Слове» печататься? Его это слова! – смотрит на подпись и глазам не верит, – да, ведь, это Г. Аронсон, Б. Двинов и Б. Сапир в собственном одиночестве сами расписались. Чем не фельетон?
Да, что там высокая политика! У нас по нашему ИРО-лагерю не люди, а фельетоны ходят. Вот и сейчас, я пишу, а в мой закуток казак Селиверстыч зашел. У него не жизнь, а перманентный фельетон.
– Прочти, – говорит – друг, эту бумагу и переведи, как сумеешь. Бумага английская.
Читаю:
«Your case is definitely closed»[85].
По-английски я не очень горазд, но все-таки разъясняю:
– Прикрыта тебе эмиграция в США окончательно, – говорю, – Клозед – твое дело! Всеми буквами здесь прописано.
А Селиверстыч, мужчина серьезный, грудь, как печка; недавно на спор с итальянцами осла на плечах сто метров пронес.
– Почему же, – говорит, – меня в клозет упрятали?
– Туберкулез у тебя нашли. Написано полностью.
– Как это так? 211 регистраций прошел, 27 рентгенов, 3 литра крови происследовал, через пятерых политконтролеров проскочил, пальцы и на руках и на ногах отпечатал, знамени присягнул, семь автобиолип дал… и кислоты, и давления, и излучения, и прочее – всё было в порядке, а теперь ТВС[86]? Два года с месяцем в очередях простоял, а теперь – в клозет? Что же мне делать?
– Что приказано, то и делай, – говорю, – бери бумагу эту и иди с ней по назначению.
Ну, не золотой ли век для фельетониста наша эпоха?
[Дрын]
«Наша страна», № 85,
Буэнос-Айрес, 1 сентября 1951 г.
По «Радару времени»
Один из моих друзей, талантливый инженер, сконструировал замечательный аппарат – «радар времени», при помощи которого можно улавливать звуки прошлого и будущего. Но мы пользовались этим прибором только несколько часов. В ту же ночь его модель и все чертежи были похищены агентом «одного государства», специализировавшегося на такого рода политике. Мне удалось застенографировать лишь один отрывок какого-то этнографического доклада по исследованию Европы в 2051 году, как показал счетчик, радара.
Привожу стенограмму дословно.
«При исследовании средней части опустошенного катастрофой Европейского материка, нашей экспедиции нередко встречались поселения особого племени, именующего себя – Ди-Пи. Его стоянки рассеяны в полосе, тянущейся через опустелый континент от точки, где был в прошлом Гамбург, до руин Неаполя. Очевидно предки дипийцев были жизнеспособнее окружавшего их местного населения, почему и выжили.
Стойбища дипийцев однотипны. Они всегда окружены густым палисадом ржавой проволоки; выходы из них охраняются отрядами „полицеев“. Эти „полицеи“ не воины, а скорее жрецы низшего посвящения. При малейшей опасности они разбегаются, но строго следят за выполнением ритуалов дипийцев, обозначая запретную греховность словом „нэ можно“. При выходе из стойбища они требуют возможно большего количества проштемпелеванных бумажек, называемых здесь „документи“. Эти же бумажки имеют значение дензнаков. При помощи их ведется торговля, их дают в приданое дочерям. У богачей племени скоплены сотни кило всевозможных „документи“. Чем больше штемпелей – тем выше стоимость купюры.
Расовую принадлежность племен Ди-Пи установить не удалось: френологические признаки и типы хаотически перемешаны. Язык их представляет такой же конгломерат различных лингвистических форм. Пример – ходовая среди дипийцев фраза:
– Чи не андате ю цу чёртова мутер?
Обычный ответ на нее:
– Кэм к ней зельбст соло!
Религиозные представления, как северных, так и южных дипийцев однородны и несложны. Верховное доброе божество у них именуется „консул“. К нему воссылаются моления о „визе“. Значение этого термина соответствует эдему семитов, или раю христиан. Встречаются местные культы второстепенных злых божеств „контроль-врача“, „инспектора“, и доброй богини „мисс“, дарующей земные блага.
Моления иногда сопровождаются ритуальными танцами… Так, например, среди дипийцев, кочующих вокруг Везувия, принят танец голых старух перед одетой в белый халат статуей, держащей подобие устарелого стетоскопа. Местная легенда гласит, что некогда какой-то полубог „канадский врач“ награждал лучших танцовщиц „визой“.
Главный жрец обычно именуется „директор“. Построение общин носит явно теократический характер: власть жреца-„директора“ безгранична и бесконтрольна.
Кроме танцев существуют, подобные олимпийским, ритуальные игры.
Главная из них – ежегодные состязания в незаметном присвоении различных вещей. Победителя, набравшего больше всех, торжественно усаживают за стол в „бюро офиса“ – алтаре главного храма. Его награждают высоким званием „шефа“ на севере и „капо“ на юге. Пред ним все склоняются и поют ему гимн. Другая игра – „очерет“. Все становятся один за другим, и каждый старается незаметно проскользнуть вперед. Замеченных бьют.
Пища Ди-Пи чисто вегетарианская – только бобы и картофель. От мяса и жиров они отворачиваются, говоря:
– Отцы наши этого не ели и мы есть не будем.
Домашняя утварь дипийцев состоит из камней и обрубков, обязательно тщательно завернутых во что-либо и увязанных обрывками веревки. На этих приспособлениях едят, спят и сидят. Они называются „чемоданы“. Дипийцы их бережно хранят и всюду таскают за собою. В дни празднеств, называемых „эмиграция“, эти „чемоданы“ выносят на площади поселков, долго топчутся вокруг них и дают жрецам „документи“. Потоптавшись, тащат „чемоданы“ обратно, испуская при этом горестные вопли. Эти „чемоданы“ своего рода символы. Сидеть на „чемоданах“ – излюбленное времяпрепровождение дипийцев.
Ритуально символические элементы имеются и в характере их одеяний. Раз в год, в середине лета „директор“ и жрецы-„магазиньеры“ раздают всем пучки цветущих трав для ношения спереди ниже пояса. На юге к ним добавляются еще фиговые листки. При этой церемонии поется славословие богине „мисс“ сопровождаемое возгласами „слава вельфару“. Мужчины племени прицепляя эти пучки и листья, обычно произносят магические заклинания, смысл которых неясен. Расшифровка этих слов требует особого филологического анализа.
Северные (германские) Ди-Пи более оседлы, южные – явные кочевники, беспрерывно переселяющиеся из кампа в камп, как называют они свои стойбища.
Обычай дипийцев при приветствии спрашивать: „куда вы едете?“. Вежливый ответ: „Чёрт его знает!“. Вопрос: „Когда?“. Ответ: „Известно ему же“.
В психике этого племени отмечены странные особенности. Красный цвет, мужчины с усами и общеупотребительные орудия – серп и молоток, – приводят их в ярость, смешанную с ужасом. Отвращение и негодование выражаются у них словом „ИРО“. Пример: муж, недовольный стряпней жены, кричит:
– Что ты меня ировской болтушкой кормишь?!
Зато слова „права человека“, „демократические свободы“, „гуманизм“ приводят дипийцев в неописуемый восторг, выражаемый гомерическим хохотом. Стоит одному из них сказать „права человека“, как все окружающие разражаются дружным смехом.
– Демократические свободы! Гуманизм! – отвечают ему, катаясь в судорогах неудержимого веселья, – „Права человека“!»…
На этом месте интереснейшего доклада этнографа будущих времен у меня сломался карандаш. Очинить было нечем и я не смог записать дальнейшего.
«Наша страна», № 93,
Буэнос-Айрес, 27 октября 1951 г.
Два голоса и хор
Радиолюбители, надо полагать, люди особенно склонные к обобщениям; выражаясь современно – к коллективизации. Частники всякого рода их не интересуют, даже им как то неприятны. Запустит, например, такой любитель в эфир сбою машину и наскочит в нем на такого певца, какого даже сквозь ее хрип без отвращения можно слушать: казалось бы, тут и стать! Так нет! Сейчас же повернет регулятор и нечто совсем невообразимое поймает, вроде джаза на колумбийских сковородках. Но при глубоком философском подходе, даже и в этих коллективизациях можно установить некоторый смысл. Всё существующее – разумно. Прав старик Гегель.
Мы, например, здесь у себя уже привыкли Италию слушать. Бывает, что наскочим в эфире на знаменитую миланскую «Скалу». Там первый акт «Фауста» идет. Мефистофель объявляет:
– Я здесь, чему ты дивишься…
Главный наш любитель сейчас же регулятор на три пункта повернет и мы слышим:
– В САСШ раскрыта новая организация атомного шпионажа. Нити ведут в советское посольство.
Мы опять в «Скалу». Мефистофель – нам:
– Ты хочешь злата?…
Новый поворот регулятора:
– В Гонг Конг прибыло 60.000 тонн каучука, проданного Англией Мао Цзедуну…
Опять крутнем. Тольятти в Риме выкрикивает:
– Современные демократические формы явно одряхлели…
А из «Скалы» ему уже Фауст отвечает:
– Ты не можешь возвратить мне молодость.
Ну, разве нет смысла в радиоверчении? Тут мы уже по всему миру крутить начнем. Везде побываем, всего послушаем, а потом снова в «Скалу». Там Мефистофель дает исчерпывающее резюме:
– Идол тот – телец златой. Он царит во всей вселенной!
* * *
Советское правительство идет везде к поощрению всего разумного. Даже и в эфире. Оно освобождает радиолюбителей от необходимости крутить регуляторы и само производит соответствующую коллективизацию с «Голосом Америки». Получается очень интересно и даже поучительно. Соберемся мы бывшие Ировские, а теперь неизвестно чьи Ди-Пи русского происхождения, и слушаем. «Голос Америки» начинает:
– Слушайте сообщение «Голоса Америки».
Сейчас же на той же волне и Москва голос подаст:
– Прослушаем попурри из замечательной, подлинно русской оперы нашего национального гения…
«Голос Америки» понатужится и выкрикнет:
– Опыты с новым атомным оружием… Москва не сдает:
– Наглая кичливость интервентов ярко выражена Глинкой в мазурке. Слушайте…
Гремит мазурка из «Жизни за царя» и по ее окончании слышится снова «Голос (вернее писк) Америки»:
– Представители пяти русских политических партий… вынесли решение… гарантировать всем народам СССР… право на полное самоопределение…
Дальше не слышно. Диктор Москвы дает комментарии к опере «Иван Сусанин»:
– Глинка сумел гениально выразить в музыке великий единодушный патриотический подвиг русского народа, объединившегося в борьбе за свою жизнь, за свою свободу, свою самобытность! Слушайте апофеоз!
– Мы, американцы, помогли вам, русским, освободиться от тирании царей… – выкрикивает американский диктор.
– Черт бы вас за это подрал! – слышу я не по радио, но живой голос рядом с собой.
Но оба эти голоса заглушает ликующий перезвон колоколов.
– Славься, ты, славься, российский народ! – гремит из эфира.
– А, ведь, кажется, в настоящей-то опере, в «Жизни за царя» – «наш русский царь» пелось? У нас так ребята говорили… – спрашивает меня сосед, бывший лейтенант Красной Армии и комсомолец. – У нас все эту песню знали. Очень хорошая. Правильная…
– Но ты, Дрын, рассказываешь только о голосах, – спросит меня читатель, – а где же обещанный в заголовке хор?
– Маленькая часть этого хора, дорогие читатели, это мы, российские дипийцы, слушающие выклики «Голоса Америки». Во время этого слушания мы хором единогласно и в унисон посылаем к дьяволу «помогавших нам освободиться от тирании царей». А главная часть хора – «там», за «железным занавесом». Она тоже, пока беззвучно, но в унисон с нами поет… А вот… А вот, если вслух запоет… тогда… Но не будем гадать о будущем… Оно и без нас ясно для видящих…
[Дрын]
«Наша страна», № 122,
Буэнос-Айрес, 17 мая 1952 г.
Березки в стране лавров
Кто из русских художников не бывал в Италии, не изучал ее многовекового искусства, не черпал из ее источника?
Кажется, все побывали тут, начиная с первых русских светских художников – Орловского, Боровиковского, Кипренского. Некоторые из них, как например, Иванов, Антокольский проводили в Италии большую часть своей жизни и творили здесь свои лучшие произведения. Многим, очень многим русским художникам высокое мастерство итальянцев послужило школой технических приемов, помогло раскрытию их собственных творческих сил. Но часть их Италия же и погубила, подчинив мощному влиянию, обезличив их, вытравив из их творческой выразительности русское мироощущение, русскую душу. Таковы русские «итальянцы» Брюллов, Боголюбов, Бруни… Они были слабы, поддались и потеряли себя для национального русского искусства. Но другие, сильные, прошли сквозь итальянскую школу, сумев критически оценить ее, овладев ее техникой, но полностью сохранив в содержании свою русскую творческую силу. Таковы наша гордость – Репин, Серов, Суриков. Однако никто из русских художников не внес своего, русского в русло национальной итальянской живописи, никто не утвердил в ней свою русскость, свою национальную основу – русское религиозное чувство, выраженное в линиях и красках.
Никто, кроме четы художников Зуевых.
Кто же они?
* * *
На север от Милана, к лесистым предгорьям Альп, к голубым, прозрачным озерам проложена теперь широкая автострада, но раньше, в те века, когда по дорогам Италии не кружили еще пузатые автобусы, набитые заатлантическими туристами, когда на скалах ее гор не пестрели еще рекламы Кока-Кола, а ее девушки танцевали не буги-буги, а тарантеллу, тогда здесь тянулась горная тропа, выбитая босыми ногами пилигримов, вереницы которых шли поклониться гробу святого Амвросия, пламенного воина Христова, победителя еретиков-ариан, чтимого обеими Церквами Запада и Востока.
У подножья горы, на вершине которой он одержал окончательную победу над хулителями Богочеловека – маленький городок, носящий его имя. На главной улице этого городка обыкновенный для Италии дом-каза, а в ней… Русь, уголок ее.
Не осколок разбитого, мертвого, но отблеск живого света – не вечернего угасающего заката, но нежного утреннего луча – мерцает на полотнах картин Инны Дмитриевны и Бориса Васильевича Зуевых, русских художников, смогших не только остаться русскими, творя здесь, в среде мощной чужой культуры, но внести в эту среду свое русское, выразить его и заставить гордую своей живописью Италию понять и оценить себя.
В их прошлом тяжелый, тернистый беженский и вместе с тем радостный, светлый и чистый путь, такой же, каким шли сюда раньше босые пилигримы ко гробу воина Христова, шли одухотворенные подвигом веры, не видя, не чувствуя, не замечая ранивших им ноги острых камней и колючек. Этим путем – к очищению и слиянию со Светом, им же, потом, – отражение воспринятого Света зеркалом своих душ и победа его над сумеречной мутью тусклой обыденщины.
Переводя эту фразу на наш тривиальный повседневный язык, придется сказать так: русские художники Инна и Борис Зуевы добились признания себя, как больших художников современной Италии, получили и с блеском выполнили ряд заказов от итальянских меценатов, в том числе принцессы Боны Савойской, продали много картин почетным покупателям: церквям, музеям, главе правительства Де Гаспери и теперь заканчивают небывалый в Италии заказ – надпрестольную картину в одной из больших миланских церквей, небывалый потому, что это первое в истории католической Италии выполнение церковной (да еще надпрестольной) картины русскими православными художниками[87]. Добавим к этому две первых премии (по рисунку и по краскам), полученные ими на всеитальянской выставке религиозной живописи этого года и ряд премий в прошлом.
– Инна и Борис Зуевы – иконописцы? – спросит читатель.
– Нет, – ответим мы. – Икона – церковна, она зовет к поклонению и молитве, символизируя в искусстве эти духовные устремления человека, а творческий путь Зуевых иной. Он ведет к созданию бытовой, «комнатной» религиозной живописи, влекущей не к молитвенному отрешению от злобы давящего дня, но к внесению религиозного чувства в эту угнетающую человеческий дух, но неизбежную в земной жизни повседневность. Образы, запечатленные на их полотнах и картонах, просты. И по форме, и по содержанию они близки именно этому «человеческому дню».
Вот св. Николай, тайно приносящий приданое бедным невестам… На полотне убогие стены пустой комнаты (кто не видал таких?), спящие на голом полу девушки и простенький старичок, просовывающий в приоткрытую дверь узел, самый обыкновенный узел.
А вот два мальчика-подростка, оживленно говорящие меж собою. Но почему так пламенно горят их глаза? Почему так светлы и ясны их лица? Кто они?
Эти отроки – Христос и Иоанн Креститель, встретившиеся в детстве и духовно провидевшие, познавшие друг друга, как рассказывает древнее священное предание.
Как далеки эти живые и полные жизненности образы от пышных, многоцветных, но бездушных фресок и картин, заполняющих стены итальянских церквей и музеев! Так же далеки, как лавровые и пальмовые ее рощи от нежной тиши русского березового перелеска.
Вот такими русскими березками в роще пальм, лавров и олеандров мне представляются художники Зуевы на фоне мощной и по сей день итальянской живописи. Но олеандры не заглушают этих березок, не поглощают их своим пышным многоцветием. Нет. Березки сумели, смогли влиться, вступить в их фанфарную сонату, сохранив свою светлую радость пахучего, клейкого весеннего листка. Посетители всеитальянской выставки религиозной живописи безучастно проходили мимо сотен ее полотен, но подолгу стояли перед работами Инны Дмитриевны и Бориса Васильевича Зуевых.
Будучи там, я видел это и был горд тем, что я тоже – русский[88].
«Наша страна», № 209,
Буэнос-Айрес, 16 января 1954 г.
Рюриковой крови художник
Киевский летописец рассказывает нам, что великий князь Ярослав Мудрый, вызывая из Византии технически оснащенных мастеров для постройки и украшения храмов своего стольного города, требовал от них не рабского подражания величественным образцам града Константина, но соответствовавших русским эстетическим запросам архитектурных и живописных форм. Иноземные художники поняли его требование, подчинились ему и выработали основы русского стиля, выражавшего в искусстве русское мироощущение, преломив в его аспекте античные каноны как в архитектуре, так и в живописи, во фресках и мозаиках внутри храмов и соборов.
Те же задачи ставил перед чужестранными зодчими и князь Андрей Боголюбский, украшая Владимир, а позже – в окрепшей Москве – их совершенно точно выразил великий князь Иван III, русифицируя привлеченных им художников итальянского Возрождения. И они выполнили его приказ. Много ли элементов царившего тогда во всей западной Европе стиля находят теперь искусствоведы в архитектуре Кремля, его древних соборов и во всех шкалах русской иконописи: новгородской, суздальской, строгановской и других?
Так зародился и оформился стиль национального русского искусства – поиск, и обретение красоты в аспекте восприятия ее русской душой. На сохранившиеся еще до наших дней памятники именно этих периодов развития национальной русской культуры, главным образом на творения древних русских иконописцев указывает князь Сергей Александрович Щербатов[89], как на истоки русской живописи, в своей книге «Художник в ушедшей России», выпущенной издательством им. Чехова[90]. Он рассматривает эти жемчужины русского творчества не поверхностно, не вскользь, выхватывая отдельные вульгарные детали – «коньков» и «петушков», как это делали псевдорусские художники конца прошлого века, но ищет духа, эмоций, владевших древними русскими зодчими и изографами-иконописцами, а, уловив их, стремится претворить национальную традицию в формы современной ему религиозной и художественной мысли.
«Современной ему», – пишу я, подчиняясь взгляду самого автора книги «Художник в ушедшей России», только подчиняясь, но не будучи с ним согласным. Неизбывная национальная традиция русского искусства, которой служил и продолжает служить профессиональный художник и философ искусства князь Щербатов, не только жива и поныне, но всё яснее и яснее проступают сквозь наносы западничества ее основные линии, проступают под напором пробуждающегося национального самосознания российского народа. Не реставрируют ли и не золотят ли сейчас главы кремлевских соборов даже порабощенные, подневольные русские мастера? Не восстанавливают ли русские художники фрески этих соборов, извлекая на свет Божий замазанные варварами искусства творения Андрея Рублева? Не открыта ли и восстановлена ли «царская дорожка», ведущая от Грановитой палаты к Успенскому собору? И не открыт ли сам Кремль с его красотами для взоров пробудившихся русских людей? Все эти явления одного и того же порядка: куцый, скроенный на Западе Марксов пиджачишко треснул по всем швам на плечах очухавшегося от дурмана русского богатыря и под его лохмами уже видна русская посконная рубаха. Пусть пока лишь она. Придут и ферязь, и охабень. Факт же остается фактом: ослабевшая после смерти Сталина центральная власть, вынуждена идти на некоторые уступки пробуждающимся национальным устремлениям русского народа.
Одним из носителей и выразителей народной русской стихии в исторически недавнем еще прошлом, в предшествовавшие революции годы, был художник-меценат и общественный деятель в области искусства, князь С. Щербатов. Ведь и тогда, пожалуй, даже не менее упорно, чем теперь, приходилось бороться за утверждение национальной русской традиции в искусстве. Подражательные западные течения, в лице импрессионистов «Мира искусства» (А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста) и недоносков пиккасовщины – кубистов и футуристов (Ларионова, Гончаровой, Маяковского) – слева, и академические рамолики, слепые поклонники итальянщины – справа преграждали пути ее развития.
Художник князь Щербатов не принадлежал ни к одной из группировок того времени, ни к полинявшим «прогрессивным» передвижникам, ни к импрессионистам парижского толка – «мир-искусникам», ни – Боже избави! – к предтечам большевизма в искусстве, мазилам группы «Ослиного хвоста». Он был русским художником, стоявшим выше этих модных тогда объединений и жертвовавшим русскому искусству своим личным успехом, боровшимся за него всюду, и в среде самих художников, и в кругах материально питавших их меценатов, и в общественности того времени и даже в своей личной жизни. Он боролся за русское искусство одновременно в идейном и в материальном плане, отдавая на служение ему без счета свое крупное состояние, организуя на свои лишь личные средства специальные выставки в Петербурге, приведшие в восхищение покойного Государя и Великого Князя Владимира Александровича, скупая шедевры непризнанных еще тогда, но возвеличенных позже, художников (например, «Жемчужину» М. А. Врубеля, которого меценаты того времени «держали в рублях», т. е. на границе голода).
Этим он помогал развитию и раскрытию русских талантов, одновременно борясь с самодурами-меценатами, часть которых, например, Остроухов, возглавляли художественные отделы русских музеев живописи[91]. Он спасал от гибели древние иконы, которые, в силу потемнения их красок от времени или варварского «подновления» их профанами, подлежали изъятию из церквей и монастырских храмов. Венцом его огромной общественной работы в качестве паладина русской красоты была постройка дома-дворца на Новинском бульваре в Москве, предназначенного им для размещения в нем центра русского искусства, одновременно клуба, академии и студии для его работников и зал для экспозиции результатов их творчества. Этот замечательный по красоте, получивший первую премию за украшение города дом, хорошо известный всем старым москвичам, был закончен, но разразившаяся революция не позволила развернуть в нем запроектированную князем Щербатовым и горячо одобренную национально-мыслящими людьми того времени, вплоть до самого Государя, работу[92].
Выпуская книгу князя С. Щербатова, издательство имени Чехова, к сожалению, варварски сократило его рукопись, исключив из нее ряд очень ценных и очень значительных по своему идейному и фактическому содержанию глав. Но и в уцелевших, помещенных в ней, более чем достаточно материала для обрисовки исключительной, чисто русской личности ее автора.
Однако, книга «Художник в ушедшей России» – не автобиография. О себе самом князь С. Щербатов сообщает в ней очень мало. «Часто много бессознательной неправды заключается в автобиографии любого лица, – пишет он в предисловии, – не желая подпасть под этот невольный соблазн, я не пишу автобиографии». Но умалчивая о себе, автор сообщает много нового и ценного о выдающихся людях того времени, их духовной жизни, их творческой работе в области искусства. Его книга дает русскому читателю во много раз более, чем некоторые другие, написанные на ту же тему воспоминания его современников. В ней безбрежная русская душа в ее недавнем прошлом и, осмеливаюсь добавить от себя, в ее скрытом, тайном, подневольном настоящем.
Но, подчеркивая национализм художественного мышления и разнообразной творческой деятельности князя С. Щербатова, необходимо отметить полное отсутствие в его духовном складе так называемого «квасного патриотизма». Художник-рюрикович Щербатов глубоко эрудирован в искусстве Запада, которое он знает много шире и глубже большинства крикливых «западников». Он учился живописи в Мюнхене и Париже, видел и проанализировал художественные сокровища всей Европы. Но он знает, что меж отдельными и не сходными по своим психическим типам нациями всё же существовал и существует стихийно проявляющий себя культурный обмен, неизбежное взаимодействие друг на друга их творческих сил. Он – не оголтелый враг чужеродных веяний, замкнутый в самом себе, но воспринимает их сквозь призму своего русского самосознания и мироощущения, контролирует их в этом аспекте, отделяя перлы от мусора. В этом он – прямой продолжатель своих отдаленных предков-родичей – Ярослава и Ивана III – и явно выраженный «рюрикович в искусстве». Недаром в своих воспоминаниях о современных ему русских художниках он с особой теплотой и любовью повествует о Сурикове и Нестерове, отразивших на полотне: первый – величие русской истории, второй – дух подлинной русской веры, радостный, творческий и свободный, чуждый как римских, так и византийских ограничений – в целом две основных доминанты всей одиннадцативековой жизни российской нации.
М. В. Нестерову, художнику и выразителю религиозного чувства русского народа, было суждено сыграть исключительную роль в личной жизни самого кн. С. Щербатова, послужить орудием воли Господней к его спасению. Дело в том, как рассказывает кн. С. Щербатов в конце своей книги, что он запоздал с отъездом из Москвы после захвата власти большевиками. Не только запоздал, но и медлил, будучи не в силах оторваться от родной ему стихии. Однажды вечером к нему прибежал крайне взволнованный М. В. Нестеров и в резких выражениях категорически потребовал немедленного отъезда князя на юг. Не случись этого, он задержался бы и Москве и, несомненно, стал бы жертвой красного террора. Но порыв Нестерова побудил его к быстрому отъезду и спасению жизни.
Не символ ли это? Ведь наша земная жизнь полна часто непонятных нам, символически выраженных указаний.
«Наша страна», № 318,
Буэнос-Айрес, 23 февраля 1956 г.
Вера пастушонка Серёги
На перекрестках лесных дорог, проложенных Соловецкими чернецами, быть может, и до сих пор стоят высокие – сажени в три – Распятия. Тело Христа на них не нарисовано, как обычно на Руси, но вырезано из дерева. И облик Распятого необычный: опущенные веки Его не скрывают раскосости глаз, на изможденном смертной мукой лице резко выступают скулы, бородка редка, усы едва заметны и опущены вниз.
Художник-резчик (вероятно, не один, а группа, школа) искал внешнего облика Богочеловека, стремился соединить духовный Божеский с реальным, видимым и ощутимым им человеческим телом. Вокруг себя он видел поморов и карелов, в которых крепка еще финская кровь их лесных предков.
Должен ли был он искать для вмещения Духа иной человеческой, принесенной из чужих земель и чуждой ему самому формы, копировать изображения людей, которых он не видел вокруг себя, или он мог, имел право, взять этот облик от непосредственно видимого ему, ощутимого им человека?
Евангелисты, всецело поглощенные внутренней, духовной сущностью жившего среди них Спасителя, не оставили нам описаний Его внешнего, человеческого облика. Первые по времени катакомбные изображения Пастыря Доброго очень далеки от последовавших за ними. Но и те и другие, творившие их художники правы в своем стремлении слить вечное, бессмертное, Божеское с временным, смертным, человеческим, выразив это человеческое в близком, реальном, ощутимом ими облике. Правы были и Соловецкие художники-поморы, придавая финские человеческие черты Лику близкого, родного им, любимого ими Бога Слова.
Именно любовь к Христу, подлинная, живая, непосредственная вера в Его земную, реальную жизнь подсказала им этот облик.
Искушенный в премудростях книжник или высокий в своем мастерстве художник, взглянув на эти Распятия, пожалуй, скажет:
– Примитив религиозного сознания… Мужицкая, детская вера.
Пусть так, но ведь сказано: «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф 18:3).
* * *
Всего лишь на 96 страницах лирических стихотворений изданного «Возрождением» далеко не полного томика Есенина я насчитал 89 не только христианских, но русско-православных образов, сравнений и метафор. Бог-Иисус, Богородица, Спас, Радуница не сходят со страниц этого «безбожника», как думают, увы, многие о Сергее Есенине. А он писал о себе:
Между сосен и между елок, Меж березок кудрявых бус, Под венцом в кольце иголок Мне мерещится Бог-Исус…Не в порфире, не в золоте, не в многоцветии мрамора и сердолика, а в ельнике русского бора, в березовом душистом перелеске узрел Лик Христа златокудрый пастушонок Серёга. Увидел и принял в сердце свое таким, как видел, как только и мог видеть. А принявши, понес в нем по предначертанной ему, пастушонку, тернистой, путаной тропе.
Голубиный дух от Бога, Словно огненный язык Завладел моей дорогой, Заглушил мой слабый крик.Весь окружающий Есенина реальный мир одухотворен чисто русским, не книжным, не умственно-схоластическим, но живым и слитным со всею жизнью на земле ощущением бытия Господня, верой в Него. Он видит, как
На легкокрылых облаках Идет возлюбленная Мати С Пречистым Сыном на руках, он слышит, как У лесного аналоя Воробей псалтырь читает…Мужицкая, детская вера пастушонка Серёги. Полевая… От русских росных рубежных полей:
…схимник-ветер… целует на рябиновом кусту Язвы красные незримому Христу…Эту свою простую, полевую, луговую рязанскую веру во Христа и Пречистую Его Матерь юноша Есенин принес с собой в столицу. Может быть, в ладанке, пришитой к гайтану, может быть в котомке… И в сердце тоже. Там он попал в обработку, в учение к высоким книжникам и мастерам ’«Серебряного века». Обработали. Выучили. Котомка стала нестерпимым бременем, а на шее, где был крестный гайтан, захлестнулась смертная петля. Но вера, принесенная пастушонком в сердце, уцелела.
И за все за грехи мои тяжкие, За неверие в Благодать Положи меня в русской рубашке Под иконами умирать,просит он, уже полузадушенный, покинутую им мужичку-мать и внимает напевам «песни панихидной по его головушке», несущимися соловьиными трелями из утраченного березняка.
Я не думаю, чтобы за советские годы своей жизни Есенин хоть раз побывал в церкви, но я знаю, что он был единственным заступившимся в те годы за Христа в своем ответе Демьяну Бедному, и этот его ответ потряс легионы сердец подсоветской молодежи. Я знаю также, что в свой последний вечер замученный пастушонок пришел за своею смертной русской рубахой к старой русской веры начетчику Н. Клюеву.
– Страшно мне с тобой, Серёга, уходи… – сказал тогда Клюев.
Да. Страшно было заглянуть в эту истерзанную душу. Даже кондовый начетчик, «лесной поп», заклинавший бесов в своих Олонецких дебрях, и тот испугался. Страшно!
* * *
Многие из нас, «новых» литераторов уже рассказали здесь о вере во Христа и Пречистую Его Матерь, сохраненной и живой в сердцах, биение которых созвучно ритму сердца Сергея Есенина. В стихах это сказали Е. Коваленко, Д. Кленовский и подтвердил подполковник Красной армии С. Юрасов («Василий Тёркин после войны»), записав со слов инвалида войны строчки:
Не один же я в России Верен Богу остаюсь…В прозе об этой сохраненной в сердцах русских подсоветских людей вере сообщили Н. Нароков («Мнимые величины»), В. Алексеев («Невидимая Россия»), Л. Ржевский («Между двух звезд»)[93], автор этих строк («Овечья лужа» и «Неугасимая лампада»).
Верят ли нам, жившие «здесь», в Зарубежье, в страшные годы, пережитые нами «там», в подневольной Руси? Верят ли они в то, что жив Христос даже и в некрещеных русских душах? Верят ли они тому, что лишенные храмов и Слова Божьего слушают, как «у лесного аналоя воробей псалтырь читает»?
Нет. Фольговый последыш погубившего Есенина «серебряного века» Ю. Трубецкой[94] на страницах «Голоса Народа» опровергает правдивость «Невидимой России» В. Алексеева, а со страниц другого издания раздается резкий окрик:
– Ложь!
«Кролики и морлоки» не могут ни мыслить, ни верить в Христа…
* * *
В особой папке моего профессионального архива журналиста я храню отклики на мои очерки о Святителях Земли Русской и о тех, которые на моих глазах следовали их святительскому пути. Таких откликов много, и большинство их от «новых» эмигрантов.
Вот один из них просит помолиться у раки св. Николая Чудотворца о его больной жене. Прилагает почтовый купон на свечки. Больше у него нет. Другая корреспондентка присылает доллар на масло в лампаду пред образом Чудотворца. Такие просьбы я пересылаю отцу Андрею Копецкому, настоятелю русской церкви в городе Бари. Он молится у мощей Чудотворца и шлет в ответ просившим его об этой молитве освященные у гроба Угодника маленькие нательные образки. Такие маленькие, что на них почти невозможно рассмотреть лика Святого. В прежнее время такие образочки странники-богомольцы из монастырей приносили…
А вот и еще письма:
«Прочел Ваши статьи о святителях и пошел в церковь покаяться…»
И в другом таком же письме – тоже о покаянии. Оно от некрещеного… Эти письма я храню и в папке и в сердце. Буду их хранить до своего смертного часа.
Евангелист Лука в главе 9, ст. 49–50 записал слова апостолов, вернувшихся с проповеди Слова Христова:
«Мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами.
Иисус сказал им:
– Не запрещайте; ибо, кто не против вас, тот за вас».
Этот человек, имени которого не названо, безусловно, тоже был некрещеным.
Пусть неверящие нашим свидетельствам перечтут эту главу.
«Наша страна», № 172,
Буэнос-Айрес, 2 мая 1953 г.
Журнал «Соловецкие острова», с первыми очерками Б. Н. Ширяева, и его книги, опубликованные в эмиграции
Газеты и журналы русского зарубежья, упомянутые в статьях Б. Н. Ширяева
Произведения литераторов русского зарубежья, упомянутые в статьях Б. Н. Ширяева
Пагани. Семья автора. Какое счастье иметь собственное окно. Подпись автора
Пагани. Автор за работой над книгой. Еще тихо – 5 часов утра. Подпись автора
Семинария Russicum в Риме («Неугасимая лампада в Риме»)
Валерий Лысиков («Один из многих»)
Торжественная закладка русской церкви в Бари 22 мая 1913 г., фото из коллекции Н. Страдиотти («Никола Русский»)
Русское подворье в Бари в середине ХХ века, открытки из коллекции Н. Страдиотти («Никола Русский»)
Чета художников Зуевых, Милан, 1950-е гг. («Березки в стране лавров»)
Настоятель русской Никольской церкви в Бари протоиерей Андрей Копецкий в разные моменты жизни и служения. Фото из коллекции Н. Страдиотти («Из записной книжки»)
Русская делегация после освящения церкви подворья у базилики св. Николая в Бари; в центре – протоиерей Андрей Копецкий и епископ Сильвестр (Харунс), май 1955 г. («Дело Царя-Мученика закончено»)
Что читают Ди-Пи?
Письмо из Салерно
В лагере ИРО, Пагани, имеется единственная на все южноитальянские лагери, довольно приличная библиотека. Большинство книг – итальянские и английские, есть немецкие и французские, немного сербских, и силами самих Ди-Пи, при помощи «Русской Мысли», но без помощи ИРО, собран небольшой русский фонд. Получаются русские газеты.
В лагере Пагани объединены около 10-ти национальностей. Общий язык – итальянский, им владеют в той или иной мере почти все.
Зав. библиотекой А. Л. Грейц сделал интересное обследование интереса к книге среди различных национальностей. Сопоставляя число подписчиков библиотеки с общим количеством жителей лагеря по национальностям, он выяснил, что самыми активными читателями являются русские (90 проц.), за ними следуют чехи (75 проц.), далее мадьяры и на последнем месте – сербы.
Та же градация сохранилась и при анализе активности обмена. Русские в среднем прочитывают по 12–15 книг в месяц.
Что читают? Подбор книг носят случайный характер, но наибольший успех имеет «Анна Каренина», читаемая по-русски, по-итальянски и по-немецки. Русские жадно читают «Реку времен» Нагродской; Краснова, Алданова; меньше классиков. Из газет – «Русскую Мысль» – все. В дни ее получения у окошка библиотекаря очередь. С интересом прочитывают случайные номера «Нашей страны» И. Солоневича; меньше спрашивают «Посев»; совсем мало «Россию» Рыбакова. Большим вниманием пользуются «Часовой» и регенсбургский «Вестник», исторические статьи которого очень интересуют молодежь «новой» эмиграции.
Б. Ш.
Русских людей, желающих помочь этой русской библиотеке, созданной стараниями самих русских, без помощи ИРО, единственной в лагерях ИРО в Италии и обслуживающей Пагани и пять соседних пунктов, просим направлять пожертвования книгами по адресу:
A. L. Greiz
Pagani (Salerno)
Campo IRO. Biblioteca
Лицам, уже приславшим нам книги: Т. Л. Сухотиной-Толстой и жертвователям из Франции, Бельгии и Швеции, а также и «Русской Мысли» – великое русское спасибо.
Читатели
«Русская мысль», № 137,
Париж, 18 мая 1949 г.
Заметки книгоноши
Италия, где волею свободных демократий я застрял до конца моих дней, за всё время российской эмиграции не имела ни одного пункта торговли русской газетой и книгой, если не считать двух магазинов и нескольких киосков, распространяющих в Риме советские издания по исключительно дешевой цене. Между тем, в Италии – четыре русских общественных библиотеки, пять русских православных и несколько греческих церквей, где также говорят по-русски, четыре славянских факультета с русскими библиотеками, Восточный институт и семинария «Руссикум» Ватикана, базирующихся на русском языке. Есть и значительные частные библиотеки.
Мне выпало на долю стать пионером русской печати в этой стране великой древней культуры, большинство русских аборигенов которой, судя по их фамилиям, также принадлежат к древнейшим линиям русской аристократической культуры. Получив представительство от многих теперь русских зарубежных издательств в половине прошлого [1952] года, я начал работу, применив тоже «древний» метод книгоношества, единственный возможный при дипийском существовании в этой свободной стране. Этот способ тесно связал меня с читателем, особенно в лагерях, которых в Италии сохранилось еще 8, а в них около трех тысяч русских (две тысячи пятьсот в одном Триесте), и в Риме, где я часто бываю. Это в свою очередь дало мне возможность глубже ознакомиться с запросом современного читателя русского Зарубежья к своей печати.
В данной статье я – не литературный критик и не политический журналист. Своего личного отношения к тому или иному органу печати я в ней не высказываю, но лишь констатирую факты и делюсь сведениями, полученными мною от самых разнообразных читателей. Некоторые выводы, которые я делаю в конце статьи, также не носят субъективной или политической окраски. Это только замечания делового человека, работающего по распространению русской печати в Зарубежье. Итак…
Начнем с газет, выходящих в США. Они прибывают к нам через месяц, в силу чего ни «Новое Русское Слово», ни «Россия», ни другие издания не имеют в Италии сколь либо заметного распространения. Из журналов лучше всего идет «Знамя России» H. Н. Чухнова, а теперь к его уровню приближается «Жар-птица» Н. С. Чиркова – единственный в Зарубежье иллюстрированный журнал, разом завоевавший симпатии русских в Италии. «Новый Журнал» расходится в одном-двух экземплярах. Я получаю бесплатно пять номеров «Соц[иалистического] Вестника» и также бесплатно предлагаю его читателям, ибо считаю его экономические и международные обзоры лучшими в эмиграции, ознакомление с которыми полезно всем русским. Тем не менее, «Соц. Вестник» у меня лишь изредка берут только старые эмигранты, а новые отмахиваются от него, взглянув лишь на заголовок: «Знаем мы социализм! С нас хватит!».
Ближайшие к нам в Европе – «Русская мысль» (Париж) и «Голос народа» (Мюнхен). Они приходят в Италию на 3-й, 4-й день и служат нам своей информацией. До половины прошлого года «Русская мысль» царила в Италии безраздельно. Теперь она явно уступает первенство «Голосу народа». Читатели объясняют это характером материала обеих газет: «Голос народа» пишет главным образом о современной России на русские темы Зарубежья, а «Русская мысль» – о Париже и ушедшей России. Многих оттолкнули и шедшие в ней очерки о страданиях евреев при гитлеровском терроре: «А о страданиях русских при социалистическом терроре забыли, что ли?» – ворчат читатели.
Из выходящих в Европе журналов нашего читателя интересуют больше всего «Грани». Попадающие к нам их экземпляры читаются до дыр, переходя из рук в руки. Но они редки. Журнал дорог и выписка его трудна по валютным условиям. Представителем «Возрождения» я не состою, но зная в общем весь рынок Италии, не могу назвать в ней ни одного постоянного платного подписчика этого журнала. Редкие бесплатные номера этого журнала особого интереса в читательской среде не возбуждают. Появившийся в Италии лишь в половине прошлого года «Литературный современник» начинает завоевывать себе место. Стало заметным распространение «Воли» (журнал бывших политкаторжан, Мюнхен), чего нельзя сказать о «На рубеже», «Народной правде» и других мелких журналах. «Часовой» имеет свой постоянный круг читателей старой эмиграции и возбуждает большие симпатии и интерес к себе в среде новых. Увеличению его распространения мешает отсутствие его представительства в Италии.
То же самое тормозит и распространение «Посева». Интерес к этому еженедельнику очень велик. Мой личный номер читают 12–15 человек в очередь, но я также не знаю ни одного платного подписчика «Посева». По лагерям он рассылается в порядке парт. пропаганды. По уровню читательского интереса с «Посевом» конкурирует и даже превосходит его только «Наша Страна», которая также читается до дыр и в очередь. Ее распространению в Италии сильно мешала непомерно высокая стоимость газеты, но теперь, когда я ввел систему удешевленных абонементов разом на несколько изданий и включил в них «Нашу Страну» по пониженной стоимости, подписка на нее разом резко пошла вверх.
Перехожу к распространению книги. Оно затруднено прежде всего конкуренцией советской пропаганды, дающей русских классиков и современную подсоветскую беллетристику по невероятно дешевой цене. Картина вкратце такова: роскошно изданный иллюстрированный двухтомный «Тихий Дон» Шолохова (1500 стр. текста) стоит приблизительно столько же, сколько рядовая книга издательства им. Чехова (800 стр. текста). Это издательство начало работу в Италии всего лишь полгода назад. Распространение его продукции медленно, но верно повышается. Итальянский читатель постепенно «привыкает» к издательству, заинтересовывается им и усваивает к нему доверие. Но насколько можно судить по первым шагам, каталог изд-ва им. Чехова во многом не отвечает запросу итальяно-русского читателя.
Раскупаются в подавляющем большинстве книги новых авторов, имен которых в каталоге не более 25 %. На первом месте по спросу идет «Невидимая Россия» В. Алексеева, за ней «Мнимые величины» Н. Нарокова, далее «Враг народа» С. Юрасова, «На путях к свободе» A. В. Тырковой, Зощенко… Книг Бунина, Ремизова, Гуля, Осоргина, Шварца и Прокоповича не продано ни одного экземпляра, и покупатель (ведь я книгоноша) даже не берет их в руки для просмотра.
Книги изд-ва «Посев» выписывать в Италию очень трудно по уже указанным мною причинам, но интерес к ним велик. «Основы органического мировоззрения» Левицкого, «Письма к неизвестному другу» B. Александрова, Шубарт, Бернхэм и стихи Гумилева и Кленовского встречаются на руках у читателей довольно часто и обычно служат предметом выпрашивания «до завтра».
Из новых выпусков изд-ва «Возрождение» чаще всего встречается «Русская литература» И. Тхоржевского и (преимущественно у новых) однотомник Есенина.
Об издательстве «Нашей Страны» говорить еще рано. Книги его лишь начинают прибывать в Италию. Изданная им моя книга «Ди-Пи в Италии» уже разошлась в рекордном, намного превосходящем прочие издания, количестве, но этому причиной, конечно, местная специфика и было бы неверно судить по ней. Книги И. Л. Солоневича читаются нарасхват, но продаже мешает их высокая стоимость, равно как и продаже «Тайны императора Александра I» проф. Зызыкина. Месячный заработок в 30 тыс. лир – средний уровень для русского в Италии, и затратить при таком заработке 2500 лир на книгу он, конечно, не может.
Переходя к некоторым возможным общим выводам, я повторяю, что делаю их лишь с объективно-коммерческой точки зрения, отрешаясь от своих личных политических взглядов и собственного литературного вкуса.
Вывод первый: распространению русской печати в Италии мешает прежде всего ее дороговизна, а снизить стоимость изданий может только увеличение тиража. Получается заколдованный круг.
Вывод второй: аборигены из среды старой эмиграции денационализировались в очень сильной степени. Основную массу покупателей и подписчиков составляют всё же новые эмигранты, хотя денег у них очень мало.
Вывод третий: интерес как нового, так и старого читателя направлен главным образом к познанию современной подсоветской России, ее людей, их мышления и эмоций. Время «воспоминаний», традиционных для старой эмиграции, прошло. «Воспоминания» набили оскомину даже в среде наиболее консервативной части старой эмиграции.
Вывод четвертый: попытки реставрации предреволюционных «прогрессивных» и социалистических течений политической мысли не встречают сочувствия в среде новой эмиграции (основного покупателя и подписчика). Точно так же не находят в нем отклика и литературные тенденции канувшего в вечность «серебряного века», осколки которого еще доживают свои дни в эмиграции, но окончательно исчезли в подсоветской России. Время берет свое. Прошлого не вернуть. Эта формула в равной мере неоспорима и для политической и для художественной литературы.
Данные итало-русского газетно-книжного рынка не могут, конечно, служить твердыми показателями для всего русского Зарубежья, но письма моих многочисленных корреспондентов из самых разнообразных пунктов рассеяния, в основном подтверждают мои выводы.
«Наша страна», № 160,
Буэнос-Айрес, 7 февраля 1953 г.
Воля к правде
Все «низовцы»[95] горой стояли за Краснова. Старикам по душе был генерал – Георгиевский кавалер; многие служили с ним в Японскую войну. Офицеров прельщало прошлое Краснова: гвардеец, светский, блестяще образованный генерал, бывший при дворе и в свите его императорского величества. Либеральную интеллигенцию удовлетворяло то обстоятельство, что Краснов не только генерал, человек строя и военной муштровки, но писатель – значит всё же культурный человек… На сцену по парадному молодецки вышагал стройный, несмотря на годы, красавец-генерал в мундире с густым засевом крестов и медалей – зал покрылся рябью хлопков, ревом. Хлопки выросли в овацию. Буря восторга гуляла по рядам делегатов. В этом генерале, с растроганным и взволнованным лицом, стоящим в картинной позе, многие увидели тусклое отражение былой мощи империи.
Пантелей Прокофьевич прослезился и долго сморкался в красную, вынутую из фуражки утирку. «Вот это генерал! Сразу видать, что человек! Как сам император, ажник подходимый на вид». Краснов выступил с блестящей, мастерски построенной речью. Он прочувственно говорил о «России, поруганной большевиками», о ее былой мощи…
Так писал коммунист Михаил Шолохов о генерале П. Н. Краснове в известном теперь всему миру своем романе «Тихий Дон».
В 1944 г. мне пришлось компоновать сборник на тему: «Казаки в русской литературе». Я начал с Пушкина и кончил отрывками из произведений ген. П. Н. Краснова и Михаила Шолохова. Они оба были представлены в сборнике полнее, чем другие русские писатели, даже чем Л. Н. Толстой. Насколько я помню, на долю П. Н. Краснова пришлось восемь отрывков, на долю М. Шолохова – двенадцать и в том числе тот, из которого я привел выдержку. Официальным редактором этого сборника был Е. Тарусский, но он не дал мне своего заключения, а вместо него вручил пространную дельно и умно написанную рецензию на мою работу. В ней между прочим стояло:
«Составитель сделал большую ошибку: такому крупному писателю, как М. Шолохов он уделил только двенадцать отрывков, а стоящему много ниже него П. Н. Краснову дал слишком много – целых восемь…» Рецензия подписана не была.
– Кто писал эту рецензию, если это не секрет? – спросил я Тарусского.
– Пожалуй, что и секрет, но все-таки я скажу его вам при условии молчания. Ее писал генерал Петр Николаевич Краснов.
Теперь, я думаю, что могу говорить об этом, так как нет уже в живых ни генерала П. Н. Краснова, ни Е. Тарусского, ни даже… писателя М. Шолохова.
Но тогда, в Берлине, в силу данного обещания я не смог лично глубже поговорить с генералом П. Н. Красновым и, по правде сказать, считал эти написанные им строки за жест писательской скромности. Поговорить с ген. П. Н. Красновым о М. Шолохове мне удалось несколько позже, уже в северной Италии.
– Это исключительный, огромный по размерам своего таланта писатель, – говорил мне генерал П. Н. Краснов, – вы увидите, как он развернется еще в дальнейшем.
– Вы, может быть, переоцениваете его, – ответил я, – потому что и вас, Ваше Высокопревосходительство, и коммуниста Шолохова объединяет одна и та же глубокая, искренняя любовь к родному Дону.
– Не только это и даже это не главное. Я столь высоко ценю Михаила Шолохова, потому что он написал правду.
Мне казалось тогда, что генерал П. Н. Краснов ошибался и в этом. Ведь я знал, что после второго тома, действительно до глубин взволновавшего подсоветского русского читателя, к Шолохову был приставлен партийный дядька, и это, несомненно, должно было отразиться и на самом его творчестве. Я сказал об этом генералу и закончил шутливым вопросом:
– Значит, и то, что написано им о вас, Ваше Высокопревосходительство, тоже глубоко правдиво?
– Безусловно. Факты верны, – ответил генерал П. Н. Краснов, – а освещение этих фактов?… Должно быть, и оно вполне соответствует истине… Ведь у меня тогда не было перед собой зеркала! – закончил также шуткой писатель-генерал.
Я думаю, что то, действительно глубокое волнение, которое произвел «Тихий Дон» в среде русского читателя, то напряжение, с каким ожидали его финала, было обусловлено не только замечательным, сочным и красочным языком М. Шолохова, не только мастерски, глубоко талантливо зарисованной им трагической эпопеей донского казачества и всего русского народа в целом, но именно сказанной им правдой, той правдой, которую страстно жаждет и требует от писателя современный подсоветский русский интеллигент, той правдой, говорить, а тем более писать которую в оковах торжествующего социализма физически невозможно.
Дальнейшая судьба писателя М. Шолохова подтверждает это. Не окончив еще писать «Тихий Дон», он получил срочное задание от коммунистической партии, как говорят даже лично от самого Сталина, написать другой роман, оправдывающий принудительную коллективизацию и убеждающий читателя в том, что крестьянское (в данном случае казачье) население России страстно желает засунуть свою шею в колхозную петлю, т. е. написать и опубликовать сплошную заведомую ложь. Талант писателя позволил ему начать эту вещь и создать первую часть «Поднятой целины», показав в ней, как основу, сопротивление крестьян-казаков попыткам правительства загнать их в колхоз без особо жестоких репрессий, т. е. отразить в литературе предшествовавший сплошной коллективизации год и ее начало. Это было правдой для того времени. Шолохов написал ее… но писать правду в стране торжествующего социализма значит вскрыть подлинную сущность этого каторжного для всего населения великой страны «торжества», значит опровергнуть всю социалистическую доктрину, выразив этот протест против нее в художественных образах. Так и получилось.
Полюсы переместились помимо воли заказчика, но в силу, быть может подсознательной воли к правде истинного художника-писателя. Читая «Поднятую целину», невольно симпатизируешь ее «отрицательным» персонажам – чудом уцелевшему контрреволюционному офицеру Половцеву, крепкому, почвенному казаку Островному – и отталкиваешься от «положительных» героев – партийного робота Давыдова и станичных коммунистов Нагульнова, Майданникова.
Такая книга, конечно, не могла отвечать требованиям социалистического реализма. Критика отзывалась о ней двусмысленно. Ждали вторую часть, но той правды, которую хотел бы сказать в ней писатель Шолохов, он написать, конечно, не мог. Вторая часть «Поднятой целины» не вышла, а сам Шолохов замолчал, казалось, навек. Вот почему я и зачислил его в начале этой статьи в разряд писателей умерших, как П. Краснов и Е. Тарусский.
Шолохов еще писал во время Второй Мировой войны, но художника Шолохова в ней уже не было. А теперь, около года тому назад, в СССР был снова переиздан «Тихий Дон», но «издание исправленное». Предисловие к переизданному «Тихому Дону» разъясняет эту короткую надпись. К писателю Шолохову был приставлен уже не какой-то мягкотелый дядька из отставных подпольщиков (кажется, Смидович), а настоящий «твердокаменный» социалистический цензор К. Потапов, официально произведенный в чин редактора при писателе.
Времена свирепой цензуры царского времени, о которых до сих пор еще попискивают наши зарубежные «прогрессисты», миновали, и теперь цензурируются-редактируются не только печатные издания, но и сами рукописи, а по всей вероятности даже и черновики писателей. Вероятно, и они попадают в соответствующее учреждение для углубленной расшифровки. «Исправление» романа Шолохова было, конечно, встречено социал-коммунистической критикой: «уточнились, существенно изменились характеристики исторических лиц, исключены отдельные сцены, более четко формулированы пояснения, глубже вскрыта контрреволюционная сущность корниловщины…» и даже чарующий язык шолоховской эпопеи переработан в новом издании: из него вытравлены все те специфически шолоховские слова, от которых пахло ковыльной степью, суховейным простором казачьей души – вычеркнута, выжжена каленым железом социалистического реализма та самая правда, которая пленяла в романе коммуниста Шолохова тонко чувствовавшего правдивость искусства и красоту во всех ее формах генерала П. Н. Краснова. Вместе с ней умер на территории России, ныне именуемой СССР, и сам русский писатель. Только что закончившийся второй всесоюзный съезд писателей в Москве это показал с полной ясностью.
Но присутствовавший на этом съезде человек Михаил Шолохов был еще жив и он, этот человек-художник, не смог молчать. Этот съезд писателей современной «земли русской» был начат прочтением точной и строгой директивы партии, требовавшей от всех писателей социалистической лжи и не только какого-нибудь простого наглого вранья, каким переполнена вся литература социалистического реализма, но высоко квалифицированного с художественной точки зрения, талантливого, убедительного для российского читателя вранья. Писатели выслушали эту далеко не новую им директиву, конечно, без возражений. Ведь возражать директивам партии столь же бессмысленно, как и громкоговорителю радио, – поучает подсоветский анекдот. Потом началось обычное для подсоветских писателей дело – подлинный без кавычек социалистический реализм: поливали грязью друг друга, обвиняли во всех грехах тех, кто не смог достаточно искусно соврать, грызли рвачей-удачников, добивали ослабевших… Подлинный, истинный социалистический реализм, реализм всей этой доктрины в целом!
И вдруг в этом гнилом лягушачьем болоте прозвучал голос человека:
– Неужели все вопросы, которые волновали нас в течение двадцати лет, уже решены и нам остается только подбить итоги достижениям и наделанным за это время ошибкам, что бы… со спокойной душой взяться за перо, – спрашивал этот голос. Он говорил о «сером потоке посредственной литературы, которая хлещет со страниц журналов и наводняет книжный рынок» и требовал пресечь этот «мутный поток», кончить то, что называется в СССР социалистическим реализмом, а на нашем языке социалистической ложью.
Этот голос принадлежал уже не писателю, но еще пока живому человеку, русскому человеку Михаилу Шолохову. Что было дальше? Социалистические писатели «пребывали на съезде в безмолвии», по его же словам, но, несмотря на это безмолвие, небольшая речь М. Шолохова пятнадцать раз была прервана аплодисментами. Удары ладоней заменяли слова, те слова, которые рвались из душ русских писателей. Потом Шолохов был, конечно, обвинен в непартийности, отклонении от «принципиальных позиций» и прочих социалистических грехах. Это не ново, но стихийно взрывавшийся пятнадцать раз гром аплодисментов во время его речи – явление, безусловно, новое в «советской общественности», а тем более в среде писателей, группы сравнительно привилегированной и живущей в лучших, чем рядовые подсоветские люди, условиях, и это новое побуждает меня кончить статью цитатой из старого, мало симпатичного мне писателя, но иногда всё же говорившего правду – А. Герцена:
«Социализм разовьется во всех своих фазах до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди меньшинства крик отрицания и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма». Точнее даже реакции, следует добавить.
Не была ли краткая речь Шолохова этим «криком отрицания» социализма, поддержанным аплодисментами меньшинства? Правда, сказанная человеком Шолоховым, уже не литературная правда, пленявшая в его произведениях, но еще более высокая – человеческая правда.
«Наша страна», № 264,
Буэнос-Айрес, 10 февраля 1955 г.
Один из многих
– Не похожи но внешности на тех, что были… А хороши… Очень хороши! Русские, русские юнкера…
На лице старого генерала засветились одновременно тихая грусть о не возвратном ушедшем, и рожденная мудростью прожитой жизни радость, радость при виде будущего, идущего ему на смену. Этот генерал был Петр Николаевич Краснов, принимавший в северной Италии, в городе Толмеццо, парад юнкерской казачьей школы.
Две сотни юнкеров проходили перед ним церемониальным маршем в тесно сомкнутом строю, крепко соприкасаясь плечами, локоть к локтю, держа винтовки на изготовку.
– Крепкие, крепкие казаки подрастают…
Генерал П. Н. Краснов был неправ, называя колонну этих юнкеров казаками. Природных казаков в ней было меньше половины, а остальные – российские добровольцы, теми или иными путями вырвавшиеся из-под пяты давившего их социализма. Но не ошибся он в том, что увидел и подтвердил их крепость, крепость молодых тел и юного, устремленного к борьбе духа. Через два месяца после парада те же самые юнкера той же школы, плечом к плечу, локтем к локтю, но без оружия стали железной стеной, защищая своею грудью молившихся священников, женщин и детей в долине Дравы, близ города Лиенца, в страшный не только для русских людей день, но трагический для всех тех, в ком еще живет и горит хоть малая искра совести[96].
Английский израильский батальон разбился об эту стену, и, чтобы прорвать ее, пришлось бросать гранаты[97]. Мало осталось в живых от этой русской молодежи, виновной лишь в том, что она хотела жизни для самих себя и своей родины.
Мало осталось из тех, что были в тот день в долине Дравы, но немало их, таких же юных и сильных, так же стремящихся к борьбе, живет и крепнет на порабощенной родине.
Иностранные и русские зарубежные газеты сообщили на днях, как об очередной сенсации, о бегстве из-за Железного Занавеса семнадцатилетнего Валерия Лысикова, сына полковника советской оккупационной армии, ученика советской школы в Карлхорсте. Он выступал уже но радио, давал интервью журналистам, которых поразило, главным образом, бегство не достигшего еще совершеннолетия юноши и его явное отталкивание от коммунизма[98].
Но зерно этого факта, как мне кажется, большинство из них просмотрело. Дело не в том, что почти еще мальчик осмелился пойти на риск опасного для него побега. В этом удивительного нет. Романтика и юность неразрывны, главное же в Валерии Лысикове – его упорство в стремлении вырваться из-под советской пяты, сила, обосновавшая это стремление, которую действительно трудно было бы предположить в характер семнадцатилетнего юноши. Ведь побег ему удался только при повторной попытке. Кроме того, при свидании с родителями после побега двухчасовые уговоры их на него не подействовали, хотя, как свидетельствуют журналисты и сам Валерий и его мать плакали при этой встрече. Важно и то, что никаких внешних побудителей к побегу в данном случае не было: Валерий Лысиков не имел никаких прегрешений против советской власти, за которые ему угрожала бы кара; у него были прекрасные отношения с отцом и матерью, дружеская среда в школе, обеспечения, сытая жизнь в оккупированной Германии, словом, перед ним широко открывались двери в «радостную советскую жизнь». И всё же он ушел. Ушел только потому, что, как сам он сказал: «Я хочу жить!».
Читая сообщение об этой его фразе, я вспомнил многих студентов тех советских вузов, в которых я преподавал лишь двенадцать лет тому назад, доверявших мне, от которых я также не раз слышал ту же фразу, чем тоже не раз сообщал русскому зарубежью в моих статьях и книгах.
Валерий Лысиков подтвердил мое глубокое убеждение в том, что современная русская подсоветская молодежь решительно и безоговорочно отталкивается от социалистической доктрины в любой ее форме. Отталкивается от нее именно потому, что по праву молодости всеми фибрами своей души, всеми каплями своей крови хочет жить, а не прозябать в тусклой сумеречной духоте социалистической казармы, в которую загоняют эту молодежь все виды и формы марксизма.
Было бы смешно требовать от Валерия Лысикова и десятков миллионов его сверстников каких-либо не только твердых, но даже в какой-то мере оформленных политических убеждений и устремлений. Ведь он воспитан так, что не имеет решительно никакого представления о каких-либо иных социально-государственных формах, кроме социалистических. Сам себя он назвал анархистом, но тут же сознался, что ни он, ни его товарищи по школе не знают, что такое анархизм. Очевидно, они избрали себе эту кличку, вкладывая в нее лишь значение протеста против коммунизма.
Тем не менее, сообщения Валерия Лысикова чрезвычайно интересны и при всей скудности его сжатых фраз они рассказывают о многом. На вопрос о том, как отнесутся к побегу его товарищи по школе, Лысиков бесхитростно ответил, что большинство ему позавидует и лишь немногие будут порицать, да и то высказываясь в официальном порядке, т. е. принудительно, а в душе и они не сочтут его врагом народа и родины. Столь же бесхитростна и его характеристика отношения к коммунистам современной русской подсоветской молодежи. Коммунисты в их глазах консерваторы, представители отжившего поколения и последователи отжившей идеи.
– Они являются выразителями старого, отжившего… Не понимаю молодежи, не хотят уступить ей дорогу, не дают ей жить. Нового они не видят… цепляются за старое. Их обещаниям никто уже не верит.
Сказано просто, быть может, даже грубовато, но основная мысль вполне ясна: новое поколение освободилось от гипноза социалистических идей, под которым пребывали их деды. Социалистические идеалы, пленяющие еще многих в западном мире, окончательно утратили свое очарование для русской молодежи. Она хочет нового. Каково будет это новое, она сама не знает и не может знать. Всё, что угодно, но только не социализм!
Процесс, происходящий в настоящее время в сознании многомиллионных масс российской молодежи, мне рисуется, как нарастание целинных пластов над окончательно сгнившими идеологиями предреволюционной эпохи. Каковы эти пласты по своему содержанию, мы, конечно, сказать еще не можем, потому что они и сами не выкристаллизовались, не определились. Мы не можем предугадать того, что произрастет на этой целине, но наша, народных монархистов, обязанность заготовить семена наших идей, чтобы высеять их на этой почве, на этой невзметанной нови не только грядущих, но уже вступивших в жизнь поколений российского народа.
Эти поколения хотят быть полноценными личностями, хотят предоставления им возможности к раскрытию себя полностью, без каких-либо социалистических или псевдодемократических ограничений. Такие возможности может им обеспечить только наша доктрина, доктрина совместного творческого труда, единства в нем власти монарха и мнения народа. Формы этого гармоничного сочетания двух исторических стихий мы должны отыскать и оформить здесь.
«Наша страна», № 274,
Буэнос-Айрес, 21 апреля 1955 г.
Беппо голосует
Я не принадлежу к числу русских журналистов, пишущих об Италии на основе каталогов музеев с добавлением: «А знаменитая Пизанская башня, как прежде, стоит на своем месте». Нет. Моя Италия живет в сутолоке ее крикливых базаров, в остериях, где собираются погонщики мулов и где я тоже свой человек, в апельcиновых садах голоштанных неаполитанских контадинов, с которыми волею судеб я якшаюсь вот уже седьмой год…
И хороша же, чёрт возьми, эта Италия! Вся она искрится свежими яркими (а не музейными) красками, орет, хохочет, полна солнца и живой горячей крови. В ней сам молодеешь. Вот и теперь. Я сижу в завитой виноградом таверне, очень грязной, но столь же шумной и веселой. Наши дипийцы называют ее «У стриженой собаки», в честь моего друга – черного пуделя Мостро, которого хозяин аккуратно стрижет каждый месяц, хотя сам стрижется раз в два года…
Входит другой мой друг – рыбак Беппо. Но сегодня он без своей кароццы[99]…
– Псстт!.. Беппо! Разбежались, что ли твои, рыбы?
– Я отпустил их сегодня голосовать за звезду и корону! Ты знаешь, что сегодня…
Беппо хочет быть сегодня серьезным. Лишившись ради выполнения гражданского долга своей дневной выручки, нужно достойно отметить этот подвиг. Он вынимает из кармана листовку и назидательно читает:
– «Господь Всемогущий! Я раскаиваюсь всем сердцем, что в 1948 году голосовал за демохристиан[100]. Теперь я твердо знаю, что они хотят сделать Италию добычей иностранцев. Прости меня, Вседержитель! Теперь я голосую за звезду и корону с пламенем и святым образом». Видишь? – тычет он своим просоленным пальцем в картинку на листовке, изображающую все четыре эмблемы, – поэтому я и дал сегодня отпуск, всем моим рыбам…
– Эй, вы, лодыри! Вы готовы сидеть здесь до вечера, предоставив голосовать за себя святому Альфонсо[101], нашему благочестивому патрону! Фори! Виа, рагацци![102] Вон, ребятки!
В воротах беседки стоит синьор Сальваторе[103], кондитер, он же президент монархической организации в Пагани и мой старый друг. Заполнявшие всю остерию огородники, фруктовщики и маслоделы, с заросших оливами горных склонов, медленно движутся к выходу. В кои то веки удалось собраться и перекинуться словом с соседом, и то не дают. Я ищу глазами хоть одни штаны без заплаты, ищу и не нахожу.
– Ну, что нового о гранде дуче Владимиро[104]? – вежливо осведомляется здороваясь со мной синьор Сальваторе, – только что видел вашего сына. Он спорит с целым десятком коммунистических парней около велосипедной мастерской.
– О чем же они дискутируют?
– Те уверяют, что при коммунизме будут работать не более двух часов в день, а он рассказывает им о ваших стаканоччи, стаканави[105]… как труден ваш язык…
Мы выходим вместе и шествуем мимо густо заклеенных плакатами стен. То и дело мелькает знакомая усатая физиономия и в героическом, и в карикатурном виде. «Баффоне»-усач[106] стал символом для обоих полюсов, – героем и пугалом. Мое внимание привлекает изображение кота в короне, при появлении которого мыши, грызшие сыр, разбегаются в панике. На сыре надпись – Италия, на мышах – Тольятти, Ненни, Сарагат, Де Гаспери[107].
– Вы не находите, синьор президенте, что изображение монархии, короля, в виде кота несколько непочтительно? – спрашиваю я синьора Сальваторе.
– Почему? – искренне удивляется он, – кот – очень уважаемое животное в каждой семье, особенно в крестьянской. Без кота мыши съедали бы все их запасы. А, смотрите, какое пузо у Де Гаспери! Ха-ха-ха! Браво, художник! Молодец! Наши крестьяне по горло сыты христианской демократией! Почем вы платите за вино?
– Сто двадцать лир за литр, – удивленно отвечаю я.
– Вот! А крестьянин продает оптовику это же вино за тридцать лир… Так же дешево и оливки, а фрукты – совсем за бесценок. Их некуда девать… Пора, пора коту разогнать мышей Италии!
– Ну, а за что вы американцев ругаете? Они вам сыплют сотни миллионов.
– Нам? До крестьянина не доходит ни одного сольди! Все эти миллионы текут в большие карманы.
– Вы рассчитываете выиграть на выборах в Пагани?
– Безусловно! Посмотрите на голосующих. Это все крестьяне, они все монархичны, а вот в Ночеро[108], – синьор Сальваторе щекочет себе под подбородком – по-пагански это означает «нет», – в Ночеро живут наши скупщики. Зато в Неаполе мы тоже выиграем: портовая беднота.
Предсказания синьора Сальваторе сбылись полностью. В крестьянском Пагани монархисты победили блистательно. В Неаполе – прошли хорошо, уступив первое место нео-фашистам. Зато в соседнем с нами торговом городке Ночеро – провалились с треском вместе с демократами – победили коммунисты.
С вечера до глубокой ночи весь Пагани сотрясался от залпов петард. Монархисты праздновали свою победу. Впрочем, петарды жгли и коммунисты, равно как в Ночеро – проигравшие монархисты.
Не лишать же себя такого удовольствия из-за нехватки голосов?
«Наша страна», № 128,
Буэнос-Айрес, 28 июня 1952 г.
Демократия мне не по карману
Итак, я стал жителем Капуа, той самой Капуа, где передохли с тоски все слоны Ганнибала и которую позже, во времена Возрождения и гуманизма чуть не каждый год громили то дука Салернский, то еще более гуманный дука Аверза, то сам Цезарь Борджиа. Но что это были за погромы… Вот когда в просвещенном демократическом XX веке здесь громыхнули заокеанские гуманисты во имя свободы и прав человека, тут ей, действительно, досталось. Так досталось, что и до сих пор отыскать в ней подходящую квартиру, даже для холостого не очень то легко. Именно этот акт высокого гуманизма просвещенных заатлантических освободителей и принудил меня снять себе комнату в историческом замке, некогда принадлежавшем маркизам Карраччоло[109], от строительства которых еще сохранились два нижних этажа. Немудрено! Накрепко строили Карраччоло: стены толще метра, арки такие, что целый небоскреб на себе выдержат, а точеные из цельного камня колонны не сшибет и двухтонная бомба. Романтики в моей квартире хоть отбавляй! Прямо как декорации к «Эрнани» или «Валленштейну»[110]. Быть может, водятся привидения… Но за это не ручаюсь, а вот крыс – столько же, сколько и романтики! По ночам они дерутся не хуже гуманистов XV и XX веков, а во время драки орут, визжат и топочут, как будто депутаты трех самых демократических парламентов сошлись на пленарное заседание.
Об этом замке Карраччоло сохранились легенды. Капуанцы, очевидно, очень склонны к такому виду творчества. При моем поселении они тоже тотчас же создали легенду и по городу Капуа пошел слух, что я – американский инженер, приехавший для восстановления разрушенного американцами же городского собора XI века, на развалины которого выходит окно моей комнаты. Реставрировать, конечно, – за счет тех же американцев, в которых романтические капуанцы наивно предполагают наличие каких-то остатков какой-то совести.
Именно эта легенда стала причиной моего знакомства с синьором Бартоломео Монтанья. Утром, когда я вышел на площадь, этот глубоко уважаемый мною капуанец поставил на истертые веками плиты улицы свой совок, прислонил к водосточной трубе метлу и элегантно раскланялся со мною.
– Синьор инженер, как вам понравился наш город?
– Очень, – ответил я. – Замечательный город во всех отношениях. Но только вы ошиблись: я не инженер, а журналист.
– Значит, опять наврали! – воскликнул, прижав к носу две сжатые в щепоть пятерни, синьор Бартоломео. – Я опять оказался прав. Журналисты не реставрируют соборов, следовательно, и реставрации не будет. Но вы всё же американец?
– Снова нет. Я русский.
– Русский? – с невероятным удивлением переспросил синьор Бартоломео и почему-то, забрав свой совок, сунул метлу под мышку, как рыцарское копье. – Русский? Большевик?
– Снова ошибка, – засмеялся я, – русский, но не большевик. Далеко не все русские – большевики, уважаемый синьор. В процентном отношении к населению, коммунистов в России меньше, чем, например, у вас в Италии.
– Вы будете жить здесь? – снова поставил свой совок на плиты мой новый знакомый. – В таком случае, если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь прямо ко мне, к Бартоломео Монтанья, спаццино, – отрекомендовался он, назвав свою профессию спаццино (подметайло) с гордостью, достойной Короля Солнца. – Да, синьор журналист, я уже 35 лет, как подметаю эту площадь и эти улицы. Я знаю буквально каждый камень и всех людей в Капуа. Я знаю все, часто даже то, чего не знают о себе они сами. Вот, например, синьора Труффальдини, владелица дома, в котором вы живете, убеждена, что она будет получать с него доход в предстоящем году, а я знаю, что готовится новый налог, и этот налог съест не только плату с ее жильцов, но и самой синьоре Труффальдини придется кое-что добавить, чтобы сохранить дом. Да, я это знаю, потому что слышал разговор синдика с главою налогового управления. Я знаю всё и всегда к вашим услугам, синьор русский… Но кто же вы по вашим политическим взглядам, синьор?
– Монархисто популяре, – перевожу я кое-как на итальянский слова «народный монархист».
– Народный? – поднимает брови синьор Бартоломео. – Я никогда не слыхал этого добавления, но оно правильно. Все монархисты народны и других не может быть в наши дни. Я также монархист, синьор. Но я не всегда им был. Знаете, при монархии я даже протестовал против нее, клянусь вам в этом нашим святым патроном! Что ж поделаешь, никогда не можешь распознать того, что видишь каждый день. А вот потом, издали, вот тогда всё становится ясным. Я стал монархистом с первых же лет установления демократической республики в Италии, и знаете, почему? – прищелкнул языком синьор Бартоломео.
– Почему? – поинтересовался я.
– Потому, что у меня одиннадцать человек детей! Да, синьор, целых одиннадцать. Так много, что я иногда их даже сам путаю. Но это не беда, если я назову Пьетро Джованни, а Джованни – Пьетро, а беда в том, что все они – и Пьетро, и Джованни и Марчелло, и Марио – все без различия своих имен и возрастов хотят есть! Да, синьор, хотят есть! – сунул он обе пятерни на этот раз к моему носу. – И кормить их должен я, а никто иной. Вы думаете это легко при демократии?
– Вас давят налоги? Я понимаю это. Но разве при монархии вы их не платили?
– Синьор журналист, – глядя на меня с сожалением тянет мой новый незнакомец, – и вы говорите это? Можно ли сравнить налоги того времени с теперешними? И это вполне понятно, иначе не может быть. Тогда нам, всей Италии, всем сорока пяти миллионам, приходилось содержать только одно семейство, только одно, синьор! Пусть даже в потрясающей роскоши, пусть даже с неэкономными затратами, но только одно. Много ли это для сорока пяти миллионов? А теперь, не говоря уже о самом правительстве и чиновниках, нам приходится содержать еще двадцать девять партий! Да, синьор, двадцать девять! Это даже больше, чем у меня детей. И каждая из них тоже хочет есть! И она ест гораздо больше, чем мой Марио или Марчелло. Вы знаете, во что обошлись нам, нашему городу Капуа последние муниципальные выборы? В 190 миллионов лир. Это только по нашему городу. Но ведь выборы бывают каждый год, а то и по два раза: то в парламент, то в муниципио, то еще куда-нибудь. Прекрасно, это еще можно было бы вытянуть, но ведь выбранные тоже хотят есть, и оказанное им доверие, очевидно, развивает их аппетиты. Я думаю так, потому, что знаю всё, что делается в городе, синьор. Да, знаю всё! Знаю аппетит каждого из наших управителей и знаю также, как он удовлетворяет этот аппетит. Вот почему я и говорю: демократия мне не по карману. Я слишком беден для того, чтобы позволить себе эту роскошь. Я сам, наконец, тоже имею свой аппетит и тоже должен удовлетворить его. Так думаем мы, монархисты Италии. А вы, синьор, вы, русские монархисты? Не правда ли, вы думаете так же?
– Не совсем так, – пытаюсь я смягчить свой ответ. – Видите ли, синьор Бартоломео, каждая нация имеет свои особенности. Ведь вы знаете, у русских есть il Tolstoy, il Dostoevsky, icone, a главное – spirito russo – русский дух… Всё это несколько меняет наш взгляд на необходимость и неизбежность монархии для нашего народа. Но ваши соображения, синьор Бартоломео, вполне мне понятны и на мой взгляд заслуживают глубокого уважения. Вы правы: разумная экономия необходима как в семье, так и в государстве. А содержать даже с предельной роскошью одну семью во много раз дешевле, чем десятки и сотни тысяч ртов, жадно рвущих друг у друга каждый жирный кусок.
– О, если бы, – сокрушенно отвечает мне синьор Бартоломео, – я тогда еще примирился бы с демократией. Можно обойтись и одним олио[111], но нельзя жить без макарон, синьор! Нельзя жить без макарон! А кило их стоит теперь, при демократии, 140 лир!
– Сколько же они стоили при монархии?
– Полторы лиры, синьор! И даже одну лиру 20 чентезимов. Нет, говорю я вам, демократия мне не по карману. Я – человек бедный. Пусть ею развлекаются богатые американцы!
«Наша страна», № 226,
Буэнос-Айрес, 15 мая 1954 г.
Развеянные легенды
– Ну, Джованни, бери свой солидаристический трезуб, «маганья»[112], и давай рыхлить землю под горошек, – говорю я.
– Но почему вы называете эту «маганья» – «солидаристико»? – осматривает Джованни привычный его рукам, изобретенный, вероятно, еще этрусками тяжелый трезуб, на самом деле очень напоминающий эмблему солидаристов. – Самый обыкновенный трезуб и больше ничего!
– Это большая политика, Джованни.
– А если политика, так вот где ей место, – указывает Джованни на самую большую заплату, украшающую самое ответственное место его тоже очень древних штанов.
– Почему ты так суров к политике, мой друг?
– Потому что, чем больше политики, тем меньше хлеба. А когда ее совсем не было, так кило хлеба стоило одну лиру и нам, абруцезцам[113], не приходилось бросать свои дома на целые полгода.
– А когда же это было?
– Когда был король. Тогда мы мирно сидели в своих горах, а те, кто не хотел там сидеть, могли уезжать в Африку и делаться там богатыми людьми.
Родина Джованни – Абруццы, горная цепь, пересекающая Италию севернее Неаполя. В прошлом там была родина и арена действий знаменитых итальянских «брави» и даже самого полулегендарного, но на самом деле существовавшего Фра Дьяволо. Теперь Абруццы – резервуар безработных, снабжающий дешевой рабочей силой Болонью, долину По и наш Лазурный берег – богатую северную Италию. В начале марта толпы абруцезских горцев устремляются сюда и берутся по самой низкой цене за самые тяжелые, самые невыгодные работы, на которые местные жители не идут. По правде сказать, ничего другого они и делать не умеют. Тот же мой друг Джованни, способный долбить вот этим тяжелым трезубом скипевшуюся итальянскую землю чуть ли не по 18 часов в день, решительно не знает, что делать даже с такими примитивными инструментами, как стамеска или рубанок. В Абруццах они почти не известны. Неграмотных там и теперь около 70 процентов, и для сравнения культурного уровня абруцезского крестьянина с русским, пришлось бы поискать в России какой-нибудь очень глухой, поистине медвежий угол.
Но термин «культура» придется применить здесь с некоторой оговоркой, вкладывая в него лишь представление о внешней, технической культуре – современной цивилизации. Зато внутренняя культура абруцезцев – твердые устои их быта и своеобразной горской этики во много раз выше, чем в других, наиболее цивилизованных местностях Италии. Абруцезцы и жители всей области к югу от них глубоко религиозны, семейственны, честны и, кроме того, монархичны. Именно здесь развивается сейчас возглавленная крупным общественным деятелем Лауро[114] народно-монархическое движение Италии, сходное с нашим не только по имени, но и по своим основным целям.
С Джованни мы познакомились в прошлом году, когда мне приходилось брать его поденно для самых тяжелых работ, которые мы с сыном не могли выполнить[115]. Он невысок, неширок в плечах и, казалось бы, трудно предположить в нем физическую силу, а вместе с тем он легко втащил по крутой тропинке, на высоту в двести метров железную печку в 90 килограммов весом. Долбить же слежавшуюся землю с утра до вечера тяжелым трезубом для него совсем пустяки.
Я глубоко обязан Джованни, обязан тем, что он помог мне развеять много легенд об Италии и итальянцах, лживых легенд, созданных о ней нашими поэтами, художниками и баричами, рисовавшими эту страну, «где апельсины зреют», в виде какого-то земного рая, где эти экзотические фрукты зреют не только без труда для взращивающих их, но сами сыплются им в рот и вполне их насыщают.
Сколько раз нам приходилось читать об исключительной «нетребовательности» итальянцев, якобы вполне удовлетворяющихся обедом из салата и кусочка хлеба. Внешне это похоже на правду. Тот же Джованни действительно выходит с восходом солнца на работу, не съедая и не выпивая ничего. В девять часов – меренда, т. е. завтрак, состоящий из небольшого ломтя хлеба с парой листиков салата или, в лучшем случае, с помидором. В двенадцать – пранцо, обед, состоящий из трех-четырех таких же ломтей и такой же приправой. И, наконец, только по окончании работ Джованни варит себе традиционные макароны с олио и томатом, иногда с сыром, но с мясом – только по воскресеньям, да и то не каждую неделю.
Так он ест. Но удовлетворяется ли он этим – иной вопрос. Моя жена, верная русским традициям, не могла переносить того, чтобы у нас работал голодный батрак, и стала без договора варить для Джованни традиционную пасту с томатом и сыром на обед, а на ужин – ризотто, суп с рисом. Сначала варила по большой тарелке. Джованни съедал с аппетитом и буквально вылизывал досуха. Она стала варить по миске. Оказалось, что и теперь аппетита у него хватает.
– Знаешь, что, – сказал я ей, – измерим на самом деле предел потребности в еде Джованни. Свари ему самую большую кастрюлю, ту, в которую входит четыре литра.
Она сварила. Джованни усидел и ее за один присест и также тщательно вытер досуха хлебной коркой.
Очевидно, потребность в еде солнечных итальянцев значительно превышает уровень, установленный для них русскими поэтами.
– Ты тратишь мало на еду, Джованни, куда ж ты деваешь деньги? – спрашиваю я.
– А моя семья, профессоре? Ведь дома осталось шесть душ, из которой старшей семьдесят лет, а младшей два года, но все они хотят есть, а заработать на еду решительно негде: засуха в этом году сожгла у нас весь виноград и всю зиму мы будем жить только на то, что я привезу домой осенью.
Легенда о «беспечности» итальянцев также рассеялась под ветром реальности, а вслед за нею и рассказы об их традиционной «лени».
Моему соседу справа, богатому крестьянину Марчелло, – 76 лет. Сыновей у него нет, а все дочери давно уже замужем и сам теперь прадед. У него пять или шесть участков на склоне прилегающих к Санремо[116] гор, и он со своей женой Грациэллой, которой тоже за семьдесят, с утра до вечера, т. е. с четырех утра и до полной темноты, прыгает, как козлик, по этим участкам, то перекапывая виноград, то обрабатывая плантации роз, хризантем и гвоздик.
…Давно, давно, когда в декабре в заснеженной Москве я вдевал себе в петлицу купленную у Ноева «санремезскую» гвоздику или розу… представлял ли я тогда хоть в какой нибудь мере то огромное количество труда, которое вложил в этот цветок итальянский крестьянин? Нет. Веря русским поэтам, я думал тогда, что под небом благословенной Италии эти дивные цветы растут сами по себе и местным живописным контадино, изображенным нашими художниками, остается лишь срывать их и продавать знатным иностранцам.
Другой мой сосед, Пьетрино, молод и упорно стремится выйти в люди. Я видел его работающим на своем огороде даже после захода солнца, при бледном свете уличного фонаря.
Но политика вторгается и сюда, даже в атмосферу этого тяжелого повседневного труда. В этом году, вследствие какой-то политико-экономической недоговоренности между Францией и Италией, Париж – главный потребитель знаменитых санремезских хризантем – отказался покупать их и не выслал к сбору цветов своих торговых агентов… Главная площадь в Санремо представляла собой живописную и вместе с тем глубоко трагическую картину. Она вся была завалена дивными гигантскими хризантемами всех форм и цветов. Живописно. Даже помпезно! Но вместе с тем множество пригородных крестьян, вложивших в выращивание этих цветов труд целого лета и вынужденных выбросить их, как навоз, обречены на разорение.
Ведь, пожалуй, и прав абруцезский неграмотный горец Джованни, отводя политике столь мало почетное место на своих дырявых штанах. По крайней мере политике современных ее демократических заправил.
«Наша страна», № 306,
Буэнос-Айрес, 1 декабря 1955 г.
Мороз и политика
– В Триесте четырнадцать градусов ниже ноля, в Венеции – десять… – звучит голос диктора, – во Флоренции, восемь ниже ноля, в Неаполе – семь, в Сицилии шесть…
В дни первой половины февраля, когда на Италию накатилась волна небывалых холодов, метеорологическая сводка передается по радио шесть раз в день и миллионы крестьян сбегаются слушать ее в соседние таверны и кафе, а те, у кого и дома есть свой радиоприемник, с тревогой окружают его в необыкновенном для итальянцев молчании.
Эти сухие цифры показателей дневной и ночной температуры не волнуют мое русское сердце, скорее даже наоборот – радуют его. Подумать только: шесть, семь или даже четырнадцать градусов ниже ноля – ведь это только легкий морозец, когда, поскрипывает снежок под ногами, легко и свободно дышится, а всё тело наливается бодростью.
Мороз и солнце! День чудесный – вспоминаются слова Пушкина и вместе с ними всплывают картины зимнего пейзажа на далекой родине.
Но ухо итальянца и тем более его сердце воспринимает их по-иному… Как? Об этом дальше рассказывает комментатор.
– Вся Италия, за исключением полусотни километров Лазурного берега, от Бордигеры до Виареджио, под снегом! В Абруццах и средних Апеннинах снежный покров достигает двух метров.
Экспресс из Анконы в Рим стал на полпути. Каналы Венеции покрыты толстым слоем льда. Все реки Италии, даже протекающие в южной ее части, замерзли. Сотни горных селений блокированы снежными сугробами. В некоторых домах жители не могут даже открыть свои выходные двери. Обмороженные и больные – без врачебной помощи и медикаментов. Бедствие! Бедствие!
Небольшой, просто незаметный для русского человека морозец, для итальянца – безусловно стихийное бедствие. Ведь итальянцы, даже крестьяне, живут, не делая домашних запасов. К чему держать дома муку, когда в имеющейся в каждом селении лавочке можно всегда купить свежего хлеба и макарон? К чему тратиться на дорогие оконные стекла, когда совершенно достаточно забить кое-как дощечкой окно своей «казы», если его разобьет не в меру разыгравшийся бамбино? Да и теплыми одеялами обзаводится только богатая семья и то раз в жизни, когда готовится приданое для невесты.
Мой друг абруцезец Марчелло, приехавший в Санремо батрачить на весенних полевых работах, как полагается, с одной только своей трехзубой мотыгой, с воплями прибежал к моей жене:
– Во имя Господа Иисуса и Пресвятой Деты Марии, что-нибудь теплое… Какие-нибудь старые тряпки или ненужную вам ветошь. Ведь в этом году я привез с собой сюда сына и дочь 13 и 14 лет. Этой ночью мы чуть-чуть не замерзли!
Приехав, он поселился в своем обычном «замке», т. е. в старом сарае с какою-то дырявою дверью, а даже здесь, на богоспасаемом Лазурном берегу, ночной мороз все-таки достиг пяти градусов и всему семейству пришлось туговато. Старое ировское одеяло и еще более древнее пальто, сохранившееся у моей жены, он потащил к себе, как радостный символ спасения.
Но постигшее итальянских крестьян бедствие далеко не ограничивается несколькими ночами, проведенными в холодной комнате. Это еще не беда: вся семья может сбиться в одну кучу и кое-как подогревать друг друга теплотой собственных тел, а вот то, что холодная, надвинувшаяся из далекой Сибири, волна погубила миллионы гектар различных плантаций – это действительно бедствие.
Мой сосед, молодой, энергичный цветовод Пьерино всё лето и осень днем и даже ночью (я сам это видел) рыхлил слежавшуюся в камень землю своего участка. Он поднял несколько сот метров доставшейся ему от отца целины, очистил ее от камней, влез в долги, закупив искусственных удобрений, и развел плантацию знаменитых санремезких гвоздик. В январе они начали зацветать. Хозяйство Пьерино, казалось ему, стало на ноги и будущее рисовалось в розовых красках… За одну ночь с пятиградусным заморозком все гвоздики погибли. У других соседей погибли плантации тоже уже зацветавших зимних васильков, пышно взметнувшихся гладиол, белых канн, каждый цветок которых даже на дешевом цветочном рынке Санремо продается по 50 лир…
Из моего окна видна плантация чайных роз. Их бутоны торчат из-под снега. Снег и розы. Для поэта с парижского Монпарнаса такое сочетание послужило бы хорошей темой, но владельцу плантации оно сулит голод. Голод ждет и владельца тридцати вековых олив, которые кормили несколько поколений его предков. Оливы поспевают в феврале, и теперь все их плоды опали помороженными.
– Сколько будет стоить теперь олио? – с ужасом всплескивают руками городские хозяйки. – Оно уже поднялось на 50.
А владельцы апельсиновых, мандариновых и лимонных садов южной Италии, производители знаменитых на весь мир мессинских апельсинов?
– Весь округ Мессины покрыт толстой пеленой снега, – отвечает на этот вопрос диктор. – Сам синдак (мэр) города стал проводником отрядов прибывших из центральной Италии карабинеров и водит их по горным тропам для спасения засыпанных снегом селений. Сочувствие населения всей Италии и действенное стремление помочь пострадавшим поистине поразительны. Многовековая христианская культура показала себя. Папа выслал в особо пораженные бедствием области сто вагонов продовольствия и теплой одежды. Итальянский Красный Крест шлет во все стороны медикамента и спасательные отряды. Такие же отряды по собственной инициативе организованы и приведены в действие всеми спортивными клубами. Военные геликоптеры (их очень немного в Италии), сменяя пилотов, работают по двадцать четыре часа в сутки, сбрасывая продукты питания в блокированные снегопадом районы и вывозя оттуда больных, обмороженных и даже, как сообщает радио, рождающих в эти часы женщин. Конечно, пришла на помощь и могущественная Америка. Командующий базами Атлантического Союза в Италии отдал приказ всей авиации этих баз и всему их личному составу двинуться на помощь населению. Все запасы продовольствия этих баз отданы бесплатно Красному Кресту. Президент Айзенхауер[117] прислал президенту Гронки сочувственную телеграмму, в которой обещал самую широкую материальную помощь.
Так отозвался мир христианской культуры. Канада, Швеция, Дания и прочие северные страны шлют колоссальные партии продовольствия и теплых вещей. А другая, антихристианская, порабощенная коммунизмом его половина?…
В маленьком кабачке, стоящем на пути из моего дома в город, в предместье Сан-Ремо, около моста через спадающий с гор ручей Сан-Ромуло, ежедневно, в 12 часов дня, собирается выпить стакан вина одна и та же компания: плетельщик корзин Бартоли, его сосед – столяр Марини, рослый здоровяк подметайло Пьетро и еще несколько жителей предместья Борго-Опако[118], самых бедняцких кварталов Санремо. Возвращаясь с почты в тот же час, туда обычно захожу и я.
– Синьор профессоре, – атакуют меня тотчас же все собравшиеся, – скажите, какая температура теперь в Сибири? В Москве?
– Советское радио сообщает, что в Москве сейчас несколько больше тридцати, – отвечаю я, – а в наиболее холодных местах Сибири мороз, вероятно, сильнее.
Собравшиеся понимающе кивают головами.
– А скажите, как далеко эти холодные области от того места, где Советы недавно взорвали сильную водородную бомбу?
– Полюс холода в Верхоянске, – отвечаю я, – а где сбросили Совета эту бомбу, этого я не знаю. Сибирь – огромная страна. Но в чем дело? Почему это вас так интересует? Зимние холода в Сибири – обычное явление и сравнивать их действие с итальянскими нельзя.
– Дело не в сравнении, – отвечает мне плетельщик корзин, – а в том, что у нас говорят о причине этого небывалого в Италии холода.
– Кто говорит и что говорят?
– Говорят, что взрыв этой бомбы двинул на нас гигантскую волну холодного воздуха из Сибири.
– И заметьте, – перебивает его столяр, – в начале холодов радио говорило: «волна сибирского воздуха», а теперь говорит: «волна северного воздуха». Только северного. Понятно вам – почему? Потому что из дипломатических соображений ему запретили говорить настоящую правду.
Собравшиеся кивают головами. Все? Нет, не все. В углу таверны за столиком одиноко сидит над своим стаканом вина Марчелло Карпи. Он единственный коммунист среди завсегдатаев полуденного часа.
Обычно он ораторствует, громко читает вслух передовую коммунистической газеты, ругает правительство и старается доказать, что американцы купили разом всю Италию. Теперь он молчит. Холод сильный агитатор и на этот раз он действует против коммунистов.
«Наша страна», № 319,
Буэнос-Айрес, 1 марта 1956 г.
Рекорд невежества
Иллюстрированный журнал «Эпоха», выпускаемый солидным издательством «Мондадори», широко распространен в Италии и пользуется политическим весом. В последних его номерах прошла серия очерков-воспоминаний, подписанных не кем иным как… «Ольгой ди Руссиа», т. е. Великой княжной Ольгой Николаевной. В некоторых вариациях эти же очерки появились и во французской газете «Франс Суар», немецких и бельгийских журналах. Их автор, видимо, небезуспешно применяет все силы к расширению своей популярности в демократической Европе.
Русского читателя эти очерки, идущие с блистательной желтизны подзаголовками, с первых же строк поражает не только наглостью писавшего их, но и его полным невежеством в сфере того, о чем он, вернее она, пишет.
«Ольга ди Руссиа», живущая в настоящее время, как осведомляет «Франс Суар», под фамилией Марии Боодтс, но где – неизвестно, начинает с описания своего детства, протекавшего в «сказочной роскоши дворца царей». Эта «сказочная роскошь» описана в самых грубых бульварных тонах и ни в какой мере не соответствует той обстановке, в которой действительно жила Царская Семья. Автор, очевидно, не знаком даже с соответствующей мемуарной литературой, где он мог бы почерпнуть нужные сведения и это наводит на мысль о том, что Мария Боодтс не знает даже и русского языка. Приведем несколько наиболее ярких ляпсусов. Своего Государя-Отца «юная княжна» и, якобы самая любимая его дочь, называет «мой Ники», что, конечно, было абсолютно невозможно. Няню ее звали «Янушкой» – именем, нелепо звучащим для русского слуха, да и вообще приведенные в этих «мемуарах» русские имена, например «Пипоянович» или название города «Татакария» более чем фантастичны. Далее следует описание воспитания Великих Княжон, в которых их законоучитель и духовник именуется попом, а не священником. Этот «поп» заставлял их часами читать Библию, но не Евангелие, чего, конечно, быть не могло, так как изучение Библии в подлиннике было вообще не принято православной Церковью. Автор мемуаров, очевидно, немка и лютеранка, что подтверждается также ее сообщением о том, что общепринятым разговорным языком в Царской Семье был немецкий, в то время как в русской среде, особенно в кругах, близких к Престолу, всем известно, что в Царской Семье говорили обычно только по-русски или по-английски. По имеющимся же лично у меня вполне достоверным сведениям, Великие Княжны даже не знали немецкого языка.
Описания детства сменяются картинами юности, и мы с удивлением читаем в этих мемуарах о том, что Великая Княжна Ольга была произведена «в чин полковника гусарского полка», в силу чего ей был дан адъютант, который именуется «казаком Димитрием К.». Снова полная нелепость и полнейшее невежество. Великая Княжна Ольга Николаевна была действительно шефом 3-го Гусарского Елизаветградского полка, но, во-первых, шефы не носили чина полковника данного полка, во-вторых, не имели также и якобы полагающихся им в силу шефства адъютантов, а если даже и был прикомандированный к данному шефу офицер, то он, несомненно, принадлежал к личному составу полка, следовательно, казак не мог быть назначен от полка регулярной армейской кавалерии. Этому «казаку Димитрию К.» в дальнейшем предоставлена героически-романтическая роль. Бульварщина выступает густыми пятнами в каждой строчке. Какие-то галопы юной княжны с ее (конечно, влюбленным в нее) адъютантом по аллеям Царскосельского парка, его столкновение на романтической почве с одним из ее кузенов, гнев Государя-Отца и удаление романтического адъютанта, который к тому же еще «хлопает дверью», выходя из кабинета Императора. Думается, что даже самый жалкий бульварный писака постыдился бы столь убогой пошлятины!
Было бы слишком громоздким перечислять все дальнейшие пошлости, нелепости и грубые лживые измышления Марии Боодтс. Конечно, упомянут Распутин, рассказано о множестве щедрых даров поместьями и прочими земными благами, которые сыпались якобы на предавших в дальнейшем Государя придворных… Это всё мало значительно. Но с болью и горечью читаешь столь же бульварное описание трагической сцены убийства всей Царской Семьи, обрисованного автором в тех же пошлых тонах с некоторою примесью мелодраматической патетики: факелы, толпы народа, заполняющие нижний этаж дома Ипатьевых и присутствующие при убийстве Царской Семьи, негодующий возглас какого-то никогда не существовавшего доктора Федеренского, завещание Государя-Императора, переданное его старшей дочери и написанное почему-то тоже на немецком языке, в дальнейшем же чудесное спасение ее, оказавшимся теперь чекистом, тем же самым «казаком Димитрием К.», находившимся почему-то в составе убийц Царской Семьи… Какое-то дикое нагромождение наглостей! Ведь все факты убиения Государя-Императора и Царской Семьи совершенно точно установлены следствием, произведенным по приказу адмирала Колчака, следователем Соколовым, подтверждены воспоминаниями воспитателя Наследника Жильяра и рядом других документальных показаний, сомнений в истинности которых быть не может. Очевидно, ни автор, ни издатель, ни редакция журнала, ни безусловно имеющиеся при ней консультанты по русскому вопросу не знакомы с этими документами. Иначе солидный, широко распространенный журнал не мог бы поставить себя в столь смешное положение.
Самозванство Марии Боодтс, претендующей на основе неопубликованного ею, но данного в числе иллюстраций «завещания», на титул императрицы Всероссийской подтверждается прежде всего тем, что, попав в Европу, она не обратилась ни к одному из своих русских родственников. Не обратилась она также и ни к кому из иностранных родственников Царской Семьи. Тем не менее, судя по обильно данным журналом фото, Мария Боодтс живет в полном достатке и даже в богатой для эмигранта обстановке, следовательно, пользуется подачками от каких-то одураченных ею лиц, а может, и из более темных источников. Единственным же доказательством своего происхождения она приводит свидетельство какой-то баронессы фон Езебек, абсолютно не известной в русской эмиграции. Кстати, фотографий при очерках дано очень много, как их автора в настоящем, так и фото-клише истинной Великой Княжны Ольги Николаевны. Сличение этих фото не дает даже и намека на какое-либо сходство Марии Боодтс с Великой Княжной, к тому же эта авантюристка ростом явно меньше Великой Княжны, что уже одно говорит о ее самозванстве[119].
Появление подобных самозванок не ново. До того была также самозванка, выдававшая себя за Великую Княжну Анастасию Николаевну, к счастью, быстро разоблаченная. Вполне возможно, что в дальнейшем появятся и другие. Как жулики, так и дураки всегда существовали, будут существовать и имеются в достаточном количестве в нашей современности. Удивляться этому не приходится. Негодовать тоже не стоит. Но возбуждает удивление и негодование в русских сердцах самый факт появления подобной бульварщины в солидных и распространенных, уважаемых читателями газетах и журналах, какими являются, например, для Италии та же «Эпоха», а для Франции – «Франс Суар». Сколь же невежественны должны быть лица, редактирующие эти журналы, если они допускают подобную чушь на страницы своих изданий! Сколь же безграмотны в «русском вопросе» их консультанты по этому самому, столь остро стоящему в наше время пресловутому «русскому вопросу»! Вот эта их безграмотность, это их невежество, к тому же сопутствуемое чванливой уверенностью, что «мы-то всё знаем», и наводит на очень печальные размышления. Ведь при таком подходе к русскому вопросу, к вопросу отношений между свободным миром и национальной Россией, сколь либо правильное разрешение его абсолютно невозможно.
«Наша страна», № 338,
Буэнос-Айрес, 12 июля 1956 г.
«Клюква на экране»
Традиции «развесистой клюквы», пышно разросшейся в писаниях Запада о России, прочно утвердились и на экране.
Кинопроизводствами Италии за последний год выпущено три «русских» фильма: «Дубровский» («Черный орел»), «Капитанская дочка» и «Братья Карамазовы»[120]. Это вызвано растущим в итальянском обществе интересом к русской литературе и искусству. Но подход режиссеров и сценаристов к избранным темам свидетельствует о полном незнании русского быта. И, однако, режиссеры не сочли нужным прибегнуть к консультации находящихся в Италии крупных русских художников (г-жа Браиловская, Н. А. Бенуа[121] и др.) и с улыбкой превосходства отклоняли все попытки помочь им со стороны русских Ди-Пи, привлеченных ради «типажа» к участию в массовых сценах[122].
В результате Дубровский оказался ковбоем в экзотической черкеске, галопирующим в шпорах на английском седле и проделывающий ряд обычных для Холливуда, но абсолютно неизвестных Пушкину трюков. От самого же Пушкина осталось очень мало. Столь же мало его и в «Капитанской дочке», где главное внимание было посвящено пышному двору Екатерины: снимки производились в опустевшем Квиринале[123].
«Братья Карамазовы» еще не появились на экране, но массовые сцены (монастырь и Мокрое), съемки которых также проходили при участии русских Ди-Пи, в качестве статистов, дают право предположить, что от Достоевского останется не больше, чем осталось от Пушкина.
«Клюква» проникает даже в фильмы, созданные в России. При «озвучении» на итальянском языке «Иоанна Грозного»[124], традиционное русское свадебное «горько» было переведено итальянским термином «испорченное, прокисшее вино». И зритель искренно недоумевал, почему после такого промаха хозяев пира, новобрачные поцеловались, а гости проглотили кислятину. И однако перевод сделан профессором Ло Гатто, лучшим в Италии знатоком русской литераторы, автором четырехтомной ее истории и главой общества итало-советской культурной связи.
Нельзя не отметить обратное явление в русской кинематографии. Широко известный в СССР «Золотой ключик», по сценарию А. Толстого, встречен здесь с большим одобрением под названием «Пиноккио» – назван именем героя национальной детской сказки Италии. Фильм заслуженно пользуется большим успехом, нежели итальянские постановки на ту же тему.
«Русская мысль», № 68,
Париж, 30 июля 1948 г.
Две зари гуманизма
Об этой блестящей эпохе раскрытия творческого гения человечества написаны тысячи книг. Стендаль, Рескин, Тэн – на Западе, и в тон им Веселовский, Мережковский, Волынский, Муратов – у нас. И еще многие и многие… Какие имена авторов!
И какие имена блистают на их страницах! Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан, Веронезе, Корреджо и другие великие художники! Пико делла Мирандола, Мерула, Беккаделли, Макиавелли – великие гуманисты! Философская академия Козимо Медичи и Платоновские пиры его внука Лоренцо… Все они жили в сравнительно коротком периоде времени, захватившем вторую половину XV века и первую четверть XVI. Этот период – зенит Возрождения, триумфа гуманизма, его яркая утренняя заря, когда люди действительно необычайных способностей рождались пачками, чуть не в каждом городе Италии – культурнейшей стране того времени. Гуманизм рассеял «мрак средневековья», «гнет церкви», «мракобесие», «религиозные суеверия»… и… каких только эпитетов и метафор не находили наши «прогрессивные» учителя для возвеличения гуманизма, проявившего себя особенно ярко именно в Италии на грани XV и XVI веков.
– Но что же такое гуманизм? – спрашивали мы своих «прогрессивных» учителей, – это статуи, картины, изучение латыни? Что?
– Гуманизм – истинная, освобожденная от религиозных оков, живая любовь к человечеству, к его земному, реальному бытию, преклонение перед творческими силами человека, – отвечали они нам, – гуманизм – основа нашего «прогресса», нашей великой цивилизации. Гуманизм… Много, много прекрасных слов слышали мы тогда и… верили им.
* * *
Записи очевидцев, людей того времени тоже говорят кое-что. Порой повествуют даже выпукло и ярко.
«Это нечестивейшие из людей. Они насмехаются над истинной религией и подшучивают над нами, христианами, за то, что мы верим всему в Писании. Народ здесь язычник по природе и по темпераменту, а образованные люди безверны по воспитанию…» – пишет Мартин Лютер, посетивший в те годы Италию.
С религией покончено. А с сопутствующими ей суевериями?
«Народ более боится святого Антония и святого Себастьяна нежели Иисуса Христа, потому что эти святые якобы насылают язвы, – сообщает тот же Лютер. – Так живут они в крайнем суеверии, не веря ни в воскресение плоти, ни в вечную жизнь, а боясь лишь кар и язв сего мира».
Но быть может протестант Лютер перехватывает? Послушаем ортодоксального католика Савонаролу.
«Ваша жизнь – свинская, вся она проходит у вас на постели, В сплетнях, в оргиях и разврате», – говорит он своим слушателям, людям той же эпохи.
Наши «прогрессивные» учителя были правы, утверждая, что блистательная утренняя заря гуманизма была крупнейшим внерелигиозным (или антирелигиозным) историческим явлением, но рассеяла ли она тьму суеверий или нет, об этом говорит тот же Лютер: «Эти люди или эпикурейцы или суеверны до крайности».
Гуманизм, т. е. любовь и внимание к реальному человеку, к его земной, физической жизни, как будто бы должен был стать на защиту этой самой жизни или хотя бы не служить побудителем к насильственному прекращению ее.
Замечательные по яркости и насыщенности фактами записки Бенвенуто Челлини дают непревзойденные иллюстрации осуществления этой внерелигиозной любви к человеку. В них этот замечательный художник повествует, как он убил своего ученика Луиджи, куртизанку Пентосилью, своего врага Помпео, нескольких содержателей трактиров, парочку-другую вельмож; убивал во Франции, в Италии, повсюду… и всё же не понес достойной кары. Его совесть абсолютно спокойна. Он полон гордости за совершенное. Гангстеры эпохи современного гуманизма могут лишь позавидовать необычайной плодотворности «любви к человеку» со стороны великого художника.
Бенвенуто Челлини не феномен, не исключение. Режут, закалывают, отравляют решительно все, кто может этим заняться, начиная с герцогов, пап и кардиналов и кончая базарными лавочниками и погонщиками мулов. Культурный уровень не делает различий в этом занятии. Так, например, герцога Галеаццо Сфорца прирезывают три молодых гуманиста – страстных поклонника Плутарха, папу Льва X Медичи пытаются извести его собственные гуманисты-кардиналы при помощи подкупленного хирурга. Спасшись, этот гуманист-папа немедленно истребляет кардиналов. Фамилия Пацци совместно с Пизанским архиепископом нападает на Джулио и Лоренцо Медичи в церкви, причем сигналом к убийству служит поднятие Святых Даров. Джулио убит, но Лоренцо спасается и тотчас же вешает архиепископа в полном облачении рядом с главою дома Пацци, искрошив в куски двадцать родичей этого последнего. Лоренцо Медичи был не только крупнейшим ростовщиком и политиком своего времени, но и одним из блистательнейших гуманистов. Повешенный епископ был тоже стойким гуманистом: умирая, он вцепился зубами в тело своего сотоварища по виселице и искусал его, очевидно за плохую работу на ниве гуманизма. Убийство не было привилегией высших слоев. Мемуарист Стефано Инфессура записывает о жизни в Риме: «В самом городе днем и ночью совершалось много убийств, и не проходило ни одного дня, чтобы кого-нибудь не умертвили», и далее повествует о том, как граждане «Вечного Города», решив наказать убийцу, некоего Сальвадора, но не найдя его в доме, тут же повесили его ни в чем неповинного брата Иеронимо. Они были гуманистами, ибо этот строй мысли и психики владел тогда всеми слоями общества…
Макиавелли рассказывает, между прочим, об одном чрезвычайно талантливом своем современнике, сироте Оливретто да Фермо, воспитанном своим дядей. Этот талантливый юноша, подросши, заманил своего дядю, владетеля Фермо, в ловушку и убил его там вместе с двумя десятками придворных, а заодно перебил и ограбил всех важнейших сограждан.
Гуманист и покровитель искусств Эрколе Д'Эсте, распродавая своих пленных, предварительно выкалывал им по глазу и отрубал по руке. Чезаре Борджиа, поставивший ряд гуманистических рекордов той эпохи, забавляется, расстреливая из лука взятых им пленных, и заодно поджаривает богатых старух и стариков. Макиавелли восхищен подобным талантом правителя. Тот же изящный гуманист убивает некоего Перретто под рясы своего отца-папы, так что кровь брызгает папе в лицо, о чем без ужаса и отвращения повествует его камерарий (секретарь) Бурхардт.
Пересказ всех дошедших до нас записей о проявлениях внерелигиозной любви к человеку занял бы много более семисот страниц Нюренбергского обвинительного акта. Прекращаю, но не могу удержаться от короткого априорного исторического сопоставления.
В те же годы, когда общественно-политический идеолог зари гуманизма философ и ген. секретарь блистательной Флорентийской республики Макиавелли писал: «Благоразумный властитель не может и не должен держать своего слова, необходимо быть большим плутом и притворщиком… Обманщик всегда найдет кого обмануть…»
…в те же годы в далекой варварской стране, на реке Соре, в тесной келье выходец из крестьянства Майков, в иночестве Нил Сорский, закладывал основы стройной социально-этической системы, основанной на развитии своего внутреннего мира, на утверждении целостного религиозного идеала, отказа от мирских благ во имя абсолютного Божеского Добра. «Те, кто ищет в мире лишь наслажденья, теряют всё», – писал он.
Нил Сорский и его последователи – «заволжские старцы» – не были гуманистами. О них мало говорили нам наши «прогрессивные» учителя и совсем молчали беллетристы…
«Пусть каждый поет, пляшет и наслаждается любовью! Будем счастливы сегодня, завтра – зыбко и неверно»[125], – пел тогда же блистательный гуманист Лоренцо Медичи Великолепный.
* * *
Мы живем на вечерней заре гуманизма. Эпоха, открытая им пятьсот лет назад, проведя человечество сквозь рационализм, и марксизм, приближается к закату. Об этом свидетельствуют многие разнохарактерные, но внутренне объединенные симптомы: безнадежный пессимизм экзистенциалистов – в философии, иррационализм Бергсона и Фрейда – в психологии, коррупция демократических форм и «эпидемия» диктатур в политике, теория относительности в науке, уничтожение «вечной» материи – в технике, сведение рисунка к чертежу – в живописи, какофония джаза – в музыке и т. д. Эпоха гуманизма, т. е. внерелигиозной, антихристианской любви к физическому бытию человека и его низшим потребностям, умирает, но и в своих предсмертных корчах внерелигиозный гуманизм верен себе.
Пурпурно кровавой была утренняя заря гуманизма. В тех же, но сгущенных тонах догорает его вечерняя заря, финал эпохи внерелигиозной любви к человечеству.
«Кто говорит, что он любит человечество, тот не любит человека», – писал еще в шестом веке Блаженный Августин.
«Наша страна», № 166,
Буэнос-Айрес, 21 марта 1953 г.
Голоса России
(только факты)
Сначала о живых людях. Не о схематических манекенах, созданных в воображении утративших не только представление, но ощущение России партийных доктринеров, таких – какими, по их мнению, должны быть прорвавшиеся «оттуда». И не о тех немногих из этих прорвавшихся, кто в чаянии керовского пакета[126] или внеочередного места на отходящем в США транспорте пишет сладкоречивые письма в редакции выходящих в Америке русских газет. Но о наполняющих до сих пор ировские лагеря, стоящих под дождем в бесконечных очередях у кухонных окошек; или о тех, кто, пробившись, наконец, сквозь все рогатки и прочие заграждения, устраивает себе сносное существование в новых, неведомых им странах…
Живя между занавесок из одеял, нельзя, как в письме, укрыться за трескучую фразу, и как бы ни маскировал, ни замыкал себя побывавший во всевозможных переделках дипиец, его подлинная сущность неминуемо раскроется.
Справа от меня живут отец и сын, «украинцы» из-под Львова.
Я слышу:
– Разве картошку с вечера чистят?! Да, у нас бы, на Кубани, такую бабу куры бы засмеяли…
Разговор совсем не политический: о приготовлении нашего лагерного супа, но из обсуждения способов чистки картошки проглядывает истина политическая – вынужденная, а порою и принудительная «украинизация» в первые годы сидения в лагерях. Факт очень распространенный среди русских Ди-Пи. Он вызван страхом перед репатриацией, практиковавшейся в то время, и практически неопровержимой формулой: – если и переночую в конюшне, так жеребцом ведь не стану!
Дальше политика проступает уже ярче:
– Четыре раза уж ировские доктора осматривали, теперь американские будут опять смотреть, а потом еще, перед посадкой… Эээх! Демокра-а-тия!
Наконец, после чтения обильно поступающего в лагерь заокеанского журнала на русском языке, политическое мышление отца и сына проявляет себя полностью.
– Опять в «сицилизму» тянут… Им-то хорошо на американских хлебах ее строить, а вот с нами бы в колхозе построили…
– Да, пожили бы в ней, построенной, в Колыме или на Печоре!
Не ручаюсь, что в тот же вечер отец с сыном не напишут письма в редакцию этого самого, выходящего в Нью-Йорке журнала: вчерашняя картошка в супе и бесконечная всесторонняя волокита эмиграции могут довести и не до того.
* * *
С Василием Ивановичем судьба сплела нас в мае 1945 года. Мы встретились в северной Италии, куда в дни капитуляционного хаоса он сумел проскочить из Вены не только с женой и двухлетней дочуркой, но и с изрядным количеством багажа. Не удивительно. Свой путь он начал с Лисок, от берега Дона, и к настоящему времени доехал уже до берегов Лa Платы, причем и семейство, и багаж за это время не приуменьшились, а, наоборот, приумножились. Приумножилось и содержимое кошелька Василия Ивановича, вернее, подкладки его брюк и пиджака, которые он справедливо считал вернейшим из всех банков мира. Валюта же беспрерывно изменялась.
Сначала она была выражена в живых свиньях, которых он успел развести и подкормить за полтора года пребывания под немецким «игом», сменившим иго колхозное. Свиньи были зарезаны уже под обстрелом красной артиллерии и вывезены на собственной, тоже при немцах приобретенной, конной паре одновременно с последними отступавшими германскими частями. В пути туши превратились в «кригсбоны». В Румынии серки были проданы и к бонам прибавились леи. В Вене накопление продолжалось: отработав на фабрике свои «остовские» часы, Василий Иванович варил мыло из дохлятины в какой-то развалке. Работать он мог часов по 18 в сутки. Характерно, что весь его капитал был результатом труда и производства, но никогда не перепродаж и спекуляции, хотя торговать он умел во всех странах, не зная ни одного языка. В Италии это происходило примерно так:
– Видишь, синьор, туфли, бона, гут, очень гут! Мой продоваре – твой покупаре. Уна Милля.
Покупали. Торговля шла, а шил он свой товар из какого-то барахла, которое всюду, кроме богатейшей советской страны, бросают на свалки.
Из Аргентины, куда Василий Иванович сумел уехать уже два года назад, я получаю от него письма.
«Подходящий участок купил в рассрочку. Поставил хату и гектаров шесть распахал. Худоба плодится, куры тоже. Жизнь очень расчудесная – везде полная собственность, и никто плана не дает. Однако, когда будет возможность и чертов Иоська подохнет, поверну домой… Та земля – родная!»
С землей неразрывно связаны и тело и душа Василия Ивановича. От нее же, от владения ее исходит и его политическое мышление. Оно несложно, но крепко и ясно.
– Земля, она хозяина требует… Единоличного и наследственного. Тогда в ней порядок. Примерно, надо всей Россией хозяин – царь, а я у себя на отрубе царюю, как батька мой на своем хуторе царевал. Царя с земли скинули, потом и батьку моего. Одно к одному. Отца в Нарым, нас шестерых по миру пустили… Одних волов три запряжки взяли…
Так, «по образу и подобию своему», мыслит он и десятки миллионов таких же Василиев Ивановичей единственное приемлемое для них строение Государства Российского – хутора размером в одну шестую всего мира. В подробности они не вдаются, но стержень – наследственная, единоличная собственность – тверд в них до предела; и полную закалку свою он приобрел именно за время после революции. Агитатора более радикального, чем колхоз, в истории не было. Взглянув через его призму, крестьянин понял и всосал в себя истину, что единственным гарантом его, крестьянина, наследственной, единоличной собственности может быть только Наследственный Единоличник Всероссийского Хутора.
Казачьи офицеры, до каких бы чинов они ни дослужились, всегда остаются крепко связанными, сросшимися с родной станицей на берегу «своего» тихого Дона, многоводной Кубани, бурливого Терека или величавого Амура, с многочисленным «родством и свойством», «годками», «корешами», «односумами». В этом огромная сила их авторитета не только на службе, но и вне ее. […]
* * *
Лагери Ди-Пи в Германии, Австрии и Италии в настоящее время и в течение предыдущих лет были и остались своеобразной, стихийно возникшей лабораторией, в которой протекает самостоятельно возникший, естественный и неизбежный процесс оформления своей политической мысли «новыми», попавшими в сферу ее свободного развития.
Эта реакция протекает медленно, что тоже вполне естественно: во-первых, ее сковывает чувство привычного, неизбежного в советской обстановке страха, от которого «новые» далеко еще не освободились и здесь, под давлением того же, так же естественного чувства самосохранения. Отсюда – вынужденные способы маскировки себя прежде всего под «украинцев», балтийцев, порою даже (кавказцы) – под турок, Камуфлируется не только национальность, но и политические устремления: среди общих повсеместных криков о демократии трудно объявить себя сторонником якобы противоречивой ей монархии, т. к. в представлении большинства демократии неизменно сопутствует республиканская форма (и только она одна!?) правления.
Во-вторых, «новый» очень осторожен не только в проявлениях себя, но и в своих решениях. Он крайне скептичен к окружающему и, во всем обманутый советской пропагандой, он ничего не принимает сразу, прощупывает, обнюхивает предварительно…
И, наконец, в-третьих, политический кругозор «новых» еще чрезвычайно узок, вернее, два года назад у большинства его совсем не было, т. к. в стране советов никакого политического материала, кроме большевицкой пропаганды, не существовало вообще. Она полностью отвергнута. Образовалась пустота…
Но в этой пустоте у «новых» есть одно большое преимущество перед «старыми». Выросши в условиях однопартийности, они абсолютно чужды партийной борьбе, «грызне», «склоке», как они ее называют, и, в силу этого, свободны от предвзятых выношенных узкой партийностью, программных доктрин. «Новые» строят свое политическое кредо только на основе ощутимой ими реальности, пережитого и «там» и «здесь» опыта.
Психологический и интеллектуальный процесс, происходящий сейчас в лагерях Ди-Пи, по своим размерам выходит далеко за рамки политики. Он ничто иное, как свободное осознание скрытого для находящихся за «железным занавесом» мира и определения в нем своего места, своих этических, религиозных и социальных основ. Политика только его часть.
Понимание этого процесса, его углубленный анализ недоступны заокеанским «специальным корреспондентам», проносящимся галопом по Европе. Нужно плотно вжиться в среду «новых», научиться понимать их язык и лингвистически и психологически, нужно познать и взвесить части всей массы по их социальному составу, познать истинные стимулы их движения на Запад, а не традиционную вынужденную репрессиями защитную формулу «немцы забрали». Без этого – ошибки неизбежны. Именно отсюда и проистекают – то огульные зачисления всех власовцев в «фашисты», «гитлеровцы» и «изменники», то, наоборот, столь же необоснованное объявление их социалистами.
Понимание этого процесса важно не только для познания «новых» эмигрантов, находящихся «здесь». Оно еще более ценно для определения того, что происходит сейчас «там», аналогичных, но еще более замедленных сдвигов в сознании всех российских народов, отзвуки которых слышатся всё яснее и яснее…
Лаборатории лагерей ИРО дают верный ответ, ибо в них собран наиболее яркий подопытный материал, точно отражающий как часть – свое целое, оставшееся по «ту» сторону.
* * *
Мы не имеем статистических данных ни о количестве, ни, тем более, о социальном составе русских Ди-Пи. Репатриационная политика УНРРА и ИРО спутала все карты. Но личное общение с беженскими массами в ряде лагерей, в течение четырех лет, позволяет сделать некоторые выводы.
О количестве русских можно лишь сказать, что оно во много раз превышает показатели ИРО. Так, например, в небольшом лагере, где сейчас находится автор, на 500 человек общего населения русских числится по спискам всего 4 человека, а на самом деде около 100.
Социальный состав яснее: основу «новых» эмигрантов, несомненно, составляют крестьяне, в меньшей своей части – оторванные от земли, т. е. превратившиеся в рабочих промышленности, транспорта и проч. с небольшой группой бывшей советской «проф-интеллигенции» (техников, врачей, инженеров из крестьянских же семей) и, в большей части – еще скрепленные с ней (колхозники). Бывшее крепкое крестьянство – ограбленные, репрессированные «кулаки» и их родственники занимают в этой группе видное место. «Старая» интеллигенция занимает незначительное место и еще меньшее – «аппаратная» советская интеллигенция, современное чиновничество, но есть и оно, даже бывшие партийцы.
Эта расстановка и соотношение социальных групп – почти точный слепок в миниатюре всего социального строения СССР. Преуменьшение «аппаратной» группы вполне понятно: именно она наиболее крепко связана с советским режимом, порождена им и живет за его счет в качестве гипертрофированной до уродства бюрократии.
Таким образом, мы видим, что каждое из «сословий» страны советов, не исключая и «партийного дворянства» (Кравченко, Токаев[127]) выделили в «новую» эмиграцию своих наиболее крепких и энергичных представителей, сохранив даже пропорциональное соотношение групп.
Каково же политическое лицо «новых», в целом и в частности (по группам)?
К этому вопросу придется подходить, сообразуясь с насчитывающей уже 9 лет (19-11-50) своеобразной «историей» новой эмиграции.
Первый, немецкий ее период (1941–1945), протекал под знаком гитлеровского социализма, вносившего свои поправки к сталинскому. Население оккупированных областей было вынуждено принимать – как защитную – розенберговскую «коричневую» окраску, что выражалось, главным образом, в искусственном насаждении видов сепаратизма, отрицании имперского единства и державности России, создании национальных военных антисоветских формирований, общественных и благотворительных комитетов, иногда даже местных шовинистических по отношению к России самоуправлений и «правительств», поощрении и широком субсидировании сепаратистской, безудержно кровожадной украинской прессы с центром в г. Ровно и более сдержанной кавказско-мусульманской с центром в Берлине. Приверженность к Российской Державности явно преследовалась. В термин «монархист» вкладывался тот же смысл, как и при большевиках. Ту уступку в этой области, которую допускала действующая германская армия (моления о России, трехцветный флаг) немедленно аннулировали с приходом тыловых розенберговских «гольдфазанов»[128], и русским, проявлявшим свой патриотизм, реально угрожало Гестапо.
К чести русского народа можно констатировать теперь, что, несмотря на обильно сыпавшиеся в карманы сепаратистов административные, денежные и продовольственные «поощрения» и на гонения против русских патриотов, немецкая пропаганда сепаратизма имела в Малороссии лишь частичный, иллюзорный успех в среде бывшей советской бюрократической полуинтеллигенции; крестьянство же оставалось ей чуждым; на Кавказе – еще меньший; в казачьих землях – никакого, даже вызывала протест; в Крыму вылилась в оригинальную форму совместного русско-татарского надувательства розенберговцев и скрытых совместных же монархических устремлениях, выраженных крупнейшей в оккупированной зоне газетой «Голос Крыма», ежемесячником «Современник» и рядом общественных выступлений немногих сохранившихся здесь деникинцев и врангелевцев.
Столь же малый успех и еще большее противодействие имели и попытки заменить сталинский социализм – гитлеровским. Преобразование советских колхозов в кооперативные общины и товарищества – провалилось, что признали сами немцы, начавшие уже в 1944 году единовладельческое отмежевание в Крыму и на Днепре. Попытки кооперировать мелкую промышленность и торговлю в городах остались мертворожденными ублюдками, в то время как частное производство и торговля бурно расцветали, несмотря на значительное ее утеснение. Оборачиваясь назад, можно уже с полной уверенностью сказать, что именно противодействие единодержавным и антисоциалистическим устремлениям российских народов и создали перелом в их отношении к немцам, принятым скачала, как освободители и друзья. Они-то и породили партизанщину, лишь умело использованную, но не вызванную красными. Характерными подтверждениями этого служат доминировавший среди малороссийских партизан лозунг – «против Советов и против немцев».
Конец этому периоду был положен военным крахом Германии, накануне которого немцы стали приходить к заключению о необходимости союза с представителями «Единодержавной России».
Создавшийся Комитет Освобождения Народов России не сумел полностью выйти из-под старого влияния розенберговской политики и слабой стороной «Пражского манифеста» было абсолютно чуждое единодержавному пониманию России признание «завоеваний февраля». Именно этот пункт и оттолкнул наиболее организованную к тому времени часть Освободительного Движения, Казачий корпус генерала фон Панвица и «Казачий стан» генералов Краснова и Доманова[129].
Тотчас же вслед за капитуляцией Германии, по всей Европе забушевали гонения на русских патриотов, с силой, во много раз превосходившей нацистскую. Первой жертвой стал сам генерал А. А. Власов, поверивший, под влиянием солидаристов захвативших через генерала Трухина его штаб, в фикцию «мировой справедливости». За ним последовали тысячи отборных борцов 1-й и 2-й дивизий РОА, 50 тысяч казаков, национальные кавказские и крымские боевые батальоны, около трех миллионов уже записавшихся, но еще не влившихся в РОА и столько же «остовцев» и «вольных» беженцев…
Было бы большой ошибкой смотреть на этих уцелевших, как на случайный конгломерат «чудом спасшихся». Произошел необычайный по своей жестокости естественный отбор наиболее стойких, жизнеспособных, упорных и непримиримых. Автор этих строк видел сотни прорвавшихся в одиночку и небольшими партиями из уже окруженных танками дивизий РОА и казачьих полков; массовые самоубийства Платтлинга, Дахау, Лиенца, Римини[130] и других голгоф русской подсоветской молодежи – потрясавшие по своей неоспоримой правдивости исторические документы настроений и устремлений.
Подпись своею кровью несмываема и неопровержима.
Смертный отбор создал элиту, актив не только Русского Освободительного Движения, но зерно, микрокосм, каплю, отражающую настроения, и чаяния подъяремной, задушенной, но еще живой подлинной России. Только каплю, ничтожную по объему, численности, но чрезвычайно значительную как показатель, баро-термометр, определяющий степень антисоветского, антисоциалистического, антифевральского накала современной России. Его ртуть – ее голос.
Этот голос не звучал в годы 1945–1946, придавленный глухим прессом Ялты и Потсдама[131], трагическим и для России, и для мира, ибо именно они с их противоестественным «сотрудничеством» двух в корне противоречивых систем породили нависшую теперь над Европой и Америкой угрозу атомной катастрофы.
Он не звучал еще потому, что «новые», вырвавшиеся из сферы полного отсутствия свободного политического мышления, задетого как Сталиным, так и Гитлером, не могли выработать разом своего политического кредо. Процесс требовал времени, анализа окружающего и самих себя. Он далеко не закончен и теперь. Поэтому, не намечая его конкретных форм, мы можем говорить лишь о линиях и направлениях его развития. Они к настоящему моменту уже явно наметились.
Личные впечатления, как автора, так и читателей этой статьи могут быть только субъективными, и они – не показательны.
Еще меньше внимания, заслуживают «многочисленные» письма из лагерей, которыми так любят оперировать так называемые «русские» издания и извлеченные из нафталина «вожди февраля». Эти письма-фальшивки, сфабрикованные у нас в лагерях. Побуждения к их фабрикации те же, что заставляют нищего сочинять рассказ о своих мнимых страданиях или проститутку – повесть о своей «первой любви». Не будем к ним строги: голод и страх остаться без визы – мощные стимулы. А «вожди» и их клевреты не скупятся на обещания и… на керпакеты… Лагеря не имеют тайн.
Ослабление страха перед репатриацией в 1947 г. дало возможность зазвучать приглушенным голосам. Возникла лагерная пресса. Попытки отдельных смельчаков-энтузиастов были и раньше. И надо отметить, что первым печатным органом в те тревожные дни был монархический журнал «Огни», издававшийся и редактировавшийся Н. К. Чухновым[132], не убоявшегося с открытым забралом начать борьбу за Вечную Россию.
Обозначились «новые» имена свободно и открыто мыслящих молодых сынов подъяремной России: Рудинский, Башилов[133], Каралин, Виктор Сергеев и многие другие[134]. Известность и авторитетность этих авторов в среде «новых» основана на выразительности их политической мысли, а не на пленяющий Запад близкой к скандалу сенсационности, как у выходцев из коммунистической «аристократии» антисталинцев.
Поискам «новых» много помогла «старая» монархическая печать. Именно она смыла большую часть грязи с образа России, той грязи, которой обильно полили его большевики и «февралисты». Она сказала «новым» правду о русской монархии, разъяснила понятие державности, порвала ложную связь между монархией и сословностью, реакцией, отсталостью, внушенную советской и предшествовавшей ей лжепрогрессивной пропагандой.
Лозунги: «Державная Россия», «Царь и народ», «Не партийность, а служение Родине» стали на первое место в лагерях.
Это – начальные, исходные факты. Факты, а не личные впечатления! За ними последовали другие, более яркие и значительные.
Получившая широкую известность анкета «Посева» выявила глубокий разрыв между редакцией и читателями, 51 % которых неожиданно оказался… монархистами. Большую часть их составляла «новая» молодежь (тоже по данным анкеты).
Сближению «старых» и «новых» более всех способствовали именно монархисты, с самого начала понявшие патриотическую основу «власовцев» и проч. «изменников родине», как окрестили этих людей подъяремья социалисты и так называемые «русские» газеты устами Аронсона, Кусковой[135] и др.
В 1948 году стало возможным говорить об явном развитии в среде русской политической эмиграции беспрерывно расширяющегося за счет «новых» Монархического движения, именно общественного движения, устремления масс, а не партии, состоящей из кружка политиканов-профессионалов. Ничего подобного среди других политических направлений мы не видим: демократический лагерь не обновился и продолжает свою внутреннюю фракционную борьбу. О влиянии социалистов на массу «новых» вообще говорить не стоит: по той же анкете «Посева» в их среде оказалось даже не «полтора Абрамовича», как принято полагать, а только «три четверти» (0,75 %); агитационная поездка их представителей «галопом по Европам» позорно провалилась, несмотря на широкую рекламу и крепкую «материальную базу» агитаторов: на их выступления собиралось не более 5 % лагерного населения.
Таковы факты, и они показательны.
Достигнутая, наконец, русскими Ди-Пи в Европе возможность объединения дала еще более яркие показатели. На выборах в центральный орган русской эмиграции в Германии «правый», включающий монархистов, блок постоянно одерживает победу. Возникли и успешно развиваются попутные монархистам САФ и РОНДД, в которых «новые» действенно и идейно сомкнулись со «старыми». Февралистский же АЦОДНР[136], ставивший себе те же цели слияния, безнадежно увял, не расцветши.
Подобное развитие событий возможно лишь при наличии монархистов, обладающих, при всём возможном, неизбежном и нужном для нормального прогресса разномыслии, – единым неизменным знаменем, какого нет ни у одного из иных течений политической мысли – именем Великого Князя Владимира Кирилловича, Главы Династии, Наследника Престола Державы Российской – реального символа борьбы за освобождение России.
Мы, «новые», – народ «ученый». Двадцатипятилетнее пребывание в атмосфере сплошной лжи приучило нас верить только ясно видным нам самим фактам. На основе этих ясных фактов мы и строим свои выводы.
Большинство из нас, вырвавшись из красного плена, не имело сколь либо оформленного положительного политического мышления. Оно было проникнуто лишь отрицательным – ненавистью к большевизму, сознанием полной невозможности жить в стране победившего социализма (берем этот термин без кавычек, так как он вполне соответствует современному СССР). Нами руководило лишь отталкивание от него, и мы несли в себе лишь настроения, но не оформленные устремления.
За 7–8 лет жизни в Европе мы многое повидали, многому научились, и настроения оформились в устремления, но цели, четкие и твердые, пока еще в нашем сознании сформировались лишь частично. Мы продолжаем их искать.
Как смотрим мы на себя самих? Кто мы? «Представители» современной России? О, нет! Пусть этот громкий и высокий титул присваивают себе пока те, кто набрался для того наглости еще в свистопляске 1917 года. Мы только «образчики» социальных групп современной России, добросовестный «каталог» содержимого в ее необъятных складах, капля ее моря, ее отражение в маленьком карманном зеркале…
Но отражение верное, точное, и беспристрастное. Настроения, с которыми мы пришли сюда – ее настроения; переживаемый нами процесс оформления своей политической мысли – отражение процесса, происходящего «там»; мы лишь насколько обогнали его, благодаря условиям, в которые мы попали; наши выводы – ее выводы и вырисовывающиеся теперь перед нами цели, станут и ее целями тогда, когда она получит возможность их видеть и идти к ним своим державным шагом, каким шла в течение одиннадцати веков!
[Алексей Алымов]
«Знамя России», №№ 26, 27, 29,
Нью-Йорк, 18, 31 октября, 29 ноября 1950 г.
Свидетельства
Нина Ширяева (Капралова) Биография мужа[137]
Родился в Москве в 1889 г. 25 октября старого стиля, отец – профессор-венеролог, Николай Петров Ширяев, был также помещиком, владел крупной земельной собственностью. Борис Ширяев окончил гимназию (лицей) в Москве и историко-филологический факультет Московского университета[138]. Был оставлен при университете, и перед ним открывалась научная карьера. Но в 1914 г. он добровольцев уходит на первую германскую войну, вступает вольноопределяющимся в Черниговский гусарский полк[139]. К моменту развала фронта в начале 1918 г. он возвращается в Москву уже в чине ротмистра и при организации Белого движения на юге России[140] бежит на юг. На границе Украины его арестовывают и вместе с группой задержанных лиц приговаривают к расстрелу. Борису Николаевичу удается бежать и благополучно достигнуть Одессы. Отсюда его с организованной здесь воинской частью посылают в Среднюю Азию на помощь сражающимся там объединениям Белой Армии. В Средней Азии, уже по ликвидации красными сопротивления белых частей, он с незначительным отрядом скрывается то в одном ханстве, то в другом, переходит границу Персии, но персы выдают его и остатки отряда красным. Снова приговорен к расстрелу. Но накануне приезжает Фрунзе[141], который дает ему амнистию с условием работы в конском запасе Красной армии.
После полугодичного пребывания на самых отдаленных пастбищах каких-то среднеазиатских гор (не помню их названия) в качестве надсмотрщика огромных табунов Борис Николаевич бежит в Москву[142]. Там по чьему-то доносу его арестовывают, как белого офицера, отправляют в Бутырки[143]. Приговор: смертная казнь с заменой десятью годами Соловков. С 1922 по 1927 г. он – на Соловках[144]. Эта часть его биографии хорошо известна по «Неугасимой лампаде». Тяжелая физическая работа в лесу и по вязке плотов соединяется с упорной работой в театре и литературных изданиях. Пребывание его на Соловках было особенно тяжело тем, что он решительно ни от кого не получал никакой помощи. Единственная сестра была уже заграницей, а мать ничего не знала о судьбе сына с момента его бегства на юг России. Отец умер в 1916 г.
В 1927 г., по разгрузке Соловков[145], Борис Николаевич получил пять лет высылки в Среднюю Азию. Приехал он в Ташкент буквально без гроша в кармане и в лохмотьях и сразу пошел в редакцию газеты «Правда Востока» с написанным по дороге романом «Паук на колесиках». Роман понравился и был принят, а Борису Николаевичу поручили для начала репортаж. Благодаря упорству и энергии, Борис Николаевич вскоре завоевал прочное положение не только в «Правде Востока», но и в других пяти газетах, выходивших на языках национальных меньшинств. Здесь же, в Ташкенте, он работал в местном университете, где получил звание профессора, что тогда делалось очень легко: достаточно было представить научную работу и голосованием научных работников самого учебного заведения утверждалось звание профессора, или доцента[146]. В качестве разъездного корреспондента газеты он изъездил на лошади, верблюде и осле много районов Средней Азии, особенно горной ее части, изучил их прекрасно, и его мечтой, к сожалению, не осуществленной, было написать повесть из жизни Средней Азии тех времен, отразив в ней весь присущий только ей колорит величия, мудрости и фатализма. Пять лет, проведенных Борисом Николаевичем в Средней Азии, были наиболее полноценными и спокойными в его жизни. Но Москва неудержимо манила его.
По окончании ссылки, он, несмотря на все уговоры друзей, все-таки опять уезжает в Москву и здесь, в 1933 г., его снова арестовывают по доносу и после трехмесячного пребывания в тюрьме высылают в глухой городишко Россошь Воронежской губернии. Вначале Борису Николаевичу удается устроиться на работу в местный птицеводческий институт[147], но после убийства Кирова[148] в 1934 г., в котором был замешан какой-то Ширяев, НКВД репрессирует его запрещением принимать его куда бы то ни было на работу. Выброшенный из птицеводческого института по приказу НКВД и хозяевами квартиры, боявшимися держать у себя репрессированного, буквально на улицу, Борис Николаевич скитается под открытым небом, питается лягушками, полевыми мышами, ящерицами. Как ссыльный, прикрепленный НКВД к одному месту, он не может никуда уехать. На квартиру его боятся брать, да и платить за квартиру нечем. Уже в октябре, когда лежал снег, один добросердечный колхозник разрешил Борису Николаевичу и двум таким же репрессированным, один ученый, немец Крюгер, другой русский, фамилии его не помню, спать в стоге сена на огороде, где они вырыли себе дыру. В конце ноября эти двое умерли от голода и холода, Бориса, совершенно больного, а в начале декабря подобрал колхозный агроном Грушецкий, не побоявшийся принять его к себе. Живя у него на русской печи в кухне, Борис Николаевич отбыл последний год ссылки, после чего ему было предоставлено право выбрать для жительства какой-нибудь город подальше от Москвы.
Он предпочел Ставрополь-Кавказский[149], так как там жил единственный его родственник, бывший муж его сестры, разошедшийся с ней и женившийся на невесте Бориса Николаевича, профессор зоотехники Макаров. К этому-то родственнику, человеку очень сердечному и глубоко любившему Бориса, он и приехал в Ставрополь. Все решительно документы были отобраны у Бориса НКВД при аресте в Москве и не возвращены при освобождении под предлогом, что они «утеряны». У него не было решительно ничего, кроме паспорта с роковой отметкой НКВД. И всё же, благодаря опять-таки энергии, решимости и тому, что «птица была видна по полету», он устраивается на работу в пединституте, краевом музее, в средних школах города, где он преподавал русский язык, литературу и немецкий язык. Приехав в Ставрополь в апреле 1936 г., он в октябре 1936 г. женится на студентке пединститута Нине Ивановне Капраловой. В 1939 г. жена, по окончании пединститута, получает назначение в среднюю школу в городе Черкесске, а Борис Николаевич переводится, как преподаватель, в черкесский пединститут и педтехникум. В 1941 г. семья возвращается в Ставрополь. С началом войны нахлынувшие из занятых немцами областей беженцы отбирают работу и у Бориса Николаевича и у жены. Жена устраивается машинисткой в Горздрав, а Борис Николаевич, чтобы не умереть с голоду самому и сыну [Лоллию], поступает сторожем в совхоз. Здесь он с апреля 1942 г. живет в камышовом шалаше вместе с четырехлетним сыном, которого буквально спасает от голодной смерти теми капельками молока и меда, которые ему выдают в пайке. Приход немцев в августе 1942 г.[150] застает его еще в совхозе, в шалаше сторожа, но уже через неделю он – редактор первой русской свободной газеты[151], ведет огромную общественную работу, пользуясь своим положением и влиянием на немцев, может быть в силу прекрасного знания немецкого языка, он добивается освобождения ряда военнопленных и помогает, чем только может, попавшим в какие-либо трения с немцами. Русских он никогда не оставлял без помощи, даже рискуя свои положением, ненавидя смертельно тех переводчиков из русских, которые разом усваивали крайне пренебрежительный тон в отношении своих же русских и говорили с ними не иначе, как сквозь зубы.
В январе началось отступление немцев, вместе с ними катилась и «Пропаганда К»[152], при которой была редакция газеты. Но в любых условиях, даже только при трехнедельной остановке в каком-либо из городов на пути отступления, газета неизменно выходила[153]. Личная трагедия Бориса Николаевича – потеря им семьи при отступлении – заставила его оставить пост редактора и уехать с группой журналистов в путешествие по Германии в 1943 г.[154] Семья, жена и сын, силой занесенные за Киев, на границу Белоруссии, несмотря на тяжелейшую военную обстановку, да еще в условиях отступления, все-таки пробились к «Пропаганде К» в Симферополь. Приехали они тогда как раз накануне Пасхи и явились в Пропаганду в тот момент, когда начальник ее, доктор Шулле[155], выходил, чтобы сесть в самолет и лететь в Берлин. Он привез весть о спасении жены и ребенка Борису Николаевичу, когда тот стоял в храме во время заутрени.
В дальнейшем соединившаяся вновь семья кочевала с редакцией и немцами до февраля 1944 г., когда большая часть сотрудников редакции была выслана в Германию. Но Борис Николаевич разом получил назначение в Белград, где в одиночку компоновал большую русскую газету, выходившую два раза в неделю на шести страницах. Жена работала литсотрудником, машинисткой и корректором. После сдачи Белграда – снова Германия и работа в русских газетах, выходивших в Берлине, потом назначение, вернее узаконенное немцами бегство в Италию, в казачий стан в Толмеццо, оттуда после ряда приключений, чуть не стоивших жизни каждому из членов семьи, описанных отчасти Борисом Николаевичем в «Ди-Пи в Италии», после прихода англичан бегство от лап красных сталинских партизан в Венецию. Здесь в 1945 г., в палаццо Фоскарини, бывшем колледже фашистской молодежи, а теперь приюте беженцев, Борис Николаевич сначала пишет статьи для местной газеты, которые переводит на итальянский язык Ирина Доллар, студентка славянского факультета венецианского университета, а потом, по заказу издателя Монтворо[156], пишет книгу «Современная русская литература»[157], переведенную на итальянский язык той же Ириной Доллар. Книга вышла, мы получили свои авторские экземпляры, но ни гроша больше. Договор с иностранцем, не знавшим совершенно итальянского языка, был составлен настолько мошеннически, что даже адвокат Кроче Росса[158], прочтя его, отказался что-нибудь предпринимать в отношении Монтворо, признав дело безнадежным. Единственным гонораром за эту книгу в 256 страниц были двадцать тысяч лир, данные Борису Николаевичу накануне высылки его из Венеции коммунистическим муниципио[159] его покровителем, профессором Палукини[160] из собственного кармана.
Дальше идет римско-лагерный период, когда Борис Николаевич не больше, как продавец кукол, изготавливаемых женой из тряпок. Начинает он вновь писать только с 1948 г. Первая его вещь, «Соловецкая заутреня», была напечатана в «Русской мысли» в числе пасхальных рассказов. Затем следует там же ряд очерков. Борис Николаевич работает по ночам, когда стихает лагерный гвалт, шум, пение, плач, при свече, работает упорно, лихорадочно. Посылает ряд статей в «Часовой»[161], потом в «Знамя России»[162] и, наконец, в «Нашу страну»[163]. В 1948 г., в апельсиновом саду лагеря Пагани[164], он пишет первую свою вещь «Уренский царь», принятую Мельгуновым[165] и помещенную в «Возрождении»[166] в 1950 г., затем «Последний барин», «Ванька Вьюга», напечатанные также в «Возрождении», «Овечья Лужа» и «Горка Голгофа» – в «Гранях». В 1952 г. в Аргентине выходит его первая книга «Ди-Пи в Италии»[167], затем вторая – сборник рассказов «Я – человек русский» и третья – серия очерков «Светильники Русской Земли». В 1954 г. в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке книга «Неугасимая лампада». В 1958 г. в «Гранях» «Кудеяров дуб», изданный также отдельной книгой издательством «Посев»[168]. Три года Борис Николаевич писал всюду, решительно во всех русских изданиях, главным образом в «Знамени России», «Нашей стране», не получая буквально ни гроша платы (за исключением «Часового», редактор которого Орехов[169] время от времени находил возможным пересылать кое-какие незначительные суммы). Он не мог оставить своего ремесла продавца кукол, так как это был единственный источник заработка, дававший ему возможность покупать главным образом чай, без которого он не мог работать, не мог мыслить, но не сахар к нему, так как на сахар денег не хватало, необходимы были еще свечи, бумага, оплата корреспонденции… Он весь сам горел на этой работе, отдавал ей все свои силы. Только с 1952 г., когда план отъезда решительно провалился из-за туберкулеза[170] Бориса Николаевича, он осмелился попросить платить ему хотя бы что-нибудь, после чего «Наша страна» соблаговолила высылать по 15 долларов в месяц, а Чухнов, «Знамя России», присылал время от времени что мог. В 1954 г. имя Бориса Николаевича было в зените известности. Поразительная плодовитость и многообразие его таланта, его разносторонность завоевали ему симпатии, кажется, решительно во всех кругах зарубежной эмиграции. Вот вам один трогательный факт: в 1953 г. одна старушка из приюта для стариков в Австрии прислала Борису Николаевичу один доллар «на молочко», так как она слышала, что у него туберкулез, и из деликатности даже не дала своего адреса, «чтобы вы не вздумали вернуть мой подарок».
В 1954 г., 4 января, в лагере Капуа, по приказу директора лагеря и докторши, Бориса Николаевича силой схватили местные полицейские, усадили в машину и отправили под конвоем карабинеров в «санаторий» для туберкулез[ных]. Этот «санаторий» был жульнической махинацией лагерной администрации и одного доктора, работавшего в Баньоли, транзитном лагере, где делались все формальности по эмиграции и проводился медицинский осмотр. Итальянская развалка, наскоро и небрежно приспособленная под жилое помещение, была выдана под «санаторий для туберкулезных». Условия были ужасны. Но ужаснее всего был сам приговор, обрекавший заключенного туда жить там до конца своих дней, разлученным с семьей. В лагерь, где оставалась семья, он не имел права входа. В помещении «санатория» день и ночь держались открытыми настежь окна, когда за стенами его лил дождь и свирепствовал холодный ветер, ведь это был январь. К моральному и психическому потрясению человека, насильно разлученного с семьей, лишенного возможности творить, писать, обреченного на пожизненное заключение в этих условиях, присоединилась еще жестокая простуда, которая, очевидно, и привела его к концу. Через пять недель пребывания в этом аду Борис Николаевич добился отпуска в Рим, обил там все пороги в соответствующих учреждениях, просил, молил дать ему возможность, если не жить в лагере, то хоть на квартире, но, конечно, ничего не добился. Русские организации, вроде Толстовского Фонда в Риме, просто умыли руки, заявив, что это не их дело. В «санаторий» Борис Николаевич не вернулся, а сбежал, не имея абсолютно никаких документов на право жительства вне лагеря. В Риме он был в начале февраля, и весь февраль в дальнейшем он прятался по различным развалкам, необитаемым, заброшенным замкам, кое-когда удавалось ночевать в публичных домах, и это уже было счастьем. Всё время стояла адски холодная погода, дождь и ветер. Лоллик на велосипеде, прячась и заметая следы, возил в очередную развалку отцу еду, сухое белье и папиросы. Чухнов, узнавший о положении Бориса Николаевича, вымолил у князя Белосельского[171] триста долларов и прислал их на имя жены. Эти деньги помогли купить свободу Борису Николаевичу, то есть документы, разрешавшие ему жить вне санатория и вне лагеря на квартире. Оставшаяся в лагере семья вела в то же время упорные хлопоты о разрешении выйти из лагеря и жить на собственной экономике. Только через три месяца Борис Николаевич соединился вновь с семьей, на полученные за «Неугасимую лампаду» деньги купил в предместье Сан-Ремо, на склоне горы, кусочек пустыря, где героическим трудом всей семьи был построен домик в две комнаты и на заросшем бурьяном пустыре создан райский уголок. Но здоровье Бориса Николаевича было уже сильно подорвано. Работать как прежде он уже не мог. Постепенно он отошел от журнальной работы, а «Кудеяров дуб» писал совсем уже больным. История с «санаторией» безусловно преждевременно свела его в могилу[172]. Но его упорство сыграло свою положительную роль для других: на «санаторий» обратили внимание кое-кто, стоящие выше, и пожизненное заключение беженцев из лагерей было отменено и заменено временным, по усмотрению контролера Неаполитанского округа.
Алексей Ростов Памяти Б. Н. Ширяева
Впервые я встретил Бориса Николаевича в редакции «Мелитопольского Края» в марте 1943 г., когда он вел эту ежедневную газету, после эвакуации Ставрополя, где он редактировал основанное им «Утро Кавказа».
В частых беседах мы вспоминали советские концлагери, в которых он побывал еще раньше меня в 1922–1927 гг. Нас сближало одинаковое отношение к антибольшевистской борьбе: оба мы считали необходимым без двурушничества сотрудничать с антибольшевистскими силами, работать над возрождением национального самосознания, и относились отрицательно, как к покровительствуемым немцами сепаратистам, так и к якобы раскаявшимся чекистам и политрукам.
Борис Николаевич в ту пору тосковал по семье, с которой расстался при эвакуации Ставрополя, но, верный долгу, принял приглашение поехать в Дабендорф на курсы пропагандистов Русской Освободительной Армии. Мы вновь встретились с ним летом того же года в Симферополе, куда он вернулся в мундире капитана РОА с надетыми им погонами Императорской Армии, которых не имели другие его спутники; их сохранил он еще со времени своего участия в боях Императорской и Добровольческой Армии, за что и заплатил он тяжкими пятью годами Соловков и затем 15 годами травли в роли бывшего политзаключенного.
Здесь в Крыму он выступал с докладами и пользовался неизменным успехом, печатал статьи, которые сбрасывались с самолетов над покинутым им Кавказом, где он вновь обрел возможность литературного труда и простор своему несомненному таланту журналиста. Дальше нас свела еще раз судьба в Белграде, где осенью 1944 г. буквально один он писал два раза в неделю газету на шести страницах при помощи супруги Нины Ивановны, выполнявшей роль литературного сотрудника, машинистки и корректора. Помню, как тяжело переживал Борис Николаевич приближавшееся наступление армии ген. Толбухина[173]; милый славянский Белград, приют лучшей части «старой» эмиграции, готовился пройти скорбный путь наших русских городов.
Дальше с Борисом Николаевичем довелось встретиться уже после крушения нашей борьбы в подлую эпоху «охоты за нашими черепами» ищеек генерала Голикова из его репатриационных комиссий[174]. Проживая то в Риме, то в лагерях, красноречиво описанных в книге «Ди-Пи в Италии», Борис Николаевич искал среди эмиграции силы, на которые можно опереться. После кратковременного участия в выпуске полулегального монархического бюллетеня «Русский Клич», Борис Николаевич начал сотрудничество в «Нашей Стране» и получил духовную и материальную поддержку от Ивана Лукьяновича Солоневича, который в глазах Б. Н. Ширяева был наиболее ему политически близким среди политических деятелей эмиграции. Борис Николаевич примкнул к Народно-Монархическому движению и еще в одной из последних своих статей в «Посеве» подчеркивал свою верность его идеологии. В «Библиотеке Нашей Страны» вышли его первые литературные труды «Ди-Пи в Италии», «Светильники Русской Земли» и сборник «Я – человек русский», которые создали ему литературное имя и обеспечили возможность печатать свои книги в «Гранях», в Чеховском Издательстве, в издательстве «Посев».
Борис Николаевич постоянно искал случая сотрудничать со всеми течениями эмиграции при условии их политической активности и непримиримости к большевизму, что вызвало нарекания на него в различных политических кругах и группировках.
Но, сейчас, перед свежей его могилой, надо признать его несомненные достоинства.
1. Большой литературный талант, не потухший в тюрьмах, ссылках, терзаниях и скитаниях сначала по разным уголкам порабощенной Родины (Туркестан, Россошь, Ставрополь, Черкасск – б. Баталпашинск) и фронтам и тылам последней войны, затем по лагерям Ди-Пи; его язык безукоризнен, образы ярки и доходчивы, мелкие его рассказы дают прекрасные зарисовки советского быта и пользуются успехом во всех кругах нашего рассеяния, делая автора одним из наиболее популярных писателей Зарубежья.
2. Поразительная трудоспособность и плодовитость при широком диапазоне в тематике. Мне довелось видеть, как в Мелитополе он диктовал сразу на машинку статью на аграрную тему, затем – обзор военных операций на всех фронтах, потом остроумный фельетон; среди его работ, написанных в тяжело и красочно им описанных условиях лагерей беженцев, встречаем и исторические экскурсы в русское прошлое и прекрасные критические оценки нашей эмигрантской литературы и воспоминания пережитого то в концлагерях, то в сравнительно легкую пору Туркестанской ссылки, то в период сотрудничества с немецкими оккупационными властями, то среди скитаний по ранее незнакомой ему Европе.
3. Стойкий антибольшевизм, который мог его вести на путь политических промахов или сотрудничества с явно различными и чуждыми друг другу политическими группировками, но не допускал ни малейшего соглашательства с советским режимом, ни с советофильскими течениями соглашательского типа в нашей эмигрантской среде.
4. Вера в грядущее возрождение национально мыслящей и свободной России; несмотря на свое происхождение из дворянской помещичьей семьи, Борис Николаевич видел в будущем победу Народно-Монархического движения; оно, по его мнению, наиболее ответствует идеалам современных русских людей, которые после свержения большевизма не помирятся ни с какими попытками сохранения полубольшевистских или социалистических пережитков лихолетья; известная нам богатая страданиями и наблюдениями жизнь Бориса Николаевича позволяет верить в его большой житейский и практический политический опыт, в его знание русского народа, среди которого он жил, боролся и скитался в течение четверти века советской неволи.
Не пришлось Борису Николаевичу ни дожить до радостного возвращения на свободную русскую землю, ни повидать Новый Свет, в который он постоянно стремился; прах его покоится в той земле, на которой он прожил далеко не легкие последние 15 лет своей жизни, неразлучно с постоянной своей сотрудницей, другом и женой Ниной Ивановной, которой выражаем наше сочувствие.
Италия, где он написал свои литературные труды, поставившие его на одно из первых мест среди писателей нашего рассеяния, внесшего его имя в анналы родной словесности, приняла гостеприимно прах еще одного русского писателя.
«Наша страна», № 488,
Буэнос-Айрес, 4 июня 1959 г.
Евграф Лапко Встречи с Борисом Ширяевым
I
Недавно в нашем «ближнем зарубежье» появилась «Неугасимая лампада». Привлекло не столько название книги, сколько имя ее автора. Полистал предисловие и не ошибся, да, это мой Борис Николаевич!
Когда-то в детстве, проживая с родителями на Северном Кавказе, я был близко знаком с этим интересным человеком. Он учил меня русскому и литературе в 6–7-м классах. Наши семьи жили в то время под одной крышей маленького домишки на южной окраине Черкесска. Электричества там не было, но захваченный вступавшими в жизнь электро-радио-чудом я строил батареи, и тусклую керосиновую лампу на столе обычно дополняла кроха от карманного фонаря.
На этот огонек, в далекие зимние вечера, и заходил наш новый сосед, коллега отца по школе, почти его ровесник – Ширяев. Чаще один, иногда с маленьким сыном.
Тогда моя мать ставила самовар, отец приносил шахматы, а трехлетнего Лолика брал под свою опеку я. Увлекал его машинами из детского конструктора, моделями кораблей и самолетов, музыкой и таинственными голосами из наушников самодельного радиоприемника.
Иной раз мы сбегали на морозный двор, где весело катались на лыжах и санках. Бывало, впрягали в сани большого рыжего «Алгебру» – так назвал Борис Николаевич приблудившегося во двор, умного пса, и он таскал нас, как эскимосов, быстрой собачьей рысью по заснеженной целине луга и сада.
Накатавшись вдоволь, снова возвращались в квартиру, поспевая на заключительную, самую интересную часть вечера, когда откладывались в сторону шахматы и начинались рассказы гостя о былом.
Он любил вспоминать свое детство и юность, жизнь в родной Москве, университет, отца-профессора и его библиотеку, особенно – годы учебы и странствий за границей. Реже говорил об ужасах Первой Мировой войны, участником которой был и совсем скупо о тяжких годах после революции, о личной трагедии, о страшных Соловках, о неусыпном внимании к себе и постоянной опеке советской власти.
Но как рассказывал – живо, ярко, увлекательно! Такими же интересными были и его уроки. Планов он не признавал. Никогда их не писал. В класс приходил с томиком Пушкина или Лермонтова. Сам очень любил стихи и прививал эту любовь нам, школьникам.
Больше говорил, чем спрашивал. Слушали его, раскрыв рты, позабыв обо всем на свете, самые хулиганистые ученики.
– Мировой мужик, новый учитель! – оценил наш здоровенный ежегодный второгодник Ерема.
И вскоре свершилось чудо. Ленивый и безразличный ко всему, что касалось учебы Еремей, стал учить русский язык, учить и даже читать стихи!
В 1940 г. с мальчишками нашего 6-го «А» Ширяев поставил на школьной сцене «Бородино». По его рисункам и эскизам всем классом целый месяц готовили декорации, строгали ружья с длинными штыками, клеили кивера и амуницию, а наши матери шили из старья мундиры и белые штаны с лампасами.
Первое представление прошло с большим успехом. Я играл старого служаку. Отвечая на вопрос: «Скажи-ка дядя…?», усаживался на бревно, по настоящему раскуривал трубку, закручивал наклеенный ус и степенно начинал рассказ молодым солдатам о «Людях нашего времени».
Хорошее оформление, необычайные костюмы и оружие тех давних лет, а главное – чудные лермонтовские стихи, приводили в восторг не только юных, но и взрослых зрителей.
Приглашенные на вечер родители, в основном кубанские казаки, для которых тема войны и защиты отечества, всегда была родной и близкой, устроили нам в конце бурную овацию.
По-другому не могло и быть. Как не меняла новая власть имя бывшей станицы на городское – г. Баталпашинск, г. Сулимов, г. Ежово-Черкесск, и наконец, в 39-м – Черкесск, а суть оставалась прежней, казачьей.
В начале лета наше Бородино признали лучшим на смотре детского творчества. Радовались мы, исполнители, те же чувства испытывал и наш художественный руководитель. На большой сцене областного театра, где вручали грамоты, Борис Николаевич благодарил нас и как взрослым, крепко жал руки.
И всё бы ничего, но был за ним один грех. Свою отрешенность от нового строя и неусыпное внимание властей, Ширяев заливал водкой.
Благо в молодой советской стране, недостатка в ней не было. Иногда, на второй или третий день, когда жена уходила на работу, а сам он добраться до магазина уже не мог, подзывал меня, вкладывал в ладонь шесть рублей с мелочью, хлопал по плечу и говорил негромко, хрипя: «Выручай, дядя!».
Просьбу приходилось выполнять.
Однажды отец, заметив мое возвращение с бутылкой в сумке, сказал после: «Очень нехорошо это. Но водка для него единственное лекарство. Без нее ему на ноги не встать. Потому, сынок, помогай!».
Бывало возвращаясь вечером, Ширяев добирался до самой канавы, что отделяла нашу усадьбу от луга, но преодолеть мосток в одну доску сил уже не хватало. Там на траве он сваливался передохнуть.
«Алгебра» быстро находил хозяина, летел к дому, царапался в стекла ширяевских окон.
Выбегала жена, за ней взлохмаченная тетя Клодя, в хвосте плелся Лолик.
Призывали на помощь кого-нибудь из нас. Сообразительный пес вел людей прямо к неподвижному телу.
Взрослые брали Бориса Николаевича под руки и ноги. Начиналась транспортировка на квартиру. Нам с Володей, чаще доставались шляпа и трость. Иногда подбирали спавшие с ног, стоптанные башмаки. Тогда под луной, сквозь большие дыры на носках, серебрились пятки моего учителя.
Вскоре объявились и первые неприятности. Сначала мелкие, после покрупнее. Если в школе опоздания и пропуски уроков как-то прощались, то в учительском институте, где Ширяев преподавал немецкий язык, мириться с этим не стали.
Как раз вышел указ о прогулах и опозданиях. Бориса Николаевича привлекли к суду.
Мой тесть, тогдашний завуч института, уже после, в шестидесятые годы, когда заходила речь о Ширяеве, рассказывал, как тот вел себя на суде.
На вопрос судьи: «Ваше происхождение» – отвечал громко, резко, почти по слогам: «Дво-ря-нин!»
– Ваше образование?
– Дважды высшее. – Московский и Геттингенский университеты!
– Ваше бывшее воинское звание?
– Штабс-капитан!
И так возбужденно и грубо до самого конца судебного заседания. Видимо вопросы и тон, каким судья их задавал по пустяшному делу, только злили и раздражали, прошедшего тюрьмы и лагеря Ширяева.
Несмотря на приговор, ранее определенный указом – 25 процентов зарплаты в пользу государства, Борис Николаевич пить не перестал.
А вскоре и вовсе покинул Черкесск, переехав с семьей в Ставрополь.
Нам, мальчишкам, особенно жаль было расставаться со своим кумиром. Помогли погрузить нехитрые пожитки на школьные дрожки и провожали до самой автостанции.
Там, прощаясь, я сказал: «Кидаете своих гусаров, Борис Николаевич? Хоть фото оставьте на память!»
– Другим старался не оставлять, – ответил он, – но вам подарю! Достал бумажник, вытащил небольшую фотографию и карандашом сделал надпись:
Моим друзьям, моим гусарам, Потомкам воинов лихих. Спасибо, Дядя, я не даром Учил тебя читать стихи! С уважением Б. ШиряевБольше мы с ним не виделись, но сам Борис Николаевич, крепко запал мне в душу, а его имя после не раз встречалось на моем жизненном пути.
Прошло совсем немного времени и началась война. Проводили на фронт выпускников-десятиклассников. Из десяти мальчишек того класса в живых осталось только трое. Осенью ушел и наш переросток Еремин, что спрашивал меня на сцене про «Спаленную Москву».
Он так и не вернулся с поля боя. Пропал без вести где-то в Крыму, в грозном 42-м.
А немцы тем летом, упоенные победами, уже покоряли вершины Кавказа.
Но ненадолго. В январе 43-го пришел и мой черед идти под ружье. Я стал красноармейцем. (Слово солдат тогда еще не вошло в обиход – его относили только к завоевателям).
Сформированный в Ставрополе из молодежи края, наш 123-й пехотный полк стоял в городе месяца два. Зима была снежной, холодной. Обогревались в казармах большими железными бочками из-под немецкого бензина.
Как-то добывая дрова в разрушенном здании, я подобрал кусок газеты. (На войне и это Божий дар для самокрутки). Газета была времен оккупации. В самом низу прочитал: «Утро Кавказа». Гл. редактор – Б. Ширяев.
Прошло еще месяца три.
С Кубанских плавней полк перебросили под Харьков. Там догнало меня письмо из дому. Писал отец о тяжкой, скудной и голодной жизни, о родственниках и знакомых, об оставшихся друзьях-одноклассниках, а в самом конце: «О своем учителе больше не спрашивай. Он продался фашистам. В Ставрополе редактировал газету и бежал с немцами на запад. Думаю, не нужна тебе теперь и память о нем».
Отца явно тревожила фотография Ширяева и мои расспросы про него в каждом письме, да еще и с черным штемпелем – «Просмотрено военной цензурой».
Долго еще гремела вторая половина войны, но еще дольше (целых пять лет) после ее окончания, пришлось мне служить «за того парня»[175].
Домой вернулся с солдатским вещевым мешком, да безнадежно забытым, своим восьмилетним образованием.
Но учебу осилил. В середине пятидесятых, уже окончил пединститут и преподавал физику в одной из школ города.
Обзавелся семьей. Как-то жена принесла из школьной библиотеки журнал – «Наука и Религия». Развернула: «Посмотри, может, узнаешь?» Надпись под снимком прикрыла рукой.
С журнальной страницы, из-под военной высокой фуражки, смотрел, чуть прищурив глаза, немецкий офицер.
– А черт его знает!
С тем же вопросом обратилась она к свекрови.
– Ширяев это! – не раздумывая, опознала мать.
Да, то была новая, неожиданная встреча с моим учителем!
Как я сразу не узнал вас, Борис Николаевич?
Видно все эти годы работала пословица: «С глаз долой и из сердца вон!» А может, подвела немецкая форма?
Всматриваюсь в фотографию. Кажется, всё осталось прежним – тот же разворот и гордая посадка головы, удлиненное лицо с тонкими губами, четкие дуги бровей и глубокая морщина между ними. Остались даже неизмененными глаза, с особым, ширяевским прищуром.
Снова, и в который раз, пожалел, что не уберег то, давнее фото. Как бы сейчас пригодилось.
А вот гебисты не выбросили, сохранили! И еще добавили одно. Тут только рассмотрел я нашивку на левом рукаве: «РОА» – Русская Освободительная Армия! Понятно, что власовец.
Тяжко ему было рвать связи с Россией. Хотелось очень хоть одним боком, хоть только названием, но быть вместе с отчизной.
Отшумело полстолетия. Теперь на склоне века и своих лет, на берегах седого Днепра, куда забросила меня судьба под конец жизни, еще одна и видно последняя встреча.
Многое осветила «Неугасимая лампада». Стали понятными жизненные зигзаги и тяжкий, неровный путь ее автора после 17-го года, через жуткие Соловки, через окраины России, через ряды РОА и новые скитания за границей.
Счастье Ширяева, что попал он на острова в числе первых заключенных, когда молодая соловецкая власть делала еще робкие шаги, только училась карать и наказывать. Оттого и дозволялось многое, что запретили позже – и собственный НЭП, с коммерческой столовой и оркестром, и свой театр – «Хлам» и праздники с богослужениями, свободный выход для «каэров»[176] за пределы кремля и даже агитработа в неприступных для других, женбараках.
Но Ширяевых там были единицы, не всякий мог свободно изъясняться на трех иностранных языках, играть на лагерной сцене первых любовников, писать стихи и рассказы в лагерный журнал и перевоспитывать падших женщин.
Основная масса каторжного люду несла свой тяжкий крест – рубила заповедный лес, вязала плоты в ледяной воде, добывала торф, изнывая под комарьем, голодала и умирала, пополняя «Шестнадцатую роту».
Но Борис Николаевич выжил и оставил людям свою книгу. За первый досолженицынский «Архипелаг Гулаг» – спасибо, учитель!
Жаль только, на родину попал он слишком поздно.
(г. Черкассы)
«Наша страна», № 2285,
Буэнос-Айрес, 21 мая 1994 г.
II
Приятно удивлен и обрадован душевным письмом и дорогим для меня подарком – неизвестными доселе для меня книгами Б. Н. Ширяева. Большое спасибо за очередную встречу с моим учителем. Это уже шестая, по счету. Пятую устроил П. Г. Паламарчук[177], прислав ксерокопию вашей газеты с юбилейной публикацией к 100-летию со дня рождения Б. Н. Ширяева[178].
Рассказы читал и перечитывал, отыскивая новые подробности из жизни хорошо знакомого мне человека.
Встретился снова не только с Борисом Николаевичем, но и с близким его окружением. Всё опозналось и сошлось – и трехлетний Лоллик, с которым играли под столом, и его молодая мама, и согнутая в дугу тетя Клодя, со своим кленовым посошком и очень трудным отчеством.
Перекочевал под Ставрополь, к буртам колхозной картошки и образ лохматого и рыжего кобеля – Алгебры. (Заметьте, сошлась у нас даже масть!) Хотя на самом деле верный пес остался в Черкесске и долго еще скучал по доброму хозяину.
Многое вспомнилось из детства, лучшей поры нашей жизни, – имена, города, события и люди. Стал понятней и жизненный путь самого Бориса Николаевича.
Очень рад, что мои воспоминания о писателе появились на страницах вашей газеты (номер 2285), так как на родине они читателя не увидят.
Паламарчук в своем письме отметил, что за рубежом Ширяева лучше знают, чем в России.
Даже из родного Черкесска, где я проживал до 1988 г. и иногда печатал заметки в областной газете, редактор прислал короткое: «Вашу статью напечатать не можем».
Видно там, несмотря на крутые перемены (автономная область давно уже суверенная республика), ничего в сущности не изменилось.
Что касается Украины, то здесь Борис Николаевич и вовсе чужой. Пусть хоть за океанами, больше узнают о нем наши русские люди.
Посылаю фотографию Борис Николаевич, которую сохранили в КГБ (переснята мной из журнала «Наука и Религия», 60-е гг.).
Если кому-нибудь известно что-либо о судьбе сына Бориса Николаевича, Лоллика, очень прошу сообщить.
«Наша страна», № 2309,
Буэнос-Айрес, 12 ноября 1994 г.
Владимир Рудинский Дела давно минувших дней
Разбирая творчество Б. Ширяева, в статье «Писатель-монархист» в номере 2048 «Нашей Страны», П. Савельев перечисляет печатные органы, где тот работал, и называет «Возрождение», «Грани», «Нашу Страну», «Знамя России» и «Жар-Птицу». Список неполон; и в частности, в нем отсутствует «Часовой», в котором была опубликована серия очерков под общим названием «От Ставрополя до Берлина», за подписью Алексей Алымов.
Мне это врезалось в память потому, что я тогда, заинтересовавшись автором, написал в редакцию брюссельского журнала и получил оттуда его адрес, в одном из итальянских лагерей для перемещенных лиц. Фамилия была сильно перепутана (Seiriavaz вместо Sciriaiev); однако, мое письмо таки дошло по назначению; я получил любезный ответ и между нами установилась связь.
Поначалу между нами царили согласие и наилучшие отношения; Борис Николаевич даже именовал меня своим духовным сыном (он ведь был гораздо старше меня) и помянул добром в нескольких строках своей книги «Ди-Пи в Италии» (каковую я считаю самым лучшим из его произведений).
К несчастью, наша переписка окончилась ссорой и разрывом, о коих я теперь, ретроспективно, горько сожалею; но тогда все выглядело иначе, и трудно сказать, могло ли обернуться по-другому.
Конфликт произошел по поводу солидаристов. Ширяев считал, что монархистам надо с ними заключить союз (не совсем себе представляю, в какой форме); вероятно, это немало зависело от его сотрудничества в «Гранях».
Я же относился к НТС резко отрицательно. Помимо прочего, тому содействовали такие явления. В первые еще годы во Франции я, в составе группы новых эмигрантов, – как теперь бы сказали, из второй волны, – направил к Великому Князю Владимиру Кирилловичу обращение с выражением нашей преданности. Оно увидело свет на страницах аргентинской газеты «Вестник» («Нашей Страны» тогда не существовало).
В «Посеве» Е. Романов, один из вождей нацмальчиков, реагировал на него передовицей с издевательствами по поводу «попыток гальванизировать полусгнивший труп российской монархии» и со злобными выпадами лично по моему адресу.
Это рисует отношение к монархической идее тогдашних энтеэсовцев или, во всяком случае, их головки. Возможно, Борис Николаевич имел дело с людьми иного толка; которые порою в той же организации попадались (но, сколько могу судить, никогда в ней не делали погоды).
Для будущих историков зарубежной русской литературы и тем более для таковых монархического движения за рубежом, данные штрихи из биографии Ширяева могут оказаться, пожалуй, не лишенными ценности. Почему я их здесь и восстанавливаю. Вообще, грустно, что до сих-то пор история нашего движения не только не написана, но и ни в какой мере не подготовлена. Плохо, если ее будут сочинять наши враги, у которых, понятно, свой взгляд на вещи!
Попав в эмиграцию сразу после Второй Мировой войны, я имел сношения, по меньшей мере эпистолярные, с людьми как Б. Ширяев, Л. Норд и сам И. Солоневич, а во Франции и личные, с такими как Е. Ефимовский и даже князь Горчаков (считавшийся самым крайним зубром).
В те годы общественная жизнь в Париже до некоторой степени бурлила. Собрания, доклады, лекции, – в том числе монархические, имели место почти каждую неделю. Действовали 5 или 6 монархических организаций, противопоставлявшихся левым, включая и солидаристов. Собрания и доклады сопровождались часто оживленными спорами.
Относительно короткий период борьбы с совпатриотами, главарей которых французское правительство выслало в конце концов в СССР, утратил остроту после их разгрома; хотя один из их печатных органов, газета «Русские Новости», продолжал еще долгое время выходить.
«Русская Мысль» оказалась с самого своего создания захвачена в руки левыми и стала оплотом антинациональных сил. Журнал «Возрождение» никогда не являлся открыто монархическим, но по духу в основном им был. То же можно бы сказать и о даже более еще правой газете «Русское Воскресение», просуществовавшей, увы, всего года два. Такое положение предопределило постепенную деградацию русской эмиграции, не только во Франции, а и в Европе в целом (вернее, в том, что от Европы осталось, после торжества большевиков).
Мы держались тем, что издавалось в других странах, главным образом заморских. Нью-Йоркская «Россия» (опять-таки, отнюдь не полностью монархическая), «Знамя России» Чухнова в том же Нью-Йорке (до этого он выпускал журнал, несколько раз менявший название, – в результате цензурных преследований, – в Германии, «Русский Голос» в Италии, «Русский Путь», первоначально под редакцией Ефимовского, печатавшийся на ротаторе, выходил, положим, в Париже, но с перерывами и не мог иметь должного резонанса.
Во всех этих изданиях я принимал активное участие; писал и в вовсе не монархических органах, где можно было кое-какие нужные мысли провести в печать, – «Русская Жизнь», даже «Новое Русское Слово». «Русская Мысль» была в этом отношении абсолютно безнадежна, и с нею контактов я избегал.
Сейчас мы видим пробуждение монархических чувств в самой России, – то, о чем всегда мечтали. Значит, наша работа велась не зря; важно было, чтобы «свеча не угасла». Теперь из искры возгорается пламя, по ту и по сю сторону советских рубежей; дай Бог, чтобы они слились в единый огонь, очищающий нашу страну и весь мир от коммунистической скверны!
«Наша страна», № 2078,
Буэнос-Айрес, 2 июня 1990 г.
Аркадий Слизской[179] Ди-Пи в Италии
Книга Б. Ширяева «Ди-Пи в Италии» (изд. в Буэнос-Айресе) – это книга о тех отверженных, бесправных и затравленных людях, которые под странной и нелепой кличкой «Ди-Пи» стали известны после войны всему миру. Книга о людях, превратившихся на много лет в странников, не имеющих крова, «униженных и оскорбленных» и «без вины виноватых». Книга о тысячах человеческих жизней, брошенных под опеку бездушных чиновников и учреждений, не умеющих и не желающих разобраться ни в людях, судьбы которых от них зависели, ни в событиях, которые создали трагедию этих людей.
Длинный ряд происшествий и эпизодов из жизни отдельных лиц и целых групп, событий, по большей частью жутких и трагических, проходят перед глазами читателя. Сколько горьких разочарований, несчастий, драм исковерканных жизней и безрассудных смертей произошло с людьми опекаемыми пресловутым «ИРО»! Во что обратилось это учреждение, по своему замыслу такое полезное и необходимое, благодаря невежеству, корыстолюбию, безнаказанности и легкомыслию лиц, его обслуживающих! Какое уродливое представление о демократии создалось у людей, имевших несчастье познакомиться с ней впервые при посредстве таких «демократических» учреждений, как «ИРО»!
Автор книги «Ди-Пи в Италии» принадлежит к породе тех «неунывающих» эмигрантов, которые так же знакомы всему миру еще с 1920 г.
Публицистический и репортерский опыт автора позволил ему описать свои и чужие скитания по Европе живо и в бодрых тонах. К сожалению, эта «бодрость тона неунывающего эмигранта», столь известная здесь, за рубежом, еще с двадцатых годов, в настоящее время потеряла прелесть новизны и приобрела неприятный привкус провинциализма.
Кроме того, Ширяев в книге своей, помимо желания рассказать о злоключениях русских Ди-Пи, много усилий употребил на пропаганду весьма узких политических идей одной из крайних эмигрантских группировок. Это последнее обстоятельство делает книгу тенденциозной и снижает впечатление о тех исключительно интересных фактах, свидетелем которых автору случилось быть.
Нельзя не отметить, что страстная неприязнь и презрение автора ко всякому проявлению «демократизма» являются, конечно, не совсем оправданными при оценке демократии вообще. Даже, к ели допустить, что вся порочность таких учреждений, как «ИРО» происходит от органических свойств демократической государственной системы, всё же придется признать, что те же органические свойства демократии породили также и ту исключительную терпимость, которая способствует созданию и оказывает поддержку сотням учреждений и организаций, при помощи которых мы, «непрошенные гости» и «лишние рты», могли и можем не только существовать физически, но и сохранять полную свободу своих суждений, зачастую явно недоброжелательных демократическим режимам.
Доказательством сему является факт существования хотя бы книги, о которой сейчас идет речь.
Эти азбучные истины, по-видимому, автору еще не совсем понятны по причине его «эмигрантской молодости».
«Русская мысль», № 628,
Париж, 29 января 1954 г.
Владимир Зеелер[180] Ди-Пи в Италии
Борис Ширяев (А. Алымов) пишет очень много. Есть ли периодическое русское эмигрантское издание, где не было бы строк Ширяева?
Звание его – профессор, занятие здесь, в изгнании – литература, журналистика, публицистика. Пишет Ширяев легко, свободно, а потому и читается легко и всегда с интересом. А рассказать он имеет о чем. Соловки, лагерные мытарства, советские мучительства – отложили в душе много такого, чего забыть нельзя до конца бренных дней. Не всё написанное попадало в руки, но то, что пришлось читать, читалось всегда с интересом.
Ушел профессор из России, освободился от «веселых забот» о нем тоталитарного «отца», стал «перемещенной персоной» и преуспел, несмотря на загрузку – «повременных» писаний – написать только что, в этом году, вышедшую большую, нужную книгу, в которой он поведал о жизни дипийной, о своих «путешествиях» по свету белому, не всегда добровольных, или вернее всегда недобровольных, за все эти годы знакомства его с Западом.
Книга, действительно, нужная, – это человеческий документ исторического значения. Это показатель той международной опеки, которая ведала всеми несчастными, выброшенными за пределы не только своей родины, но часто за пределы простой человеческой жизни.
Для этой опеки была создана международная организация широкого масштаба, с разветвлениями своих отделов во всех странах, где оказались Ди-Пи, с громадными средствами и такими же громадными штатами начальников, помощников, секретарей, чиновников, ревизоров и прочая, и прочая.
Получила эта организация тоже сокращенное, нарицательное наименование ИРО. И пишущий эти строки по долгу работы пытался не раз «сноситься» с начальниками ИРО и в Австрии, и в Германии, и Италии, и потому должно признать, что в книге Ширяева очень мало, что «выдумано». Наоборот, полагаю, что вся его «хроника событий» – правдивое изложение фактов. И эта хроника подлежит запечатлению для уяснения условий «жизни» послевоенного времени. В этом живописании вижу ценность этой книги.
Много любопытного, много интересного пришлось пережить Ширяеву за эти нелегкие годы, много поистине трагического, неожиданного, тяжкого и мучительного, и всё же всё пережитое не сломило того, я сказал бы, запаса жизненных сил, которым до сих пор профессор пользуется. Причем до странности вся книга пропитана некоторой долей здорового юмора и даже иронии. Ведь этакая способность сохранилась в этой, казалось бы, в конец истерзанной душе человеческой.
Я читал книгу с карандашом в руке, чтобы отмечать особо яркие факты, но подчеркиваний оказалось так много, что пришлось бы, если ими пользоваться для отчета газетного, переписать добрую часть книги.
И всё же хочется отметить, что и Ширяева иногда оставляет его юмор в этой книге, и он дает страницы, вызывающие своей теплотой искреннее волнение – такова глава о «втором турне Есенина»…
Не только много событий лагерных и не лагерных чередуются в какой-то фантастической последовательности, но удается знакомиться и с множеством встречавшихся на пути профессора людей… И немало все-таки в жизни настоящих людей с сердцем, и с душой, которые понимали человеческое, и горе, и скорби, которые старались все сделать, чтобы ближний почувствовал хоть немножко облегчения в этой сплошной юдоли печали.
А есть и «Никиты Сорины», которые не выдержали «западных свобод» и решили уходить к «любимому».
Разве нужно гадать о их судьбе? Ведь всем возвращающимся уготовано одно и то же блюдо от щедрот «мудрейшего».
Интересны и итоги «мелькнувших лет» – дает их «десятый круг Дантова ада». – Куда стремились, записывались и не попали: Начало «кругу» в году 1946.
В Аргентину, Венесуэлу, Чили – ростом не вышел. – Перу – лишние члены семьи. – Парагвай – чего-то в кармане не хватило. – Бразилию. Австралию. Нов. Зеландию – разом отпали но возрасту. – в Боливию – веса не хватило, в Канаду… И для всего этого: 37 посещений офисов по вызову, к ним 102 регистрации, медицинских процедур у профессора 21, у жены его 16 и у сына 15. К ним 62 регистрации. Присяга американскому флагу, что «не мошенник», 10 отпечатков каждого пальца «на тот случай, если я мошенник»… И еще: «курсы птицеводства, экзамены по садоводству, практикум по пчеловодству. – Итого три диплома»… И последний итог: сидел и сидит под благодатным, синим небом Италии, мастерит профессор кукол и продает их «в разнес» по ярмаркам, базарам, а то и по людным улицам… А «жизнь идет семейным кругом»…
Поучительная книга.
«Русская мысль», № 510,
12 декабря 1952 г.
Об авторе
Редактор издававшегося в Нью-Йорке эмигрантского монархического журнала «Знамя России», в номере от 20 мая 1959 г. писал:
«Будущие историки Зарубежья, литературные критики и библиографы оценят творчество незабвенного Ширяева и, вероятно, найдутся издатели, которые соберут из разрозненных комплектов всяких эмигрантских газет и журналов, включая и ротаторные, те алмазы, мимо которых мы, в толкучке нашей заграничной жизни, проходили, почти не замечая их. Эти алмазы не обеспечивали покойному даже сносного существования. Ценить своих выдающихся людей мы никогда не научимся».
Н. Н. Чухнов как в воду глядел, чему свидетельство – данное издание. Правда, «алмазов» хватило бы на несколько увесистых томов.
Весьма плодовитый литератор и публицист, Б. Н. Ширяев печатался (как под своей фамилией, так и под псевдонимами А. Алымов и Н. Удовенко) в целом ряду белоэмигрантских изданий, в том числе, кроме «Знамени России», в брюссельском журнале «Часовой», парижском «Возрождении», франкфуртском «Грани», калифорнийском «Жар-Птица» и в мюнхенской еженедельной газете «Голос Народа», органе власовского Союза Борьбы за Освобождение Народов России (CБОНР). Однако больше всего Ширяев сотрудничал в буэносайресской газете «Наша Страна», поскольку с ее издателем, Иваном Солоневичем, его связывала общность политического мировоззрения: Борис Николаевич был одним из руководителей основанного Солоневичем Народно-Монархического Движения. Свое кредо Ширяев выразил, например, в статье «Тропинки и путь» («Наша Страна» от 9 февраля 1951 г.):
Идея Российской Народной Монархии – не «экспортный товар». Она выношена всей жизнью многоплеменной российской нации, и я не представляю себе ни одного другого народа, способного воспринять и хотя бы частично реализовать ее. Для этого нужно иметь Дух Российской Нации: ее религию, ее историю, ее величие, ее падение, ее скорби, ее радости – ее трагически величавый путь во времени и пространстве. Доминанта Народной Монархии есть идея построения государства нового типа, чуждого в разной мере и сословной ступенчатости и партийно-парламентарной сословности. Она содержит в себе раскрепощение человеческой личности от кабалы сословных, экономических и партийно-политических групп.
Сие впрочем не означало, что Ширяев стал «народным монархистом» под влиянием Солоневича. Сам автор «Народной Монархии» признал это в статье «Совпадение идей»:
«Когда я в 1938–1947 гг. работал над своими книгами, у меня было ощущение „открытия Америки“, которое в данном случае сводилось к попыткам поставить русскую историю „с головы на ноги“… Теперь выясняется, что ничего нового в этом взгляде нет: и Б. Башилов, и Б. Ширяев, и В. Рудинский пишут, собственно, то же, что писал и пишу я. Люди живут в Германии, Франции, Италии. Их, кроме Бориса Башилова, я никогда и в глаза не видал. И тем не менее, ход мыслей иногда совпадает до мельчайших деталей… Совпадение наших идей никак не случайное: эти идеи родились из одного и того же источника: из русской земли, насквозь пропитанной кровью».
Однако изо всех авторов «Нашей Страны», и даже изо всех литераторов правой эмиграции, одному Ширяеву удалось выйти за рамки монархической аудитории. Его охотно печатали и демократы, и социалисты, и солидаристы: столь подкупающей была сила его таланта. В своем «Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 года» (Лондон, 1988) немецкий литературовед Вольфганг Казак замалчивает таких принадлежащих к национальному лагерю писателей как Иван Савин, Иван Лукаш, Петр Краснов и Михаил Каратеев[181], но совершенно неожиданно, хотя и вполне заслуженно, посвящает более двух страниц Борису Николаевичу.
Солоневич называл Ширяева «самым выдающимся публицистом правой эмиграции» и 25 января 1952 года писал ему: «Я, как и прежде рад всякой Вашей строчке в газете – талантливой, компетентной, бьющей в цель. Очень рад, что издание Вашей книги [Ди-Пи в Италии] Всеволод Константинович Дубровский кажется наладил – я тут совсем не при чем».
На Ширяева, непреклонного монархиста, тем не менее, не произвёл хорошее впечатление глава Российского Императорского Дома, князь Владимир Кириллович, которого он посетил в начале 50-х годов. Четвертого ноября 1952 года редактор «Нашей Страны» В. К. Дубровский пересылает Солоневичу из Аргентины в Уругвай письма Ширяева. Всеволод Константинович предупреждает: «Одно из них – о Владимире Кирилловиче, я знаю, произведёт на Тебя тяжелое, если не сказать больше, впечатление. Если это всё, о чём пишет Ширяев, так, то положение получается весьма грустное. Это именно то, чего Ты боялся. И не только Ты. Я тоже давно уже чувствовал, что там что-то не так, как должно бы было быть. Тем хуже для него. Мне кажется, единственной реакцией на это может быть только усиленная и подчёркнутая пропаганда народной монархии и сохранение Владимира Кирилловича лишь как символа».
На это, 10-го числа того же месяца, Иван Лукьянович отвечает: «Информация Ширяева о Владимире Кирилловиче конечно очень мрачна. Именно её я и предполагал».
Открыл Ширяева и издал его первые три книги редактор доселе выходящей в Буэнос-Айресе «Нашей Страны» Всеволод Константинович Дубровский. Он влез в долги и за один месяц, начиная с 14 июля 1952 г., ему удалось провести всю типографскую работу книги «Ди-Пи в Италии». Причем пришлось самому каждый день работать в типографии, собственноручно делая корректуру и верстая страницы. Но игра стоила свеч – книга имела успех, тираж быстро разошелся, и на вырученные деньги Дубровский смог издать еще два сборника рассказов Ширяева из итальянской и советской жизни: «Я – человек русский» (1953) и «Светильники русской земли»(1953).
О книге «Ди-Пи в Италии» литературовед Леонид Ржевский писал («Грани» № 18):
«Это очерки, написанные очень увлекательно (так, что книгу все время выклянчивают, того гляди зачитают), местами – с большой наблюдательностью и остротой; много живого юмора, много умных, проницательных обобщений. В книге „Светильники русской земли“ Б. Ширяев, – также и популяризатор-историк очень важной, нужной и „там“ закрытой темы».
Сын крупного помещика, Ширяев родился в Москве 7 ноября 1889 г., а скончался в Сан-Ремо 17 апреля 1959-го. Он закончил историко-филологический факультет Московского университета, затем учился в Геттингенском университете в Германии, после чего вернулся в Россию и поступил в императорское военное училище. В Первую Мировую войну сражался в чине штаб-ротмистра 17-го Гусарского Черниговского полка.
После революции, пробираясь на Дон в Добровольческую Армию, был арестован большевиками и приговорен к смертной казни, но бежал за несколько часов до расстрела. После поражения Белой Армии был интернирован в Персию. Однако в 1922 г. его выдали Советам, как он говорил «за десять туманов» (официальная денежная единица этой страны). Ширяева опять приговорили к смертной казни, но заменили приговор на 10 лет заключения в новом концентрационном лагере, созданном на месте древнего монастыря на Соловках. Здесь он работал на лесоповале и сбивании плотов, а также участвовал в лагерном театре и писал в журнале «Соловецкие острова».
В 1929 г. из-за переполнения лагеря заключение было ему заменено на три года ссылки в Среднюю Азию, где он работал деревенским сторожем и корреспондентом советских газет.
По возвращении в 1932 г. в Москву, Ширяев был снова арестован и сослан на три года в Россошь (Средняя Россия), где находился в особо унизительных условиях – без жилья, без каких-либо контактов. В 1935–1942 гг. Ширяев жил в Ставрополе и Черкесске, преподавал там русский язык и литературу.
После оккупации Ставрополя германскими и румынскими войсками в августе 1942 г., Борис Ширяев стал редактором антикоммунистической газеты «Ставропольское слово», позже переименованной в «Утро Кавказа», распространявшейся по всему северокавказскому региону. Когда началось отступление немецких войск, Ширяев, получивший чин капитана Русской Освободительной Армии генерала Власова, попал в ее пропагандную школу в Дабендорфе под Берлином, а затем издавал газету для казачьих отрядов, вошедших в состав германской армии из антикоммунистических побуждений. Существует фотография, на которой можно видеть Ширяева в форме РОА. B феврале 1945 г., он был командирован в Италию, где расположился Казачий Стан белого атамана Краснова. Там он работал в газете «На казачьем посту».
После окончания войны и плена, Ширяев остался в Италии, сначала – в лагере для перемещенных лиц («Ди-Пи»), добывая себе средства для существования различными трудами, в частности, торговлей книгами.
Помимо монархической деятельности, писатель принимал участие и в политических организациях ветеранов-антикоммунистов. Сперва в рядах власовского «Союза Андреевского Флага» генерала Глазенапа, а затем в «Суворовском Союзе» бывшего командира 1-й Русской Национальной Армии Хольмстон-Смысловского.
В начале 1955-го его единственный сын Лоллий, родившийся 21 июля 1937 г., покинул отчий дом. Об этом Ширяев писал Дубровскому:
«Решение Лоллика выехать в США вызвано целым комплексом причин: в итальянскую морскую школу он мог быть принят только как иностранец, без права на офицерский чин, а кроме того, сама эта школа, равно как и дальнейшая карьера в Италии, во многом уступают США. Следовательно: раз представилась возможность, ему нужно было покинуть нас, что всё равно произошло бы рано или поздно. В нем самом я уверен. Он крепкий, знающий свой путь мальчик, владеющий собой, привыкший к самостоятельности и умеющий работать. Значит, не пропадет. Так что у меня нет даже грусти при его отъезде, наоборот радость за него, за то, что я всё же смог ему открыть дверь в жизнь. Мама, конечно, грустит, но и она сознает необходимость этого отъезда. Нам же самим, при приобретении нашего маленького участка – домик в нужном нам размере почти достроен – лучше оставаться в Сан Ремо, пользуясь в дальнейшем его помощью. Америка не для нашего возраста, да и не для нашего уклада жизни. Следовательно, всё слава Богу».
Тем не менее, писатель соблазнился, и в том же году переехал в США, где давал показания о Катынских расстрелах на комиссии Конгресса и нашел работу в известном книжном магазине Камкина. Однако хорошо устроиться ему не удалось. В письме Дубровскому от 26 февраля 1956 г. Ширяев сетовал: «Живу я морально довольно одиноко, материально скверновато». Эту свою неудачу он приписывал политическим мотивам: «С меньшевиками я, не в пример прочим, сразу занял резко отрицательную позицию, что и послужило причиной моего неустройства в дальнейшем в США. Будь я иной, имел бы сегодня „джаб“ на 400–500 долл. в месяц. Это очевидно. Донкихотства мною было проявлено более чем достаточно, я его считаю принципиальностью. Вообще с людьми я стараюсь быть честным». Не прижившись, Ширяев вернулся в Италию.
Вольфганг Казак подчеркивает, что Ширяев – писатель-реалист, перерабатывающий в своей прозе то, что сам пережил или слышал. Действительно, всё содержание его творчества тесно связано со странствованиями и мытарствами самого автора.
Наибольшей заслугой Ширяева, считает Казак, – является изображение Второй Мировой войны с точки зрения русского патриота, который отвергает тоталитарную советскую систему и из соображений о пользе для своей нации готов сотрудничать с немцами. На самом же деле Ширяев, как и подавляющее большинство участников Русского Освободительного Движения 1941–1945 гг., стремились не сотрудничать с немцами, а использовать их для свержения советской власти. Они не сомневались, что после падения коммунизма, немцы не смогли бы долго продержаться в России.
Роман «Кудеяров дуб» (1957–1958), в котором эта тема разбирается, представляет собой произведение, существенным образом отличающееся, например, от романа А. Фадеева «Молодая Гвардия», где рассказывается о событиях, очевидцем которых этот советский писатель не был, но подделывал их, подлаживаясь к партийной линии. Действие повести «Овечья лужа» (1952) происходит примерно в том же отрезке времени. Там описана, в частности, судьба одного преследуемого русского священника. Для Л. Ржевского это произведение является «по своим литературным достоинствам, равно как и по остроте и непререкаемой важности взятой темы, несомненной вершиной творчества этого автора… „Овечья лужа“, конечно, заслуживает отдельного издания и перевода на другие языки».
По словам В. Казака, опубликованное посмертно исследование Ширяева «Религиозные мотивы в русской поэзии» (1960) является ценным дополнением к традиционному литературоведению, в то время как повесть о конокраде «Ванька-Вьюга» (1955), в которой писатель обращается к описанию дореволюционных времен, значительно ниже по уровню, чем его рассказы, повести и романы о советской эпохе.
Благодаря Ширяеву, ставшему одним из первых заключенных и уцелевших на Соловках, в русскую литературу вошло описание жизни тамошних узников 1922–1927 гг. и жизни, которая, несмотря на убийственные условия, определялась религиозным духом, исходящим из монастыря и монашества. В эту свою книгу «Неугасимая лампада» (1954) Ширяев включил уже опубликованные прежде произведения, изменив их названия. Например, «Горка Голгофа» (1953), рассказы о подвиге русских мучеников на Соловках, впоследствии, в 1981 г., канонизированных Русской Зарубежной Церковью, и «Уренский царь» (1950) о маленьком селе-государстве, оказавшем во время Гражданской войны сопротивление красным.
Рецензируя в «Гранях» (№ 24) «Неугасимую лампаду» В. Арсеньев писал: «Язык автора богат, разнообразен и выразителен. Есть в нем что-то от Клюева и Шмелева».
Ширяев пожинал, конечно, не только дифирамбы. В 22-й тетради парижского журнала «Возрождение» (за июль-август 1952 г.) критик Н. Шварц-Омонский корил его за то, что в «Уренском царе» он изобразил «царя» не «героем забавного эпизода, а свято-русским богатырем, страстотерпцем, носителем черноземной народной тайны». И зубоскалил, что не наблюдает бурного роста. Но Ширяев и не ставил себе подобной цели. В письме Дубровскому от 18 мая 1955 г. он указывал:
«Нам лучше ограничиться небольшим кадром настоящих работников для своей мозговой лаборатории, не отягощая себе балластом ненужной по существу массовой работы. Массовая работа предстоит на родине тем из нас, кто ее увидит. Их мы и должны готовить. Будем же до конца солдатами на своих постах. Я считаю себя ортодоксальным последователем Солоневича и готов драться с кем угодно за развитие его идей».
По правде сказать, «ортодоксальным» он как раз и не был. В начале 50-х разорвалась бомба: стало известно, что Ширяев принял католичество. «Получается как то неважно: „апостол“ Народной Православной Монархии – и вдруг – католик. Плохо как то», писал Дубровский Солоневичу 9 декабря 1952. «Ширяев видимо ловчится во все стороны и в его католицизм я не верю ни на копейку. И вообще не люблю людей, меняющих религию», отвечал ему основатель «Нашей Страны», до того считавший Ширяева «самым выдающимся публицистом правой эмиграции».
Дубровский недоумевал:
«Принял католичество и тем не менее пишет, – и как пишет! – о православных святынях и православной монархии. Он или став всерьез католиком – просто умеет писать, или став католиком из-за какой-то личной выгоды, остался в душе православным».
Схожее писал и Чухнов в некрологе на Ширяева: «Во всех своих книгах, в публицистических статьях, рассказах и очерках он выявил себя православнейшим писателем».
По мнению редактора «Знамени России»: «Никогда никаким католиком Ширяев не был. Пусть об этом знает хоть сам Папа Иоанн XXIII. Формальный переход Бориса Николаевича в католичество было откупом от выдачи Советам. В 1922 году его выдали большевикам за десять туманов, а в 1946 году его чуть не выдали из католической Италии, как православного. Смеем ли мы упрекнуть его за минутную слабость, смеем ли осудить его, когда, в те страшные дни, для него было всего лишь два выхода: или лютая смерть в чекистском застенке и гибель жены с малолетним ребенком, или католическая свобода. Кто может от каждого требовать подвига первых христиан? Судьей ему будет только Господь Бог. ‹…› Мы знаем одно, что во славу Католической Церкви Ширяев не нашел в себе ни одного слова, не написал ни единой строки, но многострадальную Русскую Православную Церковь, ее мучеников, архипастырей и пастырей, он славил и возвеличивал во всех своих творениях. И написал он „Светильники Русской Земли“, а не „Светильники Католицизма“».
Свой некролог Чухнов закончил такими словами: «Мир твоему праху, дорогой Борис Николаевич! Я счастлив, что узнал тебя до самых сокровенных твоих дум. Около сотни твоих писем бережно храню я. Вечная память и вечная тебе слава в грядущей России». В 1959 г. такое пожелание звучало утопически. Кто бы тогда подумал, что сейчас в России не только издаются его книги, но и крутятся о нем фильмы[182]?
А книги даже переиздаются, как настоящая, причём в расширенном формате. Низкий поклон Андрею Власенко и Михаилу Талалаю, спасающим от забвения значительную долю творчества талантливого писателя.
Николай Казанцев
Редактор газеты «Наша Страна»
Буэнос-Айрес, март 2016 г.
Примечания
1
Казак В. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. Лондон, 1988. С. 856; Паламарчук П. Г., Филатова А. И. Ширяев Борис Николаевич // Русские писатели, XX в.: Биобиблиогр. слов. в 2 ч. / под ред. Н. Н. Скатова. М., 1998. Ч. 2. С. 592–593; Бабичева М. Борис Николаевич Ширяев // Новый журнал (Нью-Йорк, 2001). Кн. 222. С. 187–204 (библиогр.: с. 203–204; 15 назв.); Стрижев А. Б. Н. Ширяев // «Москва», 2004, № 5; Колупаев В. Е. Русь в Риме Первом: по страницам произведений Бориса Ширяева // Наша газета (Италия), 10 янв. 2011. С. 22.
(обратно)2
См. Филимонов С. Б. Борис Ширяев в оккупированном Крыму: новые материалы к истории коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны // Проблемы национальной безопасности России в ХХ–ХХІ вв.: уроки истории и вызовы современности: к 70-летию начала Великой Отечественной войны // Материалы междунар. научн. – практич. конф. Краснодар, 2011. С. 360–363.
(обратно)3
Из книг изд. Чехова она стала самой популярной.
(обратно)4
Ее называет «особенно интересной», наряду с «Неугасимой лампадой», Р. Плетнев в своей монографии «История русской литературы в ХХ веке» (Englewood, USA, 1987, c. 69).
(обратно)5
Из письма В. К. Дубровского к М. С. Кингстон от 9 января 1952 г. // «Наша страна», Буэнос-Айрес, № 1853, 1 февр. 1986 г. С. 3. Речь в письме идет об издании книги «Ди-Пи в Италии».
(обратно)6
Неточности относятся не только к Соловкам: к примеру, неаполитанца Джузеппе (Иосифа) Дерибаса автор (живший близ Неаполя!) именует французским эмигрантом.
(обратно)7
«Часовой» (Брюссель), июнь 1959 г., № 399. С. 19.
(обратно)8
Попытки установить связь с потомками и наследниками Ширяева не закончились ничем. Имя Лоллия Борисовича Ширяева обнаружились среди списков волонтеров, ушедших воевать во Вьетнам в середине 60-х гг. – так был силен антикоммунистический дух, усвоенный сыном от отца.
(обратно)9
О могиле писателя см. Талалай М. Г. Российский некрополь в Италии. М.: Старая Басманная, 2015. С. 786.
(обратно)10
Древний киевский храм Николы Набережного с чудотворной иконой «Никола Мокрый» сохранился (Почайнинская ул.).
(обратно)11
В момент увоза мощей святителя из Мир турки (не «сарацины») еще не взяли город, однако угрожали всей Ликии; захват города произошел спустя два года, в 1089 г.
(обратно)12
Персонаж повести Лескова «Старые годы в селе Плодомасове».
(обратно)13
Митрополит Московский (номинально: Киевский) Исидор после подписания т. н. Флорентийской Унии с Католической Церковью (1438) был брошен в темницу в Москве, но бежал в Италию, где получил сан кардинала.
(обратно)14
Лжедмитрий I.
(обратно)15
Отец Филипп де Реджис (1897–1955) – видный деятель семинарии Руссикум.
(обратно)16
Рабоче-крестьянская Красная армия, с 1946 г. – Советская армия.
(обратно)17
Вблизи Палермо, в городке Пьяна-дельи-Албанези, заселенном с XV в. православными албанцами, бежавшими от турок, соблюдается восточные церковные традиции – однако эти приходы подчинены юрисдикции Католической Церкви.
(обратно)18
Pagani, город в провинции Салерно, где в лагере для «перемещенных лиц» Ширяев писал «Неугасимую лампаду» и «Ди-Пи в Италии».
(обратно)19
Редьярд Киплинг.
(обратно)20
Отец Станислав Тышкевич (Киев, 1887 – Рим, 1962), преподаватель и духовник Руссикума; перед кончиной принял схиму с именем Евлампий.
(обратно)21
О русской церкви в Бари см.: Талалай М. Г. Русская церковная жизнь и храмостроительство в Италии. СПб.: Коло, 2011. С. 141–156.
(обратно)22
Протоиерей Андрей Копецкий (Оренбург, 1885 – Бари, 1963), в эмиграции клирик Русской Православной Зарубежной Церкви, в 1947 г. перешел в юрисдикцию Русского экзархата Константинопольского Патриархата; обслуживал лагеря для «перемещенных лиц» в Апулии.
(обратно)23
См. Кейпен-Вардиц Д. В. Храмовое зодчество А. В. Щусева. М.: Совпадение, 2013.
(обратно)24
Отец Петр Копецкий первоначально, с 1914 г., служил в Риме, – по 1939 г., когда был командирован в Бари.
(обратно)25
Альберт Александрович Бенуа (Санкт-Петербург, 1888 – Париж, 1960) создавал иконостас в Бари совместно со своей супругой, Маргаритой Александровной, урожденной Новинской (1891–1974).
(обратно)26
Великий князь Владимир Кириллович (1917–1992), с 1938 г., после смерти отца Вел. кн. Кирилла Владимировича, – глава Российского Императорского Дома.
(обратно)27
Barletta – у Ширяева ошибочно: Барлетто.
(обратно)28
IRO, International Refugee Organization, Международная Организация по делам беженцев, в ведении которой находились в т. ч. лагеря для «перемещенных лиц», «Ди-Пи»; существовала с 1946 по 1952 г.
(обратно)29
Монахиня Николая (в миру Матрена Зайцева) (1888–1978); прожила 65 лет при русской церкви в Бари.
(обратно)30
Последним имеется ввиду поэт Николай Гумилев – его творчеству Ширяев посвятил ряд проникновенных очерков; см. Ширяев Б. Н. Бриллианты и булыжники. СПб.: Алетейя, 2016.
(обратно)31
Митрополит Владимир (Тихоницкий) (1973–1959), с 1947 г. глава Западноевропейского Экзархата русских православных приходов (Константинопольский Патриархат) с центром в Париже; епископ Сильвестр (Харунс) (1914–2000), видный церковный деятель во Франции и Италии (с титулом епископа Мессинского и с местожительством в Ницце), с 1962 г. – в Канаде.
(обратно)32
Император Николай II посещал Бари в 1892 г., еще будучи наследником престола, до начала возведения там русской церкви; в ее закладке в 1913 г. лично не участвовал, но внимательно следил за ходом храмостроительства.
(обратно)33
Отец Андрей Копецкий к моменту освящения храма находился в Бари 15 лет.
(обратно)34
В 1949–1950 гг. автор под псевдонимом Алексей Алымов публиковал в журнале «Часовой» серию рассказов под общим названием «Ставрополь-Берлин», где описывал по личным впечатлениям беженство людей, оказавшихся прежде на оккупированных немцами территориях, перед наступавшей Красной армией.
(обратно)35
Великий князь Кирилл Владимирович (1876–1938) в эмиграции, в 1924 г., провозгласил себя Императором Всероссийским.
(обратно)36
Шуле (правильнее: Шюле) Теодор – бывший пресс-атташе посольства Германии в СССР, руководивший организацией и выпуском газеты «Ставропольское слово».
(обратно)37
Генерал Василий Викторович Бискупский (1878–1945), участник Белого движения, в эмиграции – руководитель берлинского «Бюро русских эмигрантов», затем Управления делами российской эмиграции; после нападения Германии на СССР уволен из-за его протестов в связи с положением пленных красноармейцев; скончался в Мюнхене, оккупированном американцами. Генерал-майор Алексей Александрович фон Лампе (1885–1967), в эмиграции, в Германии, – представитель барона Врангеля, затем организатор Русского общевоинского союза (РОВС), занимался издательской и общественной деятельностью, во время войны активист Красного Креста, умер в Париже.
(обратно)38
Ordnung, порядок (нем.).
(обратно)39
Bagnoli, пригород Неаполя, где в 1948–1952 гг. действовал лагерь «перемещенных лиц».
(обратно)40
Беседу с неназванным по имени «шахтером из Донбасса» автор приводит и в книге «Ди-Пи в Италии» (в главе 29 под названием «Иван Царевич»); тут также идет речь о неаполитанском замке Сант-Эльмо, где в 1718 г. укрывался царевич Алексей Петрович, «первый Ди-Пи»; см. Ширяев Б. Н. Ди-Пи в Италии / под ред. М. Г. Талалая. СПб.: Алетейя, 2007. С. 204–205.
(обратно)41
В той же главе Ширяев подробно рассказывает о своей встрече в Риме с Вел. кн. Владимиром Кирилловичем и его супругой Леонидой Георгиевной; см. там же, с. 200 и далее.
(обратно)42
Пристань в Севастополе; место финального исхода Белого движения в ноябре 1920 г. (150 тыс. человек).
(обратно)43
Вероятно, «западные танцы»; слово «заптанцы» Ширяев употребляет и в романе «Кудеяров дуб».
(обратно)44
Поццуоли – ближайший к Неаполю город на севере, «коса» которого, т. е. Мизенский мыс, окаймляет Неаполитанский залив.
(обратно)45
Lazzaroni, бездельники и попрошайки.
(обратно)46
Имеется ввиду серия картин И. К. Айвазовского «Пушкин на берегу моря».
(обратно)47
Сhianti, знаменитое красное тосканское вино, которое, однако, в неаполитанских трактирах – дорогостоящая редкость.
(обратно)48
Stella del mare, «Звезда морей», богородичный гимн.
(обратно)49
Óстовцы – угнанные или добровольно завербовавшиеся «восточные» рабочие, бывшие граждане СССР.
(обратно)50
Lili Marleen – немецкая песня эпохи Второй мировой войны; переведенная на английский, стала необыкновенно популярной и среди солдат союзников.
(обратно)51
Армянский монастырь св. Лазаря на венецианском о-ве Сан-Ладзаро.
(обратно)52
Сantina – столовая.
(обратно)53
В Риччоне, пригороде Римини, британцами был организован лагерь для «перемещенных лиц», откуда в мае 1947 г. произошла их насильственная выдача советской стороне; см. Ширяев Б. Н. Ди-Пи в Италии… С. 105–107.
(обратно)54
Soggiorno – [вид на] жительство; документ белого цвета – вид на постоянное жительство.
(обратно)55
Официант! Одну бутылку «Асти» за тысячу лир!
(обратно)56
Contadino, крестьянин.
(обратно)57
Re, король.
(обратно)58
Перечислены лагеря: первый – немецкий, два последних – союзнические.
(обратно)59
Лат. plusquamperfectum (tempus), букв. – более чем законченное (время), т. е. давнопрошедшее время, сложная грамматическая форма прошедшего времени.
(обратно)60
Лат. perfectum – совершённое – видовременная форма глагола, усложненное прошлое время.
(обратно)61
Здесь и ниже искаженное итал.: сampo – лагерь; gallina – курица.
(обратно)62
Сокр. от нем. Schutzmannschaft – подразделения вспомогательной полиции.
(обратно)63
Автор внедряет, наряду с лагерным жаргоном, искаженные иностранные слова: Abfahrt (нем.) – отъезд; gare (франц.) – вокзал; nipote (итал.) – внук; train (англ.) – поезд; mangiare (итал.) – кушать; avanti (итал.) – вперед.
(обратно)64
Фрэнсис Брет Гард (1836–1902), американский писатель, популярный в России в первой половине ХХ в.
(обратно)65
Тюркоязычная народность на Северном Кавказе (в Карачаево-Черкесии).
(обратно)66
Скорей всего – это бывший шахтер из Донбасса, Александр Иванович М., уехавший затем в Австралию, один из героев очерка «Своя русская линия» (см.).
(обратно)67
Иван Максимович Поддубный (1871–1949), профессиональный борец.
(обратно)68
Buon Natale, доброго Рождества.
(обратно)69
Поперечная улица в Ставрополе переименована в улицу Артема, по партийной кличке большевика и политического деятеля Ф. А. Сергеева.
(обратно)70
Родольфо Грациани (1882–1955), итальянский полководец, с 1936 г. – маршал, главнокомандующий в Абиссинской кампании (1935–1936 гг.).
(обратно)71
Аполид (греч. apolis, apolidos) – тоже, что апатрид, лицо без гражданства.
(обратно)72
Капитулировавшие военные деятели: Анри-Филипп Петен (1856–1951), французский полководец в Первую мировую войну (с 1940 г. глава марионеточного «режима Виши»); Дуглас Макартур (1880–1964) – американский военачальник. Следует, однако, заметить, что Макартур покинул Филиппины до капитуляции перед японской армией и капитулировал уже генерал Джонатан Уэйнрайт.
(обратно)73
Presepio – первоначально, передняя огражденная часть хлева; с XIII в. в Италии – репрезентация Рождества Христова.
(обратно)74
В действительности, царевич Алексей Петрович пребывал инкогнито в 1717 г. в замке Сант-Эльмо на холме Вомеро.
(обратно)75
«Проживание, обеспечение и гарантия в том, что они не будут находиться на государственном содержании в Канаде» (англ.).
(обратно)76
«Национальная Организация русских разведчиков», созданная в 1928 г. эмигрантами-монархистами, в противовес уже существовавшей «космополитичной» Организации русских скаутов.
(обратно)77
Отец Евгений Дмитриевич Аракин (1886–1956), участник Первой мировой войны и Гражданской войны, в рядах Добровольческой армии в чине полковника. В эмиграции принял священство; настоятель русского храма в Сан-Ремо, окормлял церкви лагерей Ди-Пи в Генуе и Турине, переселился в Портичи под Неаполем (где и скончался), настоятель церкви при лагере для перемещенных лиц Сант-Антонио.
(обратно)78
Aiuto missionari della pace – Помощь миссионерам мира.
(обратно)79
Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI) – Администрация для международной и итальянской деятельности по оказанию помощи; существовала с 1945 по 1977 г.
(обратно)80
Железная дивизия – название 4-й стрелковой бригады (с 6 августа 1915 г. – 4-й стрелковой дивизии), которой командовал генерал-лейтенант Антон Деникин.
(обратно)81
Mercatello – периферийный квартал города Салерно.
(обратно)82
Casagiove – поселок близ города Казерта.
(обратно)83
Влас Михайлович Дорошевич (1865–1922) – журналист, один из известнейших фельетонистов дореволюционной России.
(обратно)84
Николай Николаевич Евреинов (1879–1953) – режиссер, драматург, музыкант, художник, после революции эмигрировал во Францию.
(обратно)85
«Ваше дело окончательно закрыто» (англ.).
(обратно)86
TBC, итальянская аббревиатура для обозначения туберкулеза (tubercolosi).
(обратно)87
Зуевы написали алтарный образ святых Агафии и Омобона для миланской церкви Санта Мария дельи Анджели, в обиходе – церковь Сант-Анджело (Св. Ангела).
(обратно)88
О Борисе Васильевиче Зуеве (Новочеркасск, 1893 – Милан, 1978) и его супруге Инне Дмитриевне, урожд. Сизининой (Одесса, 1900 – Милан, 1976) см. также: Лейкинд О. Л., Северюхин Д. Я. Художники русской эмиграции. 1917–1939, СПб.: изд-во Чернышева, 1994. С. 217; Они же. Интернет-портал «Искусство и арихтектура русского зарубежья»: . Похоронены на миланском кл. Маджоре; см. Талалай М. Г. Русские в Милане // Берега. № 9, 2008. С. 90.
(обратно)89
Кн. С. А. Щербатов (имение Нара, ныне пос. Литвиново, близ Нарофоминска Московской обл., 6/18. 7. 1874 – Рим, 23. 5. 1962), живописец, коллекционер, общественный деятель; см. , здесь же – обширная библиография. Похоронен, вместе с членами своей семьи, на римском кладбище Тестаччо; см.: Талалай М. Г. Российский некрополь в Италии. М.: Старая Басманная, 2015. С. 805–806.
(обратно)90
Книга вышла в Нью-Йорке в 1955 г., переиздана в Москве в 2000 г.
(обратно)91
Илья Семенович Остроухов (1858–1929), живописец, коллекционер (в т. ч. древнерусских икон), один из руководителей Третьяковской галереи.
(обратно)92
В 1913 г. кн. Щербатов построил по проекту архитектора А. И. Таманова (Таманяна) особняк на Новинском бульваре, № 11, где разместил свои коллекции, завещав его городу, с тем, чтобы со временем тут открыть Музей частных коллекций (в первый год революции особняк подвергся разграблению, богатые интерьеры утрачены; в 1920-е в нем расположилось рабочее общежитие; ныне жилой и офисный дом).
(обратно)93
Литераторы «второй волны»: Николай Владимирович Нароков (наст. фам. Марченко, 1887–1969); Василий Иванович Алексеев (1906–2002); Леонид Денисович Ржевский (наст. фам. Суражевский; 1905–1986).
(обратно)94
Юрий Павлович Трубецкой (наст. фам. Меншиков, псевд. до эмиграции Нольден; 1902–1974).
(обратно)95
Казаки с нижнего Дона.
(обратно)96
В Лиенце (Австрия) в мае-июне 1945 г. произошла насильственная выдача британцами казаков-«красновцев» советской стороне согласно секретным протоколам Ялтинской конференции; см. Толстой Н. Д. Жертвы Ялты. М.: Русский путь, 1996.
(обратно)97
Израильский батальон не участвовал в этой операции; см. Науменко В. Г. Великое предательство. СПб.: Нева, 2003. С. 132–133. – Сообщено Андреем Мартыновым (Москва).
(обратно)98
18 марта 1955 г. школьник Валерий Лысиков попросил политического убежища в американском секторе Берлина; однако спустя три недели, 9 апреля, он, якобы согласно согласно его собственной просьбе, был возвращен в советский сектор. В статье «Палач с сигарой» («Наша страна», 2 июня 1955 г., № 280, с. 3–4) Ширяев вскрыл следующие обстоятельства: «Оказывается, что выдача произошла по личной просьбе маршала Жукова к президенту Айзенхауэру [Эйзенхауэру]. Факт личной переписки по этому вопросу – Айзенхауэра с Жуковым сообщил американским журналистам на конференции сам президент, хотя и не уточнил содержания этих писем, как не подлежащих оглашению. Но американский еженедельник „Ньюс Уик“ всё же проник в эту тайну и опубликовал ее. Переписку начал Жуков, обратившись к президенту Айзенхауэру с личной просьбой о выдаче Лысикова. Президент выразил свое согласие и одновременно весьма прозрачно намекнул на оплату крови Лысикова возвратом на родину арестованных в Пекине американских летчиков, в чем попросил содействия Жукова. Свою личную переписку с маршалом президент Айзенхауэр охарактеризовал журналистам, как один из способов к улучшению отношений между Востоком и Западом; официальной же причиной к выдаче Валерия Лысикова выставлено то обстоятельство, что он, как не достигший еще совершеннолетия, по американским законам должен быть возвращен его родителям».
(обратно)99
Carrozza – коляска, тачка, лоток на колесах.
(обратно)100
В 1948 г. в Италии происходили эпохальные выборы правительства, где основными соперниками выступили Демохристианская (победившая) и Коммунистическая партии.
(обратно)101
Альфонс дей Лигуори (1696–1787), католический святой, покровитель Пагани; его мощи хранятся в местном соборе.
(обратно)102
Fuori! Via, ragazzi! – Вон! Прочь, ребята!
(обратно)103
Кондитера из Пагани Сальваторе Розалио автор упоминает также в книге «Ди-Пи в Италии»; см. первую главу настоящего сборника, «Неугасимая лампада в Риме».
(обратно)104
Имеется в виду Владимир Ленин.
(обратно)105
Стахановцы, staccanovisti – этот советский термин проник в итальянский язык, сегодня означая трудоголика.
(обратно)106
Baffone (усач) – итальянское прозвище Сталина.
(обратно)107
Лидеры политических партий на рубеже 40-50-х гг.: Пальмиро Тольятти (коммунистическая), Пьетро Ненни (социалистическая), Джузеппе Сарагат [у Ширяева – Сарагатто] (социалистическая рабочая), Альчиде Де Гаспери (демохристианская).
(обратно)108
Nocero – близлежащий к Пагани город.
(обратно)109
Carracciolo; у Ширяева ошибочно: Кораччио.
(обратно)110
Пьесы, соответственно, В. Гюго и Ф. Шиллера.
(обратно)111
Olio – оливковое масло.
(обратно)112
На лигурийском диалекте: магальо, magaglio – мотыга; сообщено Мариной Моретти.
(обратно)113
Т.е. жители Абруццо (традиционно: Абруццы), некогда один из беднейших регионов Италии.
(обратно)114
Акилле Лауро (1887–1982), судовладелец, политик, мэр Неаполя в 1950-е гг., создатель Народной монархической партии (распалась в 1961 г.).
(обратно)115
В Сан-Ремо Ширяев с семьей сам строил свое жилище.
(обратно)116
В русской ономастической традиции принято – Сан-Ремо, в итальянской встречается и San Remo, и Sanremo, хотя с 1991 г. местный муниципалитет принял решение унифицировать написание как Sanremo.
(обратно)117
В отечественно историографии принято: Эйзенхауэр.
(обратно)118
Именно в предместье Borgo Opaco жил и скончался в 1959 г. Ширяев.
(обратно)119
Марджа Боодтс, известная также как Мария Ботхер [Bottcher] (Голландия, 18.02.1885 – Комо, 13.10.1976), выдававшая себя за чудом уцелевшую Великую княжну Ольгу Николаевну, последние годы жизни проживала в местечке Менаджо на озере Комо; на ее (не сохранившейся) могиле было написано на нем.: «В память об Ольге Николаевне, 1895–1976, старшей дочери российского императора Николая II». Ее «мемуары» в 2012 г. вышли в Испании, в изд-ве Martinez Roca отдельной книгой: Olga Nicolaievna. Estoy Viva Memorias ineditas de la última Romanov.
(обратно)120
Фильмы: «Aquila Nera» («Черный орел»), режиссер Риккардо Фреда, 1946 г.; «La fglia del capitano» («Капитанская дочка»), режиссер Марио Камерини, 1947 г., приз «Серебряная лента» Каннского фестиваля (1947); «I fratelli Karamazoff» («Братья Карамазовы»), режиссер Джакомо Джентиломо, 1947 г. Фильм «Черный орел», по мотивам повести Пушкина «Дубровский» получил вольное продолжение, став трилогией, – «Вендетта Черного орла» («La vendetta di Aquila Nera»), того же режиссера, 1951 г., и «Сын Черного орла» («Il fglio di Aquila Nera»), режиссера Гвидо Малатесты, 1967 г.
(обратно)121
Римма Никитична Браиловская, рожд. Шмит (иногда Шмидт) (1868–1959), художница, декоратор, педагог, жена художника-архитектора Леонида Михайловича Браиловского. Николай Александрович Бенуа (1901–1988), художник театра, живописец, заведующий постановочной частью миланского театра Ла Скала.
(обратно)122
В фильме «Капитанская дочка» в эпизодической роли выступил также видный эмигрант, поэт и художник Василий Александрович Сумбатов (1893–1977).
(обратно)123
Квиринальский дворец в Риме, изначально папская резиденция, служил затем одним из римских дворцов Савойской династии, а с падением монархии в 1946 г. стал резиденцией президентов Итальянской республики; первые два президента, однако, уклонились от пребывания в Квиринале, и он до 1955 г. пустовал.
(обратно)124
Настоящее название фильма С. Эйзенштейна – «Иван Грозный», однако автор употребляет более почтительную именную форму, Иоанн.
(обратно)125
Более точный перевод: «Пусть каждый поет, играет и танцует! ‹…› Кто хочет быть веселым – веселись сегодня. Завтра – поздно».
(обратно)126
Керпакеты (CARE-Pakete) – пищевые пакеты для беженцев. Отправлялись американской организацией (CARE International = Cooperative for Assistance and Relief Everywhere).
(обратно)127
Виктор Кравченко (1905–1966), во время Второй мировой войны состоял членом советской закупочной комиссии в США. Разочаровавшись в советской системе и политике Сталина, отказался возвращаться в Советский Союз и опубликовал в 1947 г. книгу «Я избрал свободу». В 1949 г. выиграл судебный процесс против французской прокоммунистической газеты «Les Lettres françaises», редактируемой Луи Арагоном, обвинившей его в диффамации. Григорий Токаев (Григори Токати) (1913–2003), инженер-подполковник Красной Армии, секретарь Союзного контрольного совета. Работал в области сбора материалов по ракетной программе гитлеровской Германии. С 1947 г. невозвращенец. Участвовал в космическом проекте «Аполлон» и создании сверхзвукового лайнера «Конкорд».
(обратно)128
Гольдфазаны («золотые фазаны») – презрительное наименование (обыгрывался фасон мундира) сотрудников Восточного министерства Розенберга. Было распространено в основном в среде Вермахта и Ваффен-СС.
(обратно)129
Пражский манифест КОНР был принят 14 ноября 1944 г.; XV Кавалерийский казачий корпус генерал-лейтенанта Хельмута фон Паннвица и Особый казачий корпус (Казачий стан) генерал-майора Тимофея Доманова вошли-таки в начале 1945 г. в состав власовской армии.
(обратно)130
Места насильственных депортаций из оккупированных союзниками зон в СССР «перемещенных лиц».
(обратно)131
Имеются в виду Ялтинская (Крымская) и Потсдамская конференции союзников.
(обратно)132
Николай Чухнов (1897–1978) общественный деятель, публицист. В годы Второй мировой войны служил в полку СС «Варяг», XV Кавалерийском казачьем корпусе генерал-лейтенанта Хельмута фон Паннвица, а затем в т. н. Зальцбургской группе власовской армии.
(обратно)133
Владимир Рудинский (1918–2011), наст. имя Даниил Петров, журналист, лингвист, эмигрант «второй волны». В годы войны служил переводчиком в Вермахте и испанской Синей дивизии, затем в отделе пропаганды Вермахта. Борис Башилов (1908–1970), наст. фам. Юркевич, журналист, писатель, эмигрант «второй волны». В годы войны попал в плен, служил в Русской освободительной народной армии Бранислава Каминского (29-я дивизия СС), а затем в ВС КОНР Андрея Власова.
(обратно)134
Здесь автор по понятной скромности пропускает свое имя. Между тем Алексей Алымов [т. е. Б. Н. Ширяев], как «новый», дал Зарубежью самый ценный, самый обширный и самый документальный материал. – Прим. ред. газеты «Знамя России».
(обратно)135
Григорий Аронсон (1887–1969), меньшевик, общественный деятель, автор книги «Правда о власовцах. Проблемы новой эмиграции» (1949). Екатерина Кускова (1869–1958), социал-демократ, общественный деятель. Неоднократно высказывалась против власовцев.
(обратно)136
Послевоенные политические объединения «второй волны» эмиграции: САФ – Союз Андреевского флага; РОНДД – Российское Общенациональное Народно-Державное Движение; АЦОДНР – Антикоммунистический Центр Освободительного Движения Народов России.
(обратно)137
Рукопись, прежде находившаяся в архиве упраздненного католического издательства «Жизнь с Богом» (Брюссель) в настоящее время хранится в Центре «Христианская Россия» (г. Сериате, Италия); опубликована в: Юдин А. В. «Перемещенные лица»: судьба литератора Б. Н. Ширяева согласно неизданному очерку // Россия – Италия: этико-культурные ценности в истории / под ред. М. Г. Талалая. М.: ИВИ РАН, 2011. С. 200 и далее.
(обратно)138
После окончания Московского университета Б. Ширяев некоторое время учился в Гёттингенском университете в Германии. Здесь и далее комментарии сделаны о. Вячеславом Умнягиным для републикации в: Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада / отв. ред.: о. Вячеслав Умнягин. Изд-во Соловецкого монастыря, 2012. С. 8–18.
(обратно)139
17-й гусарский Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаил Александровича полк одним из последних – уже в самом конце 1917 г. – покинул австрийский фронт, где вел боевые действия на протяжении Первой мировой войны. В годы Гражданской войны офицеры-гусары организовали 5-й дивизион в составе Алексеевского полка Добровольческой армии.
(обратно)140
Имеется в виду Добровольческая армия, оперативно-стратегическое объединение белогвардейских войск на Юге России во время Гражданской войны.
(обратно)141
Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925), советский военачальник, с лета 1919 г. по осень 1920 г. командовал Туркестанским фронтом.
(обратно)142
Ставропольский краевед Г. А. Беликов рисует иную картину жизни Б. Ширяева в годы Гражданской войны. По словам исследователя, автор «Неугасимой лампады» «с развалом армии оказался в Петрограде, где примкнул к мятежному генералу Корнилову. После ареста Корнилова Борис Николаевич пытался перебраться в Финляндию, но был схвачен и приговорен к расстрелу. Буквально за час до этого сумел бежать и долго добирался до Новочеркасска, где генерал Алексеев формировал части Добровольческой армии. Принимал участие в знаменитом корниловском „Ледовом походе“. Офицером Корниловского полка прошел по всему Северному Кавказу, участвуя в боях и за Ставрополь, где остался после поражения Белой армии. Здесь сумел скрыть свое участие в Гражданской войне на стороне белых. Работал учителем литературы в школе-девятилетке. Именно тогда ЧК вновь вышло на него, и Борису Николаевичу пришлось срочно уехать в Москву, где он был вторично арестован и вновь приговорен к расстрелу, замененному десятью годами соловецкого концлагеря» (См. Беликов Г. А. Безумие во имя утопии, или Ставропольская Голгофа. Оккупация. Ставрополь, 2009. С. 275).
(обратно)143
Бутырская тюрьма – одно из старейших и наиболее известных мест заключения в России. После 1917 г. использовалась как следственная и пересыльная тюрьма.
(обратно)144
Согласно данным из «Неугасимой лампады», автор книги прибыл на Соловки 17 ноября 1923 г.
(обратно)145
Досрочное освобождение заключенных.
(обратно)146
К 1927 г. относится публикация в седьмом выпуске парижского альманаха «Евразийская хроника» статьи Ширяева под названием «Наднациональное государство на территории Евразии».
(обратно)147
Птицеводческий институт, организованный на базе крупной птицефабрики, функционировал в г. Россошь в 1932–1936 гг.
(обратно)148
Киров (наст. фам. – Костриков) Сергей Миронович (1886–1934), советский государственный и партийный деятель; убит в Ленинграде.
(обратно)149
Ставрополь-Кавказский – название города до 1935 г., ради его отличия от Ставрополя в Поволжье; 1935 г. был переименован и до 12 января 1943 г. именовался Ворошиловском, после чего ему было дано современное название.
(обратно)150
Ставрополь (тогда Ворошиловск) был оккупирован немецко-румынскими войсками 3 августа 1942 г.
(обратно)151
Первый выпуск «Ставропольского слова» (изначально газета носила название «Русская правда») под редакцией Ширяева увидел свет уже через неделю после оккупации города. Тираж издания постоянно рос, и уже осенью оно распространялось в 24-х сельских районах. Тогда же была объявлена подписка, а с содержанием газеты можно было ознакомиться на уличных витринах, два десятка которых были расположенных по всему городу. В декабре 1942 г. газета была переименована в «Утро Кавказа» и начала распространяться по всему северокавказскому региону. Почти в каждом номере появлялись статьи, посвященные разоблачению большевистского режима и его вождей. Помимо материалов, принадлежащих перу Ширяева, которые носили скорее мировоззренческий характер, на страницах издания публиковались воспоминания раскулаченных и расказаченных жителей Ставропольского края (см. Беликов Г. А. Оккупация. Ставрополь. Август 1942 – январь 1943. Ставрополь: Фонд духовного просвещения, 1998. С. 118).
(обратно)152
Propaganda Abteilung «K» (1942–1944) – отдел немецкой пропаганды на оккупированной территории Крыма; см. Романько О. В. Немецкая пропаганда в Крыму: 1941–1944 гг.: органы, их структура и деятельность // Крым: 1941–1944 гг. Оккупация и коллаборационизм. Симферополь: Антиква, 2005. С. 31–68).
(обратно)153
После бегства из Ставрополя зимой 1943 г. Ширяев некоторое время редактировал газету «Мелитопольский край», а в июне того же года оказался на Крымском полуострове, где сотрудничал с газетой «Голос Крыма» (1941–1944) и выступал с различными докладами.
(обратно)154
В «Неугасимой лампаде» Ширяев сообщает о том, что в мае 1943 г. он посетил Дабендорф, где в 1943–1945 гг. на территории бывшего лагеря для французских военнопленных, располагалась офицерская школа РОА.
(обратно)155
Шюле Теодор – бывший пресс-атташе посольства Германии в СССР. Прибыл в Ставрополь в первые дни оккупации, лично руководил организацией и выпуском газеты «Ставропольское слово».
(обратно)156
Франческо Монтуоро (Francesco Montuoro), миланский издатель, имевший филиал своей фирмы в Венеции.
(обратно)157
Aleksej Alimov [псевд.]. Panorama della letteratura russa contemporanea. Milano; Venezia, 1946.
(обратно)158
Красный Крест (итал.)
(обратно)159
Итальянизм: municipio, т. е. муниципалитет.
(обратно)160
Речь идет о Родольфо Паллуккини (Rodolfo Pallucchini; 1908–1989), итальянском историке искусства, который в 1940–1950 г г. возглавлял Управление искусств города Венеции.
(обратно)161
«Часовой» – ежемесячный журнал русского воинства, выходивший в разные годы своего существования в Париже (1929–1936) и Брюсселе (1936–1988).
(обратно)162
«Знамя России» – ежемесячный независимый монархический журнал, входивший в Общероссийский монархический фронт и выпускавшийся в Нью-Йорке с 1945 по середину 1970-х гг. под редакцией Н. Н. Чухнова (1898–1978).
(обратно)163
«Наша страна» – русская эмигрантская газета, основанная в Буэнос-Айресе в 1948 г. публицистом и идеологом народного монархизма Иваном Лукьяновичем Солоневичем (1891–1953).
(обратно)164
Pagani, небольшой городок под Неаполем, где после окончания Второй мировой войны был устроен лагерь союзнических войск, а затем перемещенных лиц (Ди-Пи).
(обратно)165
Мельгунов Сергей Петрович (1979–1956), историк и публицист.
(обратно)166
«Возрождение» – «Литературно-политические тетради», журнал, выходивший в Париже в 1949–1974 гг.
(обратно)167
Первое издание в России: СПб.: Алетейя, 2007, под ред. М. Г. Талалая.
(обратно)168
«Посев» – издательство и журнал Народно-Трудового Союза российских солидаристов (НТС), основанные в Германии в 1945 г.
(обратно)169
Орехов Василий Васильевич (1896–1990) – редактор журнала «Часовой».
(обратно)170
Имеется ввиду план выезда Ширяевых из Италии в какую-нибудь из стран Нового Света.
(обратно)171
Белосельский-Белозерский Сергей Сергеевич (1895–1978), полковник ВВС США, основатель и председателе Всероссийского комитета освобождения (1950).
(обратно)172
Скончался в Сан-Ремо 1 апреля 1959 г.
(обратно)173
Генерал, позднее маршал, Федор Иванович Толбухин (1894–1949) осенью 1944 г. командовал «Белградской операцией».
(обратно)174
Генерал, позднее маршал, Филипп Иванович Голиков (1900–1980) в октябре 1944 г. возглавил Управление Уполномоченного Совнаркома СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран, которое с помощью НКВД создало мощную инфраструктурную сеть, в т. ч. сборно-пересыльныe и проверочно-фильтрационные пункты и лагеря (ок. двухсот только вне СССР).
(обратно)175
Ироничная цитата из советской песни; ср. «И живу я на земле доброй // За себя и за того парня».
(обратно)176
Т.е. осужденных как «контрреволюционеры».
(обратно)177
Писатель Петр Георгиевич Паламарчук (1955–1998) часто обращался к теме репрессий в СССР. См. также Паламарчук П. Г., Филатова А. И. Ширяев Борис Николаевич // Русские писатели, XX в.: Биобиблиогр. слов. В 2 ч. / Под ред. Н. Н. Скатова. М., 1998. Ч. 2. С. 592–593.
(обратно)178
Савельев П. [Казанцев Н.] Писатель-монархист (к 100-летию со дня рождения Бориса Ширяева) // Наша страна, 04.11.1989, № 2048. С. 4.
(обратно)179
Аркадий Федотович Слизской (иногда Слизский) (1892–1974), поручик, участник Белого движения (помощник военного прокурора, затем военный следователь), русский эмигрант во Франции, журналист, многолетний сотрудник еженедельника «Русская мысль».
(обратно)180
Владимир Феофилович Зеелер (1874–1954), журналист, общественный деятель, член кадетской партии. Организовал сбор пожертвований для формирования частей Белой армии. В 1919–1920 гг. был министром внутренних дел Южнорусского правительства при Главнокомандующем Вооруженных сил Юга России А. И. Деникине. Эмигрировав во Францию, в течение 30 лет был генеральным секретарем союза русских писателей и журналистов в Париже, входил в редакционную коллегию газеты «Русская мысль».
(обратно)181
В русском издании Словаря В. Казака (М.: РИК «Культура», 1996) появились статьи также о Лукаше и Краснове. – Прим. ред.
(обратно)182
В 2011 г. московский режиссер Валерия Ловкова сняла документальный фильм «Линия судьбы. Борис Ширяев»; фильм был включен в официальную конкурсную программу VII кинофестиваля «Русское Зарубежье» (Москва, ноябрь 2013 г.).
(обратно)
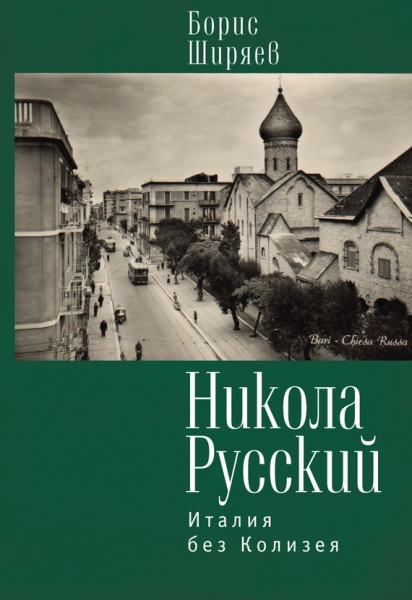



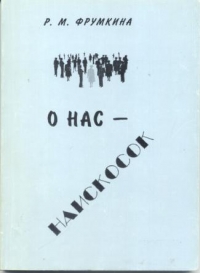
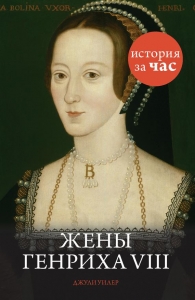
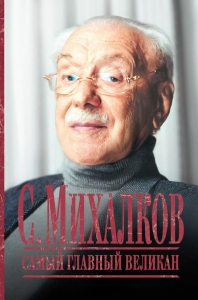
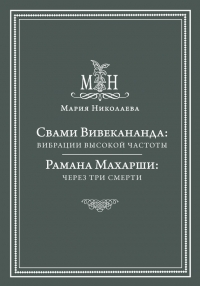
Комментарии к книге «Никола Русский. Италия без Колизея», Борис Николаевич Ширяев
Всего 0 комментариев