Зинаида Сергеевна Смелкова Я буду летать! Первая русская женщина-летчица Зинаида Кокорина
© З. С. Смелкова, 2016
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016
От автора
Это повесть о моей матери – Зинаиде Петровне Кокориной. Не написать её я не могла. По существу у меня были соавторы: сама З. Кокорина – её двенадцатистраничная автобиография, написанная по просьбе Центрального Музея авиации и космонавтики (там же хранящаяся) и очерк В. М. Пескова, опубликованный в «Комсомольской правде» в 1969 году. Естественно, что эти тексты стали и сюжетной, и документальной основой повести. Фрагменты из них я выделяю, но не обычным способом цитирования (выделение мешало бы целостному восприятию текста), а особым знаком + в начале и в конце цитаты, внизу страницы – обозначение источника. Использование этих источников во многом определило и тип повествователя: книга написана от первого лица.
Предисловие В начале были письма…
Утренний свет как-то незаметно проник в комнату и по-новому осветил беспорядочную груду писем, разбросанных на постели старой женщины. Настольную лампу на прикроватной тумбочке можно было выключить.
Необыкновенная бессонная ночь – многоголосая, разноцветная, озаряемая вспышками забытых воспоминаний, – уходила… Вчера курьер «Комсомолки» привёз ей большой бумажный пакет писем. «Василий Михайлович просил передать: это отклики на его очерк. Посмотрите: большинство из писем адресовано вам».
Конверты были разные, но почти на каждом из них перед её фамилией стояли слова «Первой летчице»: «Первая» – так назвал свой очерк журналист Василий Песков[1].
Песков появился неожиданно в ее московской квартире, полученной всего полгода назад. Появился «по наводке» одного из её старых друзей, бывших учлетов-качинцев, с большим трудом добившихся ее возвращения в Москву после реабилитации. Между двумя фотографиями разместилось несколько фактов из жизни первой советской летчицы, выпускницы знаменитой Качинской школы. Так вернулось забытое имя.
Было это очень давно, если мерить время марками самолетов.
Это было в годы, когда страна не имела еще своих самолетов, летали на покупных французских «Фарманах», «Ньюпорах»…
Полет был праздником. Минут десять-пятнадцать праздника. Остальное – будни. Подъем до солнца, отбой поздно вечером…
Тут я хорошо узнала, что значит «неженское дело». Надо было не просто поспевать за мужчинами. Середнячком свое право я не могла утвердить. Надо было стать первой…
И она была первой во всем. Её выбрали старостой группы. Она первая освоила самолет. И когда подошло время летать без инструктора, первой назвали ее фамилию…
Фотографии, помещенные в газете, разделяло сорок пять лет, но время не могло изменить главного в человеке: «Сильному и красивому Русскому человеку – Зинаиде Петровне Кокориной – с глубоким искренним уважением» – подписал ей свою книгу очерков талантливый журналист Василий Песков.
Публикация очерка Пескова оказалась камнем, сдвинувшем лавину писем-воспоминаний друзей ее молодости.
Сколько человек откликнулось на очерк Пескова!
Откликнулись друзья-военлеты, с которыми училась она, и бывшие её ученики, участники Отечественной войны, те, с кем вместе создавала в небольших городах огромного Союза авиаклубы Осовиахима, выраставшие потом в Авиаучилища – все они строили Воздушный флот страны. Она была одной из легенд первого поколения – и радость возвращения её имени была искренней и шумной.
«Зина, Зинуша, драгоценнейшая наша Зинка Кокорина – один из красивейших символов, даже знамен нашей, уже далеко отлетевшей эпохи! Я ведь давно потерял тебя из виду. И вот Песков крикнул о тебе – к величайшей моей радости. К сожалению, не так громко и внятно, как следовало бы. Оно и понятно: как он смог бы вжиться в душу нашей эпохи, особенно в такую деликатную область, как авиация… В результате получилось произведение бледноватое, гораздо ниже многих других опусов этого во всех отношениях замечательного и сильно любимого мной журналиста.
В очерке даже вскользь не отмечено, на какой героический подвиг ты шла, поступая в летную школу – тех лет и с тем техническим уровнем учебных самолетов. Это несомненно был героизм. Я отлично помню, как в одну неделю могло гробануться два-три человека. На твоих глазах Роном перебило пополам Нину Чудак. Через несколько дней разбился Поэль – самый близкий тебе человек. Последнее напряжение возникло в школе после полета Иевлева, когда было подано сразу 10 (десять) рапортов об отчислении. Я скажу прямо: все наши курсанты были отважными людьми! Так ведь почти все они прошли через горнило гражданской войны, многие хватили еще и первую империалистическую. Но ты же была ещё девчонкой, к тому же симпатичной. Откуда взялась такая решимость? – многие не могли понять. Кажется, я понимал и очень хотел, чтобы ты завершила свое дело. Присматривал за тобой, как за ребенком. Помнишь, как я упросил тебя отказаться от юбки, чтобы в полете свободная одежда не зацепила бы какую-то деталь аппаратуры? Не я один – сколько ребят берегли тебя. И ты взлетела! Первой из нашей группы была допущена к самостоятельному полету. Красный военлет!
Я ничего не знал о тебе после твоего направления в Серпухов. Видно, крутая жизнь была у нас обоих. Напиши мне. Обязательно.
Твой старинный и верный друг Дмитрий Мель».
Вот письма от других друзей – из Качи, Серпухова, Кировограда… Есть и московские адреса (явно новые). Некоторые, боясь, что она могла забыть адресата, вспоминают детали – важные или смешные, но общие, дорогие для обоих. Забавная рожица в большом летном шлеме на тренировочном самолете непочтительно-любовно именовавшемся «Аврушка», упоминание прозвищ инструкторов-наставников, общее название которых было почтительным – Бог (!). Её инструктором был Борис Туржанский, позже – Герой Испании. О его преждевременной смерти она уже знала. О судьбе многих других – узнала из этих писем.
Были письма не только от летчиков.
«Много на нашей земле есть профессий, связывающих людей дружбой, но нет крепче дружбы авиационной, воздушной. Ни один механик никогда не забудет своего летчика, которому, может, и всего-то один раз готовил самолет: проверил каждый болт, каждый трос, ибо от этого зависит жизнь. Я счастлив, что готовил к полетам ваш самолет – примите земной поклон – первая женщина красной советской авиации» (Борис Полетаев)[2].
А вот подпись вроде бы совсем незнакомая – Милавин Прокопий Васильевич: «В газете я увидел многоуважаемую Зинаиду Петровну Кокорину. Она была инструктором Школы высшего пилотажа в городе Серпухове в 1924 году. Я у нее был механиком самолета «Фокер. Д-11». Сказать, что она была строгой – не совсем точно. Требовательной – ко всем и к себе в первую очередь. Она приходила на аэродром раньше всех, к её приходу я мотор уже опробую и она завсегда первый вылет делала сама. Самолет «Д-11» в то время считался истребителем первого класса, но технической проверки каждый раз требовал тщательной. На нем Зинаида Петровна делала фигуры высшего пилотажа, курсанты её группы гордились и любили её и весь технический персонаж относился к ней с теплым уважением. Всегда давали отпор, когда кто-то из мужчин-летчиков (были и такие) пытался назвать эти фигуры – «дамские штучки». Потом вроде бы замолчали. Убедительно прошу передать Зинаиде Петровне, что я ее механик. Она меня вспомнит. Обязательно»[3].
Милавин. Милавин… Имя? – Прокопий. Да. Прошей звали молодого застенчивого механика, первым добежавшего до её чудом приземлившегося самолета. И отчаянный крик: «Я же предупреждал вас…!» Это он требовал тогда еще раз проверить крепление крыла вновь прибывшего самолета. Отложить полет. Она настояла на первом вылете. Каким чудом удалось ей посадить на крыло набиравший высоту и внезапно рухнувший самолет? «Считай, пронесло,» – тихо сказал один из врачей. А вот механик кричал на пилота, наверное, в первый раз… «Помню, Проша. Помню. Хорошо, что ты жив и остался в авиации».
Гора писем. Кому отвечать? Она вновь перекладывает письма. Стоит их как-то сгруппировать?
На чистом листке бумаги появляются два столбика фамилий: слева друзья-авиаторы, о чьей судьбе узнала она из писем, справа – фамилии тех, о ком спрашивают адресанты, полагая, что она что-то может знать. Это главное: информация, которую ищут и ждут. Среди знакомых имен много погибших на войне – об этом, наверное, уже знают. Хотя детям и внукам дорога каждая деталь из событий довоенной молодости их отцов… Ещё нужнее – помочь тем, кто хочет узнать о судьбе «потерянных», вернуть честные имена людям и просто забытым, и, тем более, незаслуженно оклеветанным и «втихомолку» реабилитированным посмертно или через годы вышедшим из концентрационных лагерей. Почти в каждом письме ее о ком-то спрашивают. А вдруг она что-то слышала? Ведь узнал же о ней самой известный журналист Василий Песков? Только говорить нужно все. Читатель уже о многом знает или догадывается. Вот одно из писем на имя Пескова, переданное ей.
«Уважаемый Василий Михайлович! Вы всегда рассказываете об интересных людях как-то просто и убедительно, с большой поэтичностью. Вот и ваш очерк за 4 февраля 1969 года под заголовком «Первая» – о Зинаиде Петровне Кокориной. Любопытная судьба. Очень даже. О таких людях говорят: большая цель рождает большую энергию. До какого-то отрезка ее судьбы вы дали почувствовать эту энергию Кокориной. Но… вы видели, как добре гарцующий ручей вдруг исчезает в ненасытном песке? Что-то вроде на полном скаку – стоп! Вот именно так на этот раз у вас получилось.
У меня сложилось впечатление, что с Кокориной вдруг что-то случилось. А что – не понял. Ибо в ответе на вопрос стюардессы, так печально прозвучавшем: «Да, дочка, за последние 33 года…», – нет никакого намека, что же случилось, коль она уже 33 года так далека от любимого дела. Почему вдруг судьба загнала ее в Киргизию и сделала почти никем не знаемой? Этот вопрос не мог не возникнуть, не мог оставить равнодушными ваших читателей. Что же случилось?
С большим уважением Борис Козырь. 6. 02. 69 г.»[4].
Наверное, вопрос возник не только у Бориса Козыря. Ответ на него, возможно, угадывается теми, кто ждет ответа от нее самой. В моем архиве много таких писем. Об этом нужно писать. Само слово «репрессия» редко появляется в письмах. Чаще – спрашивают с надеждой: «Не слышала ли о…?»
Спрашивают об иностранцах-выпускниках Качи. Имена многих известны: они стали героями Испании, героями Великой Отечественной войны. Судьбой Примо Джибелли, например, интересуется несколько человек. Безвестно исчезли люди, очень известные по довоенной службе. Так, болгарина Ангела Строилова, бывшего потом начальником Луганской авиашколы (1931–1933 г.), разыскивает Алексей Васильевич Никитин, тогда – начальник Штаба авиаэскадрильи, ныне генерал-полковник авиации. В том же письме ко мне – вопрос о втором их друге – Абдуле Кариме: «За любую строчку об Абдуле Кариме буду очень признателен».
Известны имена героически погибших в войну однокурсников – спартаковцев. А вот вопрос еще об одном из них: «Людвиг Юрашек был оставлен на Каче инструктором до 27 года. Потом – руководил одной из новых авиашкол. Был репрессирован в 1938 году. Дальнейшая судьба неизвестна» (Из письма Л. Е. Озеранер)
От нее самой, Зинаиды Кокориной, так неожиданно появившейся (да ещё и адрес известен!), ждут любых сведений о бывших учлетах-качинцах.
«В 23–24 годах там учился и мой муж, испанский политэмигрант коммунист Рамон Касанели. Слышала, что мой муж погиб в Испании. Знаете ли вы что-нибудь о нем?». (Мария Фартус)[5]
Ещё запросы о коминтерновцах: норвежец Ульсен, кореец Ли да Мун… Очевидно, ищущие используют малейшие возможности. А вдруг? Совсем тонкая ниточка: обратиться к ней через Пескова.
«Все названные имена мне хорошо знакомы. Хотелось бы узнать хоть что-то об их дальнейшей судьбе». (Сергей Баров)[6].
«О Зине Кокориной с момента окончания ею школы до вашей статьи ничего не слышал, хотя продолжал служить в ВВС. Был слух, что она где-то под Киевом в 30 годах гробанулась. Но вот ее современная фотография! Узнаю эти лучистые глаза и через сорок лет!
Бывший авиамоторист в 1924 году, самолет Аврушка № 29 Смирнов Николай».
Вот уже весь листок исписан знакомыми фамилиями. Она обязательно ответит письмом каждому, совсем коротко, только факты. И сделает это сейчас, не откладывая. Главное о себе и о тех немногих однокурсниках, о судьбе которых она знает, а с некоторыми даже встречалась в последний год. Вот и этот очерк Пескова, прежде всего, – их заслуга.
А вот как ответить другим адресантам – незнакомым и явно молодым? Людям совсем другого поколения, которых взволновала ее судьба и которые ждут от нее ответа, надеясь, но не очень веря в такую возможность.
Столбик конвертов от таких людей не меньше первого. Содержание писем, особенно коллективных – «красных следопытов» или членов клуба «боевой славы» (из Тюмени, Пущина, Оренбурга, Уссурийска и пр. – почему-то из малых городов больше) достаточно конкретно и стандартно: «изучаем историю ВВС… историю конкретной авиашколы…», или «жизнь наших героев-земляков…», или просто «хотим знать о людях героической судьбы… Напишите нам, пожалуйста!»
Индивидуальные письма гораздо ярче, проникновеннее. Видно, история, рассказанная Песковым, как-то соприкоснулась с мечтой, с раздумьями о будущей жизни и с вечным юношеским вопросом: «делать жизнь с кого?» Почти все такие письма от девочек.
«Здравствуйте, уважаемая Зинаида Петровна!
Надеюсь, мое письмо не станет вам в тягость, Хотя предчувствую, что двумя страницами не смогу ограничиться. Меня так поразил чудесный рассказ В. Пескова о Вашей жизни, что я немедленно взялась за это письмо. Как здорово! Сколько интересного Вы видели и знаете! Я Вас просто умоляю: напишите книгу, Это же будет произведение исключительной важности и для нас, и для ветеранов авиации. Разве нет? Читая статью Пескова, просто физически ощущаю, что рассказу о Вашей жизни очень тесно в рамках «Комсомолки». Нельзя втискивать его в полстраницы! Очень прошу Вас: подарите людям настоящий, полноценный подарок! Про авиацию пишут, но так мало книг, где все настоящее – и люди, и трудности, встающие на их пути, и радость преодоления. В моей небольшой библиотеке (М. Галлай, И. Рахилло, А. Покрышкин и др.) – лучшие из книг написаны летчиками, глубоко знающими свою профессию: небо взрастило их, сформировало их главные человеческие качества. Как здорово, когда о настоящих людях пишут они сами». (Романюк Галя)[7]
«Здравствуйте, дорогая Зинаида Петровна!
Я смотрю на Вашу фотографию, помещенную в газете. Хочется видеть Ваши добрые, приветливые глаза, хочется говорить с Вами. Я несколько раз перечитала статью Пескова «Первая». Читала, а самой казалось, что иду за Вами, смотрю и глаз не могу оторвать. Сколько у Вас воли, настойчивости! Какое стремление во что бы то ни стало достичь цели! Спасибо Вам за то, что Вы были и есть! Спасибо!!!
Я с неожиданной радостью узнала, что потом Вы были учительницей. В будущем это моя профессия. Горжусь, что у меня и моих подруг такой замечательный пример. Хочу, чтобы моя жизнь была интересной, содержательной, нужной людям. Я постараюсь. Мне очень хочется походить на Вас». (Тамара Чистякова)[8]
А вот письмо красных следопытов школы № 73 из города Хабаровска, изучающих историю Авиашколы – её Авиашколы (1931–34 г. г.).
«Недавно мы встретились с летчицей-инструктором Ольгой Еремеевной Малышевой. Она много рассказывала о своих боевых друзьях и учителях. От нее мы и узнали о Вас. А тут ещё в газете очерк! Вот здорово! Мы, как и она, восхищаемся Вашей боевой и такой необычной жизнью. Нам очень повезло. Просим Вас, если можно, помочь нам какими-то материалами: Ваши воспоминания, фотокопии. Высылаем Вам наши фотографии. Они не совсем удачны. Извините.
С уважением ст.п. вожатая Крылова
Ребята 4-х классов (красные следопыты).»[9]
Вот и сошлись прошлое и современное: Оля Малышева была её ученицей, окончившей Хабаровскую авиашколу – одну из первых школ 0совиахима. Рекордсмены-планеристки в тридцатые предгрозовые годы стремились овладеть военной техникой. Руководитель школы военлет Кокорина знала это по собственному опыту. Ей самой воевать не пришлось (1937 год «внес коррективы» в военную карьеру), однако в появлении будущего женского авиаполка есть значительная доля ее труда. Вот бандероль – письмо и книга. И такая важная и согревающая ее надпись на книге Р. Е. Ароновой «Ночные ведьмы»:
«Дорогой Зинаиде Петровне от любящей Вас ученицы – учлета Хабаровской летной школы (1932-33).
Спасибо за то, что научили, как бороться с трудностями!
Распопова Нина, Гер. Сов. Союза. 24–1–70 г.»[10]
Хабаровская школа, ее школа, дала стране много женщин-авиаторов.
Как же ответить ребятам? Написать общее письмо?
Что-то вроде автобиографии? Однажды по просьбе Музея Центрального Дома авиации она написала о своей жизни. Получилось двенадцать страниц – перечень фактов. Не в таком объёме ждет рассказа читатель: «не втискивать материал» в документальный очерк, а написать книгу о трудной судьбе конкретного человека – одного из тех, кто неуклонно шел к своей необычной цели. Материалы есть в архивах авиашкол, в отдельных публикациях бывших учлетов-качинцев.
Это будет рассказ о первой высшей школе военных летчиков, написанный выпускницей этой школы – первым военлетом-женщиной.
А если написать живое повествование от первого лица? И войдут туда личные воспоминания– и те, что подсказаны этими письмами её друзей, однополчан и сослуживцев, запомнивших её в разных ситуациях тех лет. А ещё есть документы и фотографии: рассказу нужна достоверность. И не беда, если одни факты и события укрупнятся, обрастут подробностями, а другие будут просто упомянуты (жизнь была долгой – не все запомнилось, а может и просто не нужны они для сюжета такого рассказа). Некоторые – сохранились в документах Центрального Музея авиации и космонавтики, другие – в Музее Качинской летной школы в Волгограде. Документальный очерк В. М. Пескова может быть дополнен материалами других авторов. Пусть будет так.
Глава 1 Когда приходит ответственность?
(немного о детстве и «доавиационной» юности)
Что было в детстве? И было ли оно беззаботным – то время, которое многие люди называют самой счастливой порою?
Вот одно из первых моих воспоминаний:
– Зинуша, вставай! Лешка кряхтит: видно, мокрый уже. Посмотри. Я ухожу, – мать на минуту склонилась надо мною и уже от двери напоминает, – каша телогрейкой накрыта.
Так начинается каждое утро. Ответственность за двух малышей-погодков лежит на мне – старшей. Маму мы почти не видим. Она работает поденщицей у состоятельных людей: ежедневно проводит уборку в нескольких квартирах. Оплата не велика, но другой работы нет. Есть даже одно преимущество: квартиры расположены в соседних домах и в перерывах мама может раза три-четыре забежать на полчаса домой.
Поселок небольшой – прииск Журавлик в Пермской губернии. Состоятельных людей здесь немного – это семьи инженеров, у которых и работает мама. Отец всю жизнь был рабочим на этом прииске. Там я и родилась 18 октября 1898 года. Очень рано семья осиротела: отец умер от туберкулеза легких в 1902 году. Осталось трое детей-погодков, из которых мне, старшей, было четыре года.
Примерно в 1905 году, когда мы переехали в Пермь, мама поступила сиделкой в заводскую больницу, где и работала до конца жизни. Мы с сестрой Соней начали учиться в церковно-приходской школе, а летом помогали маме в больнице.
По окончании школы я сделала первый самостоятельный выбор: можно было остаться на постоянную работу в больнице или попытаться учиться дальше. Одно условие было непременным – обязательно работать: деньги были нужны и для семьи, и для оплаты обучения.
Сестра выбрала больницу. Сотрудники больницы помогли ей совмещать работу с учебой на заочных курсах фармацевтов. Она стала работать по специальности и как-то раньше меня повзрослела, у нее появились новые друзья. Осталась в памяти забавная ситуация. Рабочий день в её аптеке заканчивался в десять часов вечера. Жили мы на окраине города – и дорога считалась небезопасной. Мама просила брата вечерами встречать сестру. Брат Алексей рос озорным парнем. Он вовремя приходил к аптеке и где-нибудь прятался. А у Сони уже появился поклонник, который часто провожал её домой (что почему-то не нравилось маме). Алеша, терпеливо и с удовольствием изображая из себя сыщика, следовал за ними до самого дома. За завтраком, лукаво подмигнув мне, шепотом спрашивал сестру: «Маме сказать?» Сестра краснела и опускала глаза. Тогда следовал второй вопрос: «Пятак дашь?» Кивок согласия означал, что пятак будет получен и сегодня же будет истрачен на очередной выпуск книжечки о сыщике Нате Пинкертоне. Читать будем все.
Я считалась «книжницей» и нередко книгами расплачивались со мною родители неуспевающих одноклассниц, с которыми я занималась во внеурочное время. Едва ли не с первого класса я занималась «репетиторством»: может быть, это звучало комично, но делалось всерьез, требовало реального времени и, главное, оплачивалось. Немного деньгами, чаще вещами, которые были не очень нужны владельцам – поношенная одежда, какие-то продукты. Так, владелица булочной, после занятий с ее дочерью, давала мне увесистый кулек свежих булок. Дома все радовались, я же не могла их есть: не один раз я видела, как работницы булочной в большом чане вымешивают тесто ногами. А вот платья мы с сестрой носили только перешитые из чужих. Правда, мама умела шить, а главное, форма школьная была у всех одинаковой.
Училась я всерьез и с удовольствием. В 1908 году по окончании школы меня как лучшую ученицу приняли учиться на казенный счет в Мариинскую женскую гимназию Перми, которую я и окончила с золотой медалью.
К этому времени репетиторство по существу стало моей профессией. Мама знала, что я смогу обеспечить себя сама и потому согласилась с моим решением поехать учиться в Петроград. Шел 1916 год.
К сожалению, до революции женщин в Университет не принимали. Я добилась разрешения быть вольнослушательницей на историко-филологическом факультете и одновременно поступила на Бестужевские женские курсы, хотя регулярно учиться не удавалось: надо было зарабатывать на жизнь и платить за обучение.
С Революцией и Гражданской войной совпали большие перемены и в личной жизни. Брат был красноармейцем, умер от чахотки, вернувшись из плена. Я приехала в Пермь, чтобы помогать матери, работала в библиотеке и одновременно поступила в Пермский университет. Однако вскоре не стало и мамы. В Перми меня больше ничего не держало – я вернулась в Петроград. Перевестись на историко-филологический факультет университета было не трудно: после революции обучение стало бесплатным, да и в зачетке у меня были одни «пятерки». Однако в те годы школьного учителя из меня не получилось: сначала я учила курсантов-авиаторов и училась сама; профессионально учителем-историком я стала много позже. «В сохранившихся «Личных листках по учету кадров» в графе «образование» записано: «высшее – военно-авиационное и педагогическое (Ленинградский университет)»[11].
В студенческую жизнь ворвалась Гражданская война. Думаю, что вопрос выбора: защита революции, Красная Армия или студенческая аудитория – был главным вопросом для многих, с трудом пробившихся «снизу» к заветной мечте – высшему образованию. И большинство уходили в ополчение или сразу вступали в Красную Армию.
Естественно, в кадетских училищах, в вузах «сословных», особенно военных, положение было иным, вернее, иным был выбор социальной позиции и армии. Мы же в отделе кадров оставляли не заявление– прошение об отпуске, а заявление-информацию «Я ухожу в Красную армию».
Вот напоминание о том времени в письме Кости Барташевича. Через 50 лет!
«Пишу в надежде, что Вы не забыли фронт под Двинском, штаб 138 пехотной дивизии и юного подпоручика-адъютантика, по-детски влюбленного в Вас, наш затянувшийся поход, расформирование в имении Морозова и все с этим связанное… Осенью 1918 года Вы вернулись в стены университета, а я поступил на службу в ВЧК по рекомендации нашего комиссара 138 дивизии Рудкина Филиппа Никитовича, помните его?… Впоследствии он – ген-майор танковых войск, Герой Сов. Союза. Умер в 1954 г.)…
Любопытно, а что сохранила Ваша память о штабе 138? Помните Бастракова, старых генералов? И, конечно, не забыли блестящего штабс-капитана Воробья – предмет моей ревности? А вот названия полков дивизии помню уже плохо… Однако, я увлекся по-старчески. Воспоминания теснятся, пора унять разыгравшуюся память…»[12]
Милый Костя! Из всего штаба 138 дивизии помню только «старых генералов» (вернее, офицеров: генерал, помнится, был один), перешедших служить в Красную Армию: меня поражало, что перемена формы одежды нисколько не изменила их манеры держаться – «военная косточка» видна была сразу. По внешнему виду наши молодые командиры проигрывали им сразу и безоговорочно.
А вот адъютанта Барташевича помню. И наш первый разговор, и мое появление в штабе 138 дивизии. Мы встретились на Набережной Невы и почему-то разговорились. Удивительно, как легко вы меня сагитировали. Главный ваш довод: сегодня в руках нужна винтовка, а не книжка. Вот разобьём Юденича, защитим Петроград… Наверное, это совпадало с моими мыслями Во всяком случае уже на втором нашем свидании направление нашей прогулки определялось расположением штаба… В штабе срочно нужна была машинистка. Признаюсь, что возникшая между нами симпатия (возможно что-то большее) была взаимной. Вот этих двух-трех дней оказалось достаточно, чтобы я приняла решение оставить университет и пойти секретарем-машинисткой в штаб 138 дивизии, где, конечно же, служили вы. Как был оформлен мой отпуск в деканате, я не помню. И так же естественно, после расформирования дивизии, я ушла из штаба, вернулась в университет. Потом была в студенческом ополчении. Официально же я вступила в Красную Армию в феврале 1921 года.
Примерно так я ответила на письмо Кости Барташевича. Позже судьба подарила нам встречу, когда он неожиданно пришел на новоселье в московскую квартиру, полученную мною после реабилитации. Прошло всего полвека. В воспоминаниях время сдвигается. Но это деталь уже совсем другой жизненной ситуации.
Глава 2 Я буду летать!
«Стартовым» городом стал не Петроград, а Киев. А судьбоносным – год 1921. В этом году я экстерном закончила историко-филологический факультет Университета и получила предложение поехать работать в Киев. Политотделу УВУЗ Киевского военного округа были нужны преподаватели, владеющие и определенными военными знаниями. И первая запись в моей трудовой книжке – «инструктор политотдела Киевского управления Военно-учебных заведений», вторая (через год) – «преподаватель русского языка в Высшей Объединенной школе имени С. С. Каменева».
В школе получали общеобразовательную и начальную теоретическую подготовку будущие командиры. Были среди них и авиаторы. На окраине города был расположен учебный аэродром, а в городе стояли авиационные части.
Тогда-то я и увидела близко самолеты – и на земле, и в небе. Человек в небе! Сверкающие крылья самолета! И родилась самая захватывающая мечта: подняться в небо. «В течение года я дважды обращалась по команде с просьбой направить меня в авиационную школу. Бездействовать я уже не могла. Оба раза – отказ. О мечте моей знала вся школа. В конце 1922 года работник политотдела школы Бочкарев посоветовал мне отправится непосредственно на Качу (пригород Севастополя), где была расположена Первая военная школа летчиков. Он же написал письмо своему фронтовому товарищу Меламуду, который в то время был комиссаром Качинской школы».
З. П. Кокорина, 1923 г.
Самолет у мастерской.
Курсантская сила – самый надежный двигатель самолета
Самолет над Качей, 1910 г.
Маленький деревянный самолет – заслуженный ветеран Качи.
Вдохновленная, я отправилась на Качу буквально на следующий день. Женщин в школу не принимали. Однако небольшую протекцию письмо оказало: я могла остаться библиотекарем школы. Но библиотекарем Качинской школы летчиков.
Это только берег моря в поселке был вроде бы обычным – курортным. А чуть выше – возле неуклюжих, непонятных зданий (мастерская ли? стена ангара?) – настоящие самолеты. Маленькие, деревянные.
Много их сиротливо стояло на земле. Основное учебное время курсанты тратили на их ремонт. Но самолеты были и в небе!
Облик самого поселка определялся гарнизонными постройками. А среди жителей выделялись курсанты. курсантов военного училища они были мало похожи – по форме одежды во всяком случае, но они твердо знали, что хотят и будут летать. Желание и возможности далеко не всегда совпадали: отсев поступающих был высок.
До сих пор сохранилось здание Дома офицеров – знаменитый «Дом со львами»
Дом офицеров – знаменитый «Дом со львами»
Курсанты у ангара, 1924 г.
Курсанты у самолета, 1924 г.
И эта Кача всё больше и больше захватывала мое воображение. «На Каче – все иначе» – любимая поговорка качинцев звучала и многозначительно, и интригующе. Что иначе? Во-первых, очень благоприятная для полетов «роза ветров» – главная причина, по которой первая российская летная школа офицеров, открытая под Петербургом в 1910 году, перебазировалась в Крым. Это была элитная школа, как и сама авиация – новый, элитный род войсковых частей. Офицеры-качинцы в Гражданскую войну сражались на стороне Добровольческой армии белых.
Было еще и во-вторых, и в-третьих, что понималось только тогда, когда человек постигал особую ауру этого городка, где сливались небо и море, где небо словно становилось ближе, где мечта о полете обретала крылья. Даже если ты пока будешь работать в библиотеке. Но в библиотеке Качинской летной школы.
Я буду здесь работать. Это совсем особая библиотека И первая задача – сохранить то, что связано с рождением школы, начать хотя бы сбор материалов.
Так в библиотеке появилась «музейная комната».
Здесь были и уникальные дореволюционные исторические экспонаты Летной школы офицеров.
Николай II среди летчиков первого выпуска офицерской школы авиации. Крым, 1911 г.
Закладка зданий офицерской школы авиации на реке Кача. 8 ноября 1912 г.
Часы – подарок Николая II школе
И кадры, запечатлевшие курсантов Первой Летной школы молодой страны Советов. В историю авиации она вошла как Качинская школа.
А значит мое появление на Каче – пусть пока в роли библиотекаря – но! – Качинской библиотеки! – обретало особый смысл. Это была веха, подтверждающая верность выбранного пути. Рассказать о Каче. Объяснить, почему я не могла не появиться здесь. Почему главная мечта моей жизни – стать летчиком – имеет право на осуществление. И скромный библиотекарь, наверное, может быть историком, если предмет его повествования – Кача!
День открытия школы – 24 ноября 1910 года. Но уже первая годовщина этого события (тогда еще школа была Севастопольской) отмечалась 21 ноября. И это стало традицией. Для Русской православной церкви 21 ноября – день архистратига Михаила, покровителя летчиков. Этим и определился выбор.
Популярность и престижность школы определились сразу. Вначале как школы офицерской… «Из 1200 офицеров армии и флота… поначалу было отобрано всего 12 человек».
Но уже во втором выпуске были и учащиеся из «нижних чинов». Обучение было практически индивидуальным. Об этом свидетельствовали личные дела учащихся: из первого выпуска 1911 (24 офицера) дата выпуска каждого обозначена различными цифрами. Например, поручик П. П. Самойло 3 апреля, поручик В. Абрамович – 5 мая… и т. д.».
В школе преподавали первые русские авиаторы, получившие образование во Франции, среди них был и знаменитый русский пилот-авиатор Михаил Ефимов. Уже через год в штате школы было 102 преподавателя».
Важные для истории школы сведения были в обычных официальных документах: личных делах, приказах, «Памятках».
Интересные материалы я неожиданно обнаружила в старых ненужных бумагах, завалявшихся в столах и ящиках. И, кажется, поняла их происхождение. Работавший до меня библиотекарь (я уверена, что это была женщина, скорее даже пожилая) была доброй и одинокой. Она не выбрасывала черновики своих деловых бумаг. Но любопытны были не они, а черновики писем курсантов. Похоже, что многие из них были малограмотны и приходили к ней «на консультацию», точнее, просили ее исправить, отредактировать письмо. Потом они аккуратно переписывали, забирали чистовой вариант, а «черновик» оставался – весь исчерканный, с приписками сверху и сбоку. Он попадал в хранилище старых бумаг – и оставался там на годы.
Из этих источников и попали в руки исследователей сведения о том, где, на каких летных аппаратах и как учились летать первые русские летчики. Несмотря на высокий конкурс, в школу приходили офицеры и солдаты из разных родов войск, с очень разным уровнем образования. В школе не было ни необходимого учебного оборудования, ни всерьез разработанной программы обучения. Вот реальное свидетельство – бесхитростные строки из письма курсанта Петра Кирсанова, датированного 1 июня 1915 года:
«Поступил добровольцем-летчиком. 3 месяца торчал на авиационных курсах и, попав сюда, в школу авиации, работал больше четырех месяцев в качестве механика, не зная, когда придет возможность приступить к обучению полетам… Числа около 15 мая я был назначен обучаться полетам на аппарате «ньюпор». Обучение происходит так: ученик «рулирует» (бегает по земле) на учебной машине (одноместной со слабым мотором) в общей сложности часа 2–4, а потом переходит на обыкновенный, так называемый «ньюпор» и тоже рулирует, а если делает это хорошо, то начинает взлетать и летать. После нескольких часов летания держит экзамен на звание пилота-авиатора: описать в воздухе 10 восьмерок и спланировать в круг на земле. После этого держит экзамен на звание военного летчика: 2 часа полета без спуска не ниже 2 тысяч метров. Через день-три после этого отправляется летчиком на войну.
Обучение идет крайне медленно: много учеников и мало аппаратов. Обыкновенно рулировать и летать удается в день 5–15 минут».
Среди старых бумаг в библиотеке я нашла и уникальные фотографии более поздних лет, запечатлевшие курсантов Первого летного училища молодой советской страны.
Вместе с нами сфотографировались и наши инструкторы, которые иронически-дружелюбно именовались «богами».
Библиотека размещалась в знаменитом «Доме со львами»
Небольшой читальный зал в библиотеке оказался уютным: общий стол и даже два дивана. В книжном фонде были представлены и книги по авиации (к сожалению, их было очень немного) и все журналы.
Первые советские летчики, 1921 г.
Знак Качинской школы
Преподаватели летной школы. 1923 г.
Памятное благодарное фото – письмо для инструктора – «бога», 1923 г.
А это уже мои сверстники и однокурсники. Вместе с нами сфотографировались и наши инструкторы, которые иронически-дружелюбно именовались «богами». Первая военная авиационная школа РККА. 1924 год.
Инструкторы и курсанты. 1924 г.
1928 год. Летчики на аэродроме.
Основная работа с читателями проходила вечером, поэтому график работы был соответствующий: с 15 до 23-х часов.
Однако до 19–20 часов «штатские» посетители появлялись редко, и я могла читать и читать. Так что теоретически я знала о самолетах уже много… Тем сильнее становилось желание прикоснуться к штурвалу, подняться в небо.
Основными посетителями в вечерние часы были молодые летчики-инструкторы.
Просто выдавать книги было не интересно. Хотелось что-то придумать, чтобы сблизить этих ребят, понять их, а через них то дело, которое стало моей мечтой. В архиве библиотеки я нашла несколько очень потрепанных рукописных журналов, написанных и проиллюстрированных курсантами еще дореволюционной школы.
Ребята заинтересовались: пример был заразителен Инициативная группа по созданию своего журнала организовалась как-то сразу. Это были те постоянные посетители, что появлялись в библиотеке почти каждый вечер. Было шумно, весело. И почти каждый стремился привлечь мое внимание. Это было заметно и, пожалуй, понятно: в гарнизоне, кроме нескольких жен инструкторов, было всего четыре женщины – из обслуживающего персонала. Молодая симпатичная библиотекарша воспринималась как объект, достойный внимания.
Целью моего появления на Каче никто особенно не интересовался. Но я-то знала свою цель… Я была просто вежлива со всеми, однако на особый успех никто из посетителей не мог рассчитывать. Внимание моё привлек один из инструкторов – «негромкий» человек с серыми грустными глазами. Альберт. Альберт Гансович Поэль. Его всегда называли полным именем: дружески-панибратское Алик никак не годилось в этом случае. Читать он в основном брал что-нибудь из русской классики. В состязаниях острословов никогда не принимал участия, но если включался в разговор, говорил конкретно и, главное, умел внимательно слушать собеседника. Думаю, что он просто заметил, как оживлялась и активно сопереживала я, если речь заходила о явлениях, происходивших на летном поле или в небе: освоена сложная фигура пилотажа, неожиданно отказал двигатель, но пилот смог посадить самолет или (самое страшное!) разбился…
Он первым заговорил со мною о полетах, о том, как удивительно красива земля в апреле: поля красных маков вплотную подступают ко взлетной полосе. Весною он обязательно покажет мне это с борта самолета.
– Почему весною? Как долго ждать! – вырвалось у меня. – Я так хочу увидеть землю с борта самолета!
Он понял. Наверное, потому, что я говорила о самом заветном. Я посмотрела на него какими-то другими глазами.
Я не сразу поняла, что жду появления этого человека каждый вечер. Он не умел говорить комплиментов. О любви не говорил тем более. Он вообще говорил очень мало. Просто приходил каждый вечер, устраивался в углу дивана, взяв том Тургенева или Чехова, и читал до закрытия библиотеки. Как-то само собою сложилось, что провожал меня последний из уходящих посетителей и так получалось, что этим последним всегда оказывался он. Идти было не далеко. Мне дали комнатку в большом жилом доме, где было общежитие и несколько отдельных комнат, где жили семьи инструкторов и руководящих работников гарнизона. Дом был старожилом Качи – знаменитый «Дом со львами».
Альберт Поэль
От Дома офицеров нужно было пройти через небольшой садик-сквер с прямыми аллеями, одна из которых вела прямо к жилому дому. Таким образом «дорожка провожания» была слишком короткой. И если раньше на эту ситуацию мы не обращали особого внимания, то со временем это показалось нам досадным обстоятельством, которое можно и должно было изменить. Мы обходили дом, возвращаясь к той же дорожке, ведущей к Дому офицеров. Обходили и этот дом. И вновь – перед нами дорожка… Это повторялось несколько раз. И последние слова прощания: «когда полетим?»
Настало утро солнечного дня, когда мы пришли на аэродром вместе. Поговорив с механиком (это был пробный полет – проверка самолета), Альберт протянул мне руку и помог расположиться на месте механика. Я уловила строгий и недоверчивый взгляд механика, но возражать инструктору он не стал – молча крутанул пропеллер…
Поднимаемся выше и выше. Дух захватывает – от волнения ли? От восторга? Повторяю про себя: «Сосредоточься. Это твой первый урок!» В следующий раз механик уже улыбнулся мне. Вопрос был решен.
Этот день – 2 марта – запомнился на всю жизнь. Серо-голубое небо и редкие облака. Теплая, надежная рука любимого. И мои руки – на штурвале. Удивительное чувство: самолет мне подчинялся. Потом самолет пошел на посадку – земля бежала навстречу. Вот здесь стало немного страшно… Возвращаясь с аэродрома, мы шли не разжимая рук – как дети. Еще одна нить, наверно, самая главная, протянулась между нами. И вечером «дорожка провожания» не закончилась возле сторожевых львов: она протянулась по длинному коридору к моей комнатке, которая отныне стала нашей общей. И о том, что он учит меня управлять самолетом, и о том, что мы любим друг друга очень скоро узнала вся школа. Комендант утвердил переселение Альберта в мою комнату. Так создалась новая семья. И поскольку в гарнизоне Качи это был первый такой случай, ребята решили подготовить для нас (и для себя) настоящий праздник. Для оформления брака было назначено время, создана «свадебная комиссия» и уточнена дата – 20 марта.
Показать сверху цветущие поля мака Альберт не успел. 17 марта 1923 года во время тренировочного полета на «Ньюпоре Х» Альберт Поэль разбился. Старого, в форме пропеллера, памятника уже нет. Когда кладбище авиаторов переносили на новое место (не понятно – как это было возможно?), некоторые захоронения произвольно объединили, небрежно сделали надписи. Так выглядит могила Альберта Поэля сегодня. В обозначении даты смерти допущена ошибка.
Настоящую дату я не забуду никогда. Так март 1923 года вписал в мою жизнь два дня – самый счастливый и самый трагический. Эта боль потери осталась на всю жизнь. Горе мое пытались как-то смягчить наши друзья. Они были предельно внимательны. При этом такая форма сочувствия как ухаживание была исключена. Понятно: для них я была вдовой друга, женщиной, которая изо всех выбрала его одного. Они приняли самое важное для меня решение: продолжить мое обучение полетам. И взял на себя эту ответственность самый уважаемый в гарнизоне человек – секретарь ячейки РКП(б) инструктор Сергей Иванович Трофимов. Теперь он брал меня вместо механика в самолет во время пробных полетов. Однако вскоре это открылось, и даже авторитет секретаря партийной ячейки не мог ничего изменить. Меня вызвал Начальник летной части Тадеуш Францевич Галецкий и запретил даже появляться на аэродроме, обещая в случае нарушения этого распоряжения немедленно выселить с Качи вообще.
Могила А. Поэля
Мне было известно, что к этому времени в школах ВВС уже были женщины, например, в начальной (теоретической) школе Егорьевска. Большинство из поступавших не выдерживало требований обучения, но были и закончившие школу: Нина Чудак, к сожалению, разбившаяся во время одного из первых самостоятельных полетов; Нина Гордевич, получившая направление для дальнейшего обучения на Качу, но вскоре отчисленная по неуспеваемости. Я решила добиваться официального разрешения летать.
Первый памятник
Летом 1923 года на Качу приехал Начальник Военно-учебных заведений ВВС товарищ Зиновьев.
Этот вечер запомнился на всю жизнь: наверное, ни в каких других, самых сложных ситуациях, я не была так убедительна и настойчива. Мне удалось привлечь его внимание. Мы говорили вдвоем на балконе Дома офицеров: к счастью, никто не решался прервать разговор столь важного чиновника. Мне удалось доказать ему мое право на осуществление самой заветной мечты. Через три дня был получен приказ откомандировать меня в Военную школу Воздушного флота.
Я приехала в Егорьевск, одну из первых теоретических летных школ России. Располагалась она в бывшем монастыре. И как дерзкое утверждение нового времени, как решительный отказ от всего, что не принималось молодежью этого времени над воротами монастыря висел плакат: «Религия – опиум для народа».
Одновременно со мной были приняты три женщины: Надежда Сумарокова (для которой, по-моему, это была очередная авантюра: она «таинственно» рассказывала курсантам о своем родстве с князем Сумароковым-Эльстон, убийцей Распутина); фамилии второй я не помню, звали её Диной, была она какой-то незаметной и было совершенно не понятно, зачем она попала в школу; третьей была Евдокия Евдокимова, молодая крестьянка из Тверской деревни, где жили и родители Михаила Ивановича Калинина. Естественно, что разница в образовании между нами была громадная: привилегированная гимназия Сумароковой, церковно-приходская школа Евдокимовой и мой университет. Курс обучения, рассчитанный примерно на два года, включал общеобразовательные предметы и специальные. Я сразу же сдала все общеобразовательные и засела за специальные, выделив из них прежде всего военно-теоретические».
Курсант, оканчивающий Егорьевскую школу получал звание Красного военкома. Это очень воодушевляло курсантов, но почему-то смущало высшее военное руководство, когда речь заходила о женщинах. И я до сих пор горжусь, что имела некоторое отношение к его окончательному решению. Ситуация сложилась не рядовая. Всего через месяц после нашего зачисления в школу, как раз когда я очень успешно закончила сдачу всех общеобразовательных предметов, был получен приказ Начальника ВВС Розенгольца об отчислении всех женщин-курсантов из школы и о дальнейшем запрете на подобные «эксперименты». Сумарокову и Дину это, по-видимому мало затронуло: они уехали и я никогда больше не встречала их имен ни в списках школ (вскоре появилось много учебных школ Осовиахима), ни в каких-либо периодических изданиях или документах, имеющих отношение к авиации – вообще нигде. А вот Дуся Евдокимова оказалась такой же упрямой и целеустремленной, как и я. Мы решили бороться за право вернуться в школу. Мы поехали в Москву и начали хождение по инстанциям. Нас сочувственно выслушивали, но… Мы дошли до Зам. председателя Реввоенсовета тов. Антонова-Овсеенко – но и здесь получили отказ.
Мы сидели на лавочке в каком-то скверике. Что делать? И заплакать было нельзя: в кармане лежал военный билет.
Неожиданно Дуся схватила меня за руку:
– Знаю! Есть еще один человек! Михаил Иванович!
Что она живет в Тверской деревне Верхняя Троица Корчевского уезда – я знала от Дуси. Что это родное село Михаила Ивановича Калинина – тоже знала. До того, как стать «Всесоюзным старостой», он был старостой этого села. И, наверное, очень хорошим старостой. И что?
– Идем к Калинину.
Мы легко нашли Приёмную Калинина, немного посидели, ожидая приема (дело было к вечеру).
Помню, меня удивили и очень разные люди, сидевшие в комнате перед кабинетом, и какая-то особая атмосфера – спокойная и явно не официальная.
Наш разговор с Калининым был недолог. Он все понял и доводы, заранее продуманные нами, оказались не нужны.
– Если мы говорим, что равенство женщины и мужчины во всех областях жизни нового государства можно считать одним из его главных достоинств и отличий, то почему это право не должно распространяться на авиацию? Вот насчет военной… – Калинин на минуту задумался и продолжил: – Нет, и военной тоже. А выдержите? Если решили всерьез… Трудно будет.
Мы заговорили враз и очень эмоционально.
– Да мы… Да это мечта всей жизни… Да мы уже знаем… Калинин прервал нас и улыбнулся: он умел слышать интонацию, чувствовать «настрой» собеседника.
– Ладно. Попробую помочь. Как называется ваша школа?
– Егорьевская военная школа летчиков.
– А как дома, Дуся? Какие новости можешь рассказать? – Михаил Иванович как-то неожиданно и естественно перешел к разговору о сельских делах. Авиация здесь была совсем не причем. Вскоре мы распрощались.
Кому он звонил или писал – я не знаю. Нас, вернувшихся в Егорьевск, встретили удивленные взгляды, но в учебной части, кроме заявления о восстановлении в школе, ничего не потребовали.
Мое положение как курсанта было довольно необычным: я была неофициально внештатным репетитором по русскому языку и истории. Через приемный кабинет школы проходили не десятки, сотни совсем молодых ребят, мечтающих о небе, о самолетах, готовых работать день и ночь, но не обладающих минимумом необходимых общеобразовательных знаний. Большинство из них комиссия вынуждена была отсеивать сразу. Тех же, кто обнаруживал не столько знания, сколько сообразительность и способности, зачисляли на краткие подготовительные курсы, правда, названия такого отделения тогда не было. Работали ребята, не щадя времени (преподавательского тоже). Ко мне они обращались дополнительно (и даже старались, чтобы штатный преподаватель не знал об этом).
В одном из писем, пришедших после очерка В. М. Пескова был отклик и из тех лет:
«Мы не удивлены, что потом вы стали учительницей. Конечно, хорошей учительницей. А, главное, щедрой и умной. В том, что мы стали грамотными и смогли успешно закончить Летную школу, во многом ваша заслуга, Зина Кокорина – учлет, которому трудно давались работы технического плана (тут мы помогали, но в основном ребята вашего класса – «Ч»). Вы же помогали всем и никогда не жалели времени». В письме вложена сохранившаяся фотография тех лет. На обороте надпись: «г. Егорьевск Москв. обл. Е. В. Ш. Л. 1923 г. Стоит учлет Винеборг, сидят слева на право 1. Шадзейский, 2. Неклюдов, 3. Смирнов, 4. Андреев. Класс И-К».
Ребята из Егорьевска, 1924
Совсем мальчишеские лица. К сожалению, я не помню никого из них. Из других классов. Буквенное обозначение классов – находка учебной части школы. Классов было много, выпуски проходили в разное время: срок выпуска определялся выполнением программы первичной теоретической подготовки. Для контингента Егорьевской школы средним сроком обучения были год-полтора. Я попросила у командования школы разрешения перейти в один из классов, курсанты которого уже заканчивали обучение. Состав класса определялся единовременностью набора. Я была зачислена в класс «Ч». Курсанты, закончившие обучение, направлялись в Высшие военно-авиационные школы.
Подготовка в школе велась интенсивно. Дуся Евдокимова, к сожалению, была отчислена: не смогла осилить техническую программу (я не могла помочь: тут мне самой требовалась помощь ребят). Я же закончила Егорьевскую школу Красного воздушного флота в январе 1924 года и была направлена в 1 Военную школу летчиков на родную Качу.
Глава 3 На Каче – всё иначе!
Эта поговорка была (да и осталась) для всех качинцев своеобразным паролем («мы одной крови – ты и я»). Её основное значение определялось особой «розой ветров» в этом уголке Крыма: здесь было необычно большое количество «летных дней» – чистое небо для самолетов и планеров.
Небо и море Качи…
Вот мои первые воспоминания, записанные В. М. Песковым и появившиеся в его очерке:
Кача – это местечко в Крыму, большое ровное пространство около моря – природой созданный аэродром. Первые самолеты не нуждались в бетонных дорожках…
Триста мужчин учились в Каче летать. Тут были русские, латыши, эстонцы, итальянцы, индусы, болгары. Я помню многих по именам: Ангел Стоянов был силачом-болгарином. Хорошо помню живого, неистового итальянца Джибелли, он стал потом героем Испании. Индус Керим был тихим задумчивым человеком, перед тем, как сесть в самолет, он всегда опускался на колени и произносил слова молитвы. Это были недавние пролетарии – кузнецы, слесари, переплетчики, жаждавшие летать. Мы все тогда ждали скорой мировой революции и понимали: будут бои, нужны будут летчики.
Я вернулась из Егорьевска на родную Качу. Здесь мне суждено было стать летчиком.
Боевое знамя Качи, 13 мая 1938 г.
Это была все та же Кача. Здесь были мои товарищи: многие из них остались в школе летчиками-инструкторами. Но для меня «на Каче – все иначе» обрело привкус горечи: да, для меня это самое заветное место на всей земле, но – здесь нет и никогда уже не будет того единственного любимого человека, с которым я впервые поднялась в небо и увидела огромный мир.
В самом гарнизоне, где располагалась школа, за прошедшее время изменилось немногое. Появились новые жилые дома.
Центром гарнизонного поселка по-прежнему были Дом офицеров и длинный двухэтажный дом со львами, в жилой части которого третьим от угла было окно моей комнатки, всего несколько дней бывшей нашим общим с Альбертом пристанищем. За каким-то другим окном должна быть комната еще одной девушки-курсантки. Я уже знала, что в школе восстановлена и проходит обучение Нина Гордевич. Радость моя была преждевременной: мой приезд почти совпал с ее повторным и окончательным отчислением из школы по неуспеваемости. Факт этот негативно отразился на отношении ко мне. Формула «Не женское это дело», которую мне приходилось так часто слышать, получила ещё одно подтверждение. Надо сказать, что процент отсева по неуспеваемости и среди учлетов-мужчин был очень высоким. Нередкими были и случаи гибели.
Разбившийся самолет
Своих самолетов в стране не было. Одной из причин аварий была техническая изношенность самолетов самых первых зарубежных моделей – «Ньюпор» и «Авро». Их «списывали» из действующих, пытаясь как-то приспособить для учебных целей. Некоторые становились неподвижной моделью на земле. Другие, лучше сохранившиеся, «оживляли» энтузиасты-механики. Главным было заставить работать мотор. А вот приборов на таких самолетах фактически не было, кроме масленого стаканчика, показывающего давление масла в моторе. Поэтому для ученика-летчика требовалось особое внимание и большие летные способности. Высота определялась на глаз, работа мотора на слух, а скорость самолета – целым комплексом ощущений, в который входили и шум стяжек самолета. и угол наклона к горизонту, словом, требовалось какое-то шестое чувство – чувство полета.
Естественно, что неудача с Ниной Гордевич настроила большинство инструкторов против меня: никто не хотел брать меня в свою группу. Однако это обстоятельство в конечном счете обернулось удачей: на меня обратил внимание лучший инструктор школы, прекрасный человек, любящий идти «против течения» – Борис Александрович Туржанский (1900–1948).
Борис Туржанский
Дворянин по происхождению, он в 1918 году добровольно вступил в Красную Армию, в Гражданскую войну служил мотоциклистом в 7 истребительном авиационном отряде 9 армии. С 1921 года по 1923 год с отличием последовательно окончил авиашколы разных ступеней: Егорьевскую, Качинскую, Московскую высшую авиационную и был назначен инструктором в Качинскую школу. Позже, будучи комбригом, сражался в Испании (окт. 1936 – февр. 1937), первым в стране получил звание Героя Советского Союза за боевые заслуги.
Борис Александрович получил разрешение включить меня в свою группу. Это была подлинно интернациональная группа: латыш Пога, украинец Дятько, грузин Кублашвили, азербайджанец Мамеджанов, русские Скалкин и Кокорина. Меня инструктор назначил старшиной группы.
Группа Туржанского
Туржанский и Кокорина в самолете
Это было не легко. У Туржанского были свои педагогические принципы и непререкаемый авторитет. Он передал нам свое бережное отношение к самолету. Не сразу разрешил «общаться» с машиной. Первые дни занятия проходили в аудитории.
Потом – можно было уже сесть в самолет, просто так посидеть в кабине или потрогать крылья ладонью, крутнуть пропеллер для тех, кто взлетал, подышать запахом подгоревшей касторки. Старые, изношенные самолеты. Каждый день в них обязательно что-нибудь ломалось. Нынешний летчик изумился бы, заглянув в кабину качинского «Ньюпора» или «Авро» – ни одного прибора! Ни одного. Работу мотора определяли на слух, высоту полета на глаз. Летали, правда, недалеко и невысоко. Полет был праздником. Минут десять-пятнадцать праздника. Остальное будни. Подъём до солнца. Отбой поздно вечером. Переборка моторов, притирка клапанов, рулежка по полю. Моторы были недолговечные – сорок часов работы и надо менять. Потому на каждый самолет полагалось по три мотора. С одним летали, другой стоял наготове в ангаре, третий в мастерской на починке. «Тут я хорошо узнала, что значит «неженское дело». Надо было не просто поспевать за мужчинами. Середнячком свое право я не могла утвердить. Надо было стать первой». И она была первой во всем. Её выбрали старостой группы. Она первая освоила самолет. И когда подошло время летать без инструктора, первой назвали её фамилию».
Учлеты сами под руководством механика производили ремонт моторов в мастерской, И задачей старосты была организация бесперебойной подготовки моторов к работе.
Я успевала. Помню только – уставала очень и старалась, чтобы это не было заметно. Обучение шло успешно. В самостоятельный полет я была выпущена второй – после Поги. Это было хорошим показателем. Отчетливее всего в память врезались аварийные «ЧП». Во время третьего полета на стареньком «Авро» оторвавшейся тягой цилиндра мотора сорвало с мотора капот и бросило его на конец левой плоскости. Я не растерялась, выключила мотор и, планируя, посадила самолет в небольшую лощину. Второй случай произошел в тренировочной группе, когда на высоте 70–80 метров самолет, потеряв скорость на последнем развороте, перешел в штопор, и я успела вывести его из штопора и относительно благополучно посадить на землю. Самолет этот имел плохие полетные качества, но как учебный использовался. На другой день на этом же самолете, не сумев вывести его из штопора, разбился учлет Светов. Эти случаи помогли доказать, что я летаю грамотно, а, главное, чувствую самолет.
З. П. Кокорина – выпускница Качинской летной школы, 1924 г.
Школа была успешно закончена. Мне, как и другим выпускникам, было присвоено звание Красного военного летчика – красвоенлет. Не знаю, в каком табеле о рангах, означено такое звание и какому уровню военных званий оно соответствует. Однако в те годы оно присваивалось всем выпускникам летных школ (не Высших), и для меня так и осталось самым дорогим.
Впервые мой портрет появился в газете «Красная звезда» под заголовком «Женщина – красный летчик» (военный летчик РККА тов. Зинаида Кокорина): «Работницы и крестьянки СССР и всего мира получили к своему Международному дню ценнейший подарок – трудящаяся женщина впервые стала красным военным летчиком. Имя ее – Зинаида Петровна Кокорина».
Я приняла предложение руководства школы остаться инструктором в Качинской школе. Работать с людьми я умела, а летать самой, да ещё учить летать ребят, которые рвались в небо (я-то понимала это!) – что могло быть желаннее. Однако проработала я на Каче всего несколько месяцев. Успешно. Четыре очень дорогих для меня письма есть среди откликов на очерк В. М. Пескова от учлетов моей группы тех лет. Написал об этом и он сам: «Просто летать теперь уже было мало. Решила стать летчиком-истребителем. Опять учеба. Приемы воздушного боя, стрельба по цели, бомбометание. Два десятка мужчин и одна женщина учатся в Высшей военной школе под Серпуховом. Выпускные экзамены. Лучшие результаты по пилотажу и стрельбе – у Зинаиды Кокориной. Ее оставляют пилотом-инструктором в школе. Теперь она летает сама и учит летать других».
Так пришло признание. Эту оценочную характеристику, можно, наверное, дополнить свидетельством начальника Военно-Воздушной академии имени Н. Е. Жуковского генерал-лейтенанта А. И. Тодорского: «Документы того времени отмечают, что З. П. Кокорина проявляла хорошие успехи, способность к летной службе, выносливость, любовь к профессиональному делу и дисциплинированность. Все её замечательные качества были высоко оценены. По окончании Высшей школы стрельбы и бомбометания она была оставлена при ней инструктором для подготовки новых кадров советских военных летчиков»
И неофициально и официально было получено приглашение вернуться в новом звании в летную школу на Каче. Я вежливо отказалась. Объяснить двойственность моего отношения к Каче трудно… Была светлая память о первом самолете, инструкторе-Боге и друзьях-курсантах. – Здесь Кача отдала мне все, что могла. Отдала щедро, без оглядки. На Каче сбылась моя главная мечта – я поднялась в небо. – Это память– любовь. Так же щедро, подарив мне нежную любовь крылатого человека («на Каче – все иначе»: недаром же наставников-инструкторов называли богами), она безжалостно отняла его жизнь. Не отняла – взяла по договору добровольного риска – обязательного условия для тех, кто первым поднимался в небо, испытывая летные возможности примитивных деревянных аппаратов.
Так Кача изменила мою судьбу.
Уехав в Серпухов, я никогда больше не возвращалась на Качу. Не могла. Этот уродливый камень с надписями, ставший братской могилой пилотов на новом кладбище, я никогда не видела: фотографию прислали моей дочери – много позже. Я не знаю, куда девался тот первый памятник-пропеллер… В памяти остался он.
Главное не в этом. Женщина – красный военный летчик – теперь носила только мужскую одежду, короткую стрижку, курила. Её товарищи говорили, что она единственная женщина, с которой можно всерьез играть на биллиарде или красиво выпить. И которая словно не разрешала видеть в ней женщину. По-другому на Каче не могло быть. Это была жесткая память.
Глава 4 Жизнь – для живых
Работа летчика-инструктора в Высшей авиашколе военных истребителей в Серпухове отнимала очень много времени. Правда, я иногда расширяла круг своих обязанностей, чтобы появляться в маленькой, почти пустой комнатке общежития как можно позже.
Очередное горе пришло неожиданно. Телеграмму из Москвы принесли утром: «Приезжай попрощаться. Ты нам очень нужна. Соня».
С сестрой Соней я не виделась почти пять лет. Судьба резко развела нас. Потеряв маму и навсегда покинув Пермь, мы пошли разными дорогами. Её дорога казалась удачной и спокойной. Волноваться за нее не было повода. Она как-то сразу нашла свое место в жизни. Не помню, каким образом, но уже где-то лет двадцати Соня вышла замуж за москвича, своего ровесника, и стала работать по специальности (провизором в аптеке). Через год у них родился сынишка, а муж поступил в аспирантуру. Был он по специальности философом и человеком к реальной жизни мало приспособленным. Так что все материальные проблемы решала сестра и жили они очень скромно.
Беда пришла непоправимая: сестра умирала от туберкулеза – наследственной болезни семьи. Сыну Всеволоду (дома его звали Вовкой) шел третий год. Молодой отец был в полной растерянности.
Я ещё успела поговорить с сестрой и принять ее решение. Оно могло быть только одно: сестра просила меня усыновить мальчика и забрать с собою. Отец не возражал, а года через полтора вообще перестал интересоваться сыном. (Сын отыскал его уже после войны).
Я вернулась в Серпухов с мальчиком. Так судьба опять переплела горе с радостью: я потеряла последнего близкого человека, но умершая сестра доверила мне свою кровиночку – в моей жизни появился любимый человек – ребенок, который требовал заботы, которому была нужна мама. Так в военном летчике пробудилась женщина.
В военных гарнизонах много маленьких детей. В погожий день в скверике около Дома офицеров собираются небольшие группки молодых женщин с колясками и с детишками постарше, которые гуляют самостоятельно, но тоже недалеко от мамы. Это привычно для быта офицерской семьи, где жены, часто переезжающие с мужьями из одного гарнизона в другой, редко находят работу. Кроме скверика есть другое место общения – магазинчик: продукты привозили где-то к обеденному перерыву и после двух часов та же группа собиралась на новой площадке. Я была «белой вороной» – женщина в офицерской форме, успевающая только наспех поздороваться. К моему появлению с ребенком привыкли быстро: возвращаясь вечером из детского сада, я заходила в магазин. Офицеры-мужчины появлялись у магазина крайне редко.
Как выяснилось позже, именно «нетипичность» ситуации заставила меня и моего будущего мужа Сергея обратить друг на друга внимание. Вернее, он, конечно, знал о единственной женщине Летчике-истребителе в Легко-бомбардировочной эскадрилье, где он был начальником штаба, но встречаться в ситуациях служебных нам не приходилось. Меня же удивило постоянство его появлений в магазине и солидная, отнюдь не мужская, продуктовая сумка. Вероятно, он частенько был предметом обсуждения «женских собраний», да и тайны из своего бытия явно не делал. Мне о нем женщины рассказали сразу: стоило только спросить.
Сергей Николаевич Смелков, начальник штаба, живет в Доме для Командующего состава. Вероятно, разведен, но занимает двухкомнатную квартиру и живет не один. Он старший сын в многодетной семье священника маленькой деревенской церкви на Вологодчине. Отец его остался без работы и принадлежавшего церкви дома. И теперь у Сергея Николаевича постоянно живет кто-нибудь из младших: он помогает им «встать на ноги». Сейчас брат поступает в Летное училище. Жила сестра, работала на фабрике, весною вышла замуж.
Коренастый, неулыбчивый, он вступал в разговор крайне редко – в случае особой необходимости. Мне казалось, что ему чем-то понравился мой Вовка. Однажды я задержалась и опоздала взять сына из детского сада. Когда мы подошли, небольшая очередь расходилась: хлеб был распродан. Спускавшийся с крыльца военный, поздоровавшись с нами, молча вытащил из своей большой сумки батон белого хлеба и, разломив его пополам, протянул мне половину: «Обойдетесь?» Перехватив хлеб, Вовка положил его в нашу сумку и в знак благодарности, молча, по-мужски протянул военному руку. Я в первый раз увидела улыбку на лице Смелкова. И лицо стало другим. И предложение помочь донести сумку показалось естественным. Мы пошли рядом.
Таким запомнилось мне наше знакомство. Вряд ли это была любовь. В основе возникшего чувства лежало доверие к человеку, умеющему думать о других.
С. Н. Смелков
Это фотография примерно 1920 года. Он был кадровым военным, героем Гражданской войны: освобождал от интервентов Север страны. Фотографий года нашей встречи, как и свадебных фотографий, не сохранилось.
Семья Зинаиды Петровны Кокориной (муж Сергей Николаевич Смелков, брат мужа Феодосий, сын Всеволод, 1927
В марте 1927 года мы зарегистрировали наш брак. Он не просто принял, но полюбил моего Вовку, а его младшие братья так же естественно продолжали периодически появляться и подолгу жить в нашей семье. Это были спокойные и дружелюбные ребята – ладить с ними было не трудно.
Однако совместная жизнь двух кадровых авиаторов во многом зависела от служебных назначений-перемещений. Уже через два месяца меня перевели в 20-й отдельный отряд в Москву, а моего мужа – на Украину. В Авиашколе никаких претензий ко мне не имелось, наоборот, за короткий срок я получила две благодарности за выполнение летных заданий. По моей просьбе осенью 1927 года я была переведена в 36-ю Авиаэскадрилью, входившую в состав бригады, где служил мой муж. Но в 1928 г. его назначили в Киев, а пока я стала ходатайствовать о своем переводе туда же, его уже перевели в Брянск. Это обстоятельство, а главное – отсутствие перспективы в дальнейшем (окончив школу в 1925 г., я в 1929 г. все еще была и. о. командира звена) создали у меня демобилизационное настроение. Нину Гордевич снова отчислили по неуспеваемости, та же участь постигла и Евдокию Евдокимову. Был отдан приказ, запрещающий прием женщин в ВВС. И когда напоминали, что летает же Кокорина З. П., то отвечали, что Кокорина – исключение, а исключение, известно, лишь подтверждает правило: т. е. женщины – не летчики.
Конкретным поводом, заставившим меня подать рапорт о демобилизации, был инцидент, происшедший с комиссаром части, который, в моем присутствии заявил, что он никогда бы не решился полететь со мной. На что я, вспылив, сказала, что я такого труса не взяла бы на самолет. В результате его рапорта мне, впервые за всю мою службу в Красной Армии, был объявлен выговор за грубое отношение к Комиссару части, а я подала рапорт о демобилизации. Начальник ВВС РККА прислал мне телеграмму с предложением назначить преподавателем в любую Авиашколу по моему усмотрению, но я отказалась и была демобилизована по своему желанию.
Это было в мае 1929 года. За годы кадровой службы у меня не было ни одного нарушения, но не хотелось служить «исключением», зная, что вновь действует приказ, – закрывающий путь женщинам в летные школы. А женщина может летать!
Решение о демобилизации было, наверное, самым сложным в моей жизни. Шагом назад, когда на миг победу одержали далеко и накрепко запрятанные в душе женская слабость и неуверенность… Военный летчик, командир звена авиаэскадрильи принимает решение о демобилизации. Когда? Когда достигнута мечта… Когда преодолены такие препятствия… Когда закончена высшая Военная авиационная школа.? Это почти невозможно объяснить. Потому, что судьба первых почти всегда необычна? Потому, что запавший в душу оскорбительный диалог о том, что авиация – не женское дело, возникает слишком часто и унижает женское достоинство?
Расстаться можно было с армией. С небом – нельзя. Я стала думать о возможностях гражданской авиации. Появилась запись в трудовой книжке – инспектор ЦС ОСОВИАХИМА СССР. Впервые в мире в молодой стране советов существовала такая добровольная кузница авиационных кадров и мой опыт первой военной летчицы, что бы не говорили разные «спецы» вроде моего оппонента (а разговоры такого рода были не редкими и в других ситуациях), многое доказал и изменил в отношениях общества к гендерной политике молодого государства. Участие женщин стало своеобразным прорывом в различных сферах жизни.
Двадцатые-тридцатые годы многое изменили, должны были произойти перемены и в международных отношениях молодой страны Советов. Надежды на мировую революцию больше не было. Построение социализма в одной стране выдвинуло на первый план идею укрепления, защиты, активного строительства Армии этой первой в мире страны победившей революции. Оборонительный тезис стал главным в идеологической программе власти: «Готов к труду и обороне!» Сколько добровольных обществ содействия обороне страны возникало в больших и малых городах!
Они активно развивались, объединяясь, разрастаясь и молодея! ОСОВИАХИМ обрел среди них особую притягательность. Идея общественной подготовки авиационных кадров обрела массу поклонников среди молодежи. Активной формой подготовки кадров стали аэроклубы. Они создавались во многих городах.
Я пришла в Осовиахим сразу после демобилизации: авиаторы, имеющие педагогическое образование, были очень нужны. В январе 1930 года я была приглашена на должность инструктора Авиаотдела Осовиахима, затем переведена на должность старшего инспектора. Это была работа в авиации, но не на летном поле, а в служебном кабинете. Надо было привыкать к штатской одежде.
З. П. Кокорина, Осоавиахим, 1930 г.
Да, по существу это была работа чиновника – серьезная и ответственная, но она подарила мне встречи с замечательными людьми, сделала участницей больших, общественно значимых событий. Так, во время визита в Москву известного авиаконструктора – «летучего голландца» Фоккера – мне было поручено познакомить его с Москвой.
Помню, в связи с этим обстоятельством (по приказу из Наркомата) мне срочно сшили красивое модное платье, чтобы я достойно представляла Россию. Платье было бирюзового цвета, с декольте. Туфли я купила сама – лодочки, с семисантиметровыми каблуками. На более высокие не решилась, да и в этих ходить было непривычно: ноги накрепко усвоили устойчивость сапог. Но теперь мне вслед оборачивались мужчины – кажется, впервые в жизни. Это было приятно.
Я даже решилась было бросить курить, но, конечно, не смогла, только перешла на женские сигареты – ненадолго.
Мы были в Большом театре. Кажется, впервые в жизни я была в настоящем ресторане. Почтительное внимание, которым был окружен знаменитый авиаконструктор, в какой – то мере распространялось и на меня. Между нами установились дружеские отношения и на прощанье он подарил мне фотографию самолета своей модели с теплой надписью – автографом.
Были в этой работе и трагические потрясения. Такою была гибель стратостата «Осовиахим -1» 30 января 1934 года. Это был рекордный – первый в истории воздухоплавания зимний полет стратостата. Установлен новый рекорд высоты – 22 000 метра. Полет продолжался 7 ч. 04 мин.
Я осуществляла контроль за связью. Стратостат достиг рекордной высоты и приступил к снижению. На высоте 1200 метров началось неожиданное обледенении оболочки стратостата. Сразу потяжелев, она оторвалась от гондолы и разорвалась. Гондола стремительно падала. Связь прекратилась. Но осталась последняя запись в бортжурнале: «16. 0. Солнце ярко светит в гондолу. Красота пейза…».
З. П. Кокорина и вдова Павла Федосеенко у гроба стратонавтов
Кто сделал эту запись? Их было трое: командир стратостата Павел Федосеенко, борт-инженер Андрей Власенко и научный сотрудник Илья Усыкин. Они погибли. Эта запись навсегда врезалась в мою память как символ огромной жизнеутверждающей силы авиаторов и всего советского воздухоплавания. Молоды и прекрасны были стратонавты. Молода и дерзка была авиация молодой страны Советов. Так было. И нельзя забывать этих её страниц.
2 февраля 1934 г. состоялись торжественные похороны. Стратонавтов захоронили в Кремлевской стене.
Будучи старшим инспектором авиаотдела, я входила в ЦС Осовиахима и работала с настоящими энтузиастами-руководителями этого движения, именами которых по праву назывались первые гражданские авиашколы и клубы: Алексей Рыков, Иосиф Уншлихт, Роберт Эйдеман, Морис Белоцкий… В 1937 году все они были репрессированы и расстреляны (реабилитированы посмертно). Я многому научилась, работая с этими людьми. Смею утверждать, что без таких целеустремленных, преданных делу людей вряд ли стал бы Осовиахим уникальным стартовым движением, поднявшим авиацию Советской России на небывалую высоту. Гражданские авиашколы Осовиахима открывались в разных концах России. Курсанты осваивали и военные самолеты. Создавалась мощная, оснащенная техникой армия. И каждый человек стремился помочь армии… Это было время, когда повсеместно создавались аэроклубы и летные школы, когда почти каждый город строил себе парашютную вышку, когда летчиков готовили уже не десятками, а сотнями и тысячами.
Это стало государственным делом: 25 января 1931 года на IХ съезде комсомол взял шефство над Вооруженными силами страны. И прежде всего – над авиацией. Лозунгами-призывами были оклеены стены клубов и учебных заведений. Я помню их до сих пор: «Слушайте, товарищи комсомольцы! Шефство над Военно-Воздушным флотом рабоче-крестьянской страны налагает на нас громадные обязанности. Комсомолец – на самолет! – вот наш боевой лозунг!»
С комсомольцами-дальневосточниками я уже встречалась в авиаотделе Осовиахима. Небольшая команда – два-три человека – врывалась в любой кабинет с несокрушимой уверенностью, что уж их-то заявки и планы – только первоочередные. Аргумент был неоспорим: из Хабаровска до Москвы ехали на поезде девять суток, а с Сахалина или Чукотки до Хабаровска – больше месяца – на собаках, лошадях или оленях. Так где же нужнее всего авиация? Пока не позволяет бюджет молодого государства? Бюджет Камчатки? Нужно приблизить Дальний Восток к центру! Нужно организовать связь между регионами Дальнего Востока! «Трудовой народ, строй воздушный флот!» – этот призыв Осовиахима дальневосточники уже поддерживали делами.
«Уже проводится сбор денег по всему краю и уже куплен в Германии четырехместный самолет. Вдоль берега Амура жители сел, вооруженные только лопатами, за короткий срок расчистили десять посадочных площадок! А знаете ли вы, что на этом самолете Михаил Васильевич Водопьянов – первый летчик на Дальнем Востоке – 9 января 1930 года проложил воздушную дорогу по маршруту Хабаровск – Оха-на-Сахалине протяженностью 1180 километров?»
Появившись в моем кабинете ЦС ОСОВИАХИМА, ребята развернули на столе лист краевой газеты.
Это было особое время энтузиастов. Таких прекрасных ребят я еще не встречала. И первой школой ОСОВИАХИМА стала Хабаровская школа пилотов. А её первым начальником, конечно же, З. П. Кокорина Возможно, это было некоторое злоупотребление служебным положением… Но я сразу же поняла: это моё дело – Лётная школа. И выбрала, конечно, Хабаровск. Прежде всего – я была одним из инициаторов создания этой школы. Хабаровск – край земли. Дальний восток как магнитом притягивал к себе молодежь. Край земли и небо!
Школа гражданских пилотов Дальосовиахима имени Уншлихта – таким стало ее первое название.
Учлетов «первого ускоренного выпуска» было шесть человек. Самые лучшие и самые нетерпеливые.
Всего же в первом основном выпуске было шестнадцать человек. Трудно теперь представить, какими сверхсложными были условия их обучения. Наверное, гораздо точнее меня об этом расскажет их сверстник В. Ф. Даниленко, ставший позже заслуженным журналистом и историком авиации Дальнего Востока: «В летную школу записались двадцать девять дальневосточников. Окончило шестнадцать. Шестнадцать беззаветно влюбленных в авиацию. Они не испугались нового, неизведанного. Их волю не сломили все трудности. Не было учебников, не хватало преподавателей. Отогревались только у «буржуйки». При свете керосиновой лампы, а то и коптилки по ночам переписывали конспекты из тетради преподавателя, изучали основы аэродинамики самолета, материальную часть двигателя и планера. Не легче стало, когда начались учебно-тренировочные полеты. На аэродром, находившийся за городом, ходили пешком, утопая в грязи многочисленных оврагов, которыми изобиловал в те годы Хабаровск… И никто не ныл, не жаловался на трудности.
Вместе с курсантами делила трудности и начальник Хабаровской школы пилотов Зинаида Петровна Кокорина. Зинаида Петровна была летчицей. И не просто летчицей, а первой советской летчицей».
В своих документальных очерках он называет выпускников школы ее питомцами, воспитанниками.
Выпуск Хабаровской школы
Я горжусь этим. Горжусь, что в таких условиях мы работали в полную силу. Учлеты благодарили меня прежде всего за то, что я учила их «преодолевать трудности». (Помните надпись на книге Распоповой?) Горжусь, тем, что мои воспитанники смогли развернуть дело подготовки авиаторов по всему Дальнему Востоку: «Аэроклубы были открыты также в Уссурийске, Владивостоке, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре. И всюду инструкторами были питомцы Хабаровской школы пилотов».
В Европе уже полыхал пожар Второй мировой войны. «11 июня 1941 года правительство поставило задачу: дать авиации 25 тысяч авиаторов. Вот когда понадобился опыт организации работы аэроклубов, а главное те кадры, которые уже прошли обучение! Питомцы З. П. Кокориной подготовили сотни летчиков, которые в годы Великой Отечественной войны показали чудеса героизма».
Война подтвердила поразительную своевременность осовиахимовского движения в стране. В Осовиахиме нашла свое реальное воплощение идея общественной подготовки авиационных кадров в системе аэроклубов. И аэроклубы явились теми очагами, где было достигнуто то, что не удалось в системе ВВС РККА – подготовка женских авиационных кадров всех видов: летчиц, планеристок, парашютисток. Ведь не случайно, что все женские мировые рекорды поставлены в СССР, поставлены летчицами, планеристками и парашютистками, окончившими аэроклубы и авиашколы Осовиахима. Достаточно вспомнить имена Валентины Гризодубовой или Марины Расковой. 19 июня 1929 г. ЦС Осовиахима принял постановление о роли женщин в деле обороны страны.
Естественно, что в летной школе Хабаровска, которой руководила женщина-военлет, уже во втором наборе появились курсантки-девушки.
Вот имена первых выпускниц: Дуся Усольцева, Нина Распопова, Алия Гордиенко, Ольга Малышева, Нина Кирюхина. 1932 г.
В школе гражданской авиации у курсантов не было военной формы. Это мы с девочками придумали такую «форму» – строгая черная водолазка летом и свитер с высоким воротником зимой. А короткая стрижка – по образцу прически времен моей молодости. Теперь у меня – солидного начальника Авиашколы – была другая прическа. На фотографии того же года это видно, даже если она скрыта головным убором.
Вряд ли случайна и другая особенность школы: обучение курсантов полетам и на военных самолетах.
В 1932 году впервые в условиях общественной организации Осовиахима были выпущены пилоты, овладевшие военными самолетами.
ЦС Осовиахима я была награждена высшей наградой Осовиахима «За активную оборонную работу»: «Тов. Кокорина З. П. награждается за умелое руководство Хабаровской летной школой, безаварийность, высокое морально-политическое состояние школы, развитие соцсоревнования и ударничества всем составом школы» Всего такую награду Осовиахима в стране получили пять человек.
Учлеты-женщины
Портрет 1932 г.
Педагогическая деятельность – непосредственная подготовка авиаторов высшей квалификации – доставляла мне радость и удовлетворение. Горжусь, что работа эта получила достойную оценку: «Десятки летчиков, воспитанников Кокориной с глубокой благодарностью вспоминают своего волевого, умелого и душевного инструктора».
Обучение на военном самолете прошли и все учлеты-женщины. Позже они летали на боевых самолетах в Отечественную войну. Право первой военной летчицы Зинаиды Кокориной быть инструктором школы Воздушного боя уже не взывало сомнения. В будущих сражениях ученицы школы Нина Распопова и Лариса Литвинова были удостоены звания Героя Советского Союза.
Опыт и соединение качеств педагога-авиатора и военного летчика особенно требовались в работе новых школ. Гражданские добровольные осовиахимовские школы быстро переходили на программы военных школ и я получила назначение на должность старшего инспектора, затем заместителя начальника Авиаотдела ЦС Осовиахима.
Гибкая и многопрофильная система Осовиахима обеспечила небывалый взлет советской авиации. Масштабно организованные противниками советской власти репрессии 1937 года уничтожили почти все руководство Осовиахима. Сначала от меня – ведущего сотрудника ЦС – требовали компрометирующих показаний на действия всей организации. Попытка провокации была явной. Я обращалась с объяснениями-протестом в разные инстанции вплоть до партколлегии при ЦК ВКП(б), но ответа не было: маховик репрессий 1937 года уже работал бесперебойно. В конце 1937 года я была исключена из партии за связь с врагами народа, а в мае 1938 года арестована.
Одним из «доказательств вины» был тот факт что на партработу в Киргизию я была направлена по представлению ЦК Осовиахима и приехала туда в 1935 году вместе с Морисом Львовичем Белоцким, который был назначен секретарем ЦК ВКП(б) Киргизии.
Глава 5 В Киргизии
Собственно говоря, предлагая мне длительную командировку в Киргизию, Белоцкий хотел помочь мне решить жизненно важную для меня проблему: у сына и дочери диагностировали признаки туберкулеза – наследственной болезни семьи. Климатические условия, санатории Киргизии были рекомендованы врачами. Врачи оказались правы: болезнь отступила. Я в эти годы была на партийной работе – зав. орг. отделом ЦК ВКП(б) Киргизии.
Репрессии, которые не могли не коснуться меня, начались именно в эти годы, и я попала в круг «врагов народа» в этой республике, где позже вынуждена была остаться более чем на тридцать лет.
З. П. Кокорина с детьми, Киргизия, г. Фрунзе, 1934 г.
«З. П. Кокорина временно выехала из столицы с детьми, по путевке ЦК ВКП(б), в г. Фрунзе, где находилась на парт – работе в ЦК Киргизии. Под предлогом наличия связи с «врагами народа» Эйдеманом, Уншлихтом, Белоцким (все – посмертно реабилитированы) была также арестована и исключена из партии. Освобождена из заключения она была в 1939 г. Как сама З. П. Кокорина, так и её муж С. Н. Смелков (последний посмертно) ныне также полностью реабилитированы» – так записано в официальной справке ЦД Авиации и космонавтики им. М. В. Фрунзе от 5 апреля 1968 г.
Можно сослаться и на другие справки об аресте и реабилитации – их много, но никаких доказательств вины Кокориной там нет. «Дело» не было даже доведено до суда: «Уголовное дело производством прекращено за отсутствием состава преступления». При освобождении мне была выдана справка:
Перечня документов нет.
Я даже не попала в состав тех, кому было предъявлено какое-либо обвинение. Мы были «отлетевшие щепки» страшных политических репрессий 1937 года. Не было ссылки. Не было лесоповала… Это была, может быть, самая бессмысленная форма в системе репрессий. Я не стану писать об этом.
Человека безо всяких объяснений вычеркивали из активной жизни. Не было объяснений и при освобождении: освободить «за отсутствием состава преступления».
Я вышла на волю в той же, только очень затрепанной, одежде. Не было ничего: пристанища, вещей, документов. Прежде всего надо было разыскать детей.
Сын пережил это время относительно благополучно благодаря доброте и щедрости наших друзей.
Их семья жила в небольшой двухкомнатной квартирке. Одиннадцать человек. В семье были арестованы отец и зять. И они взяли ещё одного ребенка. Там он и прожил все это страшное время. Где искать дочь – мне, вышедшей из тюрьмы, было не известно. Дело в том, что, узнав о моем аресте, муж смог добиться краткосрочного вызова из зарубежной командировки, чтобы как-то решить судьбу детей. Он успел отвезти дочь к бабушке – в далекий Великий Устюг. Адрес был затерян: от семей репрессированных окружающие старались держаться подальше. У сына шли экзамены в школе, предполагалось, что после окончания экзаменов друзья отправят его к отцу в Москву. Но не успели: муж был арестован немного позже меня и погиб в 1940 году.
И вновь: почти незнакомые, но отзывчивые люди помогли мне отыскать дочь. На это ушло три месяца.
Так началась последняя страница моей жизни.
Эта глава к рассказу о первой летчице молодой советской страны имеет малое отношение. Слова Небо, Летчики, Авиация появятся лишь в эпилоге.
Глава 6 Сельская учительница
Нет документов. Нет самых необходимых вещей. Нет жилья. Но дети со мной. Это главное.
В партии меня не восстановили, о моей предыдущей деятельности забыто было, казалось, навсегда, но работать в школе мне разрешили, правда для этого потребовалось специальное решение обкома партии (я сохранила этот документ). Я была направлена в школу далекого села на берегу прекрасного озера Иссык-Куль, маленького села, где даже не было средней школы. Поэтому сына пришлось оставить опять у друзей.
Шел тысяча девятьсот сороковой год. Всеволод учился в десятом классе, окончил школу в июне 1941. Война. Сразу был мобилизован в армию, приехать домой попрощаться не смог. Окончив курсы младших командиров, попал на фронт, но вскоре был тяжело ранен и демобилизован.
Он очень недолго оставался с нами в селе: звала в дорогу мечта об институте. Институте конкретном – театральном. С детства бредил ГИТИС’ом. Актерский факультет теперь был для него закрыт: ранение сделало правую руку по существу неподвижной, искалеченная левая с трудом справлялась с элементарными бытовыми нагрузками. Всю дальнейшую жизнь он упорными тренировками возвращал жизнь своим рукам (и многого добился!), но пока… Он поступил в ГИТИС на театроведческий факультет, разыскав институт, эвакуированный в годы войны в Томск. С тех пор началась его самостоятельная жизнь. Помогать ему у меня по существу не было возможности.
Портрет 1939 года
После окончания института Всеволод работал на радио в Чите – редактором в музыкальном отделе и жил совершенно самостоятельно. Женился. Переехал с семьей в Ленинград, где жил и работал до конца жизни (1983 год) заведующим музыкальным отделом Ленинградского радио.
Виделись мы редко, но добрые дружеские отношения были неизменными и сохранились с его семьей и до сих пор.
Я же осталась на долгие годы жить с дочерью и работать в сельских школах Киргизии. Правда, отсутствие документов и тот факт, что я была репрессирована и так и не восстановлена в партии, очень осложняли мою жизнь. Сначала меня ежегодно переводили из одного села в другое, такое же маленькое. Кстати, для человека, у которого не было ни кола, ни двора, в войну это оказалось спасением. Тут давали какое-никакое жилье и знаменитые «шесть соток», где росли самые необходимые и урожайные овощи – картошка и кукуруза. Из кукурузы (задолго до ее активного внедрения Н. С. Хрущевым!) на ручной мельнице (между двух плоских камней) «вымалывали» крупу и даже муку. Правда, жилье для директора было не очень комфортабельным. Помню однокомнатный домик с земляным полом и без электричества. Или другой – с полом и даже с электричеством. Но эта постройка, принадлежавшая сельсовету и потому не имевшая хозяина, расположенная в центре базарной площади и прежде имевшая какое-то целевое назначение, по существу не имела стен – только сплошные окна. Для того, чтобы как-то закрыть их, имелся один старый дырявый ковер. Все остальное надо было завешивать газетами. Звукопроницаемость такого жилища была соответствующей. Вот почему каждый переезд связывался с робкими надеждами: а вдруг будет что-то получше?
Но работа была серьезной и благодарной. Ребята хотели учиться. Очень хотели. Не было книг – они запоминали и повторяли сказанное учителем. Не было тетрадей – они сшивали их из старых газет, тщательно разыскиваемых и оберегаемых. Долгие часы варилась-выпаривалась красная свекла, становясь чернилами.
Почти в каждой школе не хватало учителей-предметников, особенно почему-то преподавателей иностранного языка. Помню, в нашей школе уговорили вести немецкий язык учителя физкультуры. Он тщательно готовился по школьным учебникам, а накануне урока прежде всего повторял материал, который был задан ученикам.
Я преподавала историю, дополнительно – русский язык и литературу. Работа отнимала много времени и сил, но приносила большое удовлетворение. Выбор профессии учителя оказался вполне оправданным. Общение с учениками несомненно взаимно обогащало нас. Иногда, очень редко, рассказывая ребятам о Гражданской войне и рождении Красной Армии, я говорила о Качинской летной школе «пользуясь служебным положением» и отсутствием учебников. Естественно, не о себе. Реакция ребят была очень живой и заинтересованной.
Средняя школа, п. Чолпон-Ата, Киргизия
Коллектив преподавателей школы п. Чолпон-Ата, 1947 г.
З. П. Кокорина с учащимися 7 класса школы п. Чолпон-Ата, 1947 г.
Многого требовало и поддержание необходимого минимума материального положения семьи. Помимо работы на огороде, директор школы «держала» коз, заготавливала летом необходимое сено и сушила для них ветви деревьев. Уходили вдаль, затягивались романтической дымкой незабываемые образы Качинской летной школы и предельно трудные, но полные работой творческой, созидательной в школе Хабаровской, воспитавшей предвоенное поколение советской авиации. О Зинаиде Кокориной летчице не знал никто. Я, естественно, не говорила. И только очень редко, на уроках истории, рассказывая о Первой мировой и Гражданской войне, о становлении Красной Армии я позволяла себе рассказывать ребятам о Первой летной школе – Качинской. Не о себе. Слушали они очень заинтересованно. И, не скрою, я получала от этого большое удовольствие.
Война кончилась. Жизнь постепенно входила в нормальное русло. Закончив институт, сын получил распределение в Читу. Потом переехал в Ленинград и до конца жизни работал заведующим музыкальным отделом Ленинградского радио. Он помогал мне материально и потому, когда дочь закончила Киргизский университет, я смогла выйти на пенсию досрочно, по болезни, и сразу переехала к ней.
Глава 7 И снова – письма однополчан…
Всё, что рассказано о возвращении имени З. Кокориной в историю российской авиации, случилось неожиданно и спонтанно: круг заинтересованных и деятельных участников расширялся в геометрической прогрессии. Итак, я почти сорок лет жила в Киргизии. Работала в сельских школах. Досрочно вышла на пенсию по болезни и жила с дочерью. Дочь выросла трудолюбивой и упорной. Закончила филологический факультет Киргизского университета и сразу же поступила на заочное отделение аспирантуры. Аспиранты-заочники имели право на дополнительный месяц отпуска для командировки в ведущие научные центры, точнее – в вузы и библиотеки. Жили мы очень трудно. Дочь работала в школе, затем – в университете. Я получала минимальную пенсию по инвалидности – 14 рублей. И весь бюджет семьи из четырех человек (два внука росли без отца) составлял 193 рубля: 125 – зарплата дочери, 44 – алименты и 14 – пенсия. Жили мы на съемной квартире, для ее оплаты дочь вынуждена была работать уборщицей в соседнем доме. Она очень любила свою профессию преподавателя и свой предмет – русскую литературу. Заочно закончила и аспирантуру и докторантуру, успешно защитив обе диссертации. Но своим правом на командировку в Москву в то время (аспирантское) она смогла воспользоваться только один раз: просто не было денег на билеты. Перед ее отъездом я попросила ее зайти в Центральный музей авиации и космонавтики и передать секретарю Музея Н. Н. Семенкевичу мой Военный билет.
З. П. Кокорина с внуками, 1965 г.
Николай Николаевич меня помнил. Он помнил и знал многих качинцев, и именно в Музее раз в месяц, иногда чаще, собирались бывшие авиаторы-качинцы, окончившие знаменитую Летную школу в разные годы. Он тут же позвонил одному из организаторов таких сборов о том, что «нашлась» Зина Кокорина – и тем же вечером раздалось несколько звонков в доме, где остановилась дочь, и «истребители-качинцы» спрашивали, нет – требовали, немедленно информировать их о том, где теперь Зина Кокорина? Здорова ли? Чем занимается?
Они встретились с дочерью. Качинцы внимательно осмотрели ее и пришли к выводу, насмешившему и, немного, огорчившему её: «Похожа, но мать была красивой».
Позже, когда они смогли встретиться со мною, сразу же определилась и форма личного обращения. Меня они называли Зиночкой, дочь – Зинаидой Сергеевной.
В те же дни полетели письма ко мне – в Киргизию.
Но они бы не были истребителями-качинцами, если бы не стали сразу активно действовать. Почему минимальная пенсия? Возможно ли, пройдя такой жизненный путь как Зинаида Кокорина, так и не заслужить государственной квартиры в 66 лет? Руководителем действующей группы стал мой однофамилец Александр Кокорин. Он завел знаменитую «голубую папку», сложил туда все нужные бумаги и, надев мундир и все свои ордена-регалии, стал появляться во всех необходимых инстанциях, привлекая по мере надобности других заинтересованных лиц. Речь шла уже не о квартире во Фрунзе, а о квартире в Москве, которую я могла получить как москвичка, незаконно репрессированная.
Наиболее дорогим для меня было письмо Александра Александровича Туржанского, брата моего инструктора-«бога» Бориса Туржанского; в разные годы А. Туржанский был начальником Качинского училища.
Генерал Туржанский. 1943 г.
А. Туржанский. 1968 г.
«Большая группа ветеранов авиации подписала заявление в Верховный Совет, в Моссовет, в комитет советских женщин с просьбой удовлетворить Вашу просьбу о квартире в Москве. Заявление подписано Ильюшиным, Гризодубовой, Литвиновой, многими пилотами и механиками и известными ветеранами. Я тоже присоединился своей подписью и одновременно послал Валентине Владимировне Терешковой письмо с просьбой принять участие в Вашем деле. Знайте, дорогая Зинаида Петровна, что Вас помнят и примут все меры, чтобы наша Зина была бы снова в родной семье авиаторов».
Это была трудная борьба с чиновниками-бюрократами.
Но они бы не были летчиками-истребителями знаменитой Качи, если бы отступили. Они добились отмены двух официальных отрицательных решений Моссовета, вовлекая в круг участников действия ходатайств в Моссовет все большее число именитых авиаторов. Появление в группе деятелей Валентны Гризодубовой и Валентины Терешковой не могло не повлиять на отношение чиновников к решению поднятого вопроса. Гризодубова считала, что победе будет способствовать мое появление в Москве и предложила в День авиации (третье воскресение августа в том, 1967 году, он отмечался 18 августа) провести вместе с нею интервью на центральном ТВ (командировка оплачивается ТВ). Впервые после двадцати двух лет сугубо «земных» передвижений я летела на самолете. На большом гражданском лайнере. И пассажиры с удивлением смотрели на старую, совершенно седую женщину, как ребенок прильнувшую к окну самолета. Откуда им было знать – кто она?
С этого интервью и началось «возрождение имени». Встреча с друзьями была и радостной, и грустной. Прошло столько лет… Многие, как и я, прошли «академию» репрессий. Многих уже не было. Было решено, что во Фрунзе я уже не возвращаюсь: теперь по существу стало ясно, что проблема предоставления мне квартиры в Москве получает положительное решение. Сестра моего друга и коллеги по Осовиахиму Яна Гамарника (расстрелянного в годы репрессий) предложила мне пожить пока в их квартире. Я с благодарностью согласилась. Не перестаю до сих пор удивляться благородству и чувству взаимопомощи людей моего поколения, столько вынесшего на своих плечах. В моей нелегкой судьбе их было много.
Потом было новоселье, совпавшее с моим семидесятипятилетним юбилеем, и встреча с московскими друзьями, «виновниками» новоселья.
Они постарели – мои дорогие курсанты Хабаровской школы, но мы все-таки встретились!
Это Саша Кокорин (мой однофамилец) и Николай Шаболин – главные организаторы «атаки» на чиновников.
А второй снимок запечатлел нашу встречу с Шаболиным уже в Москве.
Письма летели в наш домик во Фрунзе, в далекую Киргизию и уже согревали меня, возвращали к жизни.
«Действовать для родной Зиночки мы все готовы как взведенный курок. Чиновники забыли, что мы, кроме того, что однокашники Зинаиды Петровны, еще и любящие её люди – бывшие летчики-истребители и без последнего решающего боя крылья не сложим… Мы действуем не бескорыстно. Делаем все возможное, чтобы состоялась наша встреча. Каждый хочет получить свой поцелуй от Зиночки. Целуем крепко-крепко нашу родную великомученицу.
Гига».
А. А. Кокорин и Н. Шаболин
Кокорина и Шаболин
Среди писем и телеграмм были и коллективные:
«Москва. Сквер Большого театра. 2 мая.
Традиционная встреча ветеранов трех авиаполков.
Горячо приветствуем вас – первую советскую военную летчицу. Ждем скорой встречи Москве. Желаем доброго здоровья. Ямщикова Чечнева Казаринова Полянцева»
Они пришли на новоселье – и Саша, и Коля, и Гига (такая смешная форма прекрасного имени Георгий сохранилась на всю жизнь у Гедеванова) и Сашка Маров – вечный паяц и актер, так и «не заслуживший» другой формы имени. Мои дорогие ребята! Мы встретились почти через сорок лет.
Они позаботились о переезде в Москву моей дочери и внуков.
Потом была встреча с Василием Михайловичем Песковым, автором очерка, вызвавшего такой бурный отклик и подарившего мне столько друзей – старых и новых. И нужно было отвечать на многочисленные письма.
З. П. Кокорина, Москва, 1969 г.
Думаю, что нужно отдать дань уважения и признательности Василию Михайловичу Пескову, не только прекрасному журналисту, но и умному, чуткому человеку, искренне заинтересованному в судьбе своих героев.
Он появился в нашей московской квартире неожиданно. Друзья дочери – кинодокументалисты заинтересовались моей жизнью, достаточно необычной и богатой событиями. Они предложили Пескову написать сценарий. Замысел фильма не получил реализации, но наша дружба с Василием Михайловичем (думаю, что вправе так определить наши отношения) уже сложилась. Он стал появляться в нашей квартире. Так, однажды, заметив озабоченность дочери, он спросил её о причине такого настроения. Дочь ответила, что мы хотели бы купить недорогой телевизор. Деньги есть и магазин близко. Но… обычно такие покупки делают мужчины, а наши мальчики – совсем дети. Песков улыбнулся – нашли причину для огорчения. Завтра же на машине редакции (своей у него никогда не было) он заедет к нам и мы вместе отправимся в магазин. Назавтра они поехали и купили телевизор «Чайка». Он честно работает до сих пор и нет причины для его замены.
В другой раз я была восхищена профессиональной тщательностью его работы с фотографиями. Фотографируя меня для очерка, он выгнал всех из комнаты и, отщелкав все тридцать шесть кадров пленки, перезарядил аппарат, чтобы продолжить работу. Так возник фотопортрет – лучший из всех, которые у меня были.
Потом мы вместе решили, что нужна моя фотография на Внуковском аэродроме. Было уже холодно – надо подумать об одежде. После окончательной реабилитации и назначения мне персональной пенсии меня прикрепили к спецмагазину, где продавалась дефицитная недорогая одежда. Дочь купила мне цигейковую шубу, которую я за две зимы надевала два раза: здоровье не позволяло мне выходить из дома. Да и некуда было ходить. Теперь я обрадовалась поводу надеть шубу. Василий Михайлович внимательно оглядел меня.
– Зинаида Петровна! Вы надевали эту шубу? И вообще, в жизни своей носили шубы?
Ответ он понял по выражению моего лица.
– Ну так снимайте!
Что же делать? Пришлось найти старое осеннее пальто дочери, которое она носила будучи беременной, и оно было широким. Под него я надела две шерстяные кофты и два вязаных платка.
Приехали на аэродром. Песков долго выбирал место и ракурс съемки. Он взбирался на посадочную лесенку самолета, ложился на холодный асфальт. Всё не то! Беспокоясь обо мне, он попросил дочь быть «пробным объектом». На фоне самолета она позировала все в новых и новых вариантах… Он щелкал и щелкал. Не то! Фигура человека на фоне самолета выглядела как-то сиротливо. Особенно когда на выбранное место становилась я.
– А сниму-ка я вас вдвоем, – задумчиво сказал Песков.
Вот как появился тот снимок, который был отобран для очерка.
Так был написан очерк В. М. Пескова «Первая», возвративший в историю советской авиации имя Зинаиды Кокориной, первой женщины-летчицы.
Очерк вызвал много откликов, на которые, во всяком случае – на многие из писем – я постаралась ответить.
Одним из ответов стала прочитанная вами повесть.
На аэродроме. З. П. Кокорина с дочерью. «Ощущение чуда осталось…», 1969 г. Фотография В. М. Пескова
З. П. Кокорина отвечает на письма, 1969 год
Примечания
1
В. Песков. Первая. Комсомольская правда, 04. 02. 1969. Далее – ссылки на этот источник.
(обратно)2
Песков В. М. Первая. Очерк. Комсомольская правда, 04. 2. 69 г.
(обратно)3
Песков В. М. Первая. Очерк. Комсомольская правда, 04. 2. 69 г.
(обратно)4
Личный архив З. Кокориной
(обратно)5
Личный архив З. Кокориной
(обратно)6
Личный архив З. Кокориной
(обратно)7
Личный архив З. Кокориной
(обратно)8
Личный архив З. Кокориной
(обратно)9
Личный архив З. Кокориной
(обратно)10
Личный архив З. Кокориной
(обратно)11
Личный архив З. Кокориной
(обратно)12
Личный архив З. Кокориной
(обратно)

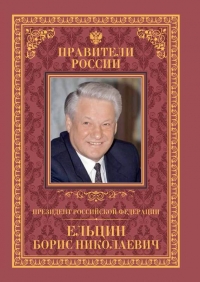

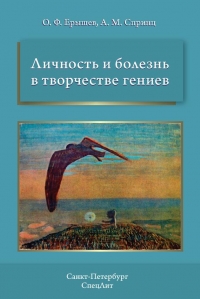

Комментарии к книге «Я буду летать! Первая русская женщина-летчица Зинаида Кокорина», Зинаида Сергеевна Смелкова
Всего 0 комментариев