Дон-Аминадо Поезд на третьем пути
«Раутенделейн, где ты?»…
Потонувший колокол. Гергард ГауптманI
Есть блаженное слово — провинция, есть чудесное слово — уезд.
Столицами восторгаются, восхищаются, гордятся.
Умиляет душу только провинция.
Небольшой городок, забытый на географической карте, где-то в степях Новороссии, на берегу Ингула, преисполняет сердце волнующей нежностью, сладкой болью.
— Потерянный, невозвращенный рай!
Накрахмаленные абоненты симфонических концертов, воображающие, что они любят и понимают музыку, церемонно аплодируют прославленным дирижёрам, великим мира сего.
Но в Царствие небесное будут допущены только те, кто не стыдился невольно набежавших слёз, когда под окном играла шарманка, в лиловом бреду изнемогала сирень, а любимейший автор — его читали запоем — был не Жан-Поль Сартр, а Всеволод Гаршин.
II
Держался город на трех китах: Вокзал. Тюрьма. Женская гимназия.
Шестое чувство, которым обладал только уезд, было чувство железной дороги.
В названиях станций и полустанков была своя неизъяснимая поэзия, какой-то особенный ритм, тайна первого колдовства и великого очарования.
Можно пережить три войны и три революции, переплыть моря и океаны, пройти, считая время по десятилетиям, долгий и нелёгкий путь изгнания, усвоить все существующие на свете Avenues и Street’ы, — и чудом сохранить в благодарной памяти татарские, ногайские, российские слова.
— Первый звонок на Фастов — Казатин! Поезд — на первом пути!
— Знаменка. Треповка. Корыстовка. Лозовая. Синельниково. Бирзула. Раздельная. Каромыш.
— «Разлука, ты разлука, чужая сторона»…
В вагонах третьего класса вкусно и нехорошо пахло чем-то сложным и кислым: мокрой овчиной, чёрным отсыревшим хлебом, мужицким потом и махоркой.
Лица были и сумрачные, и весёлые, бабьи голоса и звонкие, и плаксивые, и кривда и правда сидели рядом на одной и той же жёсткой деревянной скамейке, невзирая на царский режим и «проклятое самодержавие»…
А за зеркальными стёклами первого класса мелькали генеральские околыши, внушительные кокарды; и женская рука в лайковой перчатке еще долго размахивала батистовым платком, и запах французских духов, которые назывались «Coeur de Jeannette», смешивался с паровозным дымом, и в сердце было какое-то замирание и трепет.
Раздавался пронзительный свисток машиниста, а начальник станции, в красной фуражке, высоко и многозначительно подымал свой фонарик, и длинный поезд, огибая водокачку, тюрьму и женскую гимназию, исчезал за шлагбаумом, в сумерках короткого осеннего дня.
И все это было. И вот ничего и нет. А может быть ничего и не было, и был это только сон, шестое чувство железной дороги, призраки, тени, запоздалые стихи Александра Блока.
Вагоны шли привычной линией, Подрагивали и скрипели. Молчали жёлтые и синие, В зелёных плакали и пели.III
От вокзальной площади — самый вокзал, как некий форум стоял на возвышении, — причудливыми зигзагами разбегались вниз неповторимые, непроходимые, непостижимые, то заходившие в тупички, то друг дружку обгонявшие и пересекавшие, русские, южно-русские улицы.
Не до того было светлейшему князю Потёмкину-Таврическому.
Быстро надо было действовать, распределить, назначить, устроить; как на ладони преподнести Государыне-Матушке, императрице Екатерине, сочинённый первым губернатором, двадцатичетырехлетним дюком Арманом де-Ришелье, с собором посередине, с крепостными валами вокруг, с изгородями и палисадами, с косыми деревянными башнями, — новый, великолепный град Новоград.
По княжьему хотенью, по щучьему веленью, во мгновение ока замостили военнопленные турки, да приведенные в покорность запорожцы, — знаменитые несравнимые, в нелепости своей непревзойденные новоградские улицы.
И вот прошли и пробежали годы, и уж и целое столетие мохом проросло, а они все те же, и улицы, и мостовые, в первозданной своей красе, в трогательном своём убожестве, в нетронутом целомудрии.
А на окраине города — Казённый сад, с высокими украинскими тополями, а под сенью тополей выщербленные от времени скамейки, и вырезанные на них перочинным ножом дни, месяцы, годы, вензеля, имена, инициалы, и пронзённые стрелой отлюбившие, перегоревшие, испепелённые сердца.
IV
Достопримечательностью города была, конечно, деревянная каланча, венчавшая старое, унылое здание городской Думы, выкрашенное безнадёжной охрой николаевских времён.
На самой вышке, обведенной незамысловатой решётчатой оградой, с утра до вечера, и с вечера до утра, равномерно, как маятник, взад и вперёд, во всём своем непревзойдённом величии, шагал тот самый красавец-пожарный, без которого не было бы ни города, ни уезда, ни красоты, ни легенды.
Важно было знать и чувствовать, что изо дня в день, из года в год, и во все четыре времени года, чей-то зоркий, прилежный и неусыпный взор оберегает от злой беды всю эту суматошную, кропотливую, как везде и всегда вероятно нелепую, по своему несправедливую, но по своему и по особенному уютную, и в беззащитной малости своей столь сумбурную и первобытную, и не потому ли трижды милую, разлаженную, налаженную, провинциальную жизнь!..
Деревянная каланча, деревянные тротуары, страшные, в ухабах и рытвинах, смертоубийственные мостовые, по которым громко тарахтят крестьянские возы, допотопные биндюги, молдаванские балагуры, цыганский шарабан, и — уездная гордость! — бочка водовоза.
«В те баснословные года» — великий это был персонаж, можно сказать, первое лицо в городе.
То есть не то что так, здорово живёшь, в буквальном смысле слова.
Но все же, по замыслу, по значению, после городского головы Пашутина, полицеймейстера Бессонова, и участкового пристава Падейского, — первое лицо безусловно.
Ведь, как ни хитри, как одно к другому не подгоняй, а истории не переделаешь. И факт остается фактом: — до степей Новороссии римские легионы так и не дошли, и никаких виадуков в наследие грядущим векам не оставили.
А жить хотелось красиво!..
А воды в Ингуле только и хватало, что для весеннего наводнения.
Вот своим умом и додумались, и всё отлично устроили и наладили.
Высоко на горе, за вокзальной площадью, сложили из красных кирпичей водонапорную башню; внизу, в самом центре Новограда, построили общедоступные бани с дворянской половиною; а для ежедневных нужд счастливого населения ездили по городу неуёмные водовозы с огромными, громыхавшими, расхлябанными бочками.
И за полкопейки, то есть за медный грош наличными деньгами, кто угодно мог получить два полных ведра на всё про всё, на целые сутки, для стряпни, для варки, мытья и бритья, и прочих культурных излишеств.
И глядишь, и без виадуков справились.
И самовары ставили, и щи и борщи варили, и столько поколений вырастили!
А уж сколько пожаров вот этими самыми вёдрами потушили — и не упомнить даже.
V
Главных улиц в Новограде было две.
Дворцовая и Большая-Перспективная.
Одна — чинная, аристократическая, для праздного гуляния и взаимного лицезрения.
Другая — торговая, шумная, несдержанная, и, невзирая на своё обещающее наименование, без всякого даже слабого намёка на Перспективу.
Задумываться об этом никому и в голову не приходило, а такое замысловатое слово, как урбанизм, ни в каком еще словаре и найти нельзя было.
Но, конечно, какое-то глухое соперничество, невольный антагонизм, смешанный с инстинктивным, молчаливым, но обоюдным презрением, упорно и неискоренимо существовал между двумя этими новоградскими артериями.
Особенно подчёркивали эту рознь извозчики.
Одноконки, брички, с их равнодушными ко всему на свете худыми клячами, скучной шеренгой стояли вдоль Большой Перспективной.
А парные фаэтоны с молодцеватыми кучерами имели свою веками освящённую стоянку в конце Дворцовой.
На бричках ездили мелкие акцизные чиновники, повивальные бабки второго разряда, заезжие коммивояжеры с неуклюжими чемоданами, подобранные на улице пьяные в сопровождении городового, и разный неважный люд, которому так испокон и было наказано — трястись всю жизнь на одноконке, подпрыгивая на ухабах.
В фаэтонах разъезжали умопомрачительные юнкера, выхоленные присяжные поверенные, земские начальники, помещики из уезда, и благотворительные дамы из самого высшего общества, собиравшие дань на ёлку сиротского приюта.
А, вообще говоря, никакой особой нужды ни в пароконных, ни в одноконных не было.
Торопиться некуда было, всё под боком, из одного конца в другой рукой подать, и весь от Бога положенный путь, от рождения и до смерти, проделать не спеша, в развалку, по образу пешего хождения.
Только ранней осенью, задолго до наступления холодов, заметно было некоторое, особое, отличное от прочих времён года, оживление.
По мудрому, из поколения в поколение завещанному обычаю, или опыту, накопленному предками, начинались суетливые приготовления к зиме.
Из окрестных деревень тянулись возы с дровами — грабом, ольхой, берёзою.
Въезжали во двор немазанные, скрипучие телеги, наполненные всяческим добром, припасами и снедью.
Обкладывали соломой и ставили в погреб разбухшие от рассола кадушки с кислыми яблоками, грибами, мочёными арбузами, сливами, помидорами, квашеной капустой и солёными огурцами.
От всего этого изобилия и щедрот земных шёл прелый, душный и щекочущий обоняние запах.
И ощущение уверенности, незыблемости, прочности и покоя безраздельно овладевало душой.
А в домах шла своя работа.
Наглухо запирали окна, устилали ватным покровом начисто выбеленные подоконники, на вату для пущей красоты, и непременно зигзагом, укладывали нитку красного гаруса, по обе стороны художественно разбрасывали чёрные угольки, и на равном расстоянии друг от друга, в священнодейственном творческом восторге расставляли невысокие пузатые стаканчики с крепким красным уксусом.
Последним актом мистерии были двойные рамы, которые тут же, чтобы не было щелей, заклеивали по бокам, и сверху до низу, длинными узкими полосками белой бумаги; вносили со двора окрепшие за лето фикусы и пальмы в зеленых майоликовых горшках, — и пролог был кончен.
А 23-го или 25-го августа, смотря по календарю, начиналась учебная страда.
За несколько дней до великой даты, в книжных магазинах Золотарёва, Фонарёва и Красногубкина нельзя было протолкнуться.
А какой таинственный смысл был в словах и сочетаниях, в именах авторов, в названиях книг и учебников!
— Вторая часть хрестоматии Смирновского. История Иловайского. Учебник арифметики Малинина и Буренина. География Елпатьевского. Задачник Евтушевского. Алгебра Киселёва. Физика Краевича. Латинская грамматика Ходобая.
А Записки Цезаря о Галльской Войне, с предисловием Поспишиля!
А Метаморфозы Овидия Назона, в обработке для детей и юношества, под редакцией Авенариуса!
Энеида. Одиссея. Илиада.
А словари и подстрочники к Вергилию и Гомеру!
И все это не так, на воздух, на фу-фу, а с допущения цензурой и с одобрения учёного Комитета при Святейшем Правительствующем Синоде.
Что и говорить, крепкая была постройка, основательная.
…А вот, поди же ты!
Пришел ветер с пустыни, и развеял в прах.
VI
«Поэзия должна быть глуповата»…
Не этим ли пронзительным откровением Пушкина озарено было начало дней?.. Пролог истории одного поколения?
Всё в этом прологе было поэзией, выдумкой, преувеличением, миражем, обожанием и поклонением.
С ужасом и восторгом стояли мы пред единственным в городе оружейным магазином и мысленно выбирали двухствольные винтовки, охотничьи ножи и кривые ятаганы.
Зловещим шёпотом обсуждали грядущую экспедицию.
Портрет президента Крюгера с окладистой бородою и выбритыми усами — был святыней.
Расстоянием не стеснялись. Жертвенный порыв с географией ни считался.
— Из Треповки в Трансвааль прямо, без пересадки, на освобождение Буров!
Проклятие Англии, смерть лорду Китченеру!
В отряде было десять человек. Стрижка бобриком. В глазах сумасшедшинка. Фуражки на бок. Штаны со штрипками. В бляхах на поясах солнце играет.
Вперёд без страха и сомнений На подвиг доблестный, друзья!…В одной версте от города, как раз за казенным садом — шорох, враги, засада! два городовых, невидимая тьма родителей, и во главе — Василий Касьянович Дубовский, классный надзиратель, по прозванию Козёл.
И сказал нам Козёл несколько слов, о которых лучше не вспоминать.
Стыд, позор, отобранные ятаганы, тёмный карцер, обитый войлоком.
А главное, — издевательство и презрительные насмешки усатых восьмиклассников, говоривших басом и только о любви.
В течение двух недель, во время большой перемены, когда вся гимназия играла в чехарду и уплетала бутерброды с чайной колбасой, мы, защитники угнетённых народов, должны были исписывать страницу за страницей, повторяя одну и ту же фразу, придуманную самим Федором Ивановичем Прокешем, директором гимназии, добродушным чехом в синем виц-мундире и благоуханных бакенбардах:
— Ego sum asinus magnus.[1]
Надо сказать правду, пережили мы эту первую мировую несправедливость довольно быстро, и духом не упали.
Поддержал нас только один Мелетий Карпович Крыжановский, которого за глаза называли просто Мелетием, учитель словесности и друг малых сих…
Сняв свои золотые очки, как это бывало с ним во всех торжественных случаях, и улыбаясь одними хохлацкими глазами, вовремя сказал он нам голубиное слово:
— Все это пустяки, дети мои. А главное, когда будут вас на Страшном Суде допрашивать, какие были ваши на этом свете дела и занятия, так полным голосом и отвечайте:
— Прежде всего, удирали к бурам!
И надев очки, и высоко подняв указательный палец, скороговоркой добавлял:
— За это вам многое простится.
VII
От проклятий лорду Китченеру, переход к охотникам за черепами был тоже быстрый и естественный.
Поэзия меняла формы и, пожалуй, мельчала, но зато глупели мы быстро и изрядно.
Майн Рид, Габорио, Фенимор Купер были боги очередного Олимпа.
Впрочем, как неизбежная корь, свойственная возрасту, проходило это всё довольно гладко и осложнений больших не оставило.
Монтигомо — Ястребиный Коготь вихрем промчался на неоседланном мустанге, и отравленные змеиным ядом стрелы, которые, пыхтя и отдуваясь, мы посылали ему вслед, пролетели мимо, не задев отважного вождя.
Увешанные скальпами, мы разложили костёр на самой опушке всё того же Казённого Сада и, сев в кружок, закурили трубку мира.
Борьба с краснокожими кончилась молодецким налётом на баштан, где сладко дремал на солнышке древний-предревний дед, стороживший плоды земные.
Как настоящие команчи, ползком на животе, и ежеминутно прикладывая ухо к земле, чтобы вернее различить лошадиный топот, медленно продвигались мы вперёд, коварно огибая незатейливый шалаш деда.
Во мгновение ока овладевали, по праву храбрых, вожделенными сокровищами: темно-зеленые монастырские арбузы и нагретые солнцем пахучие дыни-канталупы утоляли жажду смелых.
Обременённые трофеями, и снова ползком, возвращались восвояси.
И начинался пир.
Арбуз о колено! и молодыми зубами, или, как грубо выражался нравоучительный Козёл, всею мордою, вонзались в прохладную розовую мякоть монастырок, в жёлтую сердцевину сахарных канталуп.
Сомкнув ряды, бойко возвращались в город и, заломив фуражки, бешено орали во всю глотку:
— Взвейтесь, соколы, орлами!..
Если нужны были заглавия и определения, то период этих увлечений, по праву, мог бы быть назван героическим.
Впрочем, не забыть, не дай Бог, была еще одна замечательная книга, волновавшая юное воображение.
Называлась она «Старшины Вильбайской Школы», кажется Тальботта, и надо сказать, немало содействовала нашему примирению с проклятой Англией.
Думается, что если и сейчас, спустя столько десятилетий, сделать уцелевшему и доживающему свой век поколению, настоящий и нелицеприятный «тэст», то весьма вероятно окажется, что поклонение Уинстону Черчиллю корнями уходит в далёкое прошлое, вот в этот самый истрёпанный томик «Вильбайской Школы»!
А затем, хвастаться нечем, наступила эпоха романтики и, что греха таить, мешанина и неразбериха царила в этой эпохе великая.
Зачитывались мы Мачтетом. В большом почёте была госпожа Марлитт, чувствительный Ауэрбах, со своей «Дачей на Рейне»; и в особенности Фридрих Шпильгаген.
«Один в поле не воин» и «О чём щебетали ласточки», — были те недолгие этапы, на которых задерживалась взбудораженная мысль и намечались неясные границы между добром и злом.
Каким чудом вырабатывалось, несмотря на всю эту кашу, какое-то примитивное, но все же в конце концов, верное чутье, — один Бог знает…
Очевидно, только молодое пищеварение и здоровый инстинкт в состоянии были усвоить и совместить — и «Хижину дяди Тома» и «Пять лет на Чёртовом Острове»; и Пушкина и Шеллера-Михайлова; и Лермонтова и Данилевского; и Алексея Толстого и Лажечникова; и эту первую страсть и влюблённость в уличную плясунью, которая волновала нас не меньше, чем волновала она бедного Квазимодо.
«Дача на Рейне» осталась далеко позади, серой громадой возвышался перед нами один «Собор Парижской Богоматери», и на площади, звеня запястьями, в пёстрых лохмотьях танцевала Эсмеральда.
А потом, в одно прекрасное утро, — всё значительное всегда происходит в одно прекрасное утро, — на уроке геометрии, на так называемой Камчатке, то есть там, на самых последних партах, когда безрадостный и одутловатый учитель Кирьяков рисовал мелом на черной доске бесконечные свои гипотенузы, открылся нам новый мир…
Надо ли пояснять, что было нам тринадцать лет, а книга называлась только и всего, что Анна Каренина!
От Квазимодо к Вронскому, и от Эсмеральды к Китти дистанция была огромного размера.
Да что дистанция! Пропасть самая настоящая…
И перескочить её так, здорово живёшь, одним молодцеватым и бесшабашным прыжком и думать было нечего.
Боль и жалость, смятение и восторг.
Всё в этом мире оказалось сложнее и огромнее.
А помочь и растолковать тоже некому. Потому что открыться никому нельзя. Заорут. Забодают.
И кто тебе, щенок и оболтус, позволил Анну Каренину читать?!..
Изволь, объясняйся с ними!
Все равно не поймут.
А в голове и в сердце, и во всём существе — только и чуешь, что свист паровоза и грохот товарного поезда.
«И свеча жизни, при которой»…
Ну как же все это разложить, и на какие полочки?!
Так оно комком в горле и застряло.
И, может быть, и к лучшему.
А потом пришёл не учитель, а друг.
И целого поколения верный и неизменный спутник.
— Антон Павлович Чехов.
И, невзирая на безбородую юность нашу, учуяли мы его быстро и поняли, что это всерьёз, и надолго, и может быть навсегда.
«Лэди Макбет» можно преодолеть и перерасти.
Но перерасти и преодолеть Чехова… «его, как первую любовь», и не могли, и не сумели бы вырвать из сердца.
И когда однажды, в душный летний день, в деревню Елизаветовку, в небольшое именьице Евгения Лукича Гара, земского врача из обрусевших немцев, пришли из города газеты с известием о кончине Чехова, то, — кто теперь этому поверит? — день этот был как день осеннего солнцеворота: мы что-то внезапно поняли и сразу повзрослели.
И как ни странно, — извольте объяснить, какими путями идёт этот сложный процесс в душах пятнадцатилетних школьников, — первое недовольство царским режимом, первый глухой протест, может быть даже и не вполне осознанный, породило то, что любимого нашего Чехова из чужого Баденвейлера на родину, в Россию, привезли в вагоне от устриц…
И когда студентами, много лет спустя, ходили мы в Новодевичий монастырь и, как отлично сказал Осип Дымов, приносили любимым девушкам изысканный подарок тех времён — первую зелень с могилы Чехова, — мы уже кое-что об эту пору смыслили, и пожалуй многое и осмыслили, и не только убеждённо считали, что будущее принадлежит нам, но не упускали случая подчеркнуть, не без особого кокетства, что у нас есть и прошлое, может быть и не существующее и просто для самоукрашения выдуманное, но для всякой уважительной биографии необходимое и бесспорное, и стало быть, то самое трогательное и милое прошлое, обращаясь к которому прищуривали глаза, и с полувздохом говорили:
Мисюсь, где ты?..
VIII
Одним из страстных увлечений ранних гимназических лет был театр.
Только в провинции любили театр по-настоящему. Преувеличенно, трогательно, почти самопожертвенно, и до настоящего, восторженного одурения.
Это была одна из самых сладких и глубоко проникших в кровь отрав, уход от повседневных, часто унылых и прозаических будней, в мир выдуманного, несуществующего, сказочного и праздничного миража.
— «Тьмы низких истин»… и прочее.
Если зажмуриться и, повинуясь какому-то внутреннему ритму, складно и раздельно повторять вслух названия пьес и имена актёров, то кто его знает, может получиться почти поэма, а уж стихотворение в прозе наверное!;
— «Кин», или «Гений и беспутство».
— «Нана», «Заза» и «Цыганка Аза». И конечно «Казнь» Николая Николаевича Ге.
— «Гувернёр». «Первая муха». «Убийство Лэди Коверлэй». «Сумасшествие от любви». «Блуждающие огни». И «Ограбленная почта».
А при всем том, «Братья разбойники» Шиллера, «Сарданапал» Байрона; «Измена», «Старый закал», и «Соколы и Вороны» кн. Сумбатова.
— Две мелодрамы — «Сестра Тереза», или «За монастырской стеной».
И «Две сиротки». А потом «Ганнелле» Гауптмана. «Огни Ивановой ночи» и «Да здравствует жизнь» Зудермана.
— «Дама с камелиями», «Мадам Сан-Жэн».
А «Монна-Ванна» Метерлинка!.. И, разумеется, знаменитые «Дети Ванюшина» молодого Найденова.
А главное — Островский, Островский, Островский.
— «Гроза». «Бедность не порок». «Без вины виноватые»…
И два героя, за которых мы охотно пошли бы в огонь и воду, — по-разному несчастные и по-разному молодому сердцу близкие, — Любим Торцов и Гришка Незнамов.
— «Пьём за здоровье тех матерей, что бросают своих детей под забором!..».
Какое сердце могло это выдержать? Весь театр всхлипывал, и только мы, молодёжь, одержимые сатанинскою гордостью, всхлипывать не смели, но сморкались зато часто и усиленно. Ибо и в этом было утверждение личности…
А актёры! Актрисы! Служители Мельпомены! Жрецы, «хранители священного огня!»
И прочая, и прочая, и прочая.
А имена, а звонкость, а металл!
И разве мыслимо, разве возможно было равнодушно произносить слова и сочетания, в которых жил, дышал весь аромат и дух эпохи?!
Актёр Судьбинин. Актёр Орлов-Чужбинин.
Черман-Запольская, на роли гран-кокетт.
Два трагика, два брата Адельгейма, Робер и Рафаил.
Стрелкова. Скарская. Кайсарова. Дариал. Кольцова-Бронская. Анчаров-Эльстон. Мурский. Пал Палыч Гайдебуров.
Любимов. Любич. Любин. Любозаров. Михайлов-Дольский. И Строева-Сокольская.
И первая меж всех, — никакая Сарра Бернар не могла её заменить и с ней сравниться, — Вера Леонидовна Юренева.
Особенно в эпоху увлечения Пшибышевским, Шницлером, и канувшим в вечность Жулавским, которого, не стесняясь нетрудными изысками, переводил для русского театра провинциальный и восхищённый А. С. Вознесенский.
И когда на сцену, в белой тунике, выходила Психея, Юренева, и молитвенно складывала руки на груди, — в те годы это был классический приём, которым выражалось и подчёркивалось целомудрие, — глаза были устремлены к небу, с которого, по недосмотру машиниста, спускались оскорбительные веревки, — и навстречу Психее, из глубины полотняных декораций, колыхавшихся от тяжеловесной походки легкокрылого Эроса, шёл, тяжело дыша, сорокалетний первый любовник, и низкой октавой начинал —
Я Эрос, да! Я той любви создатель, Что упадает вглубь и рвётся в небо, ввысь, Я жизни жертвенник, я щедрый мук податель, Начало и конец во мне всего слились…И не переводя дыхания, швырял неосязаемую бесплотную Психею на пыльный ковёр, — ну, тут, провинция не выдерживала!
Стоном стонал пятиярусный, до отказу переполненный театр.
Восторг не знал границ, умилённое восхищение не имело пределов.
А самое изумительное заключалось в том, что подавляющее большинство потрясённых зрителей, девяносто девять на сто, и понятия не имели ни об Эросе, ни о Психее, ни о символах, ни о мифах.
Но так велика была потребность в музыке непонятных слов, пламени театральных треножников, во всех этих бесконечных перевоплощениях Психеи, которая так ни на миг и не поколебала веры в свою первозданную девственность, так хотелось этой самой творимой легенды, что эх! хоть раз в жизни, но красиво!.. — бис! бис! бис! браво, Психея! браво, Юренева! занавес! занавес! еще раз занавес!
И, надрывая лёгкие, в умилении, в исступлении, в изнеможении, отдавала уездная, честная, настоящая публика свою неумеренную дань святому искусству.
* * *
Театр был выкрашен в ярко-розовый цвет, на фронтоне золотыми буквами так и было начертано: Храм Мельпомены.
А под сим пояснение: театр отставного ротмистра Кузмицкого.
Четыре колонны поддерживают фронтон; направо — вход для публики, с левой стороны — святая святых: вход для артистов.
Надо ли говорить, что чувствительное население толпилось именно перед входом для артистов, и каждый раз, когда появлялся, нахлобучив меховую шапку на облысевшую голову, очередной жен-премьер, — Любич, Любин, Любимов, Любозаров, — его окружали тесным кольцом, протягивая заранее купленные на последние копейки открытки с фотографией полубога, и молитвенно просили надписать.
Редакция актерских автографов была большей частью типа стандартного: «Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает… На добрую память истинному другу искусства Володе Сыромяткину — благодарный Артамон Рампов-Запортальский».
* * *
Внутри театра всё было, как надо. И вестибюль, и длинное фойэ, и у каждого внутреннего входа в зал непроницаемые контролёры, — и в провинции их называли биллетёрами.
И, наконец, самый зал.
Боже, с каким трепетом входили мы в храм искусства!
И как знали наизусть все эти ложи бенуара, бельэтажа, директорскую ложу, и все кресла первого ряда, на которых белели тщательно выписанные картонки: кресло господина полицеймейстера; товарища городского головы; управляющего акцизным сбором; начальника пожарной команды, бранд-майора Кологривова; и три кресла для представителей печати…
Печать была представлена довольно широко:
— «Ведомости Городского Новоградского самоуправления».
Прогрессивный «Голос юга», под редакцией Димитрия Степановича Горшкова, впоследствии — члена Государственной Думы.
И, наконец, «Новоградские новости» Лапидуса.
Имени-отчества у Лапидуса не было, что отчасти определяло направление газеты.
Отчёты и театральные рецензии могли взбудоражить самое спокойное и насыщенное воображение.
Стиль был приблизительно такой: «…прелестная Жданова-Нежданова в роли Маргариты Готье художественно изобразила знаменитую сцену конвульсий в последнем акте!.. Смерть от чахотки буквально заразила весь театр. Вообще вся труппа была на высоте, чего нельзя сказать о погоде… По окончании спектакля пошёл проливной дождь, что, впрочем, нельзя поставить в вину директору труппы, г. Эльскому».
В конце рецензии, в зависимости от добрых или худых отношений, в которых находился автор с отставным ротмистром Кузмицким, следовал обыкновенно один и тот же стереотип, в двух неизменных вариантах.
— Театр был наполовину полон, — писал друг искусства и ротмистра.
— Театр был наполовину пуст, — писал ядовитый Зоил.
* * *
Ложи и кресла были обиты потёртым от времени темно-красным плюшем, с обязательной бахромой, отливавшей волшебным блеском керосиновых ламп под молочными абажурами.
Но центром притяжения был, конечно, занавес, в тяжелых, пыльных складках, тоже весь из темного пунцового бархата, с золотыми кистями по бокам и с узорно выведенным во всю длину многообещающим изречением:
«Слёзы облагораживают душу».
Правду сказать, тирада эта бывала иногда в полном противоречии с шедшим в заключение спектакля водевилем «Деньщик подвёл», «с пением и танцами, и при участии любимца публики, известного комика-буфф, Коныча».
Однако, что же говорить, несмотря на свое кавалерийское прошлое, отставной ротмистр был очевидно глубоко художественной натурой и знал, с чем что кушают.
Всё в этом несомненном храме было ловко и тонко обдумано.
И знаменитая, спускавшаяся с потолка люстра в лирах и амурах; и вышка — раёк — галёрка, с широковещательными надписями на каждом столбе, вроде: «Просят плевать в плевательницу» или: «Во время представления строго воспрещается опираться на соседей», и неприступного вида биллетёры в потрясающих униформах с золотыми пуговицами и аксельбантами; и две настоящие древнегреческие маски из растрескавшегося гипса, одна — Афины-Паллады, над входом в помещение «Для дам», и другая маска Юпитера-Громовержца над входом в помещение «Для мужчин»; и, наконец, театральный буфет с прохладительными напитками — оршадом, лимонадом, сельтерской водой с сиропом, пивом завода Стрицкого; а при этом — трубочки с кремом, халва, и рахат-лукум, и настоящий мармелад фруктовой фабрики Балабухи в Киеве.
Смутным томлением, сладчайшей мукой томили душу театральные запахи.
А между тем, были это, всего-навсего, запахи керосина и пыли; запах табаку, рисовой пудры и клея; душный запах воска и цвели; и смеси российских одеколонов — Брокар, Раллэ, Номер 4711-й.
Первый, второй, третий звонок, как на вокзале, следовали с короткими промежутками, один за другим.
Лампочки, под молочными абажурами, угасали; зал стыдливо откашливался и постепенно стихал; равномерно колыхавшийся тяжёлый занавес медленно подымался вверх; и веял ветер театральный, как говорил поэт, и мистерия начиналась.
* * *
Апофеозом нашей театральной жизни была, конечно, «Принцесса Грёза» Ростана, в стихотворном переводе Щепкиной-Куперник.
Любовь это сон упоительный, Свет жизни, источник живительный… Люблю я любовью безбрежною, Любовью, как смерть, безнадежною, Люблю мою грёзу далёкую, Принцессу мою светлоокую, Мечту дорогую, неясную, Навеки, навеки прекрасную. Люблю, и ответа не жду я, Люблю и не жду поцелуя!..Таких бескорыстных чувств, о которых, под аккомпанемент арфы, декламировал неизвестный принц в голубом камзоле и в шляпе с перьями, опять-таки выдержать наши учащённо бившиеся сердца не могли.
И когда опустился занавес, и театр, надсаживаясь до хрипоты, кричал неистовым голосом — «Скарская, па-вта-рить!..» мы все, сколько нас было в синих мундирах, с белыми кантами и о девяти серебряных пуговицах, протискались через толпу до самой авансцены и, в момент предельного пароксизма, запустили своими гимназическими фуражками прямо на сцену…
И когда занавес опустился, бегом побежали за кулисы, чуть не опрокинув с ног стороживших входы биллетёров, машинистов, пожарных и всех остальных друзей искусства.
Восторженные, красные как раки, запыхавшиеся, смущённые, и счастливые, не зная куда девать проклятые руки, очутились мы на сцене.
Занавес под неумолкавший гром аплодисментов, поднялся еще раз и, замерев от страха и сознания непоправимого, на вытяжку перед Принцессой Грёзой, предстали мы вместе с выходившей на вызов всей труппой Гайдебурова пред лицом изумлённого зала, пред креслами полицеймейстера, бранд-майора, и главное, дежурного классного надзирателя, у которого от ужаса даже глаза вылезли на лоб.
А Принцесса Грёза, — должно быть успех тоже вскружил ей голову, — одной рукой посылала воздушные поцелуи на галёрку, в бельэтаж и в бенуар, в другой прижимал к груди то букет белых гвоздик, с атласной лентой, то одну из наших злополучных фуражек, брошенных к ее божественным ногам!
Эпилогом к пьесе Эдмонда Ростана, члена Французской Академии бессмертных, было скучное постановление Педагогического Совета:
«За бросание фуражек на сцену, нижепоименованные воспитанники четвёртого класса Новоградской мужской классической Гимназии подлежат исключению из числа учащихся в вышепоименованном учебном заведении».
* * *
Много лет спустя, после всего, и пролога, и представления, и конца спектакля, уже в эмиграции, в Париже, покойный ныне князь В. В. Барятинский рассказывал, как однажды ночью на Rue de Passy, — и еще и луна была при этом, — услышал он откуда-то, совсем неподалёку доносившиеся до него как-то странно, но очаровательно исковерканные, знакомые, ну, совсем знакомые стихи и строфы.
— Я остановился как вкопанный, — рассказывал В.В.
— В лунную ночь, в Пасси, кто мог бы быть этот сумасшедший, во всеуслышание декламирующий, влюблённо и усердно коверкая строфы Ростана, в запомнившемся навсегда переводе Щепкиной-Куперник?!
Луна вышла из облаков, я почти поравнялся с неизвестным, бьюсь об заклад, что вы будете так же поражены, как и я: это был никто иной, как сам Эдмонд Ростан.
Потом он мне признавался, что музыка русской стихотворной речи так его увлекала, а в переводе Щепкиной-Куперник было столько звуковой правды в смысле передачи французского текста, что он, Ростан, после каждого спектакля, — в это время наш театр, в котором Лидия Борисовна Яворская играла то «Орлёнка», то «Принцессу Грёзу», уже в течение трёх недель с успехом гастролировал в Париже, — все больше и больше проникался и все легче и легче усваивал, следя по собственному французскому оригиналу, стихи Татьяны Львовны, которая впрочем, тут же недалеко от автора, сидела в партере.
Ростан ее очень любил и высоко ценил.
IX
Поэзия становилась всё менее и менее глуповатой.
Умнея, временами она исчезала совсем, и уступала место прозе, беспощадной и жестокой действительности.
Тысяча девятьсот четвёртый год был годом перелома не только в истории одного поколения, но и в истории самой России.
Это только потом, много лет и десятилетий спустя, профессора и приват-доценты растолковали и объяснили, что всё это было ничем иным, как вполне закономерным процессом, что логика истории оказалась как всегда безошибочной и бесспорной, и что Цусима и Ляоян были неизбежными этапами на пути к иному, светлому и лучезарному будущему…
А пока суд для дело, победителями оказались те самые презренные и желтолицые макаки, которым еще только вчера так весело кричали — шапками закидаем!..
Быстро уходили в прошлое герои вчерашнего дня.
Исчезали ореолы, оставались имена, которые ничего доброго ни уму, ни сердцу уже не говорили.
Даже на страницах добродетельной «Нивы», еженедельного семейного журнала в голубой обложке, нельзя было встретить примелькавшихся портретов генерала Куропаткина и генерала Стесселя, и многоуважаемой патриархальной бороды несчастливого адмирала Макарова.
Недобрые вести шли из далёкого края.
— Битва на Ялу. Мукден. Порт-Артур. Гибель эскадры Рождественского.
И вещие буквы огнём на стене Чертила рука роковая…На этот раз это была не просто декламация.
В Петербурге, в Москве, на благотворительных базарах в пользу раненых еще дотанцовывали модный вальс, необычайно кстати названный — «На сопках Манчжурии».
Но уже нескончаемой вереницей гудели по рельсам возвращавшиеся на родину поезда, и из тёмных и смрадных теплушек все чаще и громче раздавалось страшное, хриплое, угрожающее пение, прерываемое безнадёжной площадной солдатской бранью.
«Развязка близилась к концу».В банальном ужасе этих набивших оскомину слов заключалась, однако, и вера в нечто неизбывное, неизбежное, но лучшее.
…Быстро промчалась по Аничкову мосту чёрная лакированная карета.
Ливрейный лакей лихо придержал дверцу.
Длиннорукий, огромный, обезьяноподобный и неуклюжий, Сергей Юльевич Витте, талантливый неудачник, приехал со всеподданнейшим докладом, в котором уже было всё:
— И Портсмутский мир, и манифест 17-го октября, и всё остальное лучезарное будущее.
* * *
Помню, как пришли в Новоград первые номера «Сына отечества» С. П. Юрицына.
Как жадно набросились на столичные сатирические журналы — «Пулемет» Шебуева, «Сигнал» Корнея Чуковского, «Жупел» Гржебина, «Маски» Чехонина, «Зритель», «Серый волк» и другие, — имя им легион, — вспыхнувшие как фейерверк, и бесследно пропавшие в темноте снова наступившей ночи.
Единственный в городе газетный киоск, на углу Дворцовой и Большой Перспективной, сразу сделался источником света, очагом и распределителем гражданских чувств, надеж и обольщений.
Появились новые слова, которым на первых порах и верить не хотели, слова, заключавшие в себе нечто совершенно неизвестное, волнующее, слишком великолепное и, стало быть, неправдоподобное.
— Избирательное право… конституционная монархия… Государственная Дума.
А вслед за новыми словами, и новые понятия, и новые лица, новые имена.
— Герои нашего времени.
Блестящий московский адвокат, тридцати пяти лет отроду, а уж на всю Россию знаменитый, — Василий Алексеевич Маклаков, ни более и не менее.
И новая звезда первой величины, еще даже и не профессор, и приват-доцент Петербургского университета, но зато никто иной, как сам Павел Николаевич Милюков.
Дальше — больше.
Быстро привыкает непривычное ухо. Быстро усваивает новые слова:
— Кадетская партия. Партия октябристов. И один Гучков. И другой Гучков. А тут же и доктор Дубровин. И госпожа Полубояринова. И Коновницын, граф.
И по всему лицу обновлённой и осчастливленной родины — пивные и чайные Союза Русского Народа.
И патриотические манифестации, с портретом государя, и пением «Боже, Царя храни»…
И навстречу студенческие демонстрации, и нестройный хор — «А деспот пирует в роскошном дворце»!
А по тротуарам скачут казаки, лихо работают нагайками, морду в кровь, — раззойдись, сволочь!
И вот она, быстрая расплата за короткие обольщения, за недолгую «весну», за Октябрь, роковой месяц российского календаря.
Обо всём этом написаны, и еще будут написаны, многотомные исследования, почтенные монографии, учебники и пособия.
Но, если вызвав из огорчённой, нелицемерной памяти эти отрывки воспоминаний, делишься ими вслух, то вероятно, как говорит Бунин, в силу потребности рассказать их по-своему.
Будем правдивы, первая революция прошла мимо, только слегка задев, но еще не ранив молодых сердец.
Один из классных наставников, Петр Данилыч Дубняков, которого мы все любили за редкую независимость суждений, что между прочим сильно вредило его служебной карьере, погладил рано поседевшую, на совесть прокуренную бороду, и приятнейшим своим хриплым баритоном сказал:
— Всё это ничто иное, как пролегомены к метафизике.
Покуда только цветочки, а ягодки впереди!
В ожидании чего, бросьте вы всю эту музыку, равно как и ваши любовные фанаберии и корявые стихи о вечной любви, и готовьтесь, черти, к выпускным экзаменам!
Старик был прав. В течение целого года мы, как и полагается уважающему себя восьмому классу, только то и делали, что подкручивали еле пробивавшиеся усы, нахально курили папиросы «Дюбек лимонный» и самоотверженно ухаживали за всем восьмым классом женской гимназии.
Прав был Петр Данилыч и в грубоватом своем диагнозе касательно наших романов и увлечений.
Это ничего, что в первую четверть, — учебный год, как известно, состоял из четырех четвертей, — предметом вечной любви была тонкостанная и голубоглазая Лида Мерцалова; героиней второго триместра — Женя Крамаренко, среднего роста, но с темно-карими глазами; а за три месяца до аттестата зрелости, музой и вдохновительницей первый хромых гекзаметров была уже Дуся Хоржевская, которая, если б только хотела, смело могла бы быть возлюбленной Петрарки и умереть от холеры…
Да, что ж скрывать. До знакомства с символистами, декадентами, имажинистами, футуристами, мы были, хотя и верзилы, но чистой воды романтики.
Базаровым восторгались, однако же, отдав дань восторгам, преодолели.
Встречи с Арцыбашевым еще не произошло.
«Бездна» Андреева и тогда уже казалась заумной и нарочитой выдумкой.
А в Пушкине, которого, несмотря на порчу и растление казённых хрестоматий, боготворили и знали наизусть, находили всё, что было необходимо, чтобы, по предугаданному рецепту Сологуба, превратить кусок жизни, бедной и грубой, в прекраснейшую легенду о высоком и радостном.
Что ж удивительного в том, что на второй день знакомства с Лидой Мерцаловой, в поздних сумерках весеннего дня, под густолиственным шатром уездной акации, шепотом декламировалось заветное признание:
Вся жизнь моя была залогом Свиданья верного с тобой…Надо сказать и то, что всё вокруг, — обстановка, эпоха, провинция, самый уклад жизни, — всё нам благоприятствовало, всё улыбалось, всё было задумано и исполнено в этом блаженном мире в самом романтическом вкусе.
Сначала мы конечно играли в горелки.
— Горю, горю, пеню!
— Чего ж ты горишь!
— Красну девицу люблю!..
— Какую?
— Тебя, молодую!
— А любишь?
— Люблю!
— А словишь?
— Словлю!
Ну, и ловили, то есть честно, без дураков, а предерзко хватали прямо за тугую темно-русую косу, а то и за обе.
А потом, стало быть, играли в фанты. Очень интересно!
— Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, чёрного и белого не покупайте, да и нет не говорите.
Так вот, не оглянешься, и триместр прошёл.
Исчезала Лида. Появлялась Женя. Менялось подлежащее, оставалось сказуемое. Ведь всё равно, любовь была — до гробовой доски.
И бесстыдно глядя в темно-карие Женины глаза, с величайшей искренностью, с готовностью на подвиг, смерть, самосожжение, и с теми же настойчивыми, певучими, убеждающими интонациями, опять повторял наш брат-романтик или, попросту говоря, подлец:
«Вся жизнь моя была залогом»…
А самое страшное, а, может быть, самое прекрасное, было то, что мы так умилительно друг другу верили, — мы им, они нам, а все вместе — Пушкину.
* * *
Каким чудом получили мы аттестат зрелости, мы и сами понять не могли.
Справедливость требует сказать, что, в эту последнюю четверть перед экзаменами, ни о какой очередной вечной любви и речи не было.
Не надо забывать, что министром народного просвещения был в то время никто иной, как действительный тайный советник Делянов.
Смотрел он на вещи просто и довольствовался малым: ткни, мол, указательным перстом в текст «Илиады», как Бог пошлёт, и жарь без пересадки с греческого на латинский, только и всего! — родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу.
Ну, вот, и тыкали.
И что поразительно, за небольшим исключением, весьма успешно. И каждый, но своей системе.
Фанатики, до исступления зубрили наизусть, и хотя всё знали, но ничего не помнили.
Зато, циники и реалисты, ни черта не знали, но имели такие шпаргалки, а на обеих манжетах такие списки неправильных глаголов и исключений, что всё помнили, и памятью своей действительно поражали.
Последнюю группу, то есть большинство, составляли фаталисты.
Фаталисты не только ничего не знали, но и знать не хотели.
Они имели свою систему и свою космогонию.
В ней было нечто и шарлатанское, и патетическое. Ни одуряющей зубрежки, ни шпаргалок, ни манжет.
Но… Если бы в тот золотой век человечества существовала столь распространенная ныне школьная психотехника, то тэст, который был бы сделан группе фаталистов в период экзаменационной горячки, поразил бы, вероятно, не одно воображение…
Испытания на аттестат зрелости длились примерно два месяца.
Совершенно ясно, что на первый экзамен весь восьмой класс, согласно установившейся с незапамятных времен традиции, являлся в белоснежных косоворотках, или курточках из получортовой кожи, в начищенных до зеркального блеска сапогах, не говоря уже о высоченных воротничках и римско-католических манжетах.
Само собой разумеется, что к каждому следующему испытанию косоворотки, усилиями заботливых родителей, были снова вымыты, на совесть накрахмалены и отутюжены.
Что же делали фаталисты?!.. А нет! Не так это всё просто.
Не даром говорится, человеческая душа — потёмки, особенно в семнадцать-восемнадцать лет, и в день экзамена по физике и космографии, в частности.
Оказывается, что фаталисты были, вдобавок, и психопаты и фетишисты:
— Не искушай судьбы! Ежели первый экзамен, вот в этой самой получортовой косоворотке, прошёл благополучно, то не безумием ли было бы смыть благодать первого успеха грубым щёлочным мылом, и еще придушить его чугунным утюгом?!
В результате сего, и был этот молчаливый, никогда и никем кощунственно вслух невысказанный приказ по линии:
— От мая и до июля — тужурок не мыть, воротничков не менять, сапог не чистить, шевелюры не стричь, а пятаки и гривенники, предназначенные на пирожки, ватрушки и прочие похоти, — самоотверженно отдавать одноногому, увешанному медалями нищему, который неусыпно дежурил у ворот гимназии и давно уже постигнул всю эту психотехнику!
И вот, сколько угодно разводите руками, пожимайте плечами, выражайте смешанное с недоверием недоумение, а истина остается непреложной:
Все эти рослые, малорослые, полуусатые, полубезусые, перегоревшие, перекипевшие, уставшие и счастливые, фанатики, реалисты, фаталисты, циники и романтики, — весь восьмой класс Новоградской классической гимназии, почти степенно и без обычного нахального шарканья ногами, с чувством какого-то новообретённого достоинства, пара за парой, вошел в белый, просторный, холодный актовый зал, и хотя всё уже было известно заранее и наизусть, затаил дыхание.
И окружённый педагогическим советом — в мундирах, в орденах и при шпагах, — директор, Федор Иваныч, откашлялся, побледнел чуть-чуть и, расправив свои белоснежные, почти императорские, бакенбарды, произнёс несколько приличествующих случаю старомодных, высокопарных и всё же волнующих слов.
Все пожимали друг другу руки, наперебой друг друга поздравляли, желали, что-то несуразное говорили, и невпопад отвечали.
Но почти у всех глаза были на мокром месте, а отставной солдат, рыжебородый швейцар Василий в синей ливрее с серебряными нашивками, и по-настоящему прослезился.
…Что и говорить, есть блаженное слово — провинция, есть чудесное слово — уезд!
* * *
В тот же вечер, быстро став героями дня, в новых студенческих фуражках с синим околышем, прошли мы церемониальным маршем по главной Дворцовой улице, шумя, галдя, и всё время козыряя и раскланиваясь со всеми встречными-поперечными, знакомыми, незнакомыми, со всяким праздношатающимся людом, не пропуская ни пароконных, ни одноконных извозчиков, ни пожарных, ни городовых, а ласточек наших, коричневых, в черных передниках, гимназисток, в особенности.
И должно быть, было в самой нашей манере держаться, в походке, в размахивании тросточкой, в беспрестанном козырянии, в бесконечном закуривании «Дюбека лимонного», во всём этом неглубоком, но разгильдяйском сознании превосходства, что-то такое особенно щегольское, из ряда вон выходящее и чуть-чуть наглое, что бежавшие за нами в виде почетного эскорта уличные мальчишки только то и дело, что вполголоса повторяли:
— Ишь, задаются на макароны!..
Объяснить, что значит задаваться на макароны ни один Грот, ни Даль, вероятно, не смогли бы, но что в этой исключительно южной и жаргонной формуле заключалась несомненная меткость определения, отрицать было нельзя.
Впрочем, смягчающих вину обстоятельств было тоже не мало, и если прикинуть и взвесить, и принять во внимание, то весь этот парад борцов, как пишут на цирковых афишах, мог бы быть, по человечеству, и понят, и оправдан.
Что и говорить, лестно было бы закончить эту главу гимназической юности этаким мощным и стройным идеалистическим аккордом, чтобы грядущим поколениям не только завидно было, но чтобы могли они, действительно, вдохновиться высоким примером и недюжинной биографией столь замечательных отцов и дедов.
Однако друг мне Платон, и прочее.
И истина, или правда, вот эта самая историческая правда, которой так дорожат исследователи, ученые, социологи и архивариусы, заключалась в том, что — увы! — в день получения аттестатов зрелости никакого подвига мы не совершили, никаких доблестей гражданских не проявили, никакой клятвы в верности никому и ничему не произнесли, а, как последние оболтусы и ветрогоны, гуртом пошли в цирк братьев Труцци на Базарной площади, и весь вечер до хрипоты и остервенения опять кричали «бис!», надрывались и неистовствовали.
Всё было нам по душе, всё было дорого и мило! И деревянные скамьи, обитые красным кумачом; и колыхавшийся над головами брезентовый купол, как выражались аборигены; и спускавшиеся с купола канаты, проволоки, качели и трапеции; и знаменитый духовой оркестр под управлением маэстро Фихтельбойма, тонко знавшего свое дело — и что кому, и в каком темпе: Ивану Поддубному, борцу и атлету — марш «Под двуглавым орлом»! для дрессированных моржей — меланхолический вальс «Невозвратное время»; а для выхода клоунов Бима и Бома — галоп Контского «Пробуждение льва»…
Ах, да разве это всё?!.. А высшая школа верховой езды на неоседланных лошадях, под управлением директора цирка Энрико Труцци?!
Когда на арену выходил, сверкая глазами, зубами, усами в фиксатуаре, весь в манишках, в манжетах, с развевающимися фалдами фрака, с хризантемой в петлице, с хлыстом в одной руке, с цилиндром в другой, такой красоты и стройности матовый итальянец, что весь цирк сверху и донизу дрожал от аплодисментов, а директор всё кланялся, кланялся, и кланялся, а шесть вороных коней в белых лайковых уздечках и высоких страусовых эгретах, повинуясь едва приподнятому хлысту и магнетическому взору, показывали весь свой классический репертуар, подымались на дыбы, опускались на колени, кланялись влево, кланялись вправо, танцевали бальный чардаш под музыку Фительбойма, и в заключение мчались в ряд всей шестеркой, а Энрике Труцци вскакивал по очереди то на один, то на другой сытый лоснящийся круп, и, не уставая, посылал воздушные поцелуи, и разумеется стоном стонал весь цирк — юнкера, питомцы кавалерийского училища; помещики, гимназисты, коннозаводчики; полковые дамы — красавицы прошлого века; и молодцеватые парни в картузах набекрень, рабочие литейного завода Эльворти.
И не успевал умолкнуть гром аплодисментов, как этот чорт Фихтельбойм ударял по нервам мазуркой Венявского, ибо уже был объявлен антракт, и нужен был достойный аккомпанемент, когда толпа хлынет за кулисы смотреть на диких зверей в высоких железных клетках, похлопывать накрытых попонами замечательных цирковых лошадок, и, не щадя гривенников, угощать живой рыбой ненасытных, разевающих пасть моржей.
Какой по-иному терпкой и сладкой отравой, какими сложными запахами лошадиного помёта, пропотевшей кожаной упряжи, смолы, пачулей, жжёной пробки, и еще чего-то неизвестного, но остро раздражающего, был пропитан воздух цирковых кулис, воздух конюшен, описанный всеми беллетристами и на всех языках!
Кончался антракт, наступал апофеоз.
Сердца переставали биться, и было от чего…
В ослеплении бенгальских огней, в неверном свете ацетиленовых прожекторов, под звуки неописуемых ноктюрнов Фихтельбойма, в особо опасные моменты прерываемых глухой предсмертной дробью барабана, одна, с револьвером в лайковой ручке, со стэком в другой, с заученной улыбкой на вишнёвых губах, не спуская пронзительных, синих, подрисованных глаз с трёх медленно переступающих друг за другом упругих, тяжёлых, неизвестно кому и почему повинующихся леопардов, — мисс Джонни Пэйдж, укротительница зверей, христианская мученица, богиня, волшебница, мечта любви, стройная, хрупкая, беззащитная, — чего еще!.. каких еще искать причин, мотивов, поводов и оправданий, чтоб объяснить этот сумасшедший взрыв энтузиазма, страха, нежности и восторга, и почти готовности броситься туда, на арену, в пасть зверя, — лишь бы уберечь, оградить, спасти — все тот же образ, поразивший душу, — не все ль равно — плясуньи Эсмеральды, Принцессы Грёзы, Мисс Джонни Пэйдж иль чеховской Мисюсь?!
* * *
Вышли мы из цирка, шатаясь, усталые, неприкаянные, нелепые, и опять, и навеки счастливые.
Июльская ночь ворожила и нежила. Какой-то охрипший бас из молодой ватаги затянул ни к селу, ни к городу:
Синее море — священный Байкал, Славный корабль — омулёвая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, Молодцу плыть недалечко…И весь хор новоградских абитуриентов — титул, слово-то какое! — стройно, нестройно, но все же подхватил:
— Молодцу плыть недалёчко!Впрочем, все это отдавало не столько революцией, сколько озорством, нарушением общественной тишины и порядка.
А может быть был в этом и какой-то бессознательный корректив, поправка на гражданские чувства, извинение за моржей, зверей, за брезентовый цирк Энрико Труцци…
X
В Москву, в Москву, в Москву…
Подобно чеховским Трём сёстрам, все или почти все, мы были обуреваемы одним и тем же безрассудным, не вполне объяснимым, но страстным и непреодолимым стремлением попасть именно туда, в один из самых прославленных и старейших университетов России, о котором, чего-то не договаривая, но всегда увлекательно, загадочно и многозначительно рассказывал нам еще наш гимназический учитель словесности, милейший Черномор, Мелетий Карпович.
Всё это, однако, было не так просто. Правила, циркуляры, инструкции, зависимость от того или иного учебного округа, — одним махом все эти рогатки и перегородки не перепрыгнешь.
Помечтать помечтали, а в действительности оказались не в Москве, на Моховой, а в императорском Новороссийском университете в Одессе, на Преображенской улице, и на Юридическом факультете, само собой разумеется.
Нисколько не кокетничая и ни в какой мере перед потомством не прихорашиваясь, надо сказать, что тяга на юридический заключала в себе все признаки наивного идеализма и искреннего бескорыстия, ничего общего ни с какой так называемой карьерой не имевших.
Ведь недаром, в самые глухие и жестокие времена даже уголовных каторжан в России называли несчастненькими; «Записки из мертвого дома», хотя и в сокращённом виде, но читались запоем и от строки до строки; а в начале вот этого самого двадцатого столетия, помимо того, что еще дышали ароматом шестидесятых годов, величием судебных реформ Александровской эпохи, но еще страстно увлекались политическими процессами 1904–1905 гг., в особенности после убийств Сипягина, Плеве, великого князя Сергея Александровича.
Русская адвокатура, в представлении поколения, это была то горсть настоящей интеллигенции, которая в самые глухие и безобразные времена одна возвышала свой одинокий, смелый, тоскою и негодованием звеневший голос над бесправной, молчавшей, задыхавшейся от злобы и повиновения страной, исподлобья глядевшей своими мутными, тёмными, глубоко сидевшими, мужицкими глазами.
Обаяние имён — А. Ф. Кони, Ледницкого, Куперника, Плевако, Пассовера, Карабчевского, Андреевского, кн. Эристова, Маклакова, Тесленко, Слиозберга, немало содействовало этому повальному эпидемическому увлечению судом, защитой, престижем сословия присяжных поверенных.
По праву гордилась тогдашняя дореволюционная Россия своими адвокатами, своими защитниками, теми всеми, кто с умом, с изяществом и почти с донкихотской отвагою, первыми бросались вперёд, и шли до конца и напролом, чтоб напомнить русской дебелой бабище, грузной и сырой Альдонсе, о тонком образе бессмертной Дульцинеи, о вольности, о попранном, но неотъемлемом праве жить и дышать.
Но всё это были еще далекие мечты, неясная только намечавшаяся цель, а покуда надо было двигать самую науку и постигать истины и дисциплины, о которых мы имели довольно смутное понятие.
Знали только, что существует большой том политической экономии Железнова, и что каждый «сознательный элемент» должен его знать наизусть.
Увы, Железнов Железновым, а действительность оказалась весьма и весьма убогой.
Новороссийский университет того времени, о котором идёт рассказ, был одним из самых мрачных во всей империи.
А еще мрачнее и бездарнее был его юридический факультет.
Все эти профессора, читавшие энциклопедию права, государственное право, статистику, политическую экономию, римское право, уголовное право, и все прочие права, — церковное, финансовое, гражданский процесс, уголовный процесс, — все они, казалось, были каким-то злым и хитроумным чортом собраны и подобраны с единственной целью — сразу отбить охоту и к науке, и к праву, и к сословию присяжных поверенных, и к прочим тлетворным фантазиям и вредным фанабериям.
К чему имена? Бесславные носители их, какие они там ни были благонамеренные чиновники, статские и действительные статские советники, и кавалеры многих орденов, все они давно уже покойники, а о покойниках есть идиотское обыкновение — либо… и так далее.
Впрочем, единственное имя стоит и с благодарностью следует упомянуть, ибо это было действительно светлое пятно на тогдашнем новороссийском горизонте.
— Алексей Яковлевич Шпаков, ученик самого Владимирского-Буданова, автора знаменитых многотомных трудов по истории русского государственного права.
Талантливый, во всех смыслах приятный, начиная от безукоризненно-демонстративной стрижки бобриком в противовес нечистоплотным академическим шевелюрам, молодой синеглазый Шпаков был буквально влюблён в свой предмет, и когда рассказывал о Новгородском Вече, то так увлекался, что с неизменным и неподдельным пафосом восклицал:
— Не будь Веча, ничего не было бы! Понимаете, господа, ни-че-го!
В ответ на что, один и тот же революционный студенческий бас, принадлежавший грузину Абаккелиа, гудел «в порядке дискуссии»:
— Да ведь ничего, Алексей Яковлевич, и нет!
На что, обнажая свои белоснежные зубы, Шпаков с места и горячо сейчас же парировал:
— Так вот именно, друзья мои, поймите же вы раз навсегда, что не будь Веча, то даже и того, чего нет, тоже не было бы!..
Аудитория разражалась оглушительным смехом, мы уже давно научились понимать друг друга.
* * *
Было, впрочем, еще одно полусветлое, или, как хотите, полутёмное пятно в эти годы университетской ссылки, и свидетель истории должен его отметить.
Это — «допущение в высшие учебные заведения лиц женского пола, обладающих надлежащим цензом, в качестве вольнослушательниц»…
Теперь, спустя несколько декад, всё это кажется столь незначительным пустяком, о котором может быть и толковать не стоит.
Но в те мрачноватые года это была не только своего рода либеральная уступка, первый шаг к женскому равноправию, но с нашей узкой и эгоистической точки зрения неисправимых ветрогонов, обречённых дохнуть от скуки на лекциях нелюбимых и неуважаемых профессоров, появление женского элемента сразу оживляло пейзаж, и на первых порах даже в некоторой степени содействовало более регулярному посещению и курсов, и практических занятий, и каких-то дополнительных вечерних семинаров.
Возможно, что через двести-триста лет, когда жизнь станет невыразимо прекрасной, как мечтал дядя Ваня, и мы увидим небо в алмазах, мы, кроме того, увидим и ощутим и пользу и необходимость совместного обучения и образования.
Но, по совести сказать, тот первый шаг к женскому равноправию, свидетелями которого нам пришлось быть, большим вкладом в философию гуманизма не оказался.
Пейзаж, что и говорить, был оживлен до чрезвычайности…
Взаимные зарисовки профилей и фасов, летучая почти, «шёпот, робкое дыханье», вся смутная и нездоровая атмосфера полуреволюционных лет, Арцыбашевские флюиды, рефераты профессора Арабажина, откровения Вейнингера, начальный курс Фрэйда, проблемы пола, ресторан Квисисана по образцу Петербургского, толпы блоковских Незнакомок в длинных черных перчатках, в «страусовых» перьях, несколько скандалов в стенах университета, несколько исключений, административных кар, даже какое-то экстренное совещание ректора с градоначальником, — а градоначальника звали генерал Толмачёв, — словом никакой романтики, никаких «Дней нашей жизни», Андреевских упоений, Воробьевых гор, ничего похожего на море Айвазовского, на «Какой простор» Репина, на Козиху, на Плющиху, на Моховую улицу, на все эти легенды-сказки профессора Железнова, Максима Максимыча Ковалевского, в Москве, на Москве-реке, где манеж считается частью университета и жизнь бьёт ключом, и все любят друг друга, и верят в будущее, и на лекции идут как на праздник, потому что это храм науки и профессоров зовут Сергей Андреевич Муромцев, и князь Трубецкой, и Шершеневич, и де-ла-Барт, и Комаровский, и вся остальная плеяда, и все это независимо от женского равноправия и автоматического ресторана Квисисана…
* * *
Так или иначе, а университет становился делом побочным и второстепенным, печальной необходимостью, которую надо было побороть, преодолеть и только.
Отбарабанить четыре года, получить диплом и отрясти прах от ног своих…
Были, конечно, проблески и просветы даже в этом почти поголовном пренебрежении к казённой науке.
Окончательно задуть этот самый огонёк, горевший в молодых душах, и совсем уж доканать и убить столь естественную жажду, понять, узнать, осмыслить, научиться — не смогли даже все эти собранные воедино убогие, воистину гоголевские персонажи.
В похвальном рвении совсем неисправимые упрямцы быстро находили себе подобных, и, один за другим, стали появляться и возникать те самые кружки для самообразования, которыми смело могло бы гордиться, в лучшем случае, любое уездное общество попечения о народной трезвости.
А между тем, дело шло ведь не о букваре для неграмотных, а о самой Догме римского права, которой многие из нас действительно увлекались и, чтоб поразить узколобых и скептиков и положить их на обе лопатки, швыряли им с убийственной небрежностью:
— Вот вы думаете, остолопы, что Догма это раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять… А Момзен и Иелинек говорят в один голос, что это все штучки потрясающей глубины… Да-с! И что римское право, — тут следовала нечеловеческая пауза, — вышло целиком из разбойничьего духа римлян!..
И вот, как всегда бывает, большинство шло по линии наименьшего сопротивления, то есть опять конспекты и опять шпаргалки, — тянут, потянут, вытянуть не могут, и сами себе, в утешение, извлекают из Апухтина и на ус мотают:
Когда будете, дети, студентами, Не ломайте голов над мементами, Над Гамлетами, Лирами, Кентами, Над царями и над президентами…А другие, своим умом и не без упорства тоже, не по линии наибольшего сопротивления, — то есть в дигесты, в глоссы, в дебри и комментарии, — из семестра в семестр, от зачёта к зачёту, и оптом и в розницу, и в кружках и самотёком, и прямым беспересадочным рейсом к «светлому будущему», в порядке самообмана, самообразования и отчаяния!
XI
Годы шли, а вокруг, на берегу самого синего моря, шумел, гудел, жил своей жизнью великолепный южный город, как камергерской лентой опоясанный чинным Николаевским бульваром, Александровским парком, обрывистыми Большим и Малым Фонтанами, счастливой почти настоящей Аркадией, и черно-желтыми своими лиманами, Хаджибеевским и Куяльницким.
С высоты чугунного пьедестала, на примыкавшей к морю площади, неуклонно глядела вдаль бронзовая Екатерина II, а к царским ногам ее верноподанные сбегались переулки — Воронцовский, Румянцевский, Чернышевский, Потёмкинский, и прямые, ровные, главные улицы, параллельные и перпендикулярные, носившие роскошные имена дюка де Ришелье, Де-Рибаса и Ланжерона.
Внизу, в порту, день и ночь работали черномазые грузчики, грузили золотое пшено на чужеземные суда, в жадно открытые корабельные пасти; пили мертвую в портовых кабачках; буйно гуляли, с бранью, криком, кровью и поножовщиной; и шибко, напропалую, торопливой матросской любовью любили, и щедрую платили дань, и смертным боем били недорогую, искушенную, мимолетную женскую красу…
Утопил девчёнку, Мутная вода… Пожалей мальчёнку, Пропал навсегда!А наверху, над портом, над красными пароходными трубами, рыбачьими судами, парусными яхтами, зернохранилищами и элеваторами, лебёдками и кранами, над всем этим копошившимся внизу муравейником, увенчанный осьмиугольной зелёно-бронзовой главой, возвышался городской театр, гордость Одессы, а в театре, во все времена года, пели итальянские залётные соловьи, и звали их, как в либретто, — Сантарелли, Джиральдони, Тито Руффо, Ансельми, и еще Марио Самарко, которого студенты окрестили Марусенькой, и подносили ему адреса, неизменно начинавшиеся латинской перифразой из знаменитой речи Цицерона:
Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra et rapere virgines nostras?!
(До каких пор, Катилина, будешь ты злоупотреблять терпением нашим и похищать девушек наших?!).
Певец посылал в ответ всё те же воздушные поцелуи и улыбался так, как улыбаются все баловни судьбы, и опять повторял, в который раз, из «Сельской чести»:
— Viva il vino spumeggiante…
Любовь к итальянской опере считалась одной из самых прочных и укоренившихся традиций в этом чудесном и легкомысленном городе, и наиболее просвещенные меломаны, как бы в оправдание своего неизменного пристрастия, не упускали случая напомнить забывчивым, и просветить невежд:
— Ведь даже, сосланный на юг России, сам Александр Сергеевич Пушкин услаждал свои невольные досуги столь частым посещением итальянской оперы, что генерал-губернатор Новороссии граф Воронцов, на отеческом попечении и под надзором коего он находился, обратил на это сугубое внимание…
Тем более, что появлялся поэт всегда в одной и той же ложе, принадлежавшей супруге почтенного сербского негоцианта, смуглой красавице Амалии Рознич.
Ссылка Пушкина, ссылка на Пушкина, — после этой литературной цитаты, столь изысканной и столь красноречивой, умолкали даже самые строптивые староверы, требовавшие «Князя Игоря», «Рогнеды» и половецких танцев, а не слабосильных герцогов в напудренных париках и каких-то плебейских цирюльников, хотя бы и севильских…
* * *
Кроме портовых босяков и колоратурных сопрано, были в Одессе свои любимцы, знаменитости и достопримечательности, которыми гордились и восхищались, и одно упоминание о которых вызывало на лицах неподдельную патриотическую улыбку.
Так, например, пивная Брунса считалась первой на всем земном шаре, подавали там единственные в мире сосиски и настоящее мюнхенское пиво.
Пивная помещалась в центре города, на Дерибасовской улице, окружена была высоким зелёным палисадом, и славилась тем, что гостю или клиенту ни о чем беспокоиться не приходилось, старый на кривых ногах лакей в кожаном фартуке наизусть знал всех по имени, и знал кому, что, и как должно быть подано.
После вторников у Додди, где собирались художники, писатели и артисты, и где красному вину Удельного Ведомства отдавалась заслуженная дань, считалось, однако, вполне естественным завернуть к Брунсу и освежиться чёрным пенистым пивом.
Сухой, стройный, порывистый, как-то по особому породистый и изящный, еще в усах и мягкой, шатеновой и действительно шелковистой бородке, быстро, и всегда впереди всех, шел молодой Иван Алексеевич Бунин; за ним, как верный Санхо-Панчо, семенил, уже и тогда чуть-чуть грузный, П. А. Нилус; неразлучное трио — художники Буковецкий, Дворников и Заузе — составляли казалось одно целое и неделимое; и не успевал переступить порог популярный в свое время А. М. Федоров, поэт и беллетрист, как Бунин, обладавший совершенно недюжинным, совершенно исключительным даром пародии, и звуковой и мимической, начинал уже подбираться к намеченной жертве:
— Александр Митрофанович, будь другом, расскажи еще раз как это было, когда ты сидел в тюрьме, я ей-Богу, могу двадцать раз подряд слушать, до того это захватывающе интересно…
Федоров конечно не соглашался, и «за ложную стыдливость, каковой всегда прикрывается сатанинская гордость», — немедленно подвергался заслуженному наказанию.
Каррикатура в исполнении Бунина была молниеносна, художественна и беспощадна.
Этот дар интонации, подобный его дару писательства, невзирая на смелость изобразительных средств, не терпел ни одной сомнительной, неверной или спорной ноты.
Переходя на тонкий тенор, острый, слащавый и пронзительный, Бунин обращался к воображаемой толпе политических арестантов, которых вывели на прогулку и, простирая руки в пространство, в самовлюблённом восторге, долженствовавшим быть благовестом для толпы, кричал исступлённым уже не тенором, а вдохновенно-фальшивым фальцетом:
— «Товарищи! Я — Федоров! Тот самый… Федоров!.. Я — вот он, Федоров!..»
Присутствовавшие надрывали животики, Бунин театрально отирал совершенно сухой лоб, а виновник торжества подносил своему палачу высокую кружку пива и, криво усмехаясь и заикаясь, говорил:
— А теперь, Иван, изобрази Бальмонта — «и хохот демона был мой!».
Но этот маневр диверсии не всегда удавался, тем более, что пародию на стихи Бальмонта, где каждый куплет кончался рефреном «И хохот демона был мой!» — во всяком случае немыслимо было воспроизводить у Брунса, где было много посторонней публики, не всегда способной оценить некоторые свободолюбивые изыски бунинской пародии.
* * *
Итальянская опера, пивная Брунса, кондитерская Фанкони, кафейное заведение Либмана, — все это были достопримечательности неравноценные, но отмеченные наивной прелестью эпохи, которую французы называют:
— Dix-neuf cents… La belle epoque! [2]
Но был им присущ какой-то еще особый дух большого приморского города с его разношерстным, разноязычным, но в космополитизме своём по преимуществу южным, обладающим горячей и беспокойной кровью населением. Жест в этом городе родился раньше слова.
Все жестикулировали, размахивали руками, сверкали белками, стараясь объяснить друг дружке — если не самый смысл жизни, то хоть приблизительный.
А приблизительный заключался в том, что настоящее кофе со сливками можно пить только у Либмана, чай с пирожными лучше всего у Фанкони, а самые красивые в мире ножки принадлежат Перле Гобсон.
Чтоб не томить воображение, скажем сразу, что Перла Гобсон была мулаткой и звездой «Северной гостиницы».
Каковая «Северная гостиница» ничего Диккенсовского в себе не заключала, никакой мистер Пикквик никогда в ней не останавливался, а принадлежало это скромное название кафе-шантану, но, конечно, первому в мире.
За столиками «Северной гостиницы», в зале, расписанном помпейскими фресками, или приблизительно, можно было встретить всех тех, кого принято называть «всей Одессой».
Богатые, давно обрусевшие итальянцы, которым почти целиком принадлежал Малый Фонтан с его мраморными виллами и колоннадами; оливковые греки, торговавшие рыбой, и сплошь называвшиеся Маврокордато; коренные русские помещики, по большей части с сильной хохлацкой прослойкой; евреи, обросшие семьями, скупщики зерна и экспортёры, и среди них герои и действующие лица «Комедии брака» Юшкевича; морские офицеры в белых тужурках с чёрными с золотом погонами, со сдержанным достоинством оставлявшие кортики в раздевалке; несколько кутящих студентов в мундирах на белой подкладке, лихо подъезжавших в фаэтонах на дутиках; и, наконец, два аборигена, два Аякса, два несравненных одесских персонажа, которыми тоже не мало и с трогательным постоянством гордилась южная столица.
Одного звали Саша Джибелли, другого Серёжа Уточкин.
Отсутствие отчеств нисколько не говорило о недостатке уважения, скорее наоборот: это было нечто настолько своё, настолько родное и близкое, что как же их было называть иначе, как не сокращёнными, милыми, домашними именами?!
За что ж их, однако, любили и уважали?
Никаких подвигов Саша Джибелли не совершил, ничего такого не изобрёл, не выдумал, никаких ни военных, ни гражданских доблестей не проявил.
Но настолько был, миленький, красив, и лицом и движениями, настолько приятен, и в таких гулял умопомрачительных, в складочку выутюженных белых брюках с обшлагами, и такие носил, душка, гетры на жёлтых штиблетах с пуговицами, и портсигар с монограммой, и тросточку с набалдашником и шляпу-панаму, а из-под шляпы взгляд темно-бархатный, что ходили за ним по Дерибасовской, как за Качаловым на Кузнецком Мосту, толпы поклонниц, вежливо сказать, неумеренных, а честно сказать — психопаток.
А сам он только щурился и улыбался, и всё дымил папиросками, по названию «Графские».
А что про Сашу Джибелли друг другу рассказывали и всегда по секрету, и каких только ему не приписывали оперных примадонн, драматических гран-кокетт, львиц большого света и львиц полусвета, хористок, гимназисток, белошвеек и епархиалок, — списку этому и сам Дон-Жуан мог позавидовать.
Надо полагать, что в Одессе, как и в Тарасконе, была манера всё преувеличивать, но преувеличивая, делать жизнь краше и соблазнительнее.
Несомненно, однако, и то, что, всё равно, очищенная от легенды или приукрашенная, а биография Саши Джибелли еще при жизни героя вошла в историю города, и историей этой город весьма гордился, как до сих пор гордится Казановой Венеция…
И всё же, в смысле славы, сияния, ореола — Серёжа Уточкин был куда крупнее, значительнее, знаменитее.
И бегал за ним не один только женский пол, а все население, независимо от пола, возраста, общественного положения и прочее.
Красотой наружности Уточкин не отличался.
Курносый, рыжий, приземистый, весь в веснушках, глаза зелёные, но не злые. А улыбка, обнажавшая белые-белые зубы, и совсем очаровательная.
По образованию был он неуч, по призванию спортсмен, по профессии велосипедный гонщик.
С детских лет брал призы везде, где их выдавали. Призы, значки, медали, ленты, дипломы, аттестаты, что угодно.
За спасение утопающих, за тушение пожаров, за игру в крикет, за верховую езду, за первую автомобильную гонку, но самое главное, за первое дело своей жизни — за велосипед.
Уточкин ездил, лёжа на руле, стоя на седле, без ног, без рук, свернувшись в клубок, собравшись в комок, казалось управляя стальным конём своим одною магнетической силой своих зелёных глаз.
Срывался он с лошади, разбивался в кровь; летел вниз с каких-то сложных пожарных лестниц; вообще живота своего не щадил.
Но чем больше было на нём синяков, ушибов, кровоподтёков и ссадин, тем крепче было чувство любви народной и нежнее обожание толпы.
В зените славы своей познакомился он с проживавшим в то время в Одессе А. И. Куприным.
Любовь была молниеносная и взаимная.
— Да ведь я тебя, Серёжа, всю жизнь предчувствовал! — говорил Куприн, жадный до всего, в чём сказывались упругость, ловкость, гибкость, мускульная пружинность, телесная пропорциональность, неуловимое для глаза усилие и явная, видимая, разрешительная, как аккорд, удача.
Красневший до корней волос Уточкин только что-то хмыкнул в ответ и, заикаясь, — ко всему он еще был заика, — уверял, что рад и счастлив, и что очень всё это лестно ему…
А что лестно, и в каком смысле, и почему, так и не договорил.
Потом где-то в порту долго пили красное вино, еще дольше завтракали в еврейской кухмистерской на Садовой, и уже поздно вечером у Брунса, без конца чокаясь высокими кружками с чёрным пивом, окончательно перешли на ты, — Куприн со свойственным ему добродушным лукавством и этой чуть-чуть наигранной, безразличной и звериной простотой, Уточкин, нервно двигая скулами, краснея и заикаясь.
Увенчанием священного союза был знаменитый полёт вдвоём на одном из первых тогда самолётов. Вся Одесса, запрудившая улицы, конная полиция, санитарные пункты, кареты скорой помощи, невиданное количество хорошеньких, как на подбор, сестёр милосердия с красными крестиками на белых наколках, подзорные трубы, фотографы, бинокли, рисовальщики, градоначальник, производивший смотр силам, стоя в пролётке, — и, наконец, не то вздох, но то крик замершей толпы и… — «белая птица, плавно поднявшись над городом, то исчезает в облаках, то снова появляется в голубой лазури», как вдохновенно писал местный репортер Трецек.
Впрочем сами участники этой нашумевшей тогда прогулки, и А. И. Куприн, и Уточкин, подробно рассказали о своих воздушных впечатлениях на страницах «Одесских новостей».
Надо ли говорить, каким громом аплодисментов встретила Уточкина «Северная гостиница», когда чуть ли не на следующий день «король воздуха», как выражался неуспокоившийся Трецек, осчастливил её своим посещением?
Саша Джибелли поднёс ему венок из живых цветов с муаровой лентой и соответствующей надписью древнеславянской вязью.
Два Аякса троекратно облобызались, оркестр сыграл туш, а когда Перла Гобсон, освещённая какими-то фиолетовыми лучами, произнесла по-английски несколько приветственных слов от имени дирекции кафе-шантана, энтузиазм публики достиг апогея.
Весь зал поднялся со своих мест, какие-то декольтированные дамы, не успев протиснуться к Уточкину, душили в своих объятиях сиявшего отраженным блеском Сашу Джибелли, а героя дня уже несли на руках друзья, поклонники, спортсмены, какие-то добровольные безумцы в смокингах и пластронах, угрожавшие утопить его в ванне с шампанским…
Положение спас С. Ф. Сарматов, знаменитый куплетист и любимец публики, говоря о котором одесситы непременно прибавляли многозначительным шёпотом:
— Брат известного профессора харьковского университета Опеньховского, первого специалиста по внематочной беременности!
Сам Сарматов был человек действительно талантливый и куда скромнее собственных поклонников.
Появившись на эстраде в своих классических лохмотьях уличного бродяги, оборванца и пропойцы, «бывшего студента Санкт-Петербургского политехнического института, высланного на юг России, подобно Овидию Назону, за разные метаморфозы и прочие художества», Сарматов, как громоотвод, отвёл и разрядил накопившееся в зале электричество.
Немедленно исполненные им куплеты на злобу дня сопровождались рефреном, который уже на следующий день распевала вся Одесса.
Дайте мне пилота, Жажду я полёта!..Восторг, топот, восхищение, рукоплескания без конца.
Опять оркестр, и снова пробки Редерера и вдовы Клико то и дело взлетают вверх, к звенящим подвескам люстры, и на сцене уже, всех и все затмившая, шальная, шалая, одарённая, ни в дерзком блеске своем, ни в распутной заострённости непревзойденная, в платье «цвета морской волны», ловким, рассчитанным движением ноги откидывая назад оборки, кружева, воланы предлинного шелкового шлейфа, появляется М. А. Ленская, из-за которой дерутся на дуэли молодые поручики, покушаются на самоубийство пожилые присяжные поверенные, и крепкой перчаткой по выбритым щекам, днём, на Дерибасовской улице, супруга официального лица публично бьёт лицо по физиономии…
Будет о чем поговорить на лиманах, на Фонтанах, у Либмана, у Робина, у Фанкони, в городе и в свете, а также в редакциях всех трех газет — «Одесских новостей», «Одесского листка» и «Южного обозрения».
Не только в самой столице, но далеко за ее пределами, всем южанам, как чеховским «Бирюлёвским барышням», давно известно было, что «Одесские новости» это Эрманс, «Южное обозрение» — Исакович, а «Одесский листок» — Н. Н. Навроцкий.
А еще было известно, что недавней короткой славой своей «Одесский листок» обязан был самому Власу Михайловичу Дорошевичу, которого отбил у Навроцкого никто иной, как Иван Димитриевич Сытин. И не то что так, просто отбил, а чтобы поставить вдохновителем и главным редактором Московского «Русского слова».
И всё это, несмотря на происшедшее между ними в своё время, в самом начале века, недоразумение, или как отвлечённо выражался Сытин, случай.
Замечательно и то, что оба рассказывали этот случай, каждый в свойственном ему стиле или манере, но, по существу, совершенно одинаково.
Что, вообще говоря, является большой редкостью, а в так называемой литературной среде, тем более.
В сочной передаче Сытина история эта показалась нам особенно живописной.
А выслушали мы её много, много лет спустя, в 1923 году, в марте месяце, и вот в этом самом городе Нью-Йорке.
Покойный Сытин вырвался из Москвы, получив миссию организовать грандиозную выставку советской живописи в Америке.
По ходу действия, как говорит Зощенко, советской живописью назвалось всё, что можно было найти наиболее выдающегося в Петербургском Эрмитаже, в Московской Третьяковской Галлерее, и разумеется в частных коллекциях, ставших собственностью рабочих и крестьян.
Вся эта затея, как и предшествовавшие ей гастроли Московского Художественного Театра, который на свой страх и риск возил из Москвы в Нью-Йорк один из самых прославленных и влюбленных в свое дело импрессарио, Л. Д. Леонидова, должна была закосневшую, окостеневшую в долларах буржуазию и ослепить, и оболванить.
После первой пятилетки, на шестой год октябрьского переворота, надо было что-то предъявить, чем-то ударить в нос, какой-то показать товар лицом, снять его со старых дореволюционных складов, но пометить сегодняшним днем и заштемпелевать как следует — «Made in USSR», а там видно будет.
Чрез всесильного, губастого, слюняво-сговорчивого Луначарского, благодаря добрым друзьям, а также и бывшим метранпажам, удалось старику получить командировку, и со свойственной ему неисправимой добросовестностью «выполнить и перевыполнить» сумбурную, сложную, неблагодарную задачу.
— Помилуйте, — рассказывал Сытин, — у меня ведь в Москве заложниками вся семья осталась, дети, внуки, да еще чудом удалось в деревне, под Москвой, весь мой церковный хор сохранить. Доказал им, голубчикам, что это дело вполне народное, и все мои певчие самые что ни на есть чистой воды мужики и крестьяне.
— Ну вот, видите, и поверили, и на весь хор продовольственные карточки выдали. А я, конечно, один за всё отвечаю и за всех ручаться должен. И за детей и внуков, и за хористов в хоре, и за наборщиков в бывшей моей типографии…
— Так что соблюдать себя должен аккуратно, сами догадываетесь, — белого и черного не покупайте, да и нет не говорите.
…Не помню как, но беседа естественно перешла на недавнее, а в безвозвратности и неповторимости своей — уже стародавнее прошлое.
Кто-то из присутствующих, если не ошибаюсь, покойный А. Л. Фовицкий, стал расспрашивать о бывших русско-словцах, имена которых знала вся грамотная Россия.
Разговор разумеется коснулся Дорошевича.
Вспоминали его единственную в своём роде лекцию, в январе 18-го года, в переполненном до отказу цирке Никитина, на Садовой.
Всё уже было кончено, свергнуто и коленом к земле придушено.
Россия полным ходом шла к военному коммунизму.
Надо было иметь много гражданского мужества, близкого к отчаянию, и много нерастраченного пафоса, и жгучей, не высказанной, неизжитой ненависти, чтоб в зиму 18-го года решиться на подобное выступление, прикрытое пестрой мишурой официальной темы:
— Великая Французская Революция в воспоминаниях участников и современников…
Цирк был переполнен. Люди дрожали от холода, переминались с ноги на ногу, и от человеческого дыхания образовалось какое-то мутное марево, и в нём жёлтым неверным светом, то совсем потухая, то мигая, худо горели электрические лампочки.
Дорошевича встретили как надо: стоя, неистово аплодируя, но без единого слова, крика, неосторожного приветствия.
Он был в шубе, в высокой меховой шапке, чуть сутулый и сам высокий, уже смертельно-жёлтый и обречённый, в неизменном своем с широким черным шнуром пенснэ, которое он то снимал, то снова водружал на свой большой мясистый нос.
Он читал, то и дело отрываясь от написанного, по длинным, узким, на редакционный манер нарезанным листкам бумаги, читал ровным, чётким, ясным, порой глуховатым, порой металлическим, но всегда приятным для слуха низким голосом, без аффектации, без подчёркивания, без актёрства.
Читал он, или вернее говорил, о событиях и вещах страшных, жутких, безнадёжных, полных острого, вещего, каждодневного смысла.
За одни упоминания о подобных вещах и событиях в Москве, в январе 18-го года, у любых дверей вырастали латыши и китайцы преторианской гвардии.
И путь был для всех один: на Лубянку.
Все это понимали, чувствовали, ни с кем не переглядываясь, друг друга видели, лектор толпу, толпа лектора, и так в течение полутора или двух часов этого незабываемого вечера…
Через сравнительно короткий промежуток времени, в Крыму, от быстро развивавшейся болезни, от разжижения мозга, Дорошевич умер.
Закрыла глаза ему его молодая жена, красивая, жадная к жизни актриса, Ольга Миткевич.
У Гейне есть стихи, в переводе Вейнберга.
Стихи эти, вернее две строчки из них, Влас Михайлович при жизни, с недоброй улыбкой любил декламировать:
Но та, кто всех больше терзала, И мучила сердце мое…И, не кончив четверостишия, останавливался.
* * *
На лекции Дорошевича, о которой вспомнил Фовицкий, Сытин не был, но, конечно, много об этом выступлении слышал, и тут-то, словно коснулись мы неких заповедных струн, старик расчувствовался, разошёлся и сам предложил:
— А не хотите ли, я вам расскажу, как у нас с покойным Власом Михайловичем знакомство произошло?
Долго нас уговаривать не пришлось.
— Было это больше сорока лет тому назад, одним словом в конце девяностых годов. Торговал я у Проломных ворот, имел свой ларь, как следует быть, железом окованный; и цельный день, с утра и до вечера топтался на одном месте, чтоб, не приведи Господи, покупателя не пропустить.
Ну, товар был у меня всякий, какой надо:
И «Миллион снов», новый и полный сонник с подробным толкованием; и «Распознавание будущего по рукам», хиромантией называется. Очень ходкая была книжка. И «Гадание на картах». И «Поваренная книга» — подарок молодым хозяйкам. И конечно Четьи-Минеи. И Жития Святых. И все такое прочее.
Ранняя московская осень в тот год была, как сейчас помню, ясная и тихая, с заморозками по утрам, от лотков на площади шел грибной дух, на всех куполах Василия Блаженного солнце играет, хорошая, господа, была жизнь, может и несправедливая, а хорошая…
Ну, вот и подходит к моему ларю неизвестный мне молодой человек, на вид вроде семинариста, что ли, с лица бледный, и не то белобрысый, не то рыжий, и еще к тому долговязый.
Чутьём чую, что никакой это покупатель, а так, — как в картах, проходящая масть.
Ну, слово за слово, а он уж меня и по имени-отчеству величает, и всё знает, пострел этакий, что я «Сонник»-то на свой страх и риск сам отпечатал, и вроде как издателем на обложке значусь.
И вынимает из-под полы тетрадь, в трубочку свёрнутую, и говорит — так мол и так, если желаете иметь весьма для вас подходящий товар, как раз к Рождеству, вещь очень чувствительная и задушевная, и у кого угодно слезу прошибёт…
— А настоящий читатель, небось сами знаете, любит под праздник всплакнуть маленько.
И так мы с ним, с долговязым, по душам разговорились, что, уж не помню как, а очутились через час-другой, у Соловьева в чайной, в Охотном ряду, сели у окна, под высоким фикусом, и стал я его поить чаем с бубликами, а он все свою бородавку указательным пальцем мусолит, машина в трактире гудит — надрывается, а он это папироской мне прямо в лицо дымит и всю свою тетрадь под машинный гул на полный голос читает.
Ну, что ж, не стану греха таить, был я тогда помоложе, да покрепче, а может тоже и глупее был, а только так меня от чтения его за душу хватило, и защемило больно, что уж не знаю как, а слёзы по щекам, по бороде так и потекли струёй.
И так он меня, подлец, растрогал и разнежил до крайности, что я ему тут же с места новенькую зелёную трёшницу из-за пазухи вынул и на стол положил, и говорю ему — беру твою тетрадь, как есть в сыром виде и давай, брат, по рукам, и вот тебе три рубля кровными деньгами на твое счастье и благосостояние…
А он еще ломается и говорит церковным басом, — за такие слёзы можете и пятёрку дать, не пожалеете.
В общем, поторговались мы с ним как следует, и на трех с полтиной и покончили.
Забрал я у него тетрадь с сочинением, и спрашиваю, а какую ж твою фамилию на обложке печатать будем? А он мне говорит — Боже вас сохрани фамилию мою на обложке печатать, а то меня из моего учебного заведения на все четыре стороны с волчьим билетом выгонят!
Ну, думаю, как хочешь, мне лишь бы книжонку к Рождеству выпустить, будет чем расторговаться на праздник.
И расстались мы по-хорошему, и больше я его и в глаза не видел. Исчез, словно корова языком слизала.
Старик остановился, вздохнул, и, выдержав паузу, с чувством, толком и расстановкой преподнес нам свой заключительный эффект.
— Так можете вы себе представить, чем это все кончилось? Никогда в жизни не догадаетесь!
Уже вся книжонка в типографии, на Пятницкой, полностью отпечатана была, как зовет меня братьев Кушнерёвых главный управляющий, и говорит, змея, сладким голосом: — «Что ж это вы, Иван Дмитрич, какую штучку придумали?! Николая Васильевича Гоголя святочный рассказ в печать сдаёте?! И, так можно сказать, и глазом не моргнув?!»
Одним словом, что говорить, не помню, как я от управляющего на свет Божий вырвался, как при всех наборщиках от стыда не сгорел, как с Пятницкой улицы до Проломных ворот дошёл.
И.Д. развел руками и добродушно улыбнулся:
— Конечно был я тогда совсем сырой и, правду сказать, еще по складам читал, а больше всё на смекалку и природный свой нюх надеялся.
Ну, вот и попался, как карась в сметану, и поделом.
А Влас Михайлыч, царствие ему небесное, уже и в то время, это я еще в чайной Соловьева нутром почувствовал, показался мне человеком огромного будущего, и в российском смысле, и в моём личном, и, как видите, предчувствие меня не обмануло, и его жизнь, и моя жизнь крепко были между собой связаны.
Это уж потом, после случая с Гоголем, когда он гремел на Юге, и молодая слава его доходила до Москвы, поехал я к нему в Одессу, сманивать от Навроцкого.
И сманул. И встретились мы, как старые друзья, и в большой компании, пред отъездом из Одессы, за отличным завтраком в Лондонской гостинице, Дорошевич, по моей просьбе, рассказал, — а рассказывать он был мастер, — историю нашего знакомства, и посмеялись мы вдоволь и от всего сердца.
Сытин остановился и добавил с грустью:
— И не наша вина, что недолгим оказался век, и что и Россия не та, и «Русского слова» нет, и нет Дорошевича.
XII
После похищения Дорошевича для «Одесского листка» наступают неизбежные сумерки, и после действия остается за «Одесскими новостями», сыгравшими большую, почти выдающуюся роль в истории русской провинциальной печати.
Руководительство газетой, после ухода А. С. Эрманса, переходит в руки И. М. Хейфеца.
О газетной и редакторской его работе можно было бы написать книгу, во всяком случае большую главу.
Будущий Лемке восполнит этот пробел.
Каждое поколение опаздывает в признаниях и оценках.
Читатели (оставшиеся в живых) помнят только Старого Театрала.
Это был не очень удачный и скорее безличный псевдоним, которым Хейфец подписывал свои часто блестящие, всегда правдивые, нередко резкие рецензии.
Актёры его ценили, боялись, уважали и не любили.
Впрочем, четыреххвостка эта была применима и ко всей его биографии. А к редакторской в особенности.
Но очень было мало таких, кто способен был расшифровать его скрытую, скупую на откровения натуру, которая, и в руководительстве таким большим и живым делом, как газета, проявлялась отрывисто, резко, без объяснений причин и утомительных придаточных предложений.
Характерной и не лишённой некоторой забавности иллюстрацией его редакторской манеры была его постоянная и ожесточенная война с репортерами. Особенно с репортерами того огнедышащего южного типа, где темперамент и воображение расценивались куда больше, нежели грамотность и точность.
Хейфец требовал целомудренной краткости, существа, экстракта, самого главного.
А репортеру тоже хотелось жить красиво, витать, порхать, тонуть в деталях, подробностях, в описаниях, в прилагательных.
Знаменитый Трецек, с ударением на первом е, человек влюблённый в своё ремесло и считавший, что каждую новость, даже самую малую, надо подавать с жаром, вдохновением, священным огнём, — задыхаясь, вбежал в ночную редакцию, присел за уголок длинного, уставленного чернильницами стола, и, бешено куря папиросу за папиросой, сопя, задыхаясь, потирая лоб, вскакивая, садясь, — подвижное лицо в тиках, жилках, пятнах, в чернилах, — писал, писал, писал, страницу за страницей, листок за листком, пока вошедший для последнего фельдмаршальского смотра Хейфец не процедил сквозь зубы:
— Трецек, довольно беллетристики, давайте заметку, поздно.
Трецек вспыхивал и потухал, отирал потное от волнения лицо, умолял дать ему еще две минуты, еще одну минуту…
Но Хейфец был как Фатум, как судьба, как Каменный Гость.
Выхода не было, куча только что написанных, горячих, еще дымившихся листков подымавшегося как ртутный термометр Трецека попадала в снег, в тундры, в ледники.
И вот, по словам свидетеля истории, что из конфликта этих двух миров получалось.
Бедный Трецек, бедный Йорик, писал:
«Вчера, ровно в полночь, едва заслышав глухой звон набата, озаренные блеском факелов, в медных касках, подобные воинам римских легионов, не щадя жизни, бросаясь в самые опасные места, развёрнутой колонной и сомкнув ряды, шли наши неоценимые и самоотверженные серые герои, и куда?! Я вас только спрашиваю куда?! И отвечаю: в огонь, воду и медные трубы!..»
«Лишь бы вырвать из разбушевавшейся стихии несколько несчастных жертв общественного темперамента, ибо надо ли пояснять и, так сказать, бить по темени несознательных масс, что дело идёт о народном бедствии в одном из самых густо населенных пунктов нашей Южной Пальмиры»…
Каменный Гость накрест перечеркнул произведение Л. О. Трецека жирным красным карандашом.
В утреннем номере газеты, в отделе городской хроники, оскорбительно — мелким шрифтом было напечатано:
«Вчера ночью пожарная команда Бульварного участка была вызвана в Биоскоп Сирочкина. Тревога оказалась ложной».
* * *
Искусство Хейфеца, как редактора, проявлялось главным образом в умении учуять, раскопать, найти и привлечь новые силы, молодые дарования.
Теперь это уже почти забыто, но быть может справка не лишена интереса.
В «Одесских новостях» начинали свою литературную карьеру Корней Чуковский, К. В. Мочульский, Петр Пильский, В. Е. Жаботинский, явивший весь свой искрометный и иронический блеск в лёгких, в совершенно новой манере подданных фельетонах, за подписью Altalena.
Старую гвардию, своего рода совет старейшин вокруг склонного к диктатуре редактора, представляли тишайший О. А. Инбер, полиглот и начётчик, С. Соколовский (Седой), скучный и почтенный передовик, и, разумеется, милейший Петр Титыч Герцо-Виноградский, избравший себе совершенно немыслимый в настоящее время псевдоним — Лоэнгрин, и писавший длинные, ежедневные, многоуважаемые фельетоны в совершенно забытой теперь форме нравоучительной публицистики и якобы ядовитого, дозволенного цензурой радикализма.
Но какой это был прелестный, душевный, всегда растерянный, часто неприкаянный, и так сильно напоминавший чеховского Гаева человек!
Близорукий, изящный, какой-то особой повадкой походивший на уездного предводителя дворянства из обрусевших поляков, всегда в безукоризненно накрахмаленных воротничках, с густыми мягкими, мопасановскими усами, Герцо-Виноградский пользовался большой популярностью и любовью.
Изумительная память и патологическая страсть к цитатам создали ему репутацию настоящего энциклопедиста, знавшего наизусть, как говорил Бунин, где какие люди живут и за какие идеалы страдают…
Это был один из тех старых литераторов и последних могикан, которых щедро расплодил Михайловский и снисходительно осуждал Владимир Соловьев.
Это ему, добрейшему и безотказному Петру Титычу, и ему подобным, патетически писали курсистки высших женских курсов:
— Научите, как жить…А он и сам не знал и не ведал, и в дружеской беседе, в полнолунной зачарованной тишине новороссийской ночи, слегка размякнув от красного вина, каким-то дрожащим, взволнованно-ослабевшим голосом не то декламировал, не то нараспев читал любимые стихи Тютчева:
Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? …Взрывая, возмутишь ручьи. Питайся ими, и молчи.И замолкал. И виноватыми, добрыми, и уже влажными глазами глядел на собутыльников и, словно ища оправдания минутной слабости, обращался к застрявшему в Одессе Н. Н. Ходотову, и не просил, а почти умолял:
— Николай Николаич, будь другом, прочитай нам что-нибудь… этакое… особенное, сногсшибательное…
И Ходотов, избалованный, прославленный, гремевший на всю Россию своей знаменитой актёрской октавой, отяжелев от лавров, лет и салатов Оливье, всегда одним и тем же театральным жестом откидывал прядь седеющих волос, отходил к раскрытому в ночь окну, и начинал:
Развернулось предо мною Бесконечной пеленою Старый друг мой, море. Сколько силы необъятной, Сколько власти непоятной В царственном просторе!..Читал он так, как читали в те баснословные года все любимцы публики на всех вечерах и вечеринках, с многозначительными ударениями, подчёркиваниями, размашистыми жестами и полными таинственного смысла паузами, стараясь, надрываясь, угождая и подлаживаясь к толпе, к студенческой молодёжи, к сознательным элементам, требовавшим прозрачных намёков, хорового начала, и учредительного собрания.
Всё это, конечно, было совсем не то… Но каждому овощу свое время, понятия и вкусы меняются с невероятной медленностью, и в те трогательные, нелепые, глубоко-провинциальные времена эта ходульная декламация пользовалась огромным и неизменным успехом.
Умный, одарённый, прозорливый Пётр Пильский, который говорил, что от всякой фальши его корчит и сводит как от судороги в ноге, и тот, однако, как одержимый, кидался к упоённому всеобщим восторгом актёру и припадочно шипел:
— Спасибо, Ходотов! Спасибо за всё!
Как надо было понимать это всё — не мог объяснить никто.
Лоэнгрин, Барон Икс, Железная Маска, Незнакомец, Старый Театрал, Седой, Некто в сером, Иван Непомнящий, Иван Колючий, Саша Чёрный, Лоло, О.Л. д’Ор, Турист, Иванов-Классик, Буква-Василевский, Василевский-Небуква, Ленский, Линский, Ядов, список этот можно было бы продолжить без конца, — всё это тоже было данью времени, эпохе, условным требованиям литературной моды и тогдашним российским нравам.
И не только в периодической печати, и не только в провинции, но и в так называемой всамделишной изящной словесности, дух времени оказался сильнее чутья и вкуса.
И все тот же упрямый свидетель истории мог бы с полным основанием напомнить, что и великие мира сего не гнушались ядовито и тяжеловесно намекнуть на то, что они не Пешковы, не Бугаевы, не Гиппиусы, а — Максим Горький, Андрей Белый, Антон Крайний, и прочая, и прочая, и прочая.
Ал. А. Поляков, К. В. Мочульский, Д-р Ценовский, Леонид Гросман, Ал. Биск, Горелик, равно как и управляющий контрой и «выдачей авансов» С. В. Можаровский, сотрудники разноценные по значительности, темпераменту, и характеру работы, составляли небольшую группу, не имевшую псевдонимов.
О некоторых из них речь впереди.
* * *
О ком еще стоит вспомнить и хотя бы вскользь упомянуть, порой с примесью запоздалой признательности и сожаления, — «их было много, их больше нет», — порою с чувством, с отзвуком угасшего негодования?
Ведь, помимо героев и воображаемых портретов во вкусе Уолтэра Патера, помимо итальянских теноров, дерибасовских красавцев, велосипедистов, спортсменов и героев Семена Юшкевича, были в этом городе преходящих вкусов не одни только мотыльки и бабочки, любимцы публики на день, на час, которых поспешно венчала и столь же поспешно развенчивала впечатлительная, неблагодарная, неверная южная толпа.
Были талантливые актеры русской драмы, — вдохновенный, бледный, испепелённый М. М. Горелов, игравший неврастеников и первых любовников, незабываемый в «Призраках» Генрика Ибсена; был недюжинный по дарованию горбун, С. М. Ратов; молодой Виктор Петипа, сверкавший всею лёгкой радугой своей французской крови; и неразлучный друг его и приятель, Южный, которого бесцеремонно называли Яша Южный, — в будущем, в годы эмиграции, директор имевшего большой успех русского театра миниатюр «Синей Птицы»; был рыхлый, вкрадчивый, торжественный и театральный А. И. Долинов, впоследствии режиссер Александринского театра, говоривший о Савиной, полузакрывая глаза и приподымаясь со стула; был еще популярный на юге М. Ф. Багров, несменяемый антрепренёр городского театра.
И как же забыть завсегдатая генеральных репетиций, первых представлений и первых рядов, рисовальщика и каррикатуриста, остроумного, весёлого, или притворявшегося весёлым, всей повадкой своей напоминавшего парижского бульвардье, в шляпе набекрень, в выхоленной бородке с моложавой проседью, милейшего, беспокойнейшего Мих. Сем. Линского, предварительно переменившего немало газетных рубрик и немало псевдонимов, которому на каком-то интимном чествовании, — в Одессе обожали юбилеи и чествования, — кажется, Корней Чуковский преподнёс это сохранившееся в памяти посвящение:
Ты прежде принцем был де-Линь, Потом ты просто стал де-Линь, Ну что ж, линяй, брат, дальше…Спустя несколько быстро промчавшихся десятилетий, во время оккупации Парижа, бывший балетный фигурант и немецкий наймит, по фамилии Жеребков, с удивительной прозорливостью докопался и открыл, что бывший принц де-Линь был всего-навсего уроженец города Николаева, Шлезингер, на основании чего, и по приказу генерала фон-Штульпнагеля, в одно прекрасное последнее утро, за крепостными валами Монружа, уже не с легкой проседью в подстриженной бородке, а белый как лунь, и белый как полотно, Мих. Сем. Линский был расстрелян, и зарыт в братской могиле, в числе первых ста заложников.
Большое, окаймлённое чёрной рамкой объявление о расстреле ста было расклеено по всей Франции.
Мы его прочитали в Aix-les-Bains, сойдя с поезда.
В двух шагах от вокзала, в нарядном курортном парке, оркестр играл марш из «Нормы». Была вещая правда в стихах Анны Ахматовой:
Звучала музыка в саду Таким невыразимым горем…* * *
Еще одно имя, прежде чем покинуть Одессу: Герман Фадеич Блюменфельд.
Официальный титул — присяжный поверенный Округа Одесской судебной палаты, знаменитый цивилист, автор почти единственных на всю Россию трудов по бессарабскому праву.
В быту, в домашней жизни, в общении с людьми — обаятельный человек, доброты и нежности плохо скрываемой за какой-то сочинённой и выдуманной маской брюзги, буки, ворчуна и недотроги.
А между тем, стоило недотроге сесть за свой огромный письменный стол, заваленный книгами и рукописями, чтобы попытаться, в который раз, закончить важную кассационную жалобу в Правительствующий Сенат, как, — вот вы сами видите, — признавался он в минуты отчаяния, — какой скэтинг-ринг устраивают на моей лысине кошки, дети, и все друзья и подруги этих миленьких детей, которые тоже приводят кошек, и еще спрашивают, негодяи: — Мы вам не помешали?!
Недаром, когда праздновался 25-летний юбилей его адвокатской деятельности и старший председатель Судебной Палаты, обратившись к нему с сердечным прочувствованным приветствием, выразил надежду, что он, юбиляр, еще в течение долгих и долгих лет будет являть пример всё того же высокого и неизменного служения праву, и чувствовать себя в Суде, как дома, — бедный Герман Фадеич не выдержал и со свойственной ему быстротой реплики немедленно возразил:
— Пожелайте мне лучше, Ваше Превосходительство, чувствовать себя дома, как в Суде…
Дом Блюменфельда был в полном смысле слова открыт для всех.
Клиенты, просители, товарищи по сословию, а в особенности молодые помощники присяжных поверенных, и «наш брат студент», приходили почем зря и когда угодно, спорили, курили, без конца пили чай, безжалостно уничтожали пирожные от Фанкони, рылись в замечательной блюменфельдовской библиотеке, а потом наперебой задавали Буке бесконечные вопросы по гражданскому праву, по уголовному праву, требовали рассмотрения каких-то невероятных сложных казусов, бесцеремонно настаивали на немедленной дискуссии, одним словом, как говорил сам Г.Ф., устраивали параллельное отделение юридического факультета, и извлекали из-под скэтинг-ринга, — это непочтительное наименование сократовой лысины будущего сенатора укоренилось быстро и окончательно, — не мало настоящих знаний, а порой и откровений, которыми восполнялись неимоверные пробелы незадачливой официальной науки.
Воспоминания о Блюменфельде не есть нечто своё, неотъемлемое и личное.
В будущей свободной России, когда все станет на место и возврат к истокам и извлечённым из праха и забвения ценностям окажется неизбежным, и о забытом Г.Ф. будет написана поучительная книга, может быть целая антология его юридических построений, теорий, толкований и разъяснений.
В антологию эту непременно войдут и его щедро рассыпанные, обронённые на ходу, брошенные на ветер, в пространство, — афоризмы, определения, меткие острые слова, исполненные беспощадной иронии, но и доброты и снисходительности, мнения и характеристики, и, может быть, в конце книги грядущие и, как всегда, равнодушные поколения прочтут все же не с полным безучастием короткий эпилог, несколько покрытых давностью строк из частного письма, дошедшего в Европу в грубом сером конверте из обёрточной бумаги, с почтовой маркой с портретом Ленина: голодной смертью, от цинги, умер Герман Фадеич Блюменфельд.
* * *
Новороссийский антракт кончался.
Чехов где-то писал, что каждому надо побывать в небывалой сказочной стране, закатиться, скажем в Индию, хотя бы для того, чтобы, когда придёт старость, было, что вспомнить, сидя у камина… — небо пронзительной синевы, священные воды Ганга, стены Бенареса.
Мы знали наперёд, что университетские годы вспомнить будет нечем. Хвала Аллаху, молодость от университета не зависит.
Она сама по себе, а здание факультета на Преображенской улице, и все что было в нём, сами по себе.
Носили фуражку с синим околышем, всё реже и реже ходили не лекции, сдавали зачёты, с ужасом и страхом думали о государственных экзаменах, ибо было досконально известно, что опять есть приказ по линии: половину экзаменующихся резать.
Сам А. Ф. Шпаков давал нам на этот счет неутешительные объяснения.
— Хотят вас старые грымзы измором взять, научить, говорят, уму-разуму, а на самом-то деле отбить охоту ко всяким этим гуманитарным наукам и, елико возможно, сократить таким образом непомерное количество будущих правоведов с неизбежной революционной прослойкой…
Всполошился, засуетился восьмой семестр, послали ходока на разведки в Киев, дали строгий наказ разузнать всё до точки, и правда ли, как был слух, что председателем государственной комиссии намечен Удинцев, декан и шляпа, а профессор Митюков, — римское право, — гениальный человек, но алкоголик, хотя считает всех неучами, но резать не режет.
Ходок привёз вести самые утешительные; всё оказалось сущей правдой, будущее, как и должно было быть, рисовалось в свете самом лучезарном, стало быть, думать нечего, валяй, братцы, на Сенькин широкий двор!
Ни выводов, ни итогов.
Заключительные строки, в которых они отразились, пришли позже:
Блажен, кто во время постиг, В круговорот вещей вникая, А не из прописей и книг, Что жизнь не храм, а мастерская. Блажен, кто в этой мастерской, Без суеты и без заботы. Себя не спрашивал с тоской О смысле жизни и работы…Итак прощайте, Лиманы, Фонтаны, портовые босяки, итальянские примадонны, беспечные щеголи, капитаны дальнего плавания, красавицы прошлого века, как у Кузмина, но без мушки, градоначальники и хулиганы, усмирявшие наш пыл, —
Одесса Толмачёва Резина Глобачева, А молодость ничья!Прощайте, милый Шпаков, единственный утешитель, и розовый и седой, талантливый, пронзительный Орженцкий, виновный в том, что поляк, а потому навсегда доцент, и только в далёком будущем первый ректор Варшавского университета.
Застучали колеса пролётки по вычищенным мостовым. Что ж еще?.. Закурить папироску фабрики Месаксуди, обернуться назад, на сразу ставшее милым прошлое, крепко удержать в памяти, на всю жизнь запомнить ослепительную южную красоту, в пышном цвету акации на Николаевском бульваре, бегущие вниз ступени — к золотому берегу, к самому пропитанному солью нестерпимо-синему простору, еще в счастливом неведении грядущих бед, не предугадывая, не предчувствуя чеканных строк Осипа Мандельштама, которым суждено будет стать пророческим эпиграфом целой жизни:
Здесь обрывается Россия Над морем чёрным и глухим.XIII
Киевский эпилог окрылил молодые сердца, никакой горечи несбыточных надежд не оказалось; на скамейках, в Купеческом саду, валялись всё те же конспекты и подстрочники, увесистый том Митюкова, тощие тетради Рененкампфа, никакой трехуголки, ни растрёпанного томика Парни, и только иногда, для отдохновения и паузы, прочитанный с торопливой оглядкой номер «Освобождения» Струве, чудом пришедший из города Штуттгарта.
На облупившихся, розовых колоннах университета Св. Владимира висели пожелтевшие от времени объявления, циркуляры, предписания и правила.
По длинным, нескончаемым коридорам взад и вперёд двигалась всё та же шумная, бестолковая, всегда и всем недовольная и негодующая, и всегда от всего, от любых даже пустяков, по-настоящему счастливая толпа, все эти молодые, и непременно бородатые, со страшными шевелюрами, — стрижка считалась изменой общему делу, — в традиционных косоворотках под форменными тужурками, не то гоголевские бурсаки, не то пришедшие из древних времён печенеги, какими описал их еще Мамин-Сибиряк в «Чертах из жизни Пепко», и исправил и дополнил в своих пользовавшихся длительным успехом «Студентах» Михайловский-Гарин.
В июле месяце, в жаркий, невыносимо жаркий полдень, после восьми, казавшихся вечностью, недель зубрёжки, горячки, уныний и упований, — история повторяется, — чудом или, как сказал будущий Козьма Прутков, терпение и труд хоть кого перетрут, — все было кончено, сдано, написано и отвечено, включая «Устав о наказаниях, налагаемых Мировыми судьями и Земскими начальниками», который для декламации не подходил.
И еще раз, и еще раз, отрясти прах от ног своих и, как выражались беллетристы прошлого столетия, «броситься в самую гущу жизни», всему научившись и ничего не зная, но с вожделенным дипломом в руках и с пресным, бесцветным и обезличивающим званием — окончившего юридический факультет такого-то императорского университета с дипломом первой (или второй) степени.
Даже лекарь и повивальная бабка второго разряда звучали для оскорблённого уха более звонко и ударно, чем это убогое, осторожное в своей казённой точности наименование, вышедшее из недр боголеповских канцелярий.
Но все это было мелочью и чепухой, по сравнению с главным:
— Жизнь начинается завтра!
Так назывался роман Матильды Серао, так называлась и глава нашего собственного романа.
Снова вокзал. Снова звонок. И заочно провозглашает бородатый швейцар, весёлый архангел:
— Поезд на первом пути!..
XIV
Проехав Харьков, Курск, Тулу, Орёл, подъезжая к Серпухову, почти у самых ворот Москвы, приличествует вспомнить боярина Кучку, шапку Мономаха, Стрелецкий бунт, порфироносную вдову и закончить неизбежным восклицанием:
— Москва! Как много в этом звуке Для сердца русского слилось…Но очевидно ассоциации и цитаты приходят какими-то иными путями.
Сознаемся честно, без ужимок и оправданий, — стихи, пришедшие на память, еще необременённую воспоминаниями, но уже встревоженную предчувствиями, были старомодные стихи Апухтина.
Курьерским поездом, летя Бог весть куда, Промчалась жизнь без смысла и без цели…Из песни слова не выкинешь.
Ведь настоящая жизнь только начиналась.
И если сообщение о болезни Толстого, только что прочитанное в утренних газетах, и нарушило на мгновение душевное равновесие, всё же открывавшийся молодому воображению мир был воистину прекрасен, полон волнующих обольщений, восторгов и надежд.
Цель будет достигнута, смысл придёт потом, а бедного Апухтина сдадут в архив.
Но покуда законодатель мод и новый временщик литературных нравов произнесёт загадочно и нараспев — «О, закрой свои бледные ноги!..» — упрямый провинциал успеет контрабандой протащить, но на этот раз уже совсем кстати, еще две строчки из того же обречённого на забвение автора:
«Кондуктор отобрал с достоинством билеты. Вот фабрики пошли. Теперь уж не заснуть»…Паровоз тяжело вздохнул. Замедлил ход, поезд дрогнул, и остановился. Курский вокзал. Москва.
* * *
«Не поймет, и не оценит гордый взор иноплеменный»…
Ни взор, ни слух в особенности.
А музыки московских сочетаний на западный бемоль не переложишь.
— «Не уложить в размеры партитур пленительный и варварский сумбур».
Санкт-Петербург пошел от Невского Проспекта, от циркуля, от шахматной доски.
Москва возникла на холмах: не строилась по плану, а лепилась.
Питер — в длину, а она — в ширину.
Росла, упрямилась, квадратов знать не знала, ведать не ведала.
Посад к посаду, то вкривь, то вкось, и всё в развалку, медленно, степенно.
От заставы до другой, причудою, зигзагом, кривизной, из переулка в переулок, с заходом в тупички, которых ни в сказке сказать, ни пером описать.
Но всё начистоту, на совесть, без всякой примеси, без смеси французского с нижегородским, а так, как Бог на душу положил.
Только вслушайся — на век запомнишь!
— Покровка. Сретенка. Пречистенка. Божедомка. Петровка. Дмитровка. Кисловка. Якиманка.
— Молчановка. Маросейка. Сухаревка. Лубянка.
— Хамовники. Сыромятники. И Собачья Площадка.
И еще на всё: Вшивая горка. Балчуг. Полянка. И Чистые Пруды. И Воронцово поле.
— Арбат. Миуссы. Бутырская застава.
— Дорогомилово… Одно слово чего стоит!
— Охотный ряд. Тверская. Бронная. Моховая.
— Кузнецкий Мост. Неглинный проезд.
— Большой Козихинский. Малый Козихинский. Никитские Ворота. Патриаршие Пруды. Кудринская, Страстная, Красная площадь.
— Не география, а симфония!
А на московских вывесках так и сказано, так на вечные времена и начертано:
— Меховая торговля Рогаткина-Ежикова. Булочная Филиппова. Кондитерская Абрикосова. Чайная развесочная Кузнецова и Губкина. Хлебное заведение Титова и Чуева. Молочная Чичкина. Трактир Палкина. Трактир Соловьёва. Астраханская икра братьев Елисеевых.
— Грибы и сельди Рыжикова и Белова. Огурчики нежинские фабрики Коркунова. Виноторговля Молоткова. Ресторан Тестова. «Прага» Тарарыкина.
— Красный товар купцов Бахрушиных. Прохоровская мануфактура. Купца первой гильдии Саввы Морозова главный склад.
И уже не для грешной плоти, а именно для души:
— Книжная торговля Карбасникова. Печатное дело Кушнерёва. Книготорговля братьев Салаевых.
А там, за городом, за городскими заставами, будками, палисадами, минуя Петровский парк, — Яр, Стрельна, Самарканд.
Живая рыба в садках, в аквариумах, цыганский табор прямо из «Живого трупа».
У подъездов ковровые сани, розвальни, бубенцы, от рысаков под попонами пар идёт, вокруг костров всякий служилый народ греется, на снегу с ноги на ногу переминается.
Небо высокое, звёздное; за зеркальными стеклами, разодетыми инеем, морозным узором, звенит музыка, поет Варя Панина, Настя Полякова, Надя Плевицкая.
Разъезд будет на рассвете. Зарозовеют в тумане многоцветные купола Василия Блаженного; помолодеет на короткий миг покрытый мохом Никола на Курьих ножках; заиграет солнце на вышках кремлевских башен.
И зелёно-бронзовые кони барона Клодта над фронтоном Большого Театра обретут свой чёткий, утренний рельеф.
А на другом конце города, — велика, широка Москва, всё вместит, всё объемлет, — за другими оградами, рогатками и заставами, от хмельного тяжёлого, бредового сна и проснётся на жёстких нарах по-иному жуткий, темный и преступный мир, тот самый Хитров рынок, который никем не воспет, хотя и весьма прославлен.
И вот, поди, разберись!.. Москву, как Россию, не расскажешь, не объяснишь.
А только одно наверняка знаешь и внутренним чутьём чувствуешь:
— Петербург — Гоголю, Петербург — Достоевскому.
Болотные туманы, страшные сны, вещее пророчество:
— Быть Петербургу пусту.
А грешной, сдобной, утробной Москве, с часовнями ее и с трактирами, с ямами и теремами, с нелепием и великолепием, тёмной и неуёмной, с Яузой, и Москвой-рекой, и с Замоскворечьем купно — всё отпустится, всё простится.
— За простоту, за широту, за размах великий, за улыбку ясную и человеческую.
За московскую речь, за говор, за выговор.
За белую стаю московских голубей над червлёным золотом царских теремов, часовенок, башенок, куполов.
А пуще всего за здравый смысл, а также за добродушие.
В Петербурге — съёжишься, в Москве — размякнешь.
И открыл её не Гоголь, не Достоевский, а стремительный, осиянный, озарённый Пушкин.
«Моё! сказал Евгений грозно, И шайка вся сокрылась вдруг»…Шарахнулись в сторону, попятились назад и мёртвые души, и Бесы.
* * *
Прошумело столетие. И снова, в сотый раз, была зима и выпал снег.
Пред полотном Кустодиева замерла восхищенная толпа.
Во все глаза глядела на «Широкую масленицу».
Мела метелица, и в снежном вихре взлетали к небу зелёные, красные, жёлтые, синие, одноцветные, разноцветные, сумасшедшей пестроты шары, надувные морские жители, бенгальские огни, рассыпавшиеся звездным дождём ракеты и фейерверки; заливаясь смехом, с весёлой удалью качались на качелях ядрёные, белотелые, краснощекие, крупитчатые, рассыпчатые молодицы и молодухи, в развевавшихся на ветру сарафанах, платках, шалях.
Захватывая дух, стремглав летели с русских гор игрушечные санки, расписанные суриком, травленые сусальным серебром, а в них в обнимку, друг к дружке прижавшись, уносились вниз счастливые на миг, на век, пары; теснилась, толпилась, притоптывала, плясала, во всю гуляла масленичная толпа, в гуд гудели машины в трактирах, заливалась гармонь, надрывалась шарманка:
Крутится, вертится шар голубой, Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть, Кавалер барышню хочет украсть.И над всем этим кружением, верчением и мельканием, над качелями и каруселями, ларями, шатрами, прилавками и палатками, над толпой, над Москвой, над веселой гульбой, над снежной метелицей, в разрыве, в просвете синего неба церковной синевы, — в меховой высокой шапке, в бобровой шубе, огромный, стройный, ладный, живой, во весь рост стоял в молодой своей славе, российский кумир, языческий бог — Федор Иваныч Шаляпин…
Такой он и был этот северный пролог, написанный Кустодиевым, таким он и остался в памяти.
* * *
Потонувший колокол, завязший в тине? Счастливые годы, счастливые дни? Олеография? Выдумка? Чистая правда?
Всё равно, всё — позади. Сначала пролог. А потом продолжение.
Оставалось следовать за продолжением.
Записаться в сословие, заказать фрак с атласными отворотами, а также медную дощечку с выгравированным стереотипом:
«Помощник Присяжного Поверенного такой-то, часы приёма от 5-ти до 6-ти»; — и пусть так толпой и прут, авось и полного генерала в очереди задавят.
Главное сделано, остальное пустяки: набить газетами новый, приятно пахнущий кожей портфель, и чрез любые ворота — Ильинские, Спасские, Иверские, с деловым видом пройти через Кремлевский двор, мимо Оружейной Палаты, к белому, величавому зданию московских судебных установлений; проглотить слюну и войти.
Швейцаров тьма тьмущая. Улыбаются, но презирают. Груди в медалях, взоры непроницаемые.
Подымаешься по мраморной лестнице, прежде всего — заглянуть в святая святых:
— Митрофаньевский зал.
Здесь по делу игуменьи Митрофании гремел и блистал сам Федор Никифорович Плевако.
Те, кому довелось его слышать, только загадочно пожимали плечами, как бы давая понять, что объяснить всё равно невозможно, и, только после большой паузы, многозначительно роняли:
— Талант, нутро, стихия! С присяжными заседателями делал, что хотел.
Крестьян, мещан, купцов из Замоскворечья, любой серый люд, закоренелый и заскорузлый, мог в бараний рог согнуть, и из камня искры высечь.
Молодые помощники только рты открывали, и шли в буфет.
Съедали ватрушку, и вновь ходили из конца в конец, по длинным коридорам, с портфелем подмышкой, делая вид, что пришли за справкой, по страшно важному делу, которое всё откладывается и откладывается, так как главный свидетель всё время переезжает с места на место, и нет никакой возможности вручить ему повестку.
Это был старый приём и весьма убогий.
Никто этому, конечно, не верил, но в порядке сословной вежливости было принято сочувственно улыбаться и делать вид, что так оно и есть, и что если бы проклятый свидетель не переезжал с места на место, то «дорогой коллега» давно бы уже гремел и блистал в Митрофаньевском и во всех других залах.
Тем более, что коллег было две тысячи с лишним, и все они были криминалисты и, как шекспировский Яго, жаждали крови, убийства на почве ревности, или, в крайнем случае, с целью грабежа.
А патрон, к которому они были приписаны, посылал их к мировым судьям по делу о взыскании 45 рублей по исполнительному листу, да еще просроченному.
О политических защитах и говорить не приходилось.
На министров хотя и покушались, но тоже не каждый день.
За стрельбой по губернаторам ревниво следили великие мира сего. Матерые, знаменитые, уже давно отстрадавшие свой худосочный стаж, настоящие, великолепные, выхоленные присяжные поверенные, сиявшие крахмальными сорочками в вырезах безукоризненного фрака, с лёгкой сединой и львиной осанкой, с тяжёлым чеканного серебра сословным значком с левой стороны, а не с университетской фитюлькой голубой эмали, которой безвкусно злоупотребляли безработные помощники.
От давно устаревшей Лейкинской сатиры, посвящённой Балалайкину, до беспощадных толстовских портретов на процессе Катюши Масловой, да еще с незабываемыми рисунками Пастернака, пробежали не одни только десятилетия.
Перед войной четырнадцатого года одной из неоспоримых российских ценностей был не только глубоко вкоренившийся в жизнь и нравы и стоявший на особой высоте суд, но и поистине высокая, недюжинная, создавшая традицию и в ней окрепшая русская адвокатура.
И когда на лестнице или в коридоре, или в зале заседаний, можно было чуть ли не ежедневно встретить живого Муромцева, Ледницкого, Муравьёва, Н. П. Шубинского, Кистяковского, Измайлова, Малянтовича, Маклакова, Кобякова, князя А. И. Урусова, утомленного деньгами и славой Гольдовского, и сверкающего золотыми очками и золотистой бородкой Н. В. Тесленко, не говоря уже о младших богах Олимпа, то, что грех таить, в душах неоперившихся птенцов, слетевшихся из дальних захолустий, бурлили не только чувства гордости и любви к отечеству, но и особые чувства хвастливого удовлетворения и самоутешения, подкрепленного стихами Тютчева:
«Его призвали всеблагие, Как соучастника на пир»…Попутно надо признаться ещё в одном.
Подражание великим образцам стало своего рода манией.
Говорят, что в расцвете байронизма неумеренные поклонники лорда Байрона подражали ему не столько в поэзии, сколько в манерах и привычках.
Хорошим тоном считалось хмуриться, высокомерно откидывать назад роскошные кудри, презирать толпу, если даже она состояла из одной собственной, оставшейся не у дел старой няньки; а главное хромать, припадая на правую ногу.
Даже в наши гимназические времена, когда монографии Андрэ Моруа и в помине еще не было, весь четвёртый класс, влюблённый в пышную генеральшу Самсонову, едва завидев предмет любви и обожания, как по команде подымал воротники шинелей, и, с выражением решительных самоубийц на розовых мордах, начинал хромать, припадая направо.
Каждому овощу свое время.
Теперь дело шло о будущем, а кто его знает, и удачное подражание могло быть этапом на пути к карьере, своего рода трамплином для счастливого прыжка.
Следует сказать, что все это не носило характера заразы или эпидемии.
Были и такие индивидуалисты, или анархисты, или отщепенцы, которых никакими великими образцами не вдохновишь и не соблазнишь.
Но те, кто подражали, работали во всю.
Так, например, поклонение Анатолию Федоровичу Кони выражалось в том, что молодые усы тщательно выбривались, и бородку опускали от виска до виска во всю ширину.
Получалось нечто вроде персонажей Ибсена, Бьернстэрнэ-Бьернсона, Набоба Баста, Гамсунова лейтенанта Глана в плохом переводе, но во всяком случае не высокочтимого сенатора Кони.
Потом отпускали небольшие бачки, или фавориты, в честь Карабчевского.
Подражать Тесленке было немыслимо и сложно.
Зато небрежная, овальная, не очень тщательная щетинка Маклакова и опущенные вниз усы имели большой успех и немалый тираж.
Были еще и всякие другие попытки в том же роде.
Но увы! Старые, прочитанные газеты по-прежнему продолжали раздувать классический портфель.
Ни губернаторов, ни вице-губернаторов на золотом блюде никто не подносил.
А защиты по назначению, и то больше мелкокалиберные кражи и заурядные мошенничества, давались по очереди, по жеребьёвке, и по доброй воле секретаря Совета Присяжных Поверенных, Калантарова.
Подражатели в конце концов угомонились, переключились на прозу, на неприкрашенную действительность.
Но в анналах уже далёкого прошлого надолго сохранилась шутка неизвестного автора:
Бородка Маклакова, Походка Трубецкого, А толку никакого…* * *
Благожелательный Доброхотов, старый адвокат и старшина сословия, состоявший долголетним председателем Совета, беспомощно разводил руками и отечески выговаривал начинавшей отчаиваться молодёжи:
— Помилуйте, господа! Во-первых, вас слишком много, а во-вторых, все вы помешались на уголовщине. Поверьте мне, что Россия больше нуждается в хороших, честных и грамотных цивилистах, нежели во всех этих непризнанных талантах, которые рвутся в бой, ни к селу ни к городу цитируют Ломброзо и бессмысленно расточают свой юный пыл на каких-то унылых воришек, уличных драчунов и неисправимых рецидивистов.
Одним Уложением о наказаниях жив не будешь!
Говорю вам прямо — читайте десятый том, и лучше всего — по ночам!
А по утрам ходите в суд, но сохрани вас Бог, не в уголовное отделение, а в гражданское. Сидите, слушайте, записывайте, смекайте, и благо вам будет.
По всей вероятности милый человек был прав.
Безграмотны мы были в великой степени, но душа жаждала красоты, каторги, лишения прав, — «и песен небес заменить не могли ей скучные песни земли».
Однако доброхотовским наставлениям в какой-то мере мы всё же уступили и хотя в ночи бессонные, ночи безумные увлекались не столько десятым томом, сколько иными художествами, но на заседания суда по гражданским делам стали ходить всё чаще и чаще.
Помнится, в хмурый, осенний день, по какому-то сложному и запутанному делу о наследственных пошлинах — после обеденного перерыва, уже под вечер, выступал от имени казны почтенный присяжный поверенный Адамов, а интересы наследников представлял наш брат и глубоко свой парень, молодой, нелепый, хотя со стороны прически вполне рыжий, сверстник и приятель, способный, быстрый, напористый Илья Британ.
Небольшого роста, коренастый, близорукий, великий упрямец и отличный говорун, нисколько в криминалисты не стремившийся, а наоборот упорно зубривший этот самый десятый том, и не по доброхотовскому наущению, а по собственной доброй воле и какому-то внутреннему влечению к глоссам, дигестам и всякой казуистике.
Совмещал он в себе много странного, и на первый взгляд несовместимого.
Не удовлетворившись казённым дипломом, блестяще защитил диссертацию и именно по вопросу о наследственных пошлинах, а в свободное время писал на каких-то замусоленных обрывках бумаги или на пожелтевших календарных листках отличные лирические стихи, и считал Иннокентия Анненского первым и единственным поэтом на всю Россию и на весь мир.
Надо полагать, что Окружной Суд всего этого не знал, и когда после деловой, обоснованной и спокойной речи истца Адамова, сановитый, строгий и с виду безучастный товарищ председателя, Донат Адамович Печентковский, предоставил слово представителю ответчиков, Британу, — атмосфера сразу изменилась.
Один вид этого маленького, подвижного, зубастого, и сразу взявшего верхнее «до» молодого помощника, вызвал на лицах судей какое-то раздражительное и полубрезгливое выражение не то скуки, не то недовольства.
А когда бедный Британ своими короткими, веснушчатыми, покрасневшими от волнения пальцами с обгрызанными ногтями, начал вытаскивать из портфеля бесконечные справки, бумажки, вырезки, мелко исписанные листы и угрожающе-объёмистые решения Правительствующего Сената, судейские лица уже и совсем вытянулись, носы заострились, и готовивший свое заключение товарищ прокурора стал явно нервничать.
С гордостью и испугом следили мы за глубоко своим парнем и ходоком.
А он не унимался, говорил, доказывал, ядовито напоминал, что противная сторона придает большее значение гербовому сбору, нежели духу законов, ссылался на одно решение Кассационного Департамента, на другое решение Кассационного Департамента, цитировал Монтескье, требовал экспертизы, размахивал десятым томом, наизусть читал курс нотариального права, долго и горячо декламировал разъяснение Правительствующего Сената по делу Батолина, и по делу о выморочном наследстве купчихи Гаевой, и по делу Воронцова-Вельяминова.
А сумерки все сгущались и сгущались, электрической люстры уже было недостаточно, служитель зажёг свечи на судейском столе, товарищ прокурора то и дело хлопал крышкой от карманных часов, судьи перешёптывались с председательствующим, присяжный поверенный Адамов вздыхал и барабанил пальцами по столу, а судебный пристав, сдержанно сморкался, и лицо у него было серое, и щёки жутко запали.
Но неукротимый Британчик высоко держал знамя, и опять, в который раз, пытался заставить противную сторону, дабы она, противная сторона…
Тут действительный статский советник Печентковский не выдержал и, прервав оратора, внушительно загремел:
— В половине восьмого вечера для Окружного суда обе стороны в одинаковой степени противны!..
Зал разразился дружным хохотом, за взрывом которого никто уже не дослушал заключительной фразы о том, что заседание закрывается и дело и наследственных пошлинах слушанием откладывается.
Так или иначе, а героя дня мы в тот же вечер чествовали, пили красное вино, подымали бокалы, одобрительно хлопали виновника торжества по плечу, а он, сняв запотевшее пенснэ, только лукаво щурил свои близорукие, зелёные глаза и от избытка чувств, по собственному почину, долго и вдохновенно читал стихи Иннокентия Анненского и, остановившись на миг, с увлечением восклицал:
— Чувствуете вы, чорт возьми, как это сказано?!..
Касаться скрипки столько лет, И не узнать при свете струны…Прошло тридцать лет.
— Пустяки…
Во время немецкой оккупации, в одиночной камере военной тюрьмы на улице Шерш-Миди, он писал единственному сыну:
«Дорогой Сашенька, родное дитя!
Завтра меня не будет.
Да послужит тебе утешением только то, что умру я, как жил: чрезвычайно просто. Без позы, без ненужных слов.
О чем я успею подумать в последнюю минуту?
Не знаю.
Вероятно о тебе, о твоей бедной матери.
Больше всего на свете я любил тебя, несчастливую нашу родину, музыку Рахманинова. И еще… русскую литературу, единственную в мире.
Будь честен, будь добр, не будь равнодушен.
Умей любить. Умей ненавидеть.
Я ухожу слишком рано, и не по своей воле.
Может быть, по воле Божьей.
Я обрел Его поздно, но теперь уже навсегда.
Смерти я не страшусь, но боюсь страданий.
Да будет над тобой милость Божья.
И еще: говорю тебе последнюю правду, я люблю жизнь, люблю, люблю! Выхода нет. Жизнь будет отнята. Но с тобой я буду вечно, каждый миг и везде.
В чемодане, в гостинице на Boulevard Murat, находится моя рукопись. Повесть? Роман?.. Я работал над ним много лет. Перешли его в Нью-Йорк, графине Толстой. Хотелось бы кое-что изменить, переделать. Но теперь уже поздно. Пусть напечатают так, как есть.
Возьми на память мои часы. И обручальное кольцо.
Не забывай меня, никогда не забывай, это очень важно — помнить, помнить, всегда, всем, друг друга помнить!»
На следующее утро, во дворе казармы Монруж, в числе девяноста заложников, Илья Британ был расстрелян.
Ни рукописи, ни сына так никогда и не нашли.
Предсмертное письмо, часы, и обручальное кольцо дежурный немецкий офицер вручил госпоже Г., вызванной после казни в военную тюрьму — расписаться в получении сообщения о смерти Британа.
XV
Старожилы говорили, что такого количества снега, как в 1910-м году в ноябре месяце, никто никогда на роду своем не запомнит.
В газетах всё чаще и чаще появлялись тревожные вести из Ясной Поляны.
В редакции «Русских ведомостей», со слов Черткова, Булгакова и доктора Душана Петровича Маковицкого, рассказывали трогательные и печальные подробности об уходе Толстого из дому.
Но, конечно, больше и лучше всех было осведомлено «Русское слово».
Недаром неутомимый Конст. Орлов уже больше года мотался взад и вперед между Москвой и маленькой захолустной, но всему миру известной, железнодорожной станцией в Тульской губернии.
Известно было и то, что сам Толстой, с несвойственным ему добродушием, переносил давние и частые наезды своего непрошенного гостя.
Говорили, что, прочитав однажды в газете несколько строк, написанных Орловым о победе знаменитого в те годы «Крепыша», великий старик пришёл в такой восторг и проявил столь несвойственные ему горячность и волнение, что сам вызвал Орлова к себе и так ему глуховатой скороговоркой и заявил:
— Жаль, что вас не было на свете, когда я описывал Царскосельские скачки! У вас есть, чему поучиться…
С той поры Орлов стал своим человеком в небольшом яснополянском окружении.
В первых числах ноября из патетических сообщений Орлова стало известно, что Толстой нашёлся и что лежит он, тяжело больной, на станции Астапово, и квартире давшего ему приют железнодорожного служащего Озолина.
Несколько часов спустя, глухой, утонувший в снегах полустанок Курской железной дороги сделался центром мирового внимания.
7-го ноября Толстого не стало.
На первой странице «Русского слова», окаймлённой траурной рамкой, было напечатано волнующее, целомудренное, без вычуров и изысков, но полное драматических подробностей описание последних часов и минут того, кого весь мир называл:
— Совестью России.
Запомнились последние строки, которыми заканчивал Орлов свое нелёгкое по заданию и исполнению сообщение:
…«я почтительно склонился перед графиней Софьей Андреевной, и беззвучно поцеловал руку, которая бессчётное число раз переписала, глава за главой, бессмертные страницы «Войны и Мира».
Взволнован был не только весь мир, но и шеф Отдельного корпуса жандармов, генерал Курлов.
В Министерстве Внутренних Дел не на шутку опасались, что похороны Толстого неизбежно превратятся в настоящую революцию.
Железной логики в этих опасениях не было.
Но революции, как известно, управляются не логикой, и, как говорил Ницше, идеи, разрушающие вселенную, приходят походкой голубя.
Во всяком случае, меры были приняты и усиленный отряд казаков в полном боевом порядке был отправлен куда следует.
Но в особенности работал телеграф.
День и ночь из пяти частей света, и изо всех концов России, бежали по замерзшим проводам полные высокого смысла и значения, простые и высокопарные, закруглённые и наивные, академически-торжественные и убого-провинциальные слова, мысли, отклики.
Было в этом разноязычном фольклоре и нечто невыносимое для слуха.
Но тот единственный и, вероятно, неповторимый душевный отзвук, который вызвала смерть Толстого, никакой словесный фольклор уже снизить и умалить не мог.
Случилось так, что автор настоящей хроники, рядовой свидетель истории, оказался в толпе яснополянских паломников.
Член Государственной Думы Д. С. Горшков, редактор кадетского «Голоса юга», прислал из Новограда срочную депешу с настоятельной просьбой добиться пропуска на похороны Толстого, — старый земец хорошо знал, что всё это не так просто.
«Поезжайте заранее, телеграфируйте ежедневно все подробности. Одновременно прошу Сергея Ивановича Варшавского. Криво-Арбатский переулок. Уверен окажет содействие».
Всё остальное произошло с кинематографической быстротой.
Юрисконсульт «Русского слова», приятный, голубоглазый, белокурый Сергей Иванович, улыбнулся, подумал, сообразил, позвонил по телефону, быстро и неразборчиво написал одно письмо, и еще одно, и коротко объяснил:
— Бегите на Тверскую, в редакцию, на третий этаж, к Пономарёву. Он всё устроит. А когда приедете в Астапово, передайте этот конверт Орлову, который, хотя и не спит уже несколько ночей и вообще угрюм и неразговорчив, но с охотой поможет вам, я в этом твердо уверен.
Предположения Сергея Ивановича полностью оправдались. Пономарев познакомил с каким-то молодым человеком нездорового вида с увядшим желтоватым лицом и отвисшей нижней губой.
Молодой человек церемонно представился:
— Ракшанин.
— Очень приятно, всегда читаю ваши статьи в «Русском слове».
Желтоватое лицо сразу порозовело, уши оттопырились, нижняя губа еще более отвисла.
В узких саночках, по дороге на Курский вокзал, всё выяснилось.
Ракшанин не только подражал Дорошевичу, на которого впрочем отдалённо был похож, но при всяком удобном и неудобном случае, с таинственным видом сообщил, что он его, Власа Михайловича, незаконный сын, и что если бы не эта… тут следовало звонкое существительное, актриса Миткевич, на которой знаменитый папаша на старости лет сдуру женился, то он, Ракшанин, мог бы быть помощником редактора, а не хроникёром на затычку…
— Вот и сейчас посылает меня заменить Костю Орлова, который с ног сбился, а сам рябчиков с брусникой уплетает…
Рассказ был неожиданный, биография тоже.
Но по ходу действий, как говорит Зощенко, надо было верить, поддакивать, и с искренним видом соглашаться.
Много лет спустя, когда читал я с немалым удовольствием «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, родословная героев, несмотря на смелость вымысла, казалась уже не только правдоподобной, но в какой-то мере традиционной и преемственно связанной с далёким прошлым.
Конечно, всякому овощу свое время, но от незаконного сына Дорошевича до детей лейтенанта Шмидта шла несомненно прямая линия…
С начальником движения на Курском вокзале Ракшанин держал себя в высокой степени независимо.
Презрительно оттопыривал губу, показывал какой-то открытый лист с печатями градоначальства, почему-то предлагал в случае сомнений, позвонить генералу Дедюлину в Петербург, осторожно намекал на то, что имена железнодорожных деятелей, оказавших содействие будут, само собой разумеется, с благодарностью упомянуты в печати, в отчёте о погребении великого писателя, и в качестве последнего удара, наклонился к самому уху начальника движения и доверительно шепнул:
— Ни я, ни Влас Михайлович услуг не забывают.
Скала не выдержала.
Через несколько минут синие пропуски для представителей печати были выданы, победоносный Ракшанин шел впереди, случайный корреспондент «Голоса юга», соблюдая дистанцию, следовал за ним, а окончательное сближение произошло в переполненном до отказа ночном поезде, — в бесчисленных ходатайствах о дополнительных поездных составах было твёрдо отказано.
По дороге Ракшанин уснул.
Надо было воспользоваться антрактом, собраться с мыслями.
Выйти на обледенелую площадку, подышать чистым морозным воздухом.
Опять это чувство железной дороги. Законная ассоциация идей. Образ Вронского, пальто на красной подкладке; испуганный, молящий, счастливый взгляд Анны; снег, буря, метелица, искры паровоза, летящие в ночь; роман, перевернувший душу, прочитанный на заре юности; смерть Анны, смерть Толстого.
* * *
Зимняя утренняя заря. Станция Астапово.
На боковом пути три вагона — синий, зелёный, товарный буро-коричневого цвета.
В товарном — дубовый гроб.
Тихо, пустынно, безмолвно.
Народу мало.
Толпу паломников высадили на предыдущей станции.
Поодаль, перебегая замерзшие рельсы, суетится кучка фотографов.
У Орлова вид непроницаемый, угрюмый, усы заиндевели, опущены вниз, есть какое-то сходство с Глазуновым, только Орлов куда выше ростом и массивнее.
Ракшанин что-то долго лепечет, а он на него никакого внимания, прочитал письмо Сергея Ивановича, что-то невнятно пробурчал и сразу повёл к синему вагону.
— Ехать недолго, оставайтесь на площадке, внутри семья, не надо беспокоить.
Долго ждали, покуда подали маленький, старенький, почти игрушечный паровозик.
Прицепили вагоны — синий, зеленый, темно-коричневый товарный.
В зелёном приземистый, коренастый исправник; бородатые жандармы, все как на подбор, похожие на Александра Третьего; какие-то военной выправки люди в штатском.
Поезд тронулся.
Всё было неправдоподобно, просто, чинно, бесшумно.
Самые яркие молнии рождаются безгромно.
Мысли, управляющие миром, приходят походкой голубя.
* * *
За версту, другую до Козловой Засеки толпа, народ, мужики в рваных тулупах, бабы из окрестных деревень, люди всякого звания, студенты, конные казаки, курсистки с курсов Герье, безымянные башлыки, чуйки, шубы, — и чем ближе, тем больше, теснее, гуще, и вот уже от края до края одно только человеческое месиво и море, море голов.
Ракшанин вынул записную книжку и послушным карандашом отметил:
— Сотни тысяч.
По сведениям канцелярии Тульского губернатора оказалось на всё по всё — около семи тысяч человек, самое большое.
Надо полагать, что на этот раз истина была на стороне канцелярии.
* * *
И вновь, и в последний раз поезд остановился.
Толпа обнажила головы. Все, как надо.
Запечатлелась в памяти статная фигура младшего из сыновей, синеглазого Ильи Львовича.
Он первым вышел из вагона и, подав руку графине-матери, бережно помог ей сойти на землю.
У Софьи Андреевны было серое, одутловатое лицо с сильно выступавшими скулами и мясистым подбородком.
За траурной вуалью глаз не было видно.
Она опиралась на какую-то странной формы палку с кожаным треугольником посередине.
— Это походная, складная скамеечка, принадлежавшая покойному, — тихо пояснил Орлов.
Вслед за графиней вышли Татьяна Львовна, Александра Львовна, Сергей Львович, больше всех похожий на отца, Андрей Львович, Михаил Львович.
Появился Чертков, которого легко было узнать по запомнившемуся портрету в «Ниве».
Из товарного вагона подняли гроб яснополянские мужики и толпа послушно двинулась за ними по направлению к усадьбе.
Распоряжался всем, неизвестно кем поставленный и неизвестно кого представлявший, неизменный московский распорядитель Иван Иванович Попов, человек в золотых очках и с рыжей бородой, удивительно похожей на листовой табак, приклеенной к подбородку.
Был он членом Художественного кружка, может быть, и старшиной и одним из основателей, зла никому не делал, а знаменит был тем, что четко произносил только гласные, а негласные совсем по-особенному и на свой манер.
Нисколько его этот речевой недостаток не смущал и, когда он говорил о «шенском теле», то все отлично понимали, что речь шла о «Женском деле», иллюстрированном еженедельнике дамских мод и передовых идей, редактором коего он состоял.
Но, очевидно, обладал он тем, что принято называть общественной жилкой, и считался, вероятно, по заслугам, чуткой натурой, откликавшейся на всё высокое и прекрасное.
Справедливость требует, однако, сказать, что, несмотря на некоторую суетливость, справлялся Иван Иваныч со своей неожиданной и ответственной ролью весьма тактично, а в какой-то момент замешательств, когда надо было уломать или урезонить казачьего полковника Адрианова, командовавшего отрядом, оказался и совсем на высоте.
* * *
Шли долго, шли молча.
Всё вокруг было бело, тихо, не по-театральному торжественно.
Ворота яснополянского парка раскрыты настежь и меж двух колонн из красного кирпича открывалась широкая, длинная, уходившая вдаль липовая аллея.
Об этой аллее, о знаменитой на весь мир, — восемьсот десятин с лишним, — родовой усадьбе, об огромном, непомерно разросшемся вширь барском доме с террасами и пристройками, из которого три недели назад, в холодную октябрьскую ночь, ушел — в снег, в степь, в смерть — старый граф Лев Николаевич, — написано немало томов и монографий.
Писали Бунин, Чехов, Горький.
В меру положенного старались Чертков, Бирюков, Булгаков.
Грешили мемуарами родные и близкие.
Не в меру усердствовал шумный Сергеенко.
А о малых сих и говорить нечего.
И невольно приходили на ум дерзкие, не полагавшиеся по штатам, по табели о рангах, мысли.
— И ведь всё это писалось при жизни. Что ж будет теперь?!
Бутада напрашивалась сама собой:
— Если б мы знали всё, что будут о нас говорить, когда нас не будет, — нас бы уже давно не было.
* * *
К самому дому никого не пускали.
Было сказано, что желающие поклониться праху усопшего, — будут допущены один за другим, по очереди, когда всё будет устроено и налажено.
Студенты двойным кольцом окружили дом, и с хмурым достоинством держали цепь.
Толпа терпеливо ждала, расходясь по аллеям, по дорожкам, разбивалась на кучки, переминалась с ноги на ногу, притоптывала, уминала валенками, сапогами, хрустящий, подмерзавший снег, но постепенно уменьшалась, таяла, многим было невмоготу, люди замёрзли, устали.
Многие, не дождавшись очереди, разъехались, разошлись, особенно крестьяне из окрестных деревень, пришедшие издалека, иногда за много вёрст.
Ракшанин пронюхал, что приехал скульптор Меркулов, будет маску снимать, но бояться, что поздно, надо было думать раньше.
Самое время, воспользовавшись перерывом, бегом бежать на станцию, отправить телеграмму Дмитрию Степановичу Горшкову, в «Голос юга».
* * *
Еще прошли какие-то часы.
Стало смеркаться.
В доме зажгли огни.
Иван Иваныч Попов что-то шептал на ухо начальнику цепи, долговязому студенту в верблюжьем башлыке.
Цепь расступилась.
Угрюмый наш ангел-хранитель, все тот же Орлов, воистину от щедрот своих, проявлял отеческое попечение.
Растолкал кого нужно, взял за руку, и повёл.
Тяжёлая дубовая крышка была снята.
В гробу лежал сухонький старичок, в просторной, казавшейся на взгляд жёсткой, серой блузе; характерный, выпуклый, отполированный смертью лоб, и сравнительно маленькое, уже восковое лицо, окаймлённое не той могучей и изобильной, внушавшей священный страх и трепет, струящейся бородой жреца и пророка, как на знаменитом портрете Репина, а шёлковой, редкой, почти прозрачной, тонковолосой, сужавшейся книзу, не бородой, а бородкой, цвета потемневшего серебра, или олова.
Выражение лица не суровое, скорее тихое, мирное, покойное.
Только брови, густые, темные, нависшие еще как-то напоминали гиганта, иконоборца, громовержца.
Тёмные, запавшие, глубоко зияющие ноздри. Широкие, крепкие, не старческие руки плотно сжаты, соединены одна с другой, пониже груди, у самого пояса.
Ног не видно.
Стоять долго нельзя. Взглянуть, запомнить, запечатлеть в душе, в сердце, в памяти, унести, сохранить навсегда — образ единственный, неповторимый.
Как всюду, как всегда, горят, оплывают свечи.
Ни молитв, ни обрядов не будет.
По указу Святейшего Правительствующего Синода отлученному от церкви — Анафема во веки веков.
* * *
Прошла ночь. Утро. Полдень.
В глубине яснополянского парка, меж четырех дубов, на том самом месте, где, как сказано в «Детстве и Отрочестве», по клятвенному уговору Муравьиных братьев, была зарыта зелёная палочка, — открытая могила, длиной в три аршина.
Ибо — «Сколько же человеку земли нужно?»
Пополудни, в ранних сумерках, на большой поляне, пред могилою, вплотную придвинувшись к четырём дубам, — все та же огромная безмолвная толпа.
А поодаль, на пригорке, на фоне высоких, зелёных, заиндевелых елей и сосен, полукольцом окружив полянку, молодцеватые, на конях казаки.
Шинели, шапки, винтовки за плечом, шашки вдоль бедра, нагайки за поясом, — стена, власть, сила.
Стоят не шелохнутся, только кони фыркают порой.
И ползут, густеют туманы зимние, и пахнет в воздухе хвоей, кожей, крепким лошадиным потом.
Идут, — расступитесь!
За гробом Софья Андреевна Толстая, дочери, сыновья, доктор Душан Петрович, — остальные медленно шагают сбоку, чуть в стороне, а имён и лиц — нет, не упомнишь.
Дошли. Остановились.
Замерли все, сколько нас было.
И когда сырая, чёрная, холодная земля приняла в себя прах Толстого, — многотысячная толпа, как один человек, опустилась на колени и, обнажив головы, запела Вечную память.
Тени сгущались, росли, синели, синим туманом заволакивали мир, Россию, полянку.
И все, что было, — казалось мифом, легендой, преданием.
И в душе была успокоенная буря, усталое, земное умиротворение.
— Ходите в свете, пока есть свет!..
* * *
В крестьянских санях, выложенных соломой, вёз нас к поезду, на Козлову Засеку, худой яснополянский мужик с косматой бородкой, с прозрачными, Врубелевскими, голубой воды глазами.
— Ну, что небось жалко графа? Такого второго, чай, больше не будет? — слащаво подделываясь под стиль и говор, старался выжать последнее интервью ненасытившийся Ракшанин.
— Ну, как сказать… Оно, конечно, того… всем помирать надо. А только, как сказать, тоже и нам обида большая вышла… потому обещалась графиня на упокой души по три рубля… как сказать, на душу, на человека выдать. А теперь, вишь, главный ихний приказчик созвал сход, злая рота, и по полтиннику на рыло так и растыкал и… как сказать… больше ни гроша не дал.
И мужик с досады даже сплюнул в сторону, и ткнул кнутовищем рыжую свою клячу.
Ракшанин вынул записную книжку и опять стал что-то чёркать и записывать.
В поезде встретили Орлова, и Ракшанин с нескрываемым возмущением рассказал о своём хождении в народ.
Орлов насупился, с минуту помолчал, и угрюмо буркнул:
— А вы что ж думали? Тысячу лет подряд по горло в снегу сидеть, кислой чёрной мякиной животы вздувать, и в один прекрасный день из курной избы так прямо, без пересадки, в серафимы выйти?!
И с неожиданной мягкостью и грустью добавил:
— Гению Толстого я поклонялся, но толстовцем никогда не был, и в скоропалительное мужицкое преображение тоже не верил. И вообще все это не так просто, и в одно «интервью» его не уложишь.
Колеса звякали, стучали, громыхали, катились по замёрзшим рельсам, по русской широкой колее.
…Спустя несколько месяцев после смерти Толстого студенты Казанского университета вырыли в университетском парке берёзку и бережно пересадили её на могилу Толстого.
Старик-сторож, очень этому сочувствовал, напутствовал молодых садоводов простыми словами:
— Хорошо придумали! Берёзка вырастет, станет шуршать листьями над могилою, а корнями к усопшему дотянется… Это упокойничку как мило!..
XVI
Московский зимний сезон был в полном разгаре.
В Большом Театре шла «Майская ночь» Римского-Корсакова.
«Рогнеда» и «Вражья сила» Серова.
Не сходил со сцены «Князь Игорь».
Носили на руках Нежданову.
Встречали овациями Шаляпина, Собинова, Дмитрия Смирнова.
Эмиль Купер в каком-то легендарном фраке, сшитом в Париже, блистал за дирижёрским пультом, то морщился, то пыжился и, в ответ на аплодисменты кланялся только в сторону пустой царской ложи.
Спектакли оперы сменялись балетом.
«Лебединое озеро», «Жизель», «Коппелия», «Конек-Горбунок» — не сходили с афиш.
Екатерина Гельцер, про которую даже заядлые балетоманы умильно говорили, цитируя стихи Игоря Северянина:
«Она, увы! уже не молода, Но как-то трогательно, странно — моложава»,— продолжала делать полные сборы, держала зал в восторге и волнении, и со столь беспомощной грацией склонялась и падала на мускулистые руки молодых корифеев, то Жукова, то Новикова, что вызовам не было конца.
А когда танцевала русскую, чтоб не уступить Преображенской, поражавшей Петербург, то знатоки говорили:
— Вот видите, не хуже ее на пятачке танцует!
Пятачок был, разумеется, символом и означал, что настоящая балерина может всю гамму своего искусства развернуть и показать на столь ничтожном пространстве, что его можно и на пятачке уместить.
Потрясали сердца Вера Коралли и сталелитейный, пружинистый Мордкин в «Жизели».
И всё же лавры Петербургского балета не давали спать московским примадоннам, и не им одним.
«Умирающий лебедь» в исполнении Павловой считался шедевром непревзойдённым, а те, кто видел Кшесинскую в «Коппелии», считали, что настоящим балетоманам место не в Москве, а в Петербурге.
Грызли ногти и молодые корифеи.
Уже творил чудеса Сергей Павлович Дягилев, и всходила на невском небосклоне новая звезда — Вацлав Нижинский.
Свет ее был ослепителен, и сияния невиданного.
Но, волнуя сердца и ослепляя взоры, он и сам горел синим пламенем, беспощадным и испепеляющим.
В ореоле молодой славы, в воздушной лёгкости движений и полётов, в отрыве от земли, во всём этом безмерном вознесении — была какая-то мечта и обречённость.
Недаром сказано:
Не так ли я, сосуд скудельный, Дерзаю на запретный путь, Стихии чуждой, запредельной, Стремясь хоть каплю зачерпнуть?!В словах Фета был не только эпиграф, в них была и эпитафия.
«Дерзаю на запретный путь» — таково было предназначение Нижинского.
Бессмертные боги дерзания не прощают.
Красота есть вызов, совершенство есть посягательство.
Расплата придет позже, в расцвете лет, молодости, славы.
В швейцарском санатории, в доме для умалишённых.
Огненный Прометей, сырой, жёлтый, обрюзгший и ожиревший, вообразит, что он лошадь, великолепная, породистая, молодая лошадь, — и в квадрате больничной камеры, обитой войлоком, будет носиться в безудержном галопе, закусывать удила, скакать, лететь, брать барьеры, и опрокидывать изгороди, и в полном изнеможении, с пеной у рта, припадать к железной оконной решётке, в бессознательной надежде, что холод железа успокоит воспалённый мозг.
Десять лет вдохновения, тридцать лет безумия.
Освободительница смерть, как всегда, опоздает.
Она придет в 1950-м году.
* * *
Балашова, Гельцер.
Испивший элексир молодости Горский.
Половецкие пляски. Павильон Армиды.
Языческий стан и классический мир.
Огни рампы.
Огни императорского балета.
Есть чем насытить взор, усладить душу горькой усладой.
Ибо «Поздно мелют мельницы богов», и бессмертные боги имеют обыкновение, чем сильнее хотят они наказать род человеческий за всяческие преступления его, тем дольше длят они безнаказанный праздник; чтобы из внезапной перемены вещей и обстоятельств еще страшнее и неожиданнее разразилась олимпийская кара.
А выгравировано это на латинской меди — в «Записках Цезаря о Галльской войне».
И с юных лет усвоено.
И на протяжении последующих десятилетий проверено и оправдано.
* * *
В Малом Театре царил Южин-Сумбатов.
«Измена». «Старый закал». «Соколы и Вороны». «Женитьба Белугина». «Свадьба Кречинского».
Старый, престарый, слегка уже молью траченый, но всегда себя оправдывавший репертуар.
И, конечно, Островский, Островский, Островский.
«Не в свои сани не садись».
«Бешеные деньги».
«Без вины виноватые». «Гроза». «Бесприданница».
И «Лес», «Лес», «Лес»!
С К. Н. Рыбаковым, игравшим Геннадия Демьяныча, с Осипом Андреевичем Правдиным в роли Аркашки, с Ольгой Осиповной Садовской — помещицей Гурмыжской, с первым любовником, молодым кумиром, стройным как тросточка, В. В. Максимовым.
В Малом Театре и чин, и лад.
И лад, и ладан.
Старина, причуды, предания.
Традиции и обычаи; ни раскола, ни своевольства.
В фойе портреты в золотых рамах, а на них вязью написано:
— Рыбаков, Николай Хрисанфович.
— Щепкин, Михаил Семёнович.
— Садовский, Пров Михайлович.
А на сцене, в парче, в бархате, в чепцах с наколками, а то и в ситцевом, иль в кисеях с оборками, живые, настоящие, на пьедестале стоящие, к толпе снисходящие, дородные, благородные — Федотова, Ермолова, Лешковская, Яблочкина.
И в зале тоже не выскочки, не декаденты, не вчерашнего дня люди, а вся первая гильдия, московская и замоскворецкая, именитое купечество и чиновный мир, и уезд и губерния, и лицеист — раковая шейка — в мундирах, при шпагах, и из институтов для благородных девиц розовые барышни во всём крахмальном.
И даже в четвёртом ярусе, и на галлереях, и на боковках, — не жужжат, не галдят, а в четверть голоса разговаривают, друг дружке на ушко шепчут, в кулачок хихикают, непрошеные слезы кружевным комочком, носовым платочком тихо утирают.
А в антрактах военные перед пустой царской ложей на вытяжку стоят, ни за что ни один в кресло не сядет.
Что и говорить. Не ярмарка, не балаган, а храм искусства, прочная постройка, крепость, не крепость, а всё-таки цитадель.
* * *
— В Большом были? И в Малом были? А у Незлобина не были? И у Зимина не были? И у Корша тоже? И Сабурова не видали?
Трудно провинциалу на московский размах сразу переключиться.
Не угонишься за всем, не поспеешь.
Вот у Зимина, в театре Солодовникова, в декорациях Сапунова «Чио-Чио-Сан» идёт.
Не опера, а дорогая безделушка, из архивов выкопанная, сам маэстро Пуччини во дни молодости написал.
Рецензенты с ума сходят, одни превозносят, другие язвят, а маэстро афишу пятый месяц держит, и всё аншлаг, аншлаг, аншлаг.
У Незлобина тоже, за пятнадцать дней вперёд все продано. Барышники шкуру дерут, а публика всё равно валом валит.
Для Москвы новинка.
Никто раньше не додумался, а Федор Федорович Коммиссаржевский додумался.
«Принцессу Турандот» Карло Гоцци так приспособил, так по-новому освежил и поставил, таким лёгким дыханием согрел и оживил, что сам Петр Ярцев, самый зловредный из театральных критиков, из Санкт-Петербурга на один вечер, на первое представление приехал, а потом целую неделю из театра не выходил, и всем руки жал — и Коммиссаржевскому, и Рудницкому, и старику Незлобину, а пуще всех принцессе Турандот.
* * *
Успех родит успех.
После «Турандот» — «Псиша» Беляева.
Которого почему-то называли Юрочка Беляев.
Хотя было ему сорок лет, и числились за ним и романы, и комедии, и «Сестры Шнейдер», и нашумевшая «Дама из Торжка», и многие другие «брызги пера», острого и неизменно талантливого.
Играла «Псишу» В. Ф. Юренева, когда-то ранившая сердца молодых новороссийских студентов.
А. Р. Кугель писал однажды:
«Отчего таким особым и благородным блеском горят и переливаются обыкновенные подделки, стекляшки, и побрякушки на бутафорском ожерельи актрисы?»
И сам же и пояснял:
«Оттого, что из тысячи устремленных на лицедейку глаз, из глубины расширенных, прищуренных, всепоглощающих зрачков, из всего этого многоокого, напряжённого зрительного зала исходит такое марево, такая ненасытная, жадная и соборная теплота, что поддельные, бутафорские стекляшки вбирают её в себя, и пьют её, и выпивают и, загораясь блеском драгоценных бриллиантов, возвращают этот блеск в тёмный театральный зал и зал его взволнованно принимает, ибо и пьеса, и героиня, и ожерелье на шее — принадлежат ему».
И вновь, задевая воланами полукруглый выступ суфлёрской будки, выходила на вызовы любимица богов и любовь поколения, окружённая венками и розами, оранжерейными розами, уже тронутыми московским снегом, и беспомощно, всегда беспомощно! разводя руками — отдаю вам всё, что имею! — устремляла в рукоплещущее море свой мечтательный, затуманенный увлаженный взгляд.
За Юрием Беляевым следовал Осип Дымов.
«Псишу» сменяла «Ню», петербургская драма, поставленная Мамонтовым в лёгких коричневых вуалях и шелках.
И всё в этой драме было нарочито и стилизовано, и вуали, и интонации, и словесное кружево придушенных, затемнённых реплик и монологов, в которых всё было отвлечённо, анемично, надуманно, лишено жизни и страсти, но для обманутого слуха, в каком-то неожиданном смысле ласкательно и приятно.
В течение скольких еще недель и месяцев, и сезонов, с упоением повторяли потом снобы и эстеты, законодатели преходящих мод, эту загадочную, неживую, вычурную фразу, вложенную в уста томного героя и произносимую нараспев, и с нечеловеческими паузами:
«Я слышу, как проносятся крылья Времени… Время… Die Zeit… Le Temps…»
А между тем Дымов был человек одаренный, талантливый, и в своё время немало обещавший.
Книга рассказов его, «Солнцеворот», несмотря на тот же вычур и погоню за фразой, была встречена, как некоторый залог если и не преувеличенных, то всё же немалых и милых надежд.
Знатоки и профессиональные критики утверждают, что надежды эти не оправдались.
Восторг перед собственной темой, лихорадочный, припадочный подход к задуманному, но еще не осуществлённому, отнимал столько творческих сил, что на самое осуществление, создание, претворение — сил уже не хватало.
Толстой признавался, что писал не из головы, а из сердца.
Но когда писал, то чувствовал сердечный холодок.
Так или иначе, а с отъездом из России литературная карьера Дымова пошла зигзагами, и не по предсказанному ему пути.
Он и сам это чувствовал и понимал.
В 1922-м, 1923-м году, во время частых встреч с ним в Нью-Йорке, казалось, что он ещё как-то бодрился, сам себя убеждал и взвинчивал, уверял, что все эти драмы и мелодрамы, которые шли в это время во второстепенных американских театрах, хотя и с Аллой Назимовой и с Баратовым, что все это так, больше по необходимости, и для денег, а то, что для души, то есть самое важное и главное — всё это еще впереди, и мы еще повоюем, и я им еще докажу! И прочее…
Кому это — им, так и осталось невыясненным.
Потом сразу скисал, мрачно теребил густые, темные, не по-мопассановски подстриженные усы, и, размякнув от нескольких глотков запрещённой, а посему подававшейся в кофейных чашках отвратительной самодельной водки, как бы стесняясь и стыдясь, и с неподдельной грустью в голосе спрашивал:
— А помните в Москве?.. Какой успех имела моя «Ню»!
И сейчас же расплывался в улыбку, услышав подсказанный сочувствием не то ответ, не то реплику:
— Как же не помнить?
«Я слышу, как проносятся крылья Времени… Время… Die Zeit… Le Temps…»
* * *
В Каретном ряду еще театр, по тогдашней терминологии тоже передовой, «Свободный театр» Марджанова.
В Репертуаре Стриндберг, Ибсен, Лопе-де-Вега, Кальдерон.
А вперемежку, чтоб дать зрителю дух перевести — «Весенний поток» и «Мечта любви» Косоротова.
И еще нашумевшая «Желтая кофта», и в ней, в главной роли Н. П. Асланов, перешедший от Незлобина, где в приспособленном для сцены «Идиоте» Достоевского играл он князя Мышкина, и так играл, что не только стяжал себе лавры неоспоримые, но и в весе ежевечерне терял фунт без малого.
Что, по уверению знаменитого московского психиатра Н. Н. Баженова, являлось настоящим вкладом в искусство.
— Какой же это вклад, когда человек худеет на глазах публики?
Но Баженов не сдавался:
— Худеет, потому что перевоплощается. В роль входит. Не играет, а переживает.
И в качестве примера и доказательства добавлял:
— Видали вы дервишей, факиров, флагеллянтов, индусских жрецов, заклинателей змей, колдунов, шаманов, или, зачем далеко ходить, наших собственных хлыстов, российских кликуш, когда они впадают в транс, приходят в исступление, и, синея и зеленея, трясутся всем телом, в том самом состоянии священного ужаса, которое и есть самопожертвование, отказ, освобождение от бремени естества, выполнение миссии, то есть иначе говоря, настоящее, подлинное вдохновение?!
Импровизированная лекция происходит в антракте, в театральном буфете.
На следующий день, уже вся литературная и театральная Москва наизусть знает диагноз Баженова, и слава Н. П. Асланова утверждается навсегда.
Встреча с Николаем Петровичем произойдет позже, но уже не у Марджанова, и не в Москве, а в бродячем театрике Евелинова, в Берлинской «Карусели», на Kurfürstendamm…
В Свободном театре блистали Полевицкая, Н. М. Радин, один из сыновей Мариуса Мариусовича Петипа, актёр большого класса и высокого дарования.
Начинала свою карьеру прелестная, женственная Наталия Лисенко.
И будущий халиф на час, идол и жертва театральных психопаток, герой европейского экрана, создавший ходульный, но привлекательный лубок «Мишеля Строгова», докатившийся до Холливуда и скончавшийся от туберкулёза, промотав небольшой талант, сумасшедший успех и сожженную алкоголем молодость, зеленоглазый, белокурый Иван Мозжухин.
* * *
Из Каретного ряда на Большую Дмитровку в Богословский переулок, в театр Корша.
Ни изысков, ни стилизаций, ни упадочного типа бледнолицых девушек с губами вампиров и с чёлкой на лбу.
Ни томных, безгрудных, двояковогнутых молодых людей, не отбывавших воинской повинности, но всегда декламирующих и всегда нараспев, и непременно что-то заумное, сверхумное —
Пусть будет то, чего не бывает, Никогда не бывает!..а если не из Гиппиус, то просто из Льва Никулина, который поставлял, бедняга, всей этой поджарой своре эротические поэмки без конца и начала, написанные в нетрезвом бреду, в «Алатре», пред самым рассветом.
Нет, всё было как на ладони, честно, просто, отчётливо в стареньком театре в Богословском переулке.
У Федора Адамовича Корша, из московских немцев, обрусевших с незапамятных времен, пищеварение было отличное, мировоззрение ясное, рукопожатие осторожное.
К этому прибавить: пожилые, но розовые щёчки; почтенную прилизанную плешь; и глазки острые и пронзающие.
Верил он в вечный репертуар, в вечные ценности, и в бенефис старого суфлера ставил «Велизария».
Столпом дела считал Андрея Иваныча Чарина, отличного актера старой школы, ведшего свою родословную от Геннадия Демьяныча Несчастливцева, от Судьбинина, от Орлова-Чужбинина.
Чарин обладал низким, грудным басом, значительные реплики подавал зловещим шопотом, а сдобную, молодую энженю Нину Валову так душил в объятиях и так швырял на пыльный ковер, что в конце концов женился на ней, а посажённым отцом был сам Федор Адамович.
Жили они недалеко от Малой Козихи, в Сытинском переулке, любили принимать, устраивали «четверги», и народу перебывало у них не мало.
После энной рюмки Андрей Иваныч доставал с этажерки номер «Русского слова» и начинал вслух читать фельетон Дорошевича, которого был усердным поклонником.
— Послушайте, как это сказано.
И низкой своей октавой продолжал:
«В Духов день земля именинница»…
Сказано было действительно хорошо, но нижний фельетон был на шесть колонок, а главное, его уже все читали.
Но Чарин не сдавался, требовал мёртвой тишины, и, когда надо было, а может и не надо, переходил на свой знаменитый зловещий шопот.
А еще любил он показывать свой гардероб, и в особенности коллекцию жилетов, к которым питал настоящую и нескрываемую слабость.
— У актёра должно быть тридцать жилетов, иначе это не актёр, а прощалыга! А у меня, батюшка, пятьдесят семь, и то не хватает…
И с увлечением вытаскивал на середину комнаты какие-то неуёмные, старомодные, хлипкие чемоданы, и представление начиналось:
— Чёрный, атласный, пуговицы чистого перламутра, с опаловым переливом.
— Малинового бархата, на байке стёганный.
— Парадный купеческий, зелёного плюша, с разводами.
— Белый муаровый, под кружевное жабо, для фрака.
— Канареечного цвета, чистый кастор, пуговицы настоящей бирюзы… Прошу потрогать.
И Андрей Иваныч заливался таким милым, задушевным смехом, что ни у кого духу не хватало остановить этот великий показ, равнодушно пройти мимо этого изобилия цветов и красок, в котором своеобразно, но искренно сказывалась какая-то особая, языческая страсть к переодеванию, к зрелищу, ко всему тому, что с легкой руки Н. Н. Евреинова стали называть:
— Театрализацией жизни.
* * *
От Коршевского «Велизария» до опереточного Никитского театра, что и говорить, дистанция огромного размера.
У антрепренёра Евелинова красно-лиловый нос, в груди не сердце, а динамо-машина, пальцы на пухлых руках короткие, проекты и желания грандиозные.
Приехал из провинции, чудом каким-то или напором, в один год создал дело, звериным чутьём учуял будущую славу, и из задорной, забавной, шаловливой Потопчиной, напевавшей песенки и танцевавшей качучу, создал, сотворил настоящую звезду, из ряда выдающуюся опереточную примадонну.
И пошла писать губерния!
Зазвонили «Корневильские колокола», защебетали «Птички певчие», а вслед за «Нищим студентом» и «Цыганским бароном» появилась «Весёлая вдова» и «Сильва».
Потопчина превзошла самоё себя, делала полные сборы, собирала всю Москву, притоптывала каблучками, танцевала венгерку, отделывала чардаш, уносилась в вальсах, щёлкала серебряными шпорами в «Мамзель Нитуш», заражала зал смехом и весельем в «Дочери мадам Анго» и, насмешливо вторила жалобам тенора:
Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь…До рокового, 1914-го года не покидала афиш «Весёлая вдова».
Но так как Франц Легар по тщательном расследовании оказался подданным Франца-Иосифа, то вдову с сожалением сняли с репертуара.
Зато все четыре года войны, — истории не переделаешь и не поправишь! — прошли под знаком «Сильвы», которую при всех обстоятельствах распевал ошалелый тыл.
А кончилась ее карьера только тогда, когда на смену гнилой западной оперетке пришло из недр земли здоровое народное творчество и, несясь курносой, безмордой лавиной, хором запели революционные матросы:
Эх, яблочко, куда ты котишься, На «Алмаз» попадёшь, не воротишься…* * *
Провинциалы — народ крепкий и упрямый, — носятся как угорелые из одного храма искусства в другой, стоят в очередях, на морозе мёрзнут, афиши на зубок знают, и — год прошёл, не оглянешься — чувствуют себя неотъемлемой, неотделимой частью великодержавной, древней Москвы.
А она, Москва, широко и не ревниво всё объемлет, всех приемлет, меховой своей рукавицей снисходительно по плечу похлопывает — вали, брат, на Сенькин широкий двор, на Коломенскую дорогу, на Бородинское поле!
Татарскую орду и ту выдержала, шляхту польскую вон изрыгнула, от грошёвой свечки под Бонапартом сгорела, — не положено ей уезд, да провинцию за заставы гнать.
Столичные афиши были почти исчерпаны.
В Камерном, на Тверском бульваре, мистерия за мистерией.
Котурны, маски, жертвенники.
Всё в хитонах, в туниках, а то и в саванах.
Алиса Коонен три акта Шарля ван-Лерберга замогильным голосом на одной ноте декламирует, о законном браке слышать не хочет.
А Таиров все уговаривает, да уговаривает, и все под музыку.
И так до конца — туники, саваны, духота, томление, безнадёжность полная.
Ночь в Крыму, все в дыму, ничего не видно…
А театр набит битком.
И бледнолицые барышни и эстеты в страшном восторге, потрясены, и аплодируют.
О, пусть будет то, чего не бывает, Никогда не бывает…* * *
У Сабурова — ни туник, ни хитонов.
На занавесе написано:
«Лучше смех, чем слёзы».
Каждый вечер французский фарс в переводе Бинштока.
С самого начала всё ясно.
Первый любовник в одних исподних, героиня в кружевном халате, и только счастливый супруг в хорошо сшитом фраке.
Супруг — член английского клуба, и всю ночь напролёт играет в баккара!
Но, забыв чековую книжку, невзначай возвращается домой, и долго возится с ключом в замочной скважине.
Заслышав возню, господин в исподних срочно прячется в большой шкаф, а героиня делает страшные глаза и притворяется спящей.
Все было бы хорошо, если б любовник не кашлял.
Но либо он, чорт, простужен, либо в шкафу нафталин.
Супруг в цилиндре входит на цыпочках, супруга спит, а тот кашляет.
Зал гогочет, фарс грозит превратиться в трагедию, но положение спасает прехорошенькая горничная в кружевной наколке.
Барин, хотя и идиот, но пощекотать горничную не дурак.
Все кончается вполне благополучно, а Грановская, несмотря на вопиющую пошлость и пьесы и роли, совершенно бесподобна.
Умна, женственна, грациозна, лукава, и одному Богу известно, что её, как птичку в золотой клетке, годами держит в Сабуровском фарсе?
Один из лучших знатоков театра, А. Р. Кугель, писал в «Театре и искусстве»:
«Грановская это жемчужина в навозной куче. Ей бы играть хозяйку гостиницы в пьесе Гольдони, или продавщицу цветов в «Пигмалионе» Шоу, или даже Розину в «Севильском цирюльнике», а её, бедняжку, в корсет Поль-де-Кока тискают и дышать не дают»…
* * *
Обозрение театров приближалось к концу.
Апофеоз был в Камергерском переулке.
Камергерский переулок — Художественный театр.
Театр Станиславского, театр Немировича-Данченко.
Об этом написаны трактаты, мемуары, воспоминания, фолианты.
Поколение, которое доживает век, еще до сих пор ничего не забыло.
И, когда за чашкой зарубежного чая, собираются вместе в тесный, с каждым годом редеющий кружок, где-нибудь в Париже, в Нью-Йорке, в Рио-де-Жанейро, в чорта на рогах, то то и дело слышишь:
— А помните в «Дяде Ване» удаляющуюся тройку и колокольчики за стеной?
— А как Артём на гитаре тренькал?
— А старика Фирса помните?
— А «На дне» Горького, помните, как говорил Барон, лёжа на нарах, — в карете прошлого далеко не уедешь!
Как он это говорил!
— А кто играл Вершинина в «Трех сёстрах»?
— Ну, Станиславский, конечно!
— Разве можно забыть, как он напевал вполголоса «Любви все возрасты покорны…»
— А молодые поручики в белых кителях, Федотик и Родэ?.. Целовали ручки, щелкали фотографическим аппаратом и всех снимали на память.
И полк уходил из города, и издали доносились звуки военного марша, и постепенно замирали, замирали…
— А помните, как играл Станиславский князя Обрезкова в «Живом трупе»?
— А Лилину помните?
— В большой гостиной, где диваны и кресла из карельской березы и всё обито вялым лиловым шелком?
— А Москвин — Федя Протасов?
— Помните, как он лежал на тахте, закрыв лицо руками, а цыгане пели «Эх, не вечерняя, не вечерняя заря»?
— А как Качалов играл набоба Баста «У жизни в лапах»?
— А кто помнит Москвина в роли Федора Иоанновича? «Я царь, или не царь?!»
— А как он изображал Кота в «Синей птице»!
— В черных бархатных сапогах, и такой ласковый, ласковый, и голос сладкий и вкрадчивый, а как был загримирован?!
— Помните, усы? Три волоска, как в струну вытянуты, и длинные-предлинные, три с правой стороны, и три с левой!
— А «Miserere» помните? И музыку Ильи Саца?
— А в «Вишнёвом саду» декорации Добужинского?
— А «Месяц в деревне»?
— Зеленую лужайку, залитую солнцем. И легкие, белые занавески на окнах, которые от ветра колышатся?
— И Вишневский в роли Бориса Годунова?
— А актрисы, актрисы? Книппер, Германова, Коренева?
— А Ликкиардопуло, непременный грек, поэт, советчик, переводчик?
— А кто, господа, помнит, как чествовали Чехова?
— И как ему было стыдно и неловко. И как он, бедный, снимал пенснэ, пожимал руки, и покашливал?
— А как приезжал этот самый Гордон Крэг, и хотя и англичанин, а всё время облизывался от восторга?
— А Сураварди? Верный индус Камергерского переулка? Который привозил живого Рабиндраната Тагора, прямо из Индии в Художественный кружок?
— А помните? Помните? Помните?
Чай давно простыл и, несмотря на сладость воспоминаний, чувствовалась потребность в эпилоге.
— Притворяться нечего, все равно это новое поколение, идущее на смену, начиная от ловчил и доставал, вышколенных комсомольской муштрой, и кончая ватагой новоиспеченных французов, американцев и иных иностранных подданных, всё равно, молодое поколение усмехнётся, как полагается.
— Усмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом…Извиняться, однако, не будем, оправдываться не станем.
А в эпилоге воспоминаний были, всего-навсего, серые ботики Качалова…
Кто знал Москву описываемых лет, тот подтвердит, и на суде покажет.
Так велико было поклонение, так неумеренно обожание, что толпой выходила молодёжь, по преимуществу женская, в одиннадцатом часу утра на Кузнецкий мост, и терпеливо ждала.
Ибо известно было, что утреннюю свою прогулку, от Петровки до Лубянки, вверх по Кузнецкому, и по правой стороне обязательно, Василий Иванович Качалов совершает в начале одиннадцатого, а потом по Петровке, мимо кондитерской Эйнема и большого цветочного магазина, сворачивает в Камергерский, на репетицию.
Ну, вот, и ждали.
И дождавшись, шли за ним.
За полубогом в меховой шапке, в серых ботиках, в отличной шубе.
На лошадях он не ездил, выпрягать было нечего.
Стало быть, ходить шаг за шагом, и хоть на приличном расстоянии, но всё же в сиянии исходящем от полубога лучей, в ореоле немеркнущей всероссийской славы.
Качалов все это знал, терпел, и, как уверяли девушки, даже улыбался порой.
Пролетали сани, то вверх по Кузнецкому мосту, то вниз. Скрипел снег под ногами.
«Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»…
И шагал он в серых своих ботиках, о которых на закате дней, еще до сих пор вспоминают со вздохом пожилые психопатки, а, может быть, и не психопатки, а неисправимые, чудесные, русские дуры, вечные курсистки, сохранившие в душе ненужную молодость и благодарную любовь.
Каждой эпохе свой кумир.
Кому — Буденный, кому — Качалов.
Изменить не изменишь, а меняться не станем.
И, усмехнувшись иной усмешкой, повторим вслед за Игорем Северяниным:
Пусть это всё — игрушки, пустяки. Никчемное, ненужное, пустое. Что до того! Дни были так легки, И в них таилось нечто дорогое…* * *
Москва жила полной жизнью.
Мостилась, строилась, разрасталась.
Тянулась к новому, невиданному, небывалому.
Но блистательной старины своей ни за что не отдавала и от прошлого отказаться никак не могла.
С любопытством глядела на редкие, лакированные автомобили, припёршие из-за границы.
А сама выезжала в просторных широкоместных каретах, неслась на тройках, на голубках, а особое пристрастие питала к лихачам у Страстного монастыря, против которых как устоишь, не поддашься соблазну?
— Пожа-пожалте, барин! С Дмитрием поезжайте! Во как прокачу, довольны будете!
И все, как на подбор, крепкие, рослые, молодцеватые, кудрявые, бороды лопатой, глаза искры мечут, на головных уборах павлиньи пёрышки радугой переливаются, а наг синем армяке, на вате стёганом, в складках, в фалдах, серебряным набором в поясе перехваченном, такого нашито, намотано, наворочено, что только диву даёшься и сразу уважение чувствуешь.
Мережковский и Гершензон уж на что друг друга терпеть не могли, а в этом определении без спору сошлись.
Вот именно так, и никак не иначе:
— Византийский зад московских кучеров!
После этого и всё остальное яснее становится.
И Сандуновские бани в Неглинном проезде, где на третьей полке паром парят, крепким веником по бедрам хлопают, и из деревянной шайки крутым кипятком поливают, и выводят агнца во столько-то пудов весом, под ручки придерживая, и кладут его на тахту, на льняные простыни, под перинки пухлые, и квасу с изюминкой целый жбан подносят, чтоб отпить изволили, охладились малость, душу Господу невзначай не отдали.
И трактир Соловьева яснее ясного в Охотном ряду, с парой чаю на чистой скатерти, с половыми в белых рубахах с косым воротом, красный поясок о двух кистях, узлом завязанный, а уж угождать мастера, ножкой шаркать, в пояс кланяться, никакое сердце не выдержит, последний подлец медяшки не пожалеет.
Долго, степенно, никуда не торопясь, не спеша бессмысленно, а в свое удовольствие пьют богатыри извозчики, лихачи и троечники, и тяжёлые ломовики-грузчики.
Полотенчиком пот утирают, и дальше пьют, из стакана в блюдечко наливают, всей растопыренной пятернёй на весу держат, дуют, причмокивают, сладко крякают.
А в углу, под окном, фикус чахнет, и машина гудит, жалобно надрывается.
— Восток? Византия? Третий Рим Мережковского?
Или Державинская ода из забытой хрестоматии:
Богоподобная царевна Киргиз-кайсацкия орды…А от Соловьева рукой подать, в Метрополь пройти, — от кайсацких орд только и осталось, что бифштекс по-татарски, из сырого мяса с мелко-нарубленным луком, чёрным перцем поперченный.
А все остальное Европа, Запад, фру-фру.
Лакеи в красных фраках с золотыми эполетами: метрдотели, как один человек, в председатели совета министров просятся; во льду шампанское, с жёлтыми наклейками, прямо из Реймса, от Моэта и Шандона, от Мумма, от Редерера, от вдовы Клико, навеки вдовствующей.
А в оркестре уже танго играют.
Иван Алексеевич Бунин, насупив брови, мрачно прислушивается, пророчески на ходу роняет:
— Помяните мое слово, это добром не кончится!..
Через год-два, так оно и будет.
Слишком хорошо жили.
Или, как говорил Чехов:
— А как пили! А как ели! И какие были либералы!..
А покуда что, живи вовсю, там видно будет.
Один сезон, другой сезон.
Круговорот. Смена.
Антрактов никаких.
В Благородном Собрании музыка, музыка, каждый вечер концерт.
Из Петербурга приехал Ауэр.
Рояль фабрики Бехштейна. У рояля Есипова.
Играют Лядова, Метнера, Ляпунов.
К Чайковскому возвращаются, как к первой любви.
Клянутся не забыть, а тянутся к Рахманинову.
В большой моде романсы Глиэра.
Раздражает, но волнует Скрябин.
Знатный петербургский гость, солист Его Величества, дирижирует оркестром Зилоти.
Устраивает «Музыкальные выставки» Дейша-Сионицкая.
Успехом для избранных пользуется «Дом песни» Олениной-д-Альгейм.
Через пятнадцать лет избранные переедут в Париж, а студия Олениной-д-Альгейм водворится в Passy, в маленьком особнячке, на улице Faustin-Helie.
Театр, балет, музыка.
Художественные выставки, вернисажи.
Третьяковская галлерея, Румянцевский музей, коллекции Щукина, — все это преодолено, отдано, гостям, приезжим, разинувшим рот провинциалам, коричневым епархиалкам, институтам благородных девиц под водительством непроницаемых наставниц в старомодных шляпках, с шифром на груди.
На смену пришел «Мир искусства», журнал и выставка молодых, новых, отважившихся, дерзнувших и дерзающих.
Вокруг них шум, спор, витии, «кипит словесная война».
Академические каноны опровергнуты.
Олимпу не по себе.
Новые созвездия на потрясённом небосклоне.
Рерих. Сомов. Стеллецкий. Сапунов.
Судейкин. Анисфельд. Арапов.
Петров-Водкин. Малютин.
Миллиоти. Машков. Кончаловский.
Наталья Гончарова. Юон. Ларионов.
Серов недавно умер, но обаяние его живо.
Есть поколения, которым непочтительность не к лицу.
Продолжают поклоняться Врубелю.
Похлопывают по плечу Константина Коровина.
Почитают Бенуа.
А еще больше Бакста.
Написанный им портрет Чехова уже принадлежит прошлому.
Теперь он живет в Париже, и в альманахах «Мира искусства» печатаются эскизы, декорации к «Пизанелле» Габриеле д-Аннунцио.
В постановке Мейерхольда, с Идой Рубинштейн в главной роли…
Чудак был Козьма Прутков, презрительно возгласив, что нельзя объять необъятное.
И не только необъятное можно объять, а и послесловие к нему.
Вроде возникших в пику уже не многоуважаемой Третьяковской галлерее, а самому «Миру искусства» — футуристических выставок, где процветали братья Бурлюки, каждый с моноклем, и задиры страшные.
А Москва и это прощала.
Забавлялась недолго и добродушно забывала.
Назывались выставки звонко и без претензий.
«Пощечина общественному вкусу».
«Иду на вы».
И «Ослиный хвост».
Во всем этом шумном выступлении была, главным образом, ставка на скандал, откровенная реклама, и немалое самолюбование.
Все остальное было безнадежной мазней, от которой и следа не осталось.
Но литературному футуризму выставки эти службу, однако, сослужили, явившись своего рода трамплином для будущих «свободных трибун», диспутов и публичных истерик.
Называли Бурлюков — братья-разбойники, но в арестантские роты своевременно не отдали, благодаря чему один из них благополучно эмигрировал в Нью-Йорк и в течение нескольких лет скучно лаял на страницах большевистского «Русского голоса», прославляя военный коммунизм и охаивая голодную эмиграцию.
Однако вернуться на советскую родину не пожелал, предпочитая носить свой революционный монокль в стране акул и свиных королей.
«Ослиный хвост» бесславно погиб.
Внимание москвичей на мгновение привлек приехавший из Швейцарии Жак Далькроза, выступивший с публичной лекцией по вопросу весьма насущному и для русской общественной жизни действительно неотложному.
«Ритмическое воспитание молодежи».
Лекция имела огромный успех, почему — до сих пор неизвестно.
Тема была во всех смыслах актуальная.
Ибо российская молодежь была, как известно, всем избалована, привилегированные классы — теннисом и крикетом, и исстрадавшиеся низы — стрельбой из рогатки и чехардой.
Но ритма, конечно, не хватало.
Устами Жака Далькроза античная Эллада заклинала Варварку и Якиманку скинуть тулупы и валенки, и босиком, в легких древнегреческих хитонах, под звуки свирели, начать учиться плавным, музыкальным движениям, хоровому началу и танцу.
Все это было в высшей степени увлекательно и настолько заразительно и почтенно, что после отъезда швейцарского новатора, в Москве и Петербурге и даже в глухой далекой провинции возникла настоящая эпидемия ритмической гимнастики, и те самые светлые девушки, которые задумчиво стояли на распутье, не зная куда им идти — на зубоврачебные курсы или на драматические, сразу все поняли, и, стремглав, пошли в босоножки.
А тут, как будто все было условлено заранее, на крыльях европейской славы прилетела Айседора Дункан.
На мощный, мускулистый, англосаксонский торс наугад были накинуты кисейные покровы, дымчатая вуаль и облачко легкого газа.
Под звуки черного рояля поплыло облачко по театральному небу, понеслась величественная босоножка по московской сцене, то воздевая к солнцу молитвенно протянутые руки, то, припав на одно колено, натягивала невидимый глазу лук, то, угрожая погрузиться в бездну, спасаясь от любострастных преследований самого Юпитера.
После греческой мифологии был вальс Шопена.
Потом траурный марш Бетховена.
Испанские танцы Мошковского сменили Скерцо Брамса.
А за сюитой Грига последовал «Умирающий лебедь», по поводу которого сатирическая «Стрекоза» неуважительно писала:
«Артистка ограничилась одним лебедем, в то время как при ее темпераменте и телосложении, она смело могла бы заполнить собой все Лебединое озеро целиком»…
Публика, однако, была потрясена.
Московский успех затмил все, до той поры виденное.
И хотя поклонники классических традиций кисло улыбались, а присяжные балетоманы обиженно куксились и пожимали плечами, подавляющее, прилежное большинство пало ниц, и вернуть его к действительности было немыслимо.
Но все это было ничто, по сравнению с успехом петербургским.
Аким Волынский неистовствовал.
Андрей Левинсон разразился таким панегириком, что, спустя несколько лет, сам не решился включать его в свой сборник статей, посвященных танцу.
А трогательный горбун, целомудренный Горнфельд, талантливый и очень сдержанный литературный критик, откровенно признавался на страницах «Речи», что искусство Айседоры Дункан настолько совершенно, что чуткому зрителю даже аплодировать непристойно, ибо только слезами умиления может выразить он свой беспредельный восторг…
Кто мог предвидеть, что через десять лет после первого российского триумфа последует второй? И что принимать и приветствовать Айседору будет народный комиссар Луначарский.
И не в слезах умиления, а в пьяном бреду склонится перед постаревшей босоножкой буйная русая голова Сергея Есенина?
Сахарный паренек в голубенькой косоворотке увезет Ниобею за океан.
И после медового месяца в оплаченной Ниобеей «Астории» беспощадно изобьет ее и искалечит.
И не в состоянии объяснить свою нечеловеческую страсть и деревенскую любовь на высокомерном английском наречии, обложит ее непереводимой русской балладой, тряхнет кудрями русыми, и поплывет назад, в колхоз, в глушь, в Саратов.
Недаром декламировал Бальмонт, по этому ль, по другому ль поводу:
Не кляните, мудрые! Что вам до меня? Я ведь только облачко, полное огня. Я ведь только облачко… Видите — плыву. И зову мечтателей. Вас я не зову…Так оно и вышло, почти по Бальмонту. Прилетело облачко, налетел мечтатель.
А хохотал и скалил ослепительные зубы, один Ветлугин, которого, остановившись в Берлине, Есенин пригласил на роли гида и переводчика на все время морганатического брака.
Хохотал потому, что автору «Записок мерзавца» вообще и всегда все было смешно.
А еще потому, вероятно, что по-английски он и сам не смыслил, и значит опять надул, а доехать в каюте первого класса до недосягаемых берегов Америки, да за чужой счет, да еще в столь теплой, хотя и противоестественной компании, — это, сами согласитесь, не каждый день и не со всеми случается.
* * *
Все, чем жила писательская, театральная, и музыкальная Москва, находило немедленный отзвук, это и отражение — в огромном раскидистом особняке купцов Востряковых, что на Большой Дмитровке, где помещался Литературно-художественный кружок, являвшийся тем несомненным магнитным полюсом, к которому восходили и от него же в разные стороны направлялись все центробежные и центростремительные силы, определяемые безвкусным стереотипом представителей, деятелей, жрецов искусства.
Кружком управлял совет старшин, скорее напоминавший Директорию.
Из недр этой директории и вышел Первый Консул, Валерий Брюсов.
Оказалось, что у первого консула есть не только имя, но и отчество, и что именуют его, как и всех смертных, то есть, по имени-отчеству, то есть Валерий Яковлевич.
Для непосвященного уха звучало это каким-то оскорбительным упрощением, снижением.
Низведение с высот Парнаса на обыкновенный, дубовый, просто натертый полотерами, паркет.
А как же сияние, ореол, аура, золотой лавровый венок вокруг мраморного чела?
И разве не ему, Валерию Брюсову, посвящены эти чеканные строки Вячеслава Иванова, который, хотя тоже оказался Вячеславом Ивановичем, но по крайней мере пребывание имел в Башне из Слоновой кости, где, окружённый толпою раскаявшихся весталок, так и начертал в своем знаменитом послании:
Мы два грозой зажженных ствола, Два пламени полунощного бора. Мы два в ночи летящих метеора, Одной судьбы двужалая стрела!А на поверку оказывается, что Брюсовы хотя и ведут свой род от Брюса и Фаренгейта, но на самом-то деле старые москвичи, домовладельцы и купцы второй гильдии.
Вот тебе и двужалая стрела.
Одной убогой справкой больше, одной иллюзией меньше.
Пришлось помириться на том, что, по определению Бальмонта, у Брюсова все-таки не обыкновенное, а настоящее лицо нераскаявшегося каторжника, надменно, и в бледности своей обрамленное жёсткой, черной, слегка тронутой проседью, бородой; зато высокий лоб и красные, неестественно красные губы… вампира.
Вампир… — в этом всё же была какая-то уступка романтическому максимализму, который во что бы то ни стало требовал творимой легенды, а не прозаической биографии.
А ведь вот, от Ивана Алексеевича Бунина никто ничего не требовал.
Ни бледного мраморного чела, ни олимпийского сияния.
Проза его была целомудренна, горячей мыслью выношена, сердечным холодом охлаждена, беспощадным лезвием отточена.
Все воедино собрано, все лишнее отброшено, в жертву прекрасному принесено красивое, и вплоть до запятых — ни позы, ни лжи.
Не случайно, и не без горечи и зависти, уронил Куприн:
— Он, как чистый спирт в девяносто градусов; его, чтоб пить, надо еще во как водой разбавить!
Но Брюсов, помилуйте! — Цевницы, гробницы, наложницы, наяды и сирены, козлоногие фавны, кентавры, отравительницы колодцев, суккубы, в каждой строке грехопадение, в каждом четверостишии свальный грех, — и все пифии, пифии, пифии…
А ведь какой успех, какое поклонение, какие толпы учеников, перипатетиков, обожателей, подражателей и молодых эротоманов, не говоря уже о вечных спутницах, об этих самых «молодых девушках, не лишенных дарования», писавших письма бисерным почерком и на четырех страницах, просивших принять, выслушать, посоветовать и, если можно, позволить принести тетрадку стихов о любви и самоубийстве…
Одна из самых талантливых, Надежда Львова, не только добилась совета и высокого покровительства, но, исчерпав всю гамму авторских надежд, которым в какой-то мере суждено было осуществиться, проникновенно и поздно поняла, что человеческие и женские иллюзии не осуществляются никогда.
Что-то было непоправимо оскорблено и попрано.
В расцвете лет она покончила с собой, книжка стихов, которая называлась «Вечная сказка», вышла вторым посмертным изданием.
О молодой жертве поговорили сначала шопотом, потом все громче и откровеннее.
Потом наступило молчание.
Потом пришло и забвение.
* * *
Поклонение Брюсову было, однако, прочным и длительным.
Из поэтической школы его, где стихи чеканились, как монеты, а эмоции сердца считались признаком отсталости и архаизма, и где священным лозунгом были презрительно брошенные сроки:
Быть может, всё есть только средство Для звонко-певучих стихов!..Из школы этой вышло немало манерных последователей и несколько несомненных, хотя и изуродованных дарований.
Скабичевского уже не было в живых, почтенный Стасюлевич тоже умер, не успев опубликовать своей папской буллы и предать анафеме шумных и посягнувших на традицию еретиков.
Львов-Рогачевский и Пётр Коган, хотя и считались присяжными критиками и цензорами литературных мод в «Мире Божьем» и в «Русском богатстве», но в усердной преданности своей кто — марксизму, кто — народной воле, — до всего этого парнасского колдовства и волхования не снисходили, и от символистов, декадентов, акмеистов и имажинистов, кубистов и футуристов, отгораживались высокой стеной.
И только умнейший, прозорливый и обладавший редким слухом Ю. И. Айхенвальд правды не убоялся, и так во всеуслышание и заявил:
— Не талант, а преодоление бездарности!
Формула относилась и к властителю дум, и к усердствовавшим ученикам.
Многие съёжились и постепенно стали отходить на старые пушкинские позиции.
А талантливый, бесцеремонный, чуть-чуть разухабистый Корней Чуковский и еще подлил масла в огонь.
«Конечно нельзя отрицать, — писал он в «Свободных мыслях» Василевского (Не-буквы), — версификаторы дошли до точки и многие из них, как в Крыловском луке, достигли пределов изысканности и вычурного совершенства.
Но из лука уже стрелять нельзя, стоит натянуть тетиву, как весь он трещит и распадается на мелкие части.
А ужас в том и заключается, что кто ж теперь в этой необъятной России не пишет гладких стихов?!
От Белого моря до Черного — ни одной корявой строчки, хоть со свечой ищи, не найдешь.
Всё правильно, и всё по стандарту.
А поэзии и в помине нет».
* * *
Как сейчас помнится:
У входа в большой зал, на площадке мраморной лестницы, опершись головой о дверной косяк, в застывшей, неудобной, упрямой позе, стоит властитель дум и, еле улыбаясь, принимает гостей.
В Литературно-художественном кружке большой вечер.
Из Парижа приехал Поль Фор, принц поэтов.
Все притворяются, что знают принца чуть не с колыбели.
На самом деле никто о нем понятия не имеет.
Ни князь А. И. Сумбатов-Южин, который, быстро пожав руку хозяину, виноватой походкой проходит прямо в игорный зал.
Ни молодой Найденов, скромно стоящий и счастливый: «Дети Ванюшина» в сотый раз подряд идут у Корша, и публика и критика захлебываются от восторга.
Семенит, шаркая ножками, со всеми здоровается, всех ласково приветствует милейший, добрейший, благосклоннейший, слегка пунцовый Юлий Алексеевич Бунин, брат Ивана Алексеевича, старшина клуба.
Массивный, светлоглазый, окружённый дамами, проходит Илья Сургучёв, автор «Осенних скрипок», многозначительно поглаживает полумефистофельскую бородку и как улыбается, как улыбается!..
Дальше — больше.
Что ни человек, то толстый журнал, или Альманах «Шиповника», или сборник «Знания» в зелёной обложке.
Арцыбашев, Телешов, Иван Рукавишников.
Алексей Толстой об руку с Наталией Крандиевской.
Сергей Кречетов с женой, актрисой Рындиной.
Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины.
Осип Андреич Правдин, обязательный кружковский заседатель.
Рыжебородый Ив. Ив. Попов.
Морозовы, Мамонтовы, Бахрушины, Рябушинские, Тарасовы, Грибовы, — всё это московское, просвещенное купечество, на всё откликающееся, щедро дающее, когда угодно и на что угодно — на Художественный театр, на Румянцевский музей, на «Освобождение» Струве, на «Искру» Плеханова, на памятник Гоголю, на землетрясение в Мессине.
Молодая, краснощёкая, пышущая здоровьем, еще только вступающая в жизнь и на Парнас, Марина Цветаева, которую величают Царь-девица.
Летит, сломя голову, в полинявшей визитке, в полосатых брючках, худосочный, подвижной, безобидный, болтливый, всех и всё знающий наизусть, близорукий, милый, застольный чтец-декламатор, Владимир Евграфович Ермилов.
Непременный член присутствия, Николай Николаевич Баженов, не успевший переодеться, и так и приехавший со скачек, в сером рединготе и с серым котелком подмышкой.
Молодой, блестящий, в остроумии непревзойденный, про которого еще Дорошевич говорил, — расточитель богатств, — театральный рецензент «Русского слова», Александр Койранский.
Старый москвич и старый журналист, В. Гиляровский, по прозвищу дядя Гиляй.
И за ними целая ватага молодых, начинающих, ревнующих, соревнующих, поэтов, литераторов, художников, актеров, а главным образом, присяжных поверенных и бесчисленных, надеющихся, неунывающих «помприсповов».
Декольтированные дамы, в мехах, в кружевах, в накидках, усердные посетительницы первых представлений балета, оперы, драмы, комедии, не пропускающие ни одного вернисажа, ни одного благотворительного базара, ни одного литературного события, от юбилея до похорон включительно.
Но им и сам бог велел принимать, чествовать приехавшего из Парижа, из города-светоча, из столицы мира — напомаженного, прилизанного, расчесанного на пробор, хлипкого, щуплого, неубедительного, но наверное гениального, ибо коронованного в Cafe des Lilas, принца поэтов, Поля Фора.
Толпа проплыла, прошла, проследовала.
Брюсов покинул дверной косяк, медленно вошёл в притихший зал, сел на председательское место, поднял колокольчик, звонить не стал, — и так поймут.
И глухим голосом, приятно картавя и, конечно, нараспев, как будто в сотый раз читал разинувшим рот ученикам:
Я раб, и был рабом покорным Прекраснейшей из всех цариц…представил Москве высокого гостя.
Гость улыбался, хотя ничего не понимал.
Потом и сам стал читать.
И тоже картавя, но по-иному, по-своему.
Москва аплодировала, приветствовала, одобряла, хотя не столько слушала стихи, сколько разглядывала напомаженный пробор, черные усики и пуговицы на жилете.
Потом, когда первая часть была кончена и был объявлен антракт, все сразу задвигали стульями и искренно обрадовались, кроме самого Брюсова, который хмурился и смотрел куда-то вдаль, поверх толпы, поверх декольтированных дам и братьев-писателей.
После антракта толпа в зале сильно поредела, зато огромное помещение кружковского ресторана наполнилось до отказа.
«Пир» Платона длился, как известно, недолго.
Ужин в особняке на Большой Дмитровке продолжался до самого утра.
Хлопали пробки, в большом почёте было красное вино Удельного Ведомства. Подавали на серебряных блюдах холодную осетрину под хреном; появился из игорной комнаты утомлённый Сумбатов, и стал вкусно и чинно закусывать.
О Принце поэтов и думать забыли, и только один Баженов на жеманный вопрос какой-то декольтированной московской Венеры, — как вам, Николай Николаевич, понравились стихи господина Фора? Правда, прелестно? — непринужденно ответил:
— Ну, что вам сказать, дорогая, божественная! Конечно, понравились. По этому поводу еще у Некрасова сказано:
А ситцы всё французские, Собачьей кровью крашены…Цитата имела большой успех, ибо метко определила не то что неуважение к знатному иностранцу, или неодобрение к попытке «сближения между Востоком и Западом», а то манерное, нарочитое и надуманное, что сквозило во всей этой холодной, отвлеченной и не доходившей до внутреннего слуха и глаза, постановке, автором которой был не столько бедный Поль Фор, сколько самоуверенный и недоступный Каменный Гость великолепнейший Валерий Брюсов.
* * *
Кружились дни, летели месяцы, проходили годы.
О влиянии литературы на жизнь писались статьи, читались рефераты, устраивались дискуссии.
«Хождение по мукам» Алексея Толстого еще только вынашивалось и созревало в каких-то лабиринтах души, в мозговых извилинах, входившего в известность автора.
Роман, в котором, как в кривом зеркале, отразится обречённая эпоха предвоенных лет, будет написан много позже, то в лихорадочных вспышках раздраженного вдохновения, то в с перерывами и вразвалку, между припадками мигреней, с ментоловыми компрессами вокруг знаменитой шевелюры, и отдохновительными антрактами на берегу океана, в Sables d’Olonne, где еще не ведая и не предвидя грядущей придворной славы и зернистой икры, ненасытное воображение питалось лишь скудными образами первой эмиграции, а неуёмный кишечник — общедоступными лангустами под холодным майонезом.
А эпоха, которой будет посвящена первая часть романа, развертывалась вовсю, — в великой путанице балов, театров, симфонических концертов и всего острее — в отравном и ядовитом и нездоровом дыхании литературных мод, изысков, помешательств и увлечений.
Десятилетия спустя, за редкими, малыми, счастливыми исключениями, ничто не выдержит напора времени, беспощадного суда отрезвевшего поколения, неизбежной переоценки ценностей, и просто здравого смысла.
Кого соблазнят, увлекут, уведут за собой в волшебный бор, на зеленый луг, в блаженную страну за далью непогоды, — все эти Навьи Чары и Чавьи Нары, первозданные Лиллит, шуты, которых звали Экко, герцоги Лоренцо и из пальца высосанные Франчески, вся эта сологубовщина и андреевщина, увенчанная «Чортовой куклой» Зинаиды Гиппиус, и задрапированной в плащ неизвестной фигурой, которая годы подряд стояла на пороге и называлась — Некто в сером?!
Кто будет прогуливать козу в лесную поросль для сладкого греха?
Капризно требовать, настаивать, твердить:
О, закрой свои бледные ноги…Увлекаться Сергеевым-Ценским, спокойно уверявшим, что «у нее было лицо, как улица»?
Кто помнит рассказы Чулкова, стихи Балтрушайтиса, поэмы Маринетти в переводе Давида Бурлюка?
А ведь все это были только цветочки, ягодки были впереди.
В Политехническом Музее изо дня в день судили то «Катерину Ивановну» то «Анфису».
О «Василии Фивейском» спорили до хрипоты.
В мраморном дворце Рябушинского, который назывался «Черный лебедь», — только и всего! — выпито было море шампанского по случаю выхода в свет первого номера «Золотого руна».
А в Руне врали вруны всего света, как чётко выразился Влас Дорошевич.
Арцыбашевского «Санина» уже давно переболели, на очереди был новый роман — «У последней черты».
А за чертой двойным взводом стояли доценты, референты, критики, докладчики, дискуссия в полном ходу, слово принадлежит профессору Арабажину, а Арабажин и в ус не дует, разъезжает из города в город, из Петербурга в Москву, из Москвы в Харьков, из Харькова в Курск, и всё разрешает проблемы пола по Вейнингеру, по Фрейду, по последним произведениям Михаила Петровича Арцыбашева.
Тут и «Бездна» Андреева, и «Слаще яда» Федора Сологуба, и «Двадцать шесть и одна» Максима Горького, вали всё в кучу, там видно будет! А публика валом валит, друг другу в затылок дышит, смакует, переживает. — Да здравствует свободный человек на свободной земле!..
Не успели отдышаться, является Иван Рукавишников прямо с Волги.
Роман называется «Проклятый род».
Опять тех же щей, да пожиже лей.
Услада, сумасшествие, радость обреченности, предназначение, мойра, фатум, судьба.
Самолюбование, самоуничижение, самосожжение, хованщина.
То было оскудение дворянское, теперь оскудение купеческое.
Все вымрут, все погибнут, и ты, и я, и весь Проклятый род, и все пятьдесят две губернии, до последней волости включительно!
И оттого так пьяно и весело, и должно быть пришлась по вкусу горькая услада, ибо опять дискуссии, опять захлёбываются.
Кругом одни упадочники, утонченники, и все нараспев декламируют, профанируют, цитируют, растлевают.
То Андрея Белого, то Зиновьеву-Аннибал, а пуще всего «Незнакомку» и стихи о Прекрасной Даме, в которых еще и намека нет на грядущее послесловие, на заключительный аккорд, на последнюю поэму, которая будет называться:
— «Двенадцать».И напрасно в многоуважаемом Обществе любителей Российской словесности старики Градовский, Грузинский, Батюшков, Венгеров и Хирьяков с Гольцевым и Ашешовым, стараются спасти вечные ценности.
— Долой пожилую немощь, синедрион мудрецов, советы старейшин!
— Вывести из стойла Пегаса, застоявшегося коня, оседлать и вознестись на воздуси, к Бурлюкам, к бурлакам, к «Облаку в штанах», к Желтой кофте Маяковского, к тому, что не бывает, никогда не бывает!
А тут еще в суматохе-неразберихе в придачу, заблудившись между Христом и Антихристом, великий красногубый грешник с прозрачными глазами, прочитавший всю Публичную Библиотеку, и наизусть знающий и Четьи-Минеи и полное собрание сочинений Баркова, второй год подряд печатает свой исторический роман — Дмитрий Сергеевич Мережковский.
Роман называется «Александр I».
Всё, как полагается: ангелы, архангелы, юродивые, скопцы, масоны, мистики, гвардейские офицеры, Антихрист-Буонапарте, а в следующем томе восстание декабристов, первая революция.
Есть разгуляться где на воле!
С Господом Богом обращение либеральное и гибкости непревзойденной. По началу сказано:
— Несть власти, аще не от Бога.
И Бог Мережковского благославляет самодержавие.
Сто страниц печатного текста корявым пальцем отслюнить, а на сто первой, не дальше, Господь благославляет восстание, революцию, анархию, баррикады.
«И смущенные народы не знают, что начать — ложиться спать или вставать».
В Религиозно-философском обществе смущение.
Путаница в умах, в облаках, в святцах.
И так будет еще тридцать лет подряд.
Вплоть до целования руки Начальнику Государства, Пилсудскому.
Потом — Светлому дуче Бенито Муссолини.
И, наконец, гениальному фюреру, под самый занавес.
Соблазнитель малых сих, великий лжец и одаренный словоблуд, в одиночестве, в презрении, в забвении, дожив до глубокой опозоренной старости, умрёт в Париже, в самый канун освобождения.
* * *
Что же было еще? «В те баснословные годы»?
Читали Чирикова.
Тепло и без дискуссий принимали Бориса Зайцева.
Иван Шмелев написал своего «Человека из ресторана».
Приветствовали, умилялись.
Тоже не знали, чем эта писательская карьера кончится.
Потом узнали…
Струёй свежего воздуха потянуло от Бунинского «Суходола».
Появился «Хромой барин» Алексея Толстого.
Пользовался немалым успехом нарочито сентиментальный, чуть-чуть слащавый «Гранатовый браслет» Куприна.
Читали, перечитывали, учили наизусть стихи Анны Ахматовой.
Не мало спорили, переживали, обсуждали нашумевший роман В. Ропшина «То, чего не было».
На тему, становившуюся срочной, модной и неотложной:
— Революционное убийство и человеческая совесть.
В романе были захватывающего интереса, отлично написанные главы — московское вооруженное восстание, экспроприация в Фонарном переулке, баррикады на Пресне.
От Ропшина — опять к Андрееву, к «Сашке Жигулеву», к буйству, к лихости прославленного комаринского мужичка.
Прозревать еще никто не прозрел, но суровую, нелицеприятную правду сказал об Андрееве, все тот же единственный, недавно покинувший мир, Лев Николаевич Толстой.
— Он пугает, а мне не страшно.
И от всего, что он написал, останется один небольшой рассказ, называется «Ангелочек».
— На которого, — в обожании и в восторге, глядели во все глаза бедные прачкины дети.
А только беда была в том, что в прачечной стояла адова жара.
А ангелочек был из воска, и от жару и пару начал таять и таять.
И вот и вовсе исчез, растаял.
И дети до того убивались, до того горько плакали.
* * *
Восторг, успех, слава, поклонение, обожание, — все приходило и уходило, «за приливом — отлив, за отливом — прибой», как сказано было в стихах, скромно подписанных вынужденными инициалами — П.Я.
Из далёкой ссылки приходили и печатались то в «Русском богатстве», то в общедоступном и любовно сделанном миролюбовском «Журнале для всех», его стихи и переводы из Сюллю-Прюдома и Бодлэра.
Молодые люди брюсовской школы, декламировавшие нараспев, сразу наложили сектантский запрет и безапелляционно заявили, что поэт он никакой.
Спорить с ними никто не стал, но не было ни одной студенческой вечеринки, ни одного более или менее значительного эстрадного выступления, на которых стихи П.Я. не вызывали бы бури аплодисментов.
Благодарность поколения относилась не к чеканности и музыкальной форме, которых, может быть, и не хватало вдумчивому и искреннему автору, старому революционеру Якубовичу-Мельшину.
Но в том, что он писал, было столько не модной по тому времени честности, человечности и чистоты, что воспринималась эта редкая гамма не избалованным внешним слухом, а иным чутьём и иным, внутренним слухом еще не окончательно порабощённых сердец.
Мы пройдём. И другие пройдут, вместо нас, С кровью чистой и свежей, в которой не раз Благородная вспыхнет отвага. Поколенья идут, как волна за волной, За приливом отлив, за отливом прибой, И в бессменном их беге — их благо.Что и говорить, в «Золотом руне», в «Аполлоне», в «Весах», в альманахах «Шиповника», и в иных, бесконечных журналах и сборниках, отмеченных штампом крайнего модернизма и украшенных концовками Судейкина и Сапунова, печатали конечно не Якубовича-Мельшина, а Михаила Кузмина, Николая Гумилева, Максимилиана Волошина, Сергея Кречетова, Бориса Садовского, Мариэтту Шагинян, Анну Ахматову и даже таких давно и вероятно навсегда забытых молодых поэтов, как Яков Годин, Эдуард Багрицкий, Димитрий Цензор, Сергей Клычков, Семен Рубанович и иных, и прочих, имя им легион.
Ни в хрестоматию, ни в антологию они не вошли, а такого литературного департамента, в который можно было бы подать жалобу о несправедливом забвении, даже и в советской республике не придумали.
«Поколения идут, как волна за волной»…
Кто и когда будет перечитывать не то, что стихи Димитрия Цензора или прозу Сергеева-Ценского, а даже такое прилежное, солидное и многоуважаемое чистописание, проникнутое общественным духом и передовыми идеями, как статьи, фельетоны, брошюры и многотомные сочинения, подписанные почтенными именами Николая Рубакина, Горбунова-Посадова, Богучарского, Ашешова, Григория Петрова?
«Опавшие листья» В. В. Розанова или «История славянофильства» М. Гершензона, может быть, и уцелеют перед натиском разрушительных десятилетий, из коих складывается век.
И, кто его знает, потомки Бурцева или правнуки Алданова чему-то возможно научатся и что-то поймут и почерпнут из пожелтевших томов, помеченных в каталоге Императорской Публичной библиотеки.
Но в эпохе, о которой идет речь, многописавшей и многострочившей, уже так ли много было Гершензонов и Розановых?
* * *
Впрочем недаром сказано:
— Нет большей бессмыслицы, нежели плющ благоразумия на зелёных ветках молодости.
Мудрость Экклезиаста постигается на склоне дней. Переоценка ценностей приходит не сразу.
И как утверждали римляне:
— Поздно мелют мельницы богов.
В «Стойле Пегаса» и в «Десятой музе», в прокуренном до отказу ресторане «Риш» на Петровке, всюду, где собирались молодые таланты и начинающие бездарности, козырные двойки и всякая проходящая масть, — никакой мизантропии, само собой разумеется, и в помине не было, ни о каких переоценках и речи быть не могло.
В каждом мгновении была вечность.
Горациев нерукотворный памятник воздвигался прижизненно.
Бессмертие обеспечивалось круговой порукой присутствующих.
За неожиданную рифму, за звонкое четверостишие, за любую удачную шутку — полагались лавры, признание, диплом, запись в золотую книгу кружка, ресторана, кафе Кадэ Трамблэ, даже кондитерской Сиу на Кузнецком мосту.
Одним из таким закрытых собраний литературной богемы, где за стаканом вина и филипповской сайкой с изюмом, происходило посвящение рыцарей и калифов на час, был небольшой, но шумный кружок, собиравшийся в Дегтярном переулке, в подвальной квартирке Брониславы Матвеевны Рунт.
Родом из обрусевшей чешской семьи, она была сестрой Жанны Матвеевны, жены Валерия Брюсова.
Столь близкое родство с властителем дум уже само по себе окружало некоторым ореолом одарённую, на редкость остроумную, хотя и не отличавшуюся избыточной красотой хозяйку дома.
Невзирая, однако, на столь удачное, хотя и случайное преимущество, блистать отраженным блеском миниатюрная, хрупкая Бронислава Матвеевна, или, как фамильярно ее называли, Броничка, не желала, справедливо претендуя на несомненное личное очарование и собственный, а не заёмный блеск.
Надо сказать правду, что в этом самоутверждении личности Броничка бывала даже несколько беспощадна в отношении высокопоставленного деверя и чем злее было удачное словечко, пущенное по адресу Первого консула, или острее эпиграмма, тем преувеличеннее был ее восторг и откровеннее и естественнее веселый, взрывчатый смех, которым она на диво заливалась.
Бронислава Матвеевна писала милые, лёгкие, как дуновение, и без всякого «надрывчика» рассказы, новеллы и так называемые «Письма женщин», на которые был тогда большой и нелепый спрос.
Литературный почерк ее называли японским, вероятно потому, что в нём было больше скольжений и касаний, чем претензии на глубину, чернозём и суглинок.
Кроме того, она славилась в качестве отличной переводчицы, обнаруживая при этом большой природный вкус и недюжинную добросовестность.
Но так как одной добросовестностью жив не будешь, то не для души, а для денег, она, скрепя сердце, еще редактировала пустопорожний еженедельник «Женское дело», официальным редактором которого состоял Ив. Ив. Попов, сверкавший глазами, очками и, вероятно, какими-то неощутимыми, но несомненными добродетелями.
Издательницей журнала тоже официально значилась «мамаша Крашенинникова», а за спиной ее стоял мамашин сын, великолепный, выхоленный присяжный поверенный Петр Иванович, адвокатурой не занимавшийся, и развивавший большую динамику в настоящем издательском подворье на Большой Дмитровке.
Календари, справочники, газеты-копейки, — главное быстро стряпать и с рук сбывать.
В квартире у Бронички всё было мило, уютно, налажено.
Никакого художественного беспорядка, ни чёток, ни кастаньет, ни одной репродукции Баллестриери на стенах, ни Льва Толстого босиком, ни Шаляпина с Горьким в ботфортах, ни засушённых цветов над фотографиями молодых людей в усиках.
— Если я всех своих кавалеров на стенку вешала, да еще засушёнными цветочками их убирала, то у меня уже давно был бы целый гербариум. А уж сколько моли развелось бы, можете себе представить! — с обезоруживающей откровенностью заявляла хозяйка дома.
По Вторникам или Средам, а, может быть, это были Четверги, — за дальностью лет не упомнишь — во всяком случае поздно вечером начинался съезд, хотя все приходили пешком и расстоянием не стеснялись.
Непременным завсегдатаем был знаменитый московский адвокат Михаил Львович Мандельштам, седой, грузный, представительный, губастый, с какой-то не то кистой, затвердевшей от времени, не то шишкой на пухлой щеке.
С этого и начиналось.
— А у Алжирского бея под самым носом шишка выросла!..
Приветствие было освящено обычаем, в ответ на что следовала неизменная реплика:
— Вот и неправда! Не под носом, а куда правее!
После чего знаменитый адвокат смачно целовал ручки дамам и усаживался на диван.
По одну сторону Анакреона — так его не без ехидства, оправдывавшегося мужской биографией, прозвала хозяйка дома, — усаживалась томная и бледная Анна Мар, только что выпустившая свой новый роман под обещающим названием «Тебе Единому согрешила».
По другую сторону, — могий вместити, да вместит, — «дыша духами и туманами», загадочно опускалась на тихим звенением откликавшиеся пружины молодая беллетристка Нина Заречная.
Колокольчик в прихожей не умолкал.
В длиннополом студенческом мундире, с черной подстриженной на затылке копной густых, тонких, как будто смазанных лампадным маслом волос, с желтым, без единой кровинки, лицом, с холодным нарочиторавнодушным взглядом умных тёмных глаз, прямой, неправдоподобно-худой, входил талантливый, только что начинавший пользоваться известностью Владислав Фелицианович Ходасевич.
Неизвестно почему, но всем как-то становилось не по себе.
— Муравьиный спирт, — говорил про него Бунин, — к чему ни прикоснётся, всё выедает.
Даже Владимир Маяковский, увидя Ходасевича, слегка прищуривал свои озорные и в то же время грустные глаза.
Веселая, блестящая, умница из умниц, — кого угодно за пояс заткнёт, — с шумом, с хохотом, в сопровождении дежурного «охраняющего входы» и, несмотря на ранний час, уже нетрезвого Володи Курносова, маленького журналиста типа проходящей масти, появлялась на пороге Е. В. Выставкина.
Разговор сейчас же завязывался, не разговор, а поединок между Екатериной Владимировной и Мандельштамом.
Да иначе и быть не могло.
Только на днях напечатана была в столичных газетах статья московского Златоуста, — кстати сказать Златоуст изрядно шепелявил, — коллективном помешательстве на женском равноправии, и ответная статья Ек. Выставкиной, в которой Мандельштаму здорово доставалось на орехи.
Адвокат отбивался, защитница равноправия нападала, парировала каждый удар, сыпала сарказмами, парадоксами, афоризмами, высмеивала, уничтожала, не давала опомниться, и всё под дружный и явно одобрительный смех аудитории, и уже не обращая ни малейшего внимания ни на смуглого чертовски-вежливого Семёна Рубановича, застывшего в дверях, чтобы не мешать, ни на художника Георгия Якулова, чудесно улыбавшегося одними своими тёмными восточными глазами; ни на самого Вадима Шершеневича, вождя и возглавителя московских имажинистов, со ртом до ушей, каплоухого и напудренного.
А когда появилась Маша Каллаш в крахмальных манжетах, в крахмальных воротничках, в строгом жакете мужского покроя, с белой гвоздикой в петличке, с красивым вызывающим лицом, — пепельного цвета волосы барашком взбиты, — ну тут от Златоуста, хотя он и хохотал вовсю, и тряс животом, — одно только воспоминание и оставалось.
Прекратил бой Маяковский.
Стукнул по обыкновению кулаком по хозяйскому столу, так что стаканы зазвенели, и крикнул зычным голосом:
Довольно этой толочи, Наворотили ком там… Замолчите, сволочи, Говорю вам экспромтом!Экспромт имел бешеный успех.
Нина Заречная — пила вино и хохотала.
Анна Мар зябко куталась в шаль, но улыбалась.
Жорж Якулов, как молодой карабахский конёк, громко ржал от радости. Хозяйка дома шептала на ухо Екатерине Выставкиной, подмигивая в сторону предводителя Бурлюков:
— Всё-таки в нём что-то есть.
Рубанович теребил свои усики и утешал Шершеневича, подавленного чужим успехом.
И только один «Муравьиный спирт» угрюмо молчал, и щурился.
Зато неутомимый Мандельштам жал ручки дамам, то одной, то другой, прикладывался мокрыми губами, под нависшими седыми усами, и, многозначительно выпив красного вина из бокала Нины Заречной, стал в позу и, неожиданно для всех, по собственному почину, начал читать, шепелявя, но не без волнения в голосе:
В день сбиранья винограда В дверь отворенного сада Мы на праздник Вакха шли. И любимца Купидона, Старика Анакреона На руках с собой несли. Много юношей нас было. Бодрых, смелых, каждый — с милой! Каждый бойкий на язык. Но — вино сверкнуло в чашах — Вдруг, глядим, красавиц наших Всех привлёк к себе старик. Череп, гроздьями увитый, Старый, пьяный, весь разбитый, Чем он девушек пленил?! А они нам хором пели, Что любить мы не умеем, Как когда-то он любил!..Все сразу захлопали в ладоши, зашумели, заговорили.
Броня Рунт чокнулась с Златоустом, и так в упор и спросила:
— Это что ж? Автобиография?
Маяковский не удержался, и буркнул:
— Дело ясное, Мандельштам требует благодарности за прошлое!
Старый защитник и не пробовал защищаться.
Воспользовавшись минутной паузой, он явно шел на реванш.
— Вот вы, господа поэты, писатели, мастера слова, знатоки литературы, скажите мне, сиволапому, а чьи ж, это собственно говоря, стихи?
Эффект был полный.
Знаменитый адвокат крякнул, грузно опустился на диван, и, торжественно обведя глазами не так уж чтоб очень, но всё же смущённую аудиторию, произнёс с несколько наигранной простотой:
— Аполлона Майкова, только и всего.
Маяковский, конечно, сказал, что ему на Майкова в высокой степени наплевать.
Имажинисты прибавили, что это не поэзия, а лимонад.
И только один Ходасевич не выдержал, и впервые за весь вечер разжав зубы, не сказал, а отрезал:
— С ослами спорить не стану, а скажу только одно: это и есть настоящая поэзия, и через пятьдесят лет ослы прозреют и поймут.
Толчок был дан и шлюзы открылись.
Опять хлопали пробки, опять Бронислава Матвеевна протягивала, обращаясь то к одному, то к другому, свой опустошенный бокал и томно и в который раз повторяла одну и ту же ставшую сакраментальной строфу Пушкина:
Пьяной горечью Фалерна Ты наполни чашу, мальчик!В ответ на что все чокались и хором отвечали:
Так Постумия велела, Председательница оргий.До поздней ночи, до слабого утреннего рассвета кричали, шумели, спорили, превозносили Блока, развенчивали, защищали Брюсова, читали стихи Анны Ахматовой, Кузмина, Гумилёва, говорили о «Железном перстне» Сергея Кречетова, глумились над Майковым, Меем, Апухтиным, Полонским.
Маяковский рычал, угрожал, что с понедельника начнёт новую жизнь и напишет такую поэму, что мир содрогнётся.
Ходасевич предлагал содрогнуться всем скопом и немедленно, лишь бы не томиться и не ждать.
Анна Мар поджимала свои тонкие губы и пыталась слабо улыбаться.
Рубанович снова теребил усики и вежливо, но настойчиво доказывал, что первым поэтом он считает Сергея Клычкова, и грозился продекламировать всего его наизусть.
* * *
А в кабаках и ресторанах все чаще и чаще звенел, замирая, и снова звенел надрывный, навязчивый мотив танго.
Стремглав летели голубки и тройки, позвякивая бубенцами.
Расцвела и осыпалась сирень, приученная к позднему цветению.
Дворники, в белых холщёвых фартуках, делали весну, за маем июнь, — Перловка, Малаховка, Удельная, Томилино, — в сосновый лес, в рощи еловые, на зелёные лужайки, на речные берега, на ладно срубленные дачи, на отдых, на покой, на лень великую…
И так как поздно мелют мельницы богов, и неизвестно будущее, то кто мог знать, предчувствовать, предвидеть, что «вшиско скончица дзвоном», как писал Мицкевич в «Пане Тадеуше» и что, жалобно прозвучав в последний раз, растает в нестеровских сумерках печальный звон?
Что Анна Мар, как описанная ею белошвейка, наполнит свой бокал обыкновенной серной кислотой, и велит похоронить себя в подвенечном платье, а на небьющееся сердце положить портрет Дорошевича с засушенными цветами?
Что поэт с озорными глазами никакой поэмы, от которой содрогнется мир, никогда не напишет.
А, прождав годы и дождавшись своего, просто напечатает на серой бумаге по новой орфографии:
Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем!После чего будет разъезжать в Кремлевском автомобиле, расточать и уродовать свой неуёмный талант, насиловать себя и насиловать других, и, наконец, не выдержав, пустит себе пулю в лоб, оставив скандальную память и имя Маяковского на унылом речном баркасе?
Кто мог знать и предвидеть, что Жорж Якулов напишет портреты советских вождей и получит звание народного артиста, а Владислав Фелицианович Ходасевич, после голодных петербургских зим, купно с Горьким и Андреем Белым приобщиться к казённому толстому журналу, но уже не в Питере, а в Берлине, потом спохватится, перекочует в белогвардейский русский Париж, и в неуклюжем гукасовском «Возрождении», снова ненавидя и проклиная незадачливую судьбу, станет печатать свои злые, умные критические статьи, а по ночам, задыхаясь от астмы, перечитывать «Египетские ночи» и на обрывках и клочках бумаги то лихорадочно-торопливо, то мучительно-медленно писать своего «Державина»?
А милая наша насмешница Броня Рунт, «председательница оргий», могло ли ей придти в шалую ее голову, замученную папильотками, обрамленную завитушками, что много, много лет спустя, где-то в угловом парижском кафэ, на бульвар Мюра, два когдатошних аборигена, два усердных посетителя ее Вторников или Сред в Дегтярном переулке, будут не без печали, смешанной с благодарностью — вспоминать далекое прошлое, и воспоминания опять закончатся стихами, и на экземпляре «Счастливого домика», подаренного поэтом Ходасевичем автору настоящей хроники, будут написаны последние, грустным юмором овеянные гекзаметры?
Общею Музою нашей была Бронислава когда-то. Помню остроты ее, и черты, к сожалению, помню. Что ж? Не по-братски ли мы сей девы дары поделили? Ты унаследовал смех, а мне досталось уродство.XVII
В шутливом наброске, пытаясь восстановить фильм быстробегущих событий, Аркадий Аверченко, то и дело обращался к своему воображаемому помощнику:
— Мишка, крути назад!
Мишка крутит, и кинематографическая лента послушно, но только в обратном порядке, сползает со своего ролика или валика, и на освещенном экране человеческой памяти встают дни, месяцы, годы, события, числа, даты, былое, минувшее, бывшее, и давно прошедшее.
— Мишка, крути назад!
Конец июня, начало июля 14-го года.
В парижском театре Французской Комедии идет «Полиевкт».
Муннэ-Сюлли в заглавной роли.
На завтра объявлен «Прекрасный принц» Тристана Бернара.
Президент Республики, Раймонод Пуанкарэ только что вернулся во Францию.
— Петергоф, Царское Село, морской смотр в Кронштадте.
Всё было исполнено невиданной роскоши и великолепия незабываемого.
Иллюминация, фейерверки, на много вёрст раскинувшиеся в зеленом поле летние лагеря.
Пехотные полки, мерно отбивают шаг; кавалерия, артиллерия, конная гвардия, желтые кирасиры, синие кирасиры, казаки, осетины, черкесы в огромных папахах; широкогрудые русские матросы, словно вылитые из бронзы.
Музыка Гвардейского Экипажа, парадный завтрак на яхте «Александра».
Голубые глаза русского императора.
Царица в кружевной мантильи, с кружевным зонтиком в царских руках.
Великие княжны, чуть-чуть угловатые, в нарядных летних шляпах с большими полями.
Маленький цесаревич на руках матроса Деревенько.
Великий князь Николай Николаевич, непомерно высокий, худощавый, статный, движения точные, рассчитанные, властные.
А кругом министры, камергеры, свитские генералы в орденах, в лентах, и всё это залито золотом, золотом, золотом.
Оркестр играет Марсельезу, генералы под козырёк, черкесы навытяжку, Вивиани с Сазоновым друг от друга оторваться не могут, Извольский на седьмом небе, император крепко пожимает руку, подымает свой тост за прекрасную Францию, сам провожает к выходу; ливрейные лакеи, дворцовые гайдуки бережно помогают, под руки берут, сажают в придворную карету с гербами, орлами, вензелями.
Море трёхцветных флагов, жёлтый штандарт колышется на ветру, музыка играет, играет, играет, в президентской душе пташки поют.
Сила-то, сила какая! Богатыри, великаны!
Есть на кого опереться, крепкой верой понадеяться, как за каменной горой от беды укрыться.
В парижских газетах телеграммы, отчёты, описания.
Одно восторженнее другого, все учтено, подмечено, оценено по достоинству, спите спокойно, граждане — ситуайены!..
* * *
— Крути назад, Мишка!
Поля Деруледа убили на дуэли, председателем Лиги Патриотов выбран Морис Баррес.
Нервное, вдохновенное лицо, пересохшие от волнения губы, худой, подвижной, смуглый, посмотреть ближе — глаза, как у бедуина в цилиндре.
А как говорит! Как пишет!
La colline inspiree!.. даже по-русски не переведешь.
А лента бежит, бежит по экрану.
Что это за страна такая Босния-Герцеговина?! И где этот городок, местечко, Сараево? Телеграмма за телеграммой, чужие, непонятные, тревожные слова.
Кроат, серб, гимназист 19 лет убил эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника австрийского престола.
И жена, герцогиня, тоже убита.
Не везёт старому Францу-Иосифу. Всё траур, траур, траур.
То Майерлинг, то Сараево.
Дипломаты улыбаются, хмурятся, совещаются.
— А тут, как на зло, самый разгар сезона!..
На лоншанских скачках жеребец Сарданапал берет первый приз и, весь в мыле, пьёт шампанское из серебряного ведра.
А вечером у княгини Жак-де-Брой бал бриллиантов, о котором еще за две недели до убийства герцога говорит весь Париж.
Бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, бирюза, жемчуга — белые, черные, серые, розовые; шёлк, плюш, бархат и парча; токи, эгреты, страусовые перья; неслыханные туалеты, умопомрачительные декольтэ; послы, посланники, военные атташэ в расшитых мундирах, золотая молодёжь первого, второго, третьего разлива.
И опять музыка, музыка, музыка, — вальс, чардаш, аргентинское танго.
Разъезд по утру, навстречу возы с салатом, свёклой, спаржей, морковью, кудрявыми артишоками, со всякой всячиной, свежей зеленью, пахнущей землёй и водою.
А когда солнце уже высоко в зените, где-то что-то начинают соображать.
Сарданапал в конюшне. Бал кончился. Выстрелом в упор убит Жорес.
* * *
В Томилине, под Москвой, на даче Осипа Андреевича Правдина, тишь да гладь, да Божья благодать.
В аллеях гравий, камешек к камешку, от гвоздик и левкоев, от штамбовых роз чудесный, одуряющий запах.
Клумбы, грядки, боскеты, площадка для тенниса, в саду скамейки под высокими соснами, на террасе, на круглом столе, на белоснежной скатерти, чего только не наставлено! Сайки, булки, бублички с маком, пончики, цельное молоко в глиняных кувшинах, сметана, сливки, варенье разное, а посредине блеском сверкающий медный самовар с камфоркой, фабрики братьев Баташёвых в Туле.
И всё это — и сосны, и розы, и сад, и самовар, и майоликовый фонтан с золотыми рыбками, — все залито высоким, утренним, июльским солнцем, пронизано голубизной, тишиной, блаженством, светом.
— Вот я с малинкой, с малинкой пришёл… Ягода-малина, земляника свежая! — чётким тенорком расхваливает товар парень за калиткой.
Глаза молодые, лукавые, весёлые, картуз набекрень, в раскрытый ворот рубахи видна крепкая, загорелая грудь, идёт от него сладкий мужицкий запах пота, курева, кумача.
Олеография? Опера? Пастораль?
Было? Не было? Привиделось, приснилось?
«Столица и усадьба», под редакцией Крымова?
Или так оно и есть, без стилизации, без обмана, как на полотне Сомова в Третьяковской галлерее?..
В лесу грибами пахнет, на дачных барышнях светлые платья в горошину, а на тысячи вёрст кругом, на запад, на восток, на север, на юг, за горами, за долами, в степях, в полях, на реках, на озёрах, от Белого моря до Черного моря, — всё как тысячу лет назад! Жнут, вяжут, в снопы собирают, из кизяка с глиной избы лепят, соломой кроют, горькую пьют, Богу молятся, беспросветным трудом, да своим горбом от сырой земли кормятся, в сырую землю возвращаются.
Мир, тишина, жизнь праведная, тьма непроходимая, жизнь несправедливая.
* * *
18-го июля всеобщая мобилизация.
Правое плечо вперёд, шагом м-арш!..
Германские войска двинулись к Франции, двинулись к России, перешли границу. Заняты Сосновицы. Занят Калиш.
— Кончились происшествия. Начались события.
Не все они придут походкой голубя, чтобы управлять миром.
Бежит по экрану убийственная лента.
Царский манифест. Речь к народу. Балкон Зимнего Дворца. Патриотические манифестации. Воодушевление. Порыв.
Флаги. Знамёна. Оркестры. Музыка.
От моря до моря, по широкой колее, по узкой колее, стучат колёса, гудят поезда, везут, везут российское воинство, солдат, новобранцев, ополченцев, ратников, — сегодня ты, а завтра я.
* * *
…От реки потянуло ночной свежестью.
На даче Правдина потушены огни, приказ один для всех.
Сидим за калиткой, притаились, слушаем.
С короткими перерывами, один за другим, проносятся мимо, громыхают, лязгают, ночные поезда.
Чёрно-красное пламя, дым паровозов; искры, летящие, в ночь, в степь, на придорожные ели; длинная, бесконечная вереница тёмных товарных вагонов; и в неосвещенном зиянии отодвинутых в сторону не дверей, а деревянных щитов, перегородок, и железных засовов, еле видимые глаза, мелькающие человеческие фигуры, спущенные вниз, болтающиеся на весу ноги; и страшный, хриплый, раздирающий ночную тишину, не то стон, не то крик и рев сотен, тысяч пересохших гортаней:
— Урра! Урра! Урра!
Проносится поезд, в последний раз содрогаются потревоженные рельсы, затихает где-то в отдалении и становится всё глуше и глуше, умолкает, замирает совсем страшный солдатский стон.
И не успеет освоиться ухо с наступившей на миг тишиной, как новая цепь, новая вереница вагонов, с огнедышащим чудовищем впереди, безудержно рвётся вперёд, летит навстречу судьбе, и всё тот же нечеловеческий хрип и вой, идущий из нутра, застрявший в глотке и вырвавшийся наружу, сотрясает, гнетёт, разрывает в клочья испуганную ночь, и душу.
— Урра! Урра! Урр-рр-ра!!..
Горе мудрецам, пророкам и предсказателям, которые всё предвидели, а этого не предвидели. Не угадали. И как было предвидеть и угадать, что новый мир пойдёт от товарного вагона?
От вагона для перевозки скота?
От тёмной, расхлябанной, смрадной теплушки?!
* * *
Через две недели утряслось.
Через месяц-другой все ко всему привыкли.
К новым словам, городам, рекам, названиям.
Жонглировали историей, географией.
На новеньких, свежих, только что отпечатанных для широкого потребления картах героически вкалывали булавки, ставили разноцветные флажки, внимательно следили за всеми фронтами.
От всего сердца радовались первым победам русского генерала фон-Ренненкампфа.
Героическая Бельгия, прекрасная Франция, братская Сербия, двоюродная сестра Черногория! Любвеобильным сердцам — готовый штамп.
Научились читать сводки, сообщения из Ставки Верховного Главнокомандующего, и не только читать, и даже разбираться в них.
Сокрушались о взятии Намюра, Льежа, Лувэна.
Не говоря уже о потере французами Лилля, Арраса и Амьена.
О разрушении Реймского собора печатались такие статьи, стихи, и даже поэмы, что дух захватывало.
Илья Эренбург, писавший из Парижа в «Утро России», так потрясал, волновал, трогал, что если б теперь, — конечно, много, много лет спустя, — поднести ему этот и по сей день неувядаемый букет его военных корреспонденций, то он, хотя и лауреат, а просто ахнул бы от ужаса.
И было бы от чего.
Потому что за такое прошлое чего же можно ожидать в настоящем?
В лучшем случае, коротенького бюллетеня о героических, напрасных усилиях врачей.
А на следующий день, глядишь, взяли, и зарыли талант в землю…
Во всяком случае, возвращаясь к тому, что принято называть психологией тыла, скажем простыми, совсем простыми словами, вышедшими из моды: невзирая на всё, что в течение этих четырёх страшных лет творилось и происходило в России, и с каждым годом всё больше, непоправимее и страшнее, — патриотический подъём, воодушевление, готовность к жертвам, и какая-то необъяснимая вера в слепое русское счастье не угасали в душах до последнего дня.
— Увы! — как любят восклицать взволнованные публицисты, — подтачивание, порча, бессильный внутренний бунт, постоянный комок в горле, оскорбленное чувство любви и порыва, при виде как всё это делалось и происходило, — вот это-то всё постепенно и неуклонно и вело к разложению!..
Но разлагался тыл еще и потому, что гражданские добродетели, по щучьему велению, по княжьему хотению, в один волшебный миг, так вдруг, здорово живёшь, тоже не обретаются.
Граждан была горсть, обывателей — тьма тьмущая, неисчислимая.
Сразу стали ловчиться приспосабливаться, нос по ветру держать, куда ветер дует, лишь бы жить, во что бы то ни стало! — посытнее, получше, понадёжнее.
Вот, и стали ко всему привыкать.
Сначала к словам, именам, названиям.
Луцк, Збруч. Ивангород. Золотая Липа. Рава-Русская.
Перемышль взяли. Перемышль отдали.
Санкт-Петербург простым указом в Петроград переделали.
Не думая, не гадая, что упрощать историю — процесс заразительный, и дальнейшим углублениям весьма подверженный.
Но и с этим свыклись. Проглотили, не подавились.
А потом стали привыкать и к раненым, безногим, безруким, изувеченным.
Жалели, конечно, сочувствовали…
Сколько в Благородных собраниях одних мазурок оттанцовали.
— В пользу раненных!
Железными кружками на улицах, на площадях с каким усердием хлопали, собирали медяки на Красный Крест, на Зелёный Крест, на помощь увечным воинам — русским, черногорским, сербским, на призрение, на лазарет, на санитарный пункт, на санитарный поезд.
И сам Маяковский, из озорства и от испуга, не погнушался, милый, рифмовать во всеуслышание:
Пели немцы Über alles, С поля битвы убирались.Или ещё проще и незамысловатее:
Как хвачу его я, шельму, Оборву усы Вильгельму!Не дорого, но, не правда ли, мило?..
Один шаг до Кузьмы Крючкова, дюжину врагов на пику наколовшего.
Дальше — больше.
Игорь Северянин, душка, кумир, любимец публики, делавший полные сборы в Политехническом Музее, и что бы там академики ни скулили, поэт несомненный, и при немалой жеманности и безвкусии, конечно, талантливый, — и тот, прямо из будуара, «где под пудрой молитвенник, а под ним Поль-де-Кок», вышел на эстраду, стал во фрунт, и так через носоглотку, при всем честном народе, и завернул:
Когда отечество в войне, И нет воды — лей кровь, как воду! Благословение народу, Благословение войне!На сей раз это была дань времени, моменту, медный пятачок в кружку на лазарет, в день Белой Ромашки.
Но так как аппетит приходит во время еды, то как только на фронте стало совсем плохо, неунывающий Игорь быстро решил, что пришло время героических средств.
Поклонился безумствовавшим психопаткам, и так и бабахнул:
Наступит день и час таинственный — Растопит солнце снег долин… Тогда ваш нежный, ваш единственный, Я поведу вас на Берлин!После подобного манифеста о чём было беспокоиться?
В Эрмитаже Оливье, на Трубной площади, в белом колонном зале — банкеты за банкетами.
В отдельных кабинетах интендантские дамы, земгусары в полной походной форме, всю ночь звенят цыганские гитары; аршинные стерляди, расстегаи, рябчики на канапэ, под собственным наблюдением эрмитажного метр-д-отеля знаменитого Мариуса; зернистая икра в серебряных ведёрках, покрытых морозным инеем; дорогое шампанское прямо из Реймса, из героической Франции; наполеоновский коньяк, засмоленный чёрным сургучом.
Смокинги, шелка, страусы, бриллианты, не хуже чем год назад, на фестивале принцессы де-Брой.
Из Эрмитажа к Яру, в Стрельну, в Самарканд.
Лихачи, тройки, голубчики.
— Вас-сиясь, с Иваном! С Петром, с Платоном, Вась-сиясь. Пожалте — прокачу!
И несутся по снежным улицам тысячные рысаки.
— Па-берегись!.. Ми-лай!..
Как будто страх обуял весь этот сумасшедший разнузданный мир, страх — не поспеть, насладиться вдоволь.
Недаром, во хмелю, в предрассветном, пьяном изнеможении, размякшие от винных паров эстеты в смокингах, нажившие на поставках, мрачно повторяли, уставившись затуманенным взором на соседнее декольтэ:
Земное счастье запоздало На тройке бешеной своей…Очевидно, не только в Башне из слоновой кости, у златокудрого Вячеслава Иванова, но и в иных удешевлённых изданиях для расчувствовавшихся купцов и мышиных жеребчиков, распространялась, проникая в кровь, заразительная, упадочная, горькая услада Блоковских стихов, как будто в мерном чередовании их, в обречённости, в певучести, в облагороженном цыганском ритме — можно было бессознательно уловить, отыскать, найти, не то объяснение, не то какое-то смутное оправдание ночному разгулу, линии наименьшего сопротивления, и всему этому бессмысленному, беспощадному расточительству жизни, захлестнувшему душу водовороту:
Я послал тебе чёрную розу в бокале Золотого, как небо, Аи!..— Выдумка, бред, творимая легенда.
Ни чёрной розы, ни золотого неба, — зимнее небо в кровавом пороховом дыму.
В Мазурских болотах захлебнулась, потонула, погибла страшной смертью целая дивизия.
Генерал Самсонов пустил себе пулю в лоб.
В Карпатах, в Галиции — отступление по всему фронту.
Крупенские, Марковы, Шульгины воюют с ветряными мельницами.
Всюду мерещутся лазутчики, предатели, шпионы.
Это они приводят в движение мельницы в Царстве Польском, сигнализируя врагу.
— Вешать, вешать, вешать!
Неистовствуют князь Мещерский, Меньшиков, Карл-Амалия Скирмунт — в «Гражданине», в «Новом времени», в «Московских ведомостях».
А тут, как гром из ясного неба — измена Мясоедова, военно-полевой суд, правительственное сообщение, написанное иероглифами, смущение в умах, смятение в сердцах, и первый змеиный шепот: чем хуже, тем лучше…
* * *
Пятнадцатый год на исходе, будущее полно неизвестности, но встречу Нового Года надо отпраздновать, как следует.
В Петрограде, в высшем обществе репетируют «Горе от Ума», Карабчевский будет играть Чацкого, спектакль разумеется в пользу раненых, дворцовый комендант Дедюлин сообщил по секрету, что Их Величества почтут спектакль своим присутствием.
В московской «Летучей мыши», в Гнездниковском переулке, в новом подвальном помещении, в доме Нирензее, готовится военная программа.
Н. Ф. Балиев хрипит, волнуется, терроризирует всех и вся, накидывается на Архангельского, композитора и дирижёра, на огромного, явно раздражающего своим спокойствием Кареева, ответственного Санхо-Панчо и главного администратора.
Достаётся актёрам, музыкантам, декораторам, костюмерам.
Репетируют по два-три раза в день, до предельной усталости, до полного изнеможения.
Задолго до 31-го декабря все столики записаны, переписаны, закуплены, перепроданы.
Даже в проходах, за столиками, обитыми красным шёлком, каждый вершок высчитан, учтён, принят во внимание.
Съезд поздний, представление начинается в 10 часов.
В Гнездниковском переулке, на Тверском бульваре, ни пройти, ни проехать.
В гардеробной, или, как говорили театральные завсегдатаи, в раздевалке — столпотворение вавилонское.
Свежий морозный воздух врывается в беспрестанно распахиваемые двери, и от этого еще чудеснее и острее пахнут надушенные Гэрлэном и Убиганом горностаевые, собольи, каракулевые меха.
А кругом все ботики, ботики, ботики, тающий на кожаной подошве снег, и отражённые в зеркалах Галатеи, Ниобеи, Венеры московские, и мундиры, и фраки, и чётко выделяющиеся белоснежные накрахмаленные пластроны.
В театре триста мест, и присутствует вся Москва.
Балиева встречают длительными, дружными аплодисментами, шумными восклицаниями, приветствиями, улыбками, — публика считает, что он глубоко свой парень, а он считает, что она глубоко своя публика.
В какой-то мере это, вероятно, так и есть.
Никита Федорович, еще только несколько лет назад небольшой актёр Московского Художественного Театра, устроитель знаменитых капустников, сделал неслыханную карьеру.
Объяснял он этот успех по-своему:
— Дело не только в том, что я нашёл совершенно новый жанр, у нас неизвестный, а в Монмартрских кабарэ процветающий чуть ли не со времени французской революции.
И не только нашёл и приспособил, и передвинул его на язык родных осин.
А дело в том, что я никогда и ничем не доволен, ни сотрудниками моими, ни переводчиками, ни авторами, ни художниками, ни композиторами, ни машинистами, ни кассирами, а больше всего самим собой.
В признании этом была доля правды.
При всей своей прочно установившейся репутации одного из самых весёлых и остроумных людей, Балиев был молчалив, задумчив, раздражителен, угрюм, темпераментом обладал холерическим и, по уверению всё того же Н. Н. Баженова, всю жизнь блуждал меж трёх сосен.
Одна сосна была Ипохондрия, другая Неврастения, а третья Истерия.
— Но, — хитро улыбаясь, добавлял московский психиатр, — блуждать то он блуждал, а как видите, всё-таки не заблудился.
Справедливость, однако, требует сказать, что одной ипохондрией успеха и славы не добьёшься.
Надо было обладать несомненным и недюжинным чутьём, вкусом и талантом, чтобы достичь той славы, которая увенчала карьеру Балиева.
Талант у него был по преимуществу режиссёрский, и постановщик он был на редкость незаурядный.
Что касается вечного недовольства и неудовлетворённости, то и эти черты характера сослужили свою службу.
Круглые бездарности всегда от самих себя в восторге.
К этому надо прибавить еще одно: явление случайное, но чрезвычайно умно и необъяснимо использованное.
— Наружность, данную от Бога, и от родителя, нахичеванского купца, торговавшего красным товаром.
Василий Иванович Шухаев, один из исключительно талантливых художников описываемого времени, вернувшийся из эмиграции в советскую Россию и, по слухам, расстрелянный, написал Балиева коричневой гуашью, изобразив его в виде круглого, улыбающегося полнолуния.
Этим полнолунием Балиев и промышлял.
В Москве, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, по всему белу свету прогуливая свою «Летучую мышь», высовывал он в прореху опущенного занавеса то нарочито хмурую, то обезоруживающе-добродушную нахичеванскую луну, передёргивая её какой-то непонятной, загадочной, но уморительной гримасой, и быстро задёргивал занавес.
Лёд был сломан в мгновение ока.
Зал покатывался со смеху.
И никто, и нигде, даже сам Баженов, не могли объяснить, почему, собственно говоря, все это так возбуждающе-благотворно действовало на столь различную и в восприятиях своих столь неодинаковую и многообразную публику, каковой была публика московская, парижская, лондонская или нью-йоркская.
А между тем, было это именно так, и уцелевшие зрители и слушатели вероятно охотно с этим согласятся.
Так, по установленному и освящённому успехом ритуалу, и начался новогодний спектакль, о котором идёт речь.
Нарядный зал притих, вспыхнули разноцветные огни рампы, и между слегка раздвинутых складок занавеса появилась голова Балиева.
Брови нахмурены, переносица в трагических морщинах, как у Томазо Сальвини, удушающего Дездемону, глаза буравят и непроницаемые пластроны и беззащитные декольтэ, — а зал гремит от аплодисментов, и заразительно хохочет.
Образ луны немедленно появляется снова, она улыбается направо, и улыбается налево, как будто хочет сказать:
— В таком случае будем веселиться!
Занавес раздвигается и Никита Балиев, всамделешный, живой, в безукоризненной фрачной паре, с орхидеей в петлице, похолодевшей от волнения рукой дает знак Архангельскому:
— Прошу петь всех, и до директора Археологического института, Александра Ивановича Успенского включительно! — властной и хриплой скороговоркой приглашает гостей хозяин.
Опять взрыв смеха, и все наперебой начинают искать глазами жертву вечернюю.
— Александр Иваныч, дорогой, потрудитесь подняться, будьте столь добры и любезны, всякому москвичу лестно поглядеть на вашу многоуважаемую бороду!
Зал гогочет и, быстро открыв, по предательски указанному признаку, единственную в зале непроходимую, тёмную, густую, чуть-чуть тронутую сединой профессорскую бороду, встаёт с мест и неистово аплодирует угловатому, смущенному, красному как рак, директору археологического института.
А Балиев не унимается.
— Боги жаждут! Сегодня или никогда!
И, войдя в раж и не обращая внимания на уже совершенно пунцовую жертву, от ужаса прикрывшую лицо руками, без пощады продолжает:
— Знаете ли вы, господа, что содеял наш Александр Иваныч два месяца тому назад в Петергофе, в кабинете Его Величества.
Зал напряженно ждёт, градоначальник в первом ряду, даже шпорой не звякнет.
И, выдержав паузу, Никита-Кожемяка, как назвал его Борис Садовской, торжественно объявляет:
— Быв весьма обласкан и удостоившись Высочайшего рукопожатия, вышел как ни в чём не бывало в приёмную и еще хвастался:
— Как можно требовать от Государя, чтоб он всё знал и всё видел, когда вот я, грешный, забыв впопыхах воротничок и галстук надеть, и, дрожа от страха, прикрывал наготу свою бородой своей, а его Величество так ни малейшего внимания и не изволили обратить!..
Сюжет, паузы, интонации, вся эта художественная балиевская постановка, ощущение сюрприза, неожиданности, а может быть, и присутствие в зале этой самой вызывающей и виновной бороды, — всё вместе взятое вызвало такой безудержный взрыв хохота, восторга и столь явно предвещало счастливый Новый год весёлого настроения, что не только бурным аплодисментам не было конца, не только в порядке сознательной или инстинктивной фронды, все бросились пожимать руки бедному, готовому провалиться сквозь землю Успенскому, но и сам Свиты Его Величества генерал и московский градоначальник, оправившись от страха, приятно звякнул серебряными шпорами и милостиво улыбнулся…
Алёша Архангельский ударил по клавишам и не прошло и секунды, как вся труппа на сцене и, за нею, публика в зале, беспрекословно повинуясь безголосому Балиеву, уже пели дружным, соединенным хором, шутливую кантату, сочиненную Л. Г. Мунштейном, которого под именем Lolo знали не только в Москве и в Петербурге, но и в далёкой театральной провинции.
После кантаты начался самый спектакль.
Инсценировки, скетчи, пародии, юморески, цыганские романсы в лицах, один номер за другим следовали быстрым, увлекательным, ни на миг не угасающим темпом.
Отдавая должное моменту, Балиев внушительно потребовал особой тишины и внимания, «Ибо в том, что пройдет сейчас перед вами, речь идет не о нас — здесь, а о них — там!..»
Зал покорно переключился, и на сцене, освещенной далёким, багровым заревом, появились носилки, раненый солдатик, забинтованный марлей, и сестра милосердия с красным крестом на груди.
Солдатик был театрально бледен и безмолвен, а сестра милосердия, под сдержанный аккомпанемент рояля, вдохновенно декламировала стихи Д. Аминадо, не без пафоса швырнув в зал заключительную строфу:
Далеко, за пургой и метелью, Сколько милых в бою полегло… Расступитесь пред серой шинелью Вы, которым светло и тепло!Какое-то декольтэ в ложе глубоко вздохнуло.
Публика аплодировала.
Туманова, изображавшая сестру милосердия, долго раскланивалась. Балиев был явно удовлетворен: дань моменту была отдана, хоть какое-то приличие было соблюдено.
За «Серой шинелью» следовала пародия того же автора, называлась она «Сон Вильгельма».
Германского кайзера играл Я. М. Волков, играл умно и сдержанно.
Кайзер, в халате и остроконечной каске, спал и бредил.
В просвете освещенного луной окна, одно за другим возникали снившиеся ему видения: Александр Македонский, Аттила, Фридрих Барбаросса, Наполеон.
Все они говорили что-то очень неприятное, и всё стихами.
Вильгельм со сна отвечал что мог, но прозой.
Из которой ясно было, что всё равно ему не сдобровать.
После чего исполнители послушно выходили на вызов, Балиев кланялся и, щуря правый глаз, клятвенно уверял, что автора в театре нет.
После военных номеров появилась пользовавшаяся сумасшедшим успехом «Катенька», которую действительно незабываемо играла и пела прелестная и кукольная Фехнер, и кружась, и танцуя, и выпучив свои неморгающие, наивные, стеклянные глаза, и вся на невидимых пружинах, как чечётку отбивала, веселилась, отделывала, всё тот же навязчивый, заразительный речитатив:
Что танцуешь, Катенька? Польку, польку, маменька! С кем танцуешь, Катенька? С офицером, папенька!А папенька с маменькой, только грузно вздыхали, хлопали себя по ватным коленкам, и укоризненно вторили под аккомпанемент машины:
Ишь ты, поди ж ты, Что ж ты говоришь ты!..Температура подымалась.
Балиев был неисчерпаем.
«Музей восковых фигур». «Марш деревянных солдатиков».
Изысканный остроумный лубок Потёмкина «Любовь по чинам».
Пронзительная, дьявольски-зажигательная Тамара Дейкарханова.
Алексеева-Месхиева, не женщина, а кахетинское вино! — как говорил Койранский.
Юлия Бекеффи, протанцовавшая такую венгерку, такой чардаш, явившая столь необычайный задор и молодой и своевольный блеск, что у самого В. А. Маклакова, по его собственному признанию, в зобу дыханье спёрло.
Еще Виктор Хенкин в песенках кинто. И еще, и еще, всего не упомнишь.
А ровно в двенадцать часов — цыганский хор, «Чарочка», дрожащие в руках бокалы, поздравления, пожелания, троекратные лобызания, шум, гам, волнующееся море шелков, мехов, кружевных накидок, мундиров, фраков и, наконец, вершитель апофеозов, долгожданный московский любимец Б. С. Борисов, сам себе аккомпанирующий на гитаре и поющий почти без голоса, но с каким вдохновением, мастерством, с каким проникновенным умилением и какие слова, не блещущие чеканной рифмой, но полные вещего, рокового значения:
Время изменится, Всё переменится, Правдой великою Русь возвеличится!..Несбыточные надежды, «бессмысленные мечтания».
Но надо же за что-то уцепиться, во что-то верить, жить, мечтать, надеяться:
— В канун 16-го года, на третий год войны, когда в России сегодня Горемыкин, а завтра Штюрмер, и в жёлтом петербургском тумане все огромнее и неодолимее, как гоголевский Вий, вырастает, ширится, заслоняет фронт, страну, народ — неуёмная, зловещая, длиннополая тень сибирского зелёноглазого мужика, Григория Распутина…
* * *
В газетах всё то же.
Острожные намеки, многоточия, восклицательные знаки, не пропущенные цензурой и потому зияющие пустопорожними провалами, то там то тут, статьи, заметки, телеграммы от собственных корреспондентов, сведения с мест.
Длинные отчеты о заседаниях Государственной Думы.
Щегловитов, Сухомлинов, Протопопов.
Речь Родзянки, речь Шингарева.
Земский Союз. Военно-промышленные комитеты.
Последние судороги, последние попытки — помочь, наверстать, спасти.
— Война во что бы то ни стало! «Война до победного конца»!
Гальванический ток, порождённый отчаянием. Лозунг самовнушения. Крик с гибнущего корабля, в бурю, в ночь:
— Спасите наши души!
Шестнадцатый год его не услышит.
В семнадцатом — будет поздно.
…А покуда всё идет своим чередом, изо дня в день, по заведенному порядку.
В «Русских ведомостях» исполненные истинного, высокого патриотизма, почтенные, достойные, длинные статьи.
Из тридцати ежедневных номеров можно сделать толстый журнал, многоуважаемый ежемесячник, под редакцией непреклонного, седобородого Розенберга, и читать его на покое, при уютной лампе под зелёным абажуром.
Но нетерпеливо ждать утренней, еще свеже пахнущей типографской краской газеты, накидываться на от века размеренные столбцы и нервно искать волнующего отклика для сердца, для души — найдёшь ли?
Ни пульса, ни взлёта, ни орфографической ошибки.
Все бесспорно, и все давным давно известно.
Ни проблем, ни дилемм, одни аксиомы.
О которых говорил еще Чехов:
— Волга впадает в Каспийское море. Лошади едят сено.
Уважения бездна, а брожения, сыворотки — и в помине нет.
А ведь на «Русских ведомостях» выросли поколения, и в медвежьих углах то и дело прислушивались к почтовым бубенцам, только б скорей дождаться старого, испытанного друга!
Зато в «Русском слове» вот этой самой сыворотки и игры ума сколько хочешь.
Царит, управляет, всех и вся под себя гнёт, орёт и мордует Влад Дорошевич.
Шестидесятник он никакой, но редактор и журналист Богом отмеченный. Сытинских денег не щадит, не жалеет.
В любом углу, в любом провинциальном захолустье корреспондент на корреспонденте сидит, корреспондентом погоняет.
На фронте Василий Иванович Немирович-Данченко, весь в папахах и в бакенбардах, невзирая на возраст, как угорелый носится, и такое пишет, что печатать неловко.
Но, что поделаешь, любит читатель, чтоб его за жабры брали. Ну, и получай вдоволь.
Главное, чтоб скуки не было.
Подавать повкуснее, и в горячем виде.
В Петербургском отделении А. В. Руманов, вездесущий, как Фигаро. Всё видит, всё знает.
Раньше всех всё пронюхает. Из министерских приёмных не вылезает.
Днём ездит, ночью телефонирует.
На извозчиков состояние тратит.
А уж о московском составе и говорить не приходится.
Александр Александрович Яблоновский. А. Р. Кугель (Homo novus). А. В. Амфитеатров, Сергей Потресов. Григорий Петров. Н. Ашешов, Ив. Жилкин. Н. А. Тэффи. Профессор Метальников. Пантелеймон Пономарёв. Константин Орлов. Юрий Сахновский. Ал. Койранский, Вилли (В. Е. Турок), Петр Потёмкин, И. М. Троцкий, А. Коральник, Н. В. Калишевич.
А всех разве перечислишь?
В двунадесятые праздники, а также на Пасху и на Рождество, академик Иван Алексеевич Бунин.
А в невралгическом пункте, на перепутье ветров, на перекрестке, забитом метранпажами, корректорами, наборщиками, телеграфистами, репортёрами, запоздавшими театральными хроникёрами, и всякой нужной и ненужной, утомительной, кропотливой и изнуряющей мелочью, в гуденьи машин, в табачном дыму, сидит, как Гаспар из «Корневильских колоколов», мрачный, сосредоточенный, от рождения лысый, лицом похожий не то на петербургского Пассовера, не то на флорентийского Савонаролу, неистовый, влюблённый в свое ремесло, вечный ночной редактор Александр Абр. Поляков.
Знакомство с ним произойдёт в Киеве при гетмане Скоропадском, а крепкая дружба на веки веков завяжется на улице Бюффо, в Париже, в «Последниех новостях» П. Н. Милюкова.
Успех «Русского слова» был сказочный, тираж по тем временам, неслыханный, а Дорошевичу всего было мало, сердился, хмурился, ногами топал, и в минуты раздражения говорил Сытину:
— У вас в конторе даже построчных подсчитать не умеют. Вот посажу вам в бухгалтерию Малинина и Буренина, они вам, Иван Дмитрич, сразу порядок наведут!
* * *
В Ваганьковском переулке хиреет, чахнет «Голос Москвы», наследие Пастухова.
Направление захолустное, убогое, замоскворецкое.
Лампадное масло и нашатырный спирт.
Романы с продолжением, с ограблением, с несчастной любовью, смотринами, именинами, неравным браком.
Герой пьет горькую, мамаши липовый чай, а виновница торжества серную кислоту.
Покуда все они пили, читатели естественной смертью тоже вымирали, а новое поколение чувствительностью не отличалось.
Тираж падал, газета дышала на ладан.
Оживить её взялся Никандр Туркин, писавший в молодости лирические стихи, а в расцвете лет перешедший на прозу.
Стихи его быстро забылись, а прозу нельзя было забыть только потому, что никто её не читал.
Призвали на помощь милого, рыхлого, одутловатого Анзимирова, старого журналиста и вечного молодожена.
Анзимирова поддерживал Н. И. Гучков, бывший московский городской голова.
Газета стала заниматься высокой политикой, поддерживала октябристов, давала длинные отчеты о заседаниях городской думы, не говоря уже о Государственной, много места уделяла коннозаводству и другим жгучим и неотложным вопросам.
Но возврата к прошлому уже не было.
Время было беспощадное, суровое, военное.
— Одним коннозаводством не проживёшь, а издателей уму не научишь! — с тоской говорил бедный Анзимиров, изредка появляясь с бледной молодой женой в Художественном кружке.
Держалась газета до самой октябрьской революции, но так как новые октябристы опирались больше на Владимира Ильича, нежели на Николай Иваныча, то газету закрыли в первый раз за всё время ее существования, но зато уже навсегда.
* * *
Большим, слегка бульварным успехом пользовались во время войны «Вечерние новости», которые издавал всё тот же Крашенинников, а редактировал Борис Ивинский, петербургский журналист из окружения Василевского (не-Буквы), в надежде славы и добра переселившийся в Москву.
Человек он был темпераментный, малограмотный, но одарённый, а на ролях редактора проявил способности пожалуй выше среднего.
Пунктом помешательства была у него вёрстка.
— Первая страница должна пылать, вторая гореть, а все остальные то там, то тут ярко вспыхивать.
Первое качество — поразить, ошарашить, ударить в лоб, и по темени.
Все прочие качества — суть производные.
Появились новые шрифты, крупные заголовки, жирно набранные сенсации, коротенькие, но ударные передовички, и три маленьких фельетона в каждом номере: военный, штатский и скаковой…
— Война и скачки! — кратко резюмировал, просматривая тиражную рапортичку, весьма удовлетворённый успехом своего детища, Крашенинников.
Сотрудники были молодые, зелёные, начинающие.
— Быстров, Шальнев, Хохлов, Вержбицкий.
Отдел скачек вёл сам редактор, сильно этим спортом увлекавшийся.
А военные стихи, под псевдонимом Гидальго, писал сотрудник «Раннего утра» и суворинской «Нови» Д. Аминадо.
В четыре часа дня «Вечёрка» бралась нарасхват, редактор уезжал на скачки, издатель подсчитывал барыши.
Тридцать лет спустя, — все эпилоги происходят тридцать лет спустя! — после трудной, жалкой и нетрезвой эмигрантской биографии, Борис Иванович Ивинский, опускавшийся всё ниже и ниже, закончил свою журнальную деятельность в «Парижском вестнике» Жеребкова, где так же неумеренно, как когда-то московских Галтиморов, славил немецких генералов, пресмыкался пред победителями, и венчал на царство Великого Фюрера с бильярдной кличкою Адольф.
Умер он в страшной нищете и в еще более страшном одиночестве.
О смерти его узнали случайно, и с невольной грустью сказали: — Конец Чертопханова.
* * *
После неслыханного успеха петербургской «Руси», а в особенности после окончательного закрытия ее, за основателем и редактором ее Алексеем Алексеевичем Сувориным (А. Порошиным), блудным сыном «Нового времени», установилась прочная репутация бунтаря, безумца, конквистадора, порой народника, порой славянофила, во всяком случае бесспорного и горячего патриота — без примечаний и кавычек.
«Русь» расцвела в разгар японской войны, отцвела несколько лет спустя, но оставила по себе не бледнеющее от времени воспоминание, как о чём-то значительном, ярком, и по смелости и независимости редком — в те жуткие конституционные времена — литературном и газетном событии.
Редактор был разорён, продал небольшое наследственное именьице, уплатил долги и, после долгого и вынужденного безмолвия, нашел пайщиков, воспрянул духом, и решил начать все сначала.
Знаменитого отца уже не было в живых.
«Новое время» продолжало гнуть свою нововременскую линию.
В Петербурге, переименованном в Петроград, попахивало мертвечинкой.
Алексей Порошин переехал в Москву, и в самый разгар войны, и всё на той же Большой Дмитровке снова раздул кадило.
— Название должно быть короткое и по возможности односложное, газета будет называться «Новь»! — заявил он на первом редакционном собрании. — Предупреждаю, что газета эта будет особенная, ни на какую другую не похожая, и ни от каких банков и промышленных кругов не зависящая.
Надо сказать, что А. А. Суворин был натурой крайне неуравновешенной, с большими странностями, и с совершенно невероятной путаницей либерализма, славянофильства, терпимости, отрицания, прозорливости и тупости.
Последним его увлечением были иоги, индийская мудрость, непротивление злу и, в то же время, резкая, властная, непреодолимая тяга к борьбе, беспощадности, презрению к несогласным, спорящим, инакомыслящим.
Сказались эти черты характера и на подборе сотрудников, образовавших столь пестрый и неожиданный веер вокруг маленькой седеющей редакторской головы, что им, конечно, можно было только обмахиваться для пущего развлечения, и не издавать газету, да еще «особенную».
Но Суворин нисколько не развлекался, а, сжав зубы, упорно преследовал свою навязчивую идею, да не одну, а несколько сразу.
Передовые статьи с большим изяществом и, пользуясь изысканной, далеко не всем доступной терминологией, писал эстетический анархист, доцент Московского университета, Алексей Алексеич Боровой.
На ролях домашнего философа и так сказать редакционного йога состоял некто Успенский, большой специалист по четвёртому измерению.
В редакции по этому поводу не без опаски говорили:
— Лишь бы не было абстракции при уплате гонорара!
Но опасения эти были несправедливы и неосновательны.
В плане земном и материальном всё было в порядке, — и бумага, и типография, и экспедиция, и гонорар.
Ничего не понимали только одни читатели.
Филипп Петрович Купчинский, высокий человек в зелёном френче и лакированных ботфортах, прославившийся еще в «Руси» своими душу раздирающими описаниями голутвинских расстрелов, учинённых семеновцами, состоял теперь военным корреспондентом и присылал с фронта такие картинки окопной жизни, что даже в искушенной редакции и то диву давались.
Оказывалось, что в окопах, когда наступало затишье, солдаты мирно беседовали о переселении душ, и хотя по штабным понятиям назывались стрелками, на самом деле были убежденными теософами, а Блаватскую чуть ли не считали шефом полка.
Прибавить к этому большие нижние фельетоны известного клоуна Владимира Дурова, под интригующим названием «Думающие лошади», которым талантливый клоун посвятил труды и дни в своём роскошном, знакомом всей Москве, особняке на Божедомке.
Да не забыть упомянуть о статьях самого Алексея Порошина — из номера в номер — о лечении голодом… — и то трудно себе представить, какой отдых для души выпал на долю читателей и какой тираж — на долю газеты!
Эстетический анархизм, четвёртое измерение, заклинание змей, теософы с винтовкой на прусском фронте, божедомские дневники, — и редакторская уступка темной толпе, — маленькие фельетоны Юрия Бочарова в прозе и Д. Аминадо в стихах, — какое надо было иметь пищеваренье, чтобы всё это переварить, и какие деньги и упорство, чтобы всё это продолжать.
В разговорах с Бочаровым, и даже с Боровым, мы часто себя спрашивали:
— Чего же хочет этот талантливый сумасброд, этот каким-то несомненным огнём перегорающий человек, какую цель он преследует, с какими ветреными мельницами он воюет, какой правды ищет и в каком нереальном мире, в это страшное время, вне времени, живёт?!
Ответить никто не мог.
Просуществовав больше года, особенная газета умерла естественной смертью.
Через двадцать лет, в Белграде, на тридцатый день добровольного голодания, превратившись в скелет, в мумию, испив полный глоток апельсинового соку и может быть познав истину, толпе недоступную, Алексей Порошин скончался.
* * *
В «Утре России», на которую большие деньги бессчётно тратил В. П. Рябушинский, брат Чёрного лебедя, редактором состоял А. П. Алексинский, а на ролях городского сумасшедшего и настоящей души газеты был Савелий Семенович Раецкий, беспокойный человек и прирожденный журналист.
Газета считалась умеренно-оппозиционной, безусловно либеральной, но особой яркостью не отличалась и большого влияния на умы и настроения не имела.
Выделялся в «Утре России» Ал. Койранский, писавший о театре, и перешедший потом в «Русское слово», к Дорошевичу.
Бурнопламенной лавой извергался и растекался будущий лауреат премии Сталина, Илья Эренбург.
А. П. Алексинский и Ф. П. Шипулинский делили между собой скуку передовых статей, один уныло поддерживал военно-промышленные комитеты, другой громил Штюрмера и нового министра внутренних дел Николая Алексеевича Маклакова, прославившегося своим знаменитым прыжком влюбленной пантеры, развлекавшим Петербург и Царское Село.
Сергей Кречетов, поэт и основатель утонченного «Грифа», писал впечатления с фронта и отлично рассказывал, как, чудом уцелев в штыковом бою, вернулся в свою офицерскую палатку, смыл с себя ледяной водой окопную грязь, опрыскался тройным одеколоном и, чтоб не потерять образа человеческого, всю ночь напролет читал «Манфреда» Байрона.
Всё это было очень свежо и неожиданно.
Тем более, что было это за год до Брест-Литовска.
* * *
Фронт глухо ворочался, брюзжал, но терпел, крепился и держался.
Не знал удержу только один тыл.
В клубах сумасшедшая азартная игра.
Метали банк нажившиеся на поставках Лубянские молодцы, ненасытные деляги из Китай-Города, долго завтракавшие в «Славянском базаре», а по ночам проигрывавшие целые состояния в Английском, Купеческом, в Охотничьем, в особняке Востряковых на Большой Дмитровке.
Балы и вечера «в пользу раненых» превосходили по роскоши всё до тех пор виденное.
Сначала — кесарево кесарю, — уделялся часок-другой военной поэзии и гражданской мелодекламации.
Любимец публики, артист Малого театра, Владимир Васильевич Максимов, слегла подрумяненный и напудренный, из вечера в вечер читал мои стихотворные грехи молодости, посвященные королю Альберту:
Наступит день. Он будет ярок! На именины короля Весь мир отдаст ему в подарок Его бельгийские поля!Нарядные дамы были этим обещанием очень растроганы.
Из Петербурга приезжал Н. Н. Ходотов и устало декламировал под аккомпанемент рояля:
Счастлив лишь тот, кому в осень холодную Грезятся ласки весны. Счастлив кто спит, кто про долю свободную В тесной тюрьме видит сны. Горе проснувшимся… В ночь безысходную Им не сомкнуть своих глаз.И, после многозначительной паузы, почти шопотом пояснял:
Сны беззаботные, сны мимолетные Снятся лишь раз…Намёк был понят, гром рукоплесканий, Ходотов привычным жестом откидывал непослушную прядь волос, и кланялся так, как кланяются все баловни судьбы на театральных подмостках.
Автором этих пользовавшихся неимоверным успехом строф был русский Catulle Mendes, Николай Максимович Минский, а положил их на музыку популярный в те времена Н. Вильбушевич.
Трафарет, однако, требовал продолжения: Песни Индийского гостя из оперы «Садко», хоровой удали «Вдоль да по речке, вдоль да по быстрой», и, в зависимости от аудитории, песни начинавшего входить в моду Вертинского.
О Вертинском можно было бы написать не рецензию, а целое исследование.
Но ученые социологи разумеется выше этого, а психиатры просто еще не додумались.
Между тем в эпоху упадка, предшествовавшего войне, и в период развала, за ней последовавшего, надрывные ритмы аргентинского танго и манерная сухая истерика столичного Арлекина являли собой два звена единой цепи, — начало конца и самый конец.
Погубили нас не одни только цыганские романсы, чайки и альбатросы, но и все эти подёргивания, откровения и телодвижения, гавайские гитары, вздрагивания, сурдины и, конечно, притоны Сан-Франциско, где
Лиловый негр вам подаёт манто…После всей этой литературной и вокальной мешанины начинался бал, танцы до утра, рябчики, буфет, пробки в потолок, и напрасен был, как глас вопиющего в пустыне, хриплый, полуприличный, как всегда нарочитый, но быть может и не совсем неискренний окрик Владимира Маяковского, который так и гаркнул на весь мир с окрестностями:
А вы, проводящие за оргией оргию, Имеющие ванную и тёплый клозет, Как вам не стыдно о представленных к Георгию Вычитывать из столбцов газет?* * *
Тучи на горизонте сгущались, как выражались провинциальные передовики, и становилось все чернее и чернее.
В темпе нараставших событий уже не хватало ни adagio, ни allegro.
Одно presto, одно furioso!
На Сухаревке, на Таганке, на толкучках, в знаменитой Ляпинке — студенческом общежитии, на Большой Козихе и на Малой, на университетских сходках, начинавшихся на Моховой и кончавшихся в Манеже, из трактира в лабаз, из Торговых Рядов на улицу, — ползли, росли, клубком клубились слухи, шопоты, пересуды, «сведения из достоверных источников», сообщения, глухие, нехорошие разговоры.
Ходили по рукам записочки, лубки, загадочные картинки, воззвания, стишки, эпиграммы, неизвестных авторов поэмы, весь этот не то сумбур, не то своеобразный народный эпос, всегда предшествующий чему-то необыкновенному, роковому и неизбежному.
Среди многочисленных неизвестных авторов — теперь в порядке послесловия и эпилога, целомудренные скобки можно раскрыть, — был и автор настоящей хроники, погрешивший анонимными и неуважительными виршами, посвященными сибирскому колдуну и петербургскому временщику.
Восстанавливать приходится по памяти, но так как своя рука владыка, то за неточности и запамятования просить прощения не у кого.
Была война, была Россия. И был салон графини И. Где новоявленный Мессия Хлебал французское Аи. Как хорошо дурманит дёготь И нервы женские бодрит… — Скажите, можно вас потрогать? — Хозяйка дома говорит. — Ну, что ж, — ответствует Григорий — Не жалко. Трогай, коли хошь… А сам поднявши очи горе, Одним глазком косит на брошь. Не любит? Любит? Не обманет? Поймет? Оценит робкий жест? Ее на груздь, на ситный тянет… А он глазами брошку ест. И даже бедному амуру Глядеть неловко с потолка На титулованную дуру, На бородёнку мужика. Княгини, фрейлины, графини, Летят, как ведьмы на метле. И быстро падают твердыни В бесстыдной обморочной мгле. А чародей, змея, мокрица, Святой прохвост и склизкий хам, Всё извивается, стремится, К державе, к скипетру, к верхам. …За что ж на смерть идут герои? Почто кровавый длится бой? Пляши, кликуша!.. Гибель Трои Приуготовлена судьбой.* * *
Война до победного конца!
Девиз всё тот же. Лозунг остаётся в силе.
Верить во что бы то ни стало. Рассудку вопреки, наперекор стихиям.
А разбушевавшиеся стихии уже хлещут через борт.
1 ноября с трибуны Таврического дворца раздаются речи, которых топором не вырубишь.
Голос Милюкова прерывается от волнения.
С побелевших уст срываются слова, исполненные вещего, угрожающего, убийственного смысла.
— Что ж это, глупость? Или измена?!.
Ответа не будет.
Его никто не ждёт.
Ни от сильных мира, уже обессиленных.
Ни от притаившейся безмолвствующей страны, силы своей еще не сознавшей.
Всё в мире повторяется. Так было, так будет.
Когда молодое вино цветёт, старое уже бродит.
Лента на экране дрожит, мигает.
16-го декабря, во дворце князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона, бесхребетной, зелёноглазой гадине придет конец.
Глухой ночью окровавленное тело будет сброшено в холодную, чёрную Неву.
А на утро Петербург, Россия, мир — узнают правду:
— Распутина нет в живых.
Остальное будет в учебниках истории.
Неучи Иловайского, ученики Ключевского, каждый расскажет её по-своему.
Пребудут неизменными только числа и даты.
2-го марта на станции Дно, в вагон царского поезда, стоящего на запасных путях, войдут тучный А. И. Гучков и остроконечный В. В. Шульгин.
Всё произойдет с потрясающей простотой.
Никто не потеряет самообладания.
Ни барон Фредерикс, последний министр Двора, ни худощавый, подвижной генерал Данилов, ни господа уполномоченные Государственной Думы.
Николай Второй, Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, подпишет акт отречения, напечатанный на пишущей машинке.
И не пройдет и нескольких дней, как во главе Гвардейского экипажа, предшествуемый знаменосцем с красным знаменем, великий князь Кирилл Владимирович, будущий зарубежный монарх не Божьей милостью, а самотёком, одним из первых явится на поклон, присягать на верность новой власти.
Матросы Шекспира не читают, и монолог Гамлета им неизвестен.
«Еще и башмаков не износили»…
* * *
Былина, сказ, легенда, предание, трехсотлетие Дома Романовых, всё кончается, умирает и гаснет, как гаснут огни рампы, огни императорского балета.
В ночь с 3-е на 4-е марта в квартире князя Путятина на Миллионной улице, все ещё не отказываясь от упрямой веры в конституционную, английскую! монархию… с несвойственной ему страстностью, почти умоляя, обращался к великому князю Михаилу Александровичу, взволнованный, измученный бессонницей, Милюков:
— Если вы откажетесь, ваше высочество, страна погибнет, Россия потеряет свою ось!..
Решение великого князя бесповоротно.
Руки беспомощно сжаты, ни кровинки в лице, виноватая, печальная, насильственная улыбка.
В гостиную входит высокая, красивая, молодая женщина, которой гадалки гадали, да не судила судьба.
Не быть ей русской царицей.
Дочь присяжного поверенного Шереметевского, разведенная офицерская жена, а ныне графиня Брасова, морганатическая супруга Михаила Александровича.
Что происходит в душе этой женщины? С какими честолюбивыми желаниями и мечтами борются чувства любви и страха за сына Александра Третьего?
Рассказывая о прошлом, Милюков утверждал, что московская красавица держала себя с огромным, сдержанным достоинством.
Жизнь ее была похожа на роман, но каждая глава его отмечена роком.
Безумно влюбленный великий князь, припавший к мраморным коленям Победы Самофракийской.
Короткое счастье, озарённое страшным заревом войны.
Отречение мужа, после отречения Царя.
Вдовство и материнство в длительном, многолетнем изгнании, в отражённом блеске, в тускнеющем ореоле.
Гибель единственного сына, разбившегося на автомобильных гонках.
Одиночество, нищета, и освободительница — смерть на койке парижского госпиталя.
На церковном дворе rue Daru, после торжественного богослужения, за которое платил какой-то меценат, в жалкой толпе стариков и старух, дряхлых современников, и газетных репортёров, кто-то вспомнил слова давно забытого романса, который пел во времена оны, знаменитый Давыдов:
Она была мечтой поэта… Подайте, Христа ради, ей…XVIII
Легенда кончилась, началась заворушка.
Одна длилась столетия, другой отсчитано восемь месяцев.
Избави нас Бог от жалких слов, любительских суждений, неосторожных осуждений.
А пуще всего — от безответственного наездничества и кавалерийского наскока.
Хихикать и подмигивать предоставим госпоже де-Курдюковой, которую выдумал Мятлев, а воплотило в плоть и кровь всё, что было худшего в зарубежье.
Начиная от сменовеховцев двадцатых годов и кончая нынешними шестидесятниками, кои, доехав до Минска при Гитлере, удалились под сень мюнхенских Bierhalle для бредовых объединений и расторопных манифестов.
И все-таки, надо сказать правду: заворушка, превратилась в драму, драма — в трагедию, а учредительное собрание разогнал матрос Железняк. Почему, и как всё это произошло, объяснит история…
Которая, как известно, от времени до времени выносит свой «беспристрастный приговор».
Князь Львов был человек исключительной чистоты, правдивости благородства.
Павел Николаевич Милюков был не только выдающимся человеком и великим патриотом, но и прирожденным государственным деятелем, самим Богом созданным для английского парламента и Британской Энциклопедии.
А когда старая, убелённая сединами, возвратившаяся из сибирской каторги, Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская взяла за руку и возвела на трибуну, и матерински облобызала, и на подвиг благословила молодого и напружиненного Александра Федоровича Керенского, — умилению, восторгу, и энтузиазму не было границ.
— При мне крови не будет! — нервно и страстно крикнул Александр Федорович.
И слово своё сдержал.
Кровь была потом.
А покуда была заворушка.
И, вообще, всё Временное Правительство, с Шингарёвым и с Кокошкиным, с профессорами, гуманистами, и присяжными поверенными, всё это напоминало не ананасы в шампанском, как у Игоря Северянина, а ананасы в ханже, в разливанном море неочищенного денатурата, в сермяжной, тёмной, забитой, и безграмотной России, на четвёртый год изнурительной войны.
И вот и пошло.
Сначала разоружили бородатых, малиновых городовых, и вёл их по Тверской торжествующий и весёлый Вася Чиликин, маленький репортёр, но ходовой парень.
Через несколько лет он станет редактором харбинских, шанхайских и тянь-тзинских листков, и будет получать субсидии то в японских иенах, то в китайских долларах.
Вместо полиции, пришла милиция, вместо участков комиссариаты, вместо участковых приставов присяжные поверенные, которые назывались комиссарами.
Примечание для любителей:
— Одним из них был и некий Вышинский, Андрей Януарьевич.
Вслед за милицией появилась красная гвардия.
И, наконец, первые эмбрионы настоящей власти:
— Советы рабочих и солдатских депутатов.
Естествознание не обмануло революционных надежд.
Из эмбрионов возникли куколки, из куколок мотыльки, с винтовками за плечом, с маузером под крылышками.
Мотыльки стали разъезжать на военных грузовиках, лущить семечки, устраивать митинги, требовать, угрожать, вообще говоря, — углублять революцию.
Керенский вступил в переговоры, сначала убеждал, умолял, потом тоже угрожал, но не очень.
Тем более, что ни убеждения, ни мольбы, ни угрозы не действовали.
Грузовиков становилось всё больше и больше, солдатские депутаты приезжали с фронта пачками, матросы тоже не дремали.
А с театра военных действий приходили невеселые депеши.
— От генерала Алексеева, от Брусилова, от Рузского, от Эверта.
В порыве последнего отчаяния, в предчувствии неизбежной катастрофы, Керенский метался, боролся, телеграфировал, часами говорил пламенные речи, выбивался из сил, готовил новые полки, проявлял чудовищную нечеловеческую энергию, и, обессиленный, измочаленный, с припухшими веками, возвращался из ставки в тыл.
А в тылу шли митинги, партийные собрания, совещания, заседания, что ни день возникали новые комитеты, советы, ячейки, боевые отряды; и министр труда принимал депутацию за депутацией, и не просил, а умолял:
— По крайней мере не стучать кулаком по столу!
Но глава депутации не смущался, опрокидывал министерскую чернильницу царских времён, и начинал зычным голосом:
— Мы, банщики нижегородских бань, требуем…
Продолжение следовало.
И на плакатах уличной демонстрации уже было ясно написано аршинными буквами:
— Товарищи, спасайте анархию! Анархия в опасности!..
В так называемых лучших кругах общества, начиная от пёстрой по составу интеллигенции, еще так недавно исповедывавшей весьма левые, крайние убеждения, и до либеральной сочувствовавшей буржуазии, тайком почитывавшей приходившую из Штутгарта «Искру» и «Освобождение», — царила полная растерянность, распад, нескрываемая горечь и уныние.
— Революция, как Сатурн, пожирает собственных детей!.. — мрачно повторял один из умнейших и просвещённейших москвичей, Николай Николаевич Худяков, профессор Петровско-Разумовской Академии, обращаясь к своему старому приятелю, Якову Яковлевичу Никитинскому, написавшему энное количество томов по вопросу об азотном удобрении.
Никитинский, несмотря на почтенный возраст, был неисправимым оптимистом, и в пику Худякову, который всё ссылался на Карлейля, возражал ему с юношеской запальчивостью:
— Я, Николай Николаевич, из научных авторитетов признаю только один.
— А именно?
— А именно, лакея Стивы Облонского. Великий был мудрец, хорошо сказал: увидите, образуется!
Через несколько недель скис и сам Яков Яковлевич.
За новым чаепитием, в уютной профессорской квартире на Малой Дмитровке, Худяков не удержался и, не глядя на начинавшего прозревать приятеля, бросил куда-то в пространство:
— А в общем, Никитинский был прав, действительно всё в конце концов образуется.
Вот и образовалась опухоль, и не опухоль, а нарыв. И если его во время не вскрыть, произойдет заражение крови…
Интеллигентское чаепитие давно окончилось; нарыв, как известно, был вскрыт; а что вслед за вскрытием не только произошло заражение крови, но что продолжается оно и по сей день, — этого не мог предвидеть не только Худяков, но и все профессора всего мира, вместе взятые.
* * *
По ночам ячейки заседали, одиночки грабили, балов не было, но в театре работали вовсю.
Газет развелось видимо-невидимо, и большинство из них призывали к сплочению, к единению, к объединению, к войне до победного конца.
Даже Владимир Маяковский, и тот призывал.
Взобравшись на памятник Скобелеву против дома генерал-губернатора, потный от воодушевления, он кричал истошным голосом:
— Теперь война не та! Теперь она наша! И я требую клятвы в верности! Требую от всех и сам её даю! Даю и говорю — шёлковым бельем венских кокоток вытереть кровь на наших саблях! Уррра! Уррра! Уррра!
А неподалеку от Скобелева, в Музыкальной Табакерке, на углу Петровки и Кузнецкого Моста, какие-то новые дамы, искавшие забвения, отрыва, ухода от прозы жизни, внимали Вертинскому, и Вертинский пел:
Ваши пальцы пахнут ладаном, А в ресницах спит печаль.Возможно, что все это было очень кстати.
Но так как одним ладаном жив не будешь, то для душевного отдохновения читали «Сатирикон» и потом собственными словами рассказывали то, что написал Аверченко.
Каждый номер «Сатирикона» блистал настоящим блеском, была в нём и беспощадная сатира, и неподдельный юмор, и тот, что на миг веселит душу, и тот, что теребит сердце и называется юмором висельников, весьма созвучным эпохе.
Всё это прошло, и быльём поросло.
Пожелтевшие страницы старых комплектов, журнальных и газетных, можно только перелистывать.
Читать их невозможно.
Все, что было написано и напечатано, все эти стихи, пародии, ядовитые фельетоны, нравоучительные басни, жёлчные откровения, и заостренные сатиры — отжило свой век, который длился день или месяц.
От былого огня остался дым, который уносится ветром.
И какой-то вкус горечи и холода, и перегара — от этой обреченной и преходящей славы.
Рыцари на час, баловни капризных промежутков, любимцы кратковременной судьбы, самые талантливые, блестящие и знаменитые журналисты расточают свой несомненный дар, швыряют его всепоглощающей мишуре, и почивают на лаврах, которые превратятся в сор.
Сгореть, испепелиться, но горячо подать, немедленно, сейчас.
Станки и линотипы не терпят и не ждут.
— Пусть завтра будет и мрак и холод. Сегодня сердце отдам лучу!..Ни целомудренных зачатий, ни длительного материнства.
Фейерверк взлетит и ослепит на миг.
Обуглится — и все о нем забудут.
Вчера «Стрекоза». Сегодня «Будильник». Завтра «Сатирикон». И потом — прах, пепел, забвение.
* * *
Где-то там, в окопах, в траншеях, в Восточной Пруссии, На Карпатах, идут бои, везут раненых, хоронят убитых, едут в теплушках солдатские депутаты, похоже на то, что война продолжается.
Скоро приедет Ленин в запломбированном вагоне.
На улицах появятся новые плакаты:
— Долой десять министров-капиталистов!
— Долой войну!
— Мир без аннексий и контрибуций.
Наступят прозрачные, золотые, сентябрьские дни.
В доме Перцова, у Храма Христа Спасителя, какие-то последние римляне будут читать друг другу какие-то последние стихи, допивать чай вприкуску, не в пример Петронию, и кто-то вспомнит пророчество Достоевского, что «все начнется с буквы ять», которую росчерком пера отменил профессор Мануйлов.
Появится приехавший из Петербурга А. И. Куприн, в сопровождении своего неизменного Санхо-Панчо, алкоголика и поводыря, Маныча.
На столе появится реквизированная водка, и нездоровой, внезапной и надрывной весёлостью оживится вечерняя беседа.
Куприн скажет, что большевизм надо вырвать с корнем, пока еще не поздно…
На тихий и почтительный вопрос Койранского: «А, как именно, дорогой Александр Иваныч, вы это мыслите и понимаете?» — Александр Иваныч, слегка охмелев и размякнув, вместо ответа процитирует Гумилёва, которого он обожает:
…Или бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвёт пистолет, Так что сыплется золото с кружев Драгоценных брабантских манжет…— Чувствуете вы, как это сказано? — «Из-за пояса рвёт пистолет!..» — продолжает смаковать и восторгаться Куприн.
Четырехугольный Маныч предлагает выпить за талант Гумилева, и хриплым голосом затягивает «Аллаверды».
— Всем ясно, что борьба с большевизмом становится реальностью…
В кафэ «Элит», на Петровских Линиях, молодая, краснощёкая, кровь с молоком, Марина Цветаева чётко скандирует свою московскую поэму, где еще нет ни скорби, ни отчаяния, и только протест и вызов — хилым и немощным, слабым и сомневающимся.
Ее называют Царь-Девица. Вся жизнь ее ещё впереди, и скорбь и отчаяние тоже.
Кафэ «Элит» — это кафэ поэтэсс.
На эстраде только Музы, Аполлоны курят и аплодируют.
Кузьмина-Караваева воспевает Шарлотту Кордэ.
Еще никто не знает, кто будет российским Маратом, но она его предчувствует, и на подвиг готова.
Подвиг ее будет иной, и несказанной будет жертва вечерняя.
Не на русской плахе сложить ей буйную голову, а в неслыханных мучениях умирать и умереть медленной смертью в концентрационном немецком лагере в Равенсбруке.
В антологии зарубежной поэзии останутся ее стихи, в истории русского изгнания — светлый образ Матери Марии, настоящий, неприукрашенный образ отречения и подвижничества.
* * *
В галлерее московских дагерротипов, побледневших от времени, была и Любовь Столица, талантливая поэтэсса, выступавшая на той же эстраде в Петровских Линиях.
Несмотря на шутливый вердикт Бунина —
А столица та была Недалёко от села…— в стихах ее звучали высокие лирические ноты, и была у нее своя собственная, самостоятельная, и по-особому правдивая интонация.
Умерла она совсем молодой — у себя на родине, в советской России.
Последним аккордом в этом состязании московских амазонок была жеманная поэзия Веры Инбер, воспевавшей несуществующий абсент, парижские таверны, и каких-то выдуманных грумов, которых звали Джимми, Тэдди и Вилли.
На настоящий Парнас ее еще не пускали, и на большую дорогу она вышла позже, дождавшись новой аудитории, новых вождей, и «новых песен на заре».
Никаких звездных путей она не искала, но, обладая несомненной одарённостью, писала манерные и не лишенные известной прелести стихи, в которых над всеми чувствами царили чувство юмора и чувство ритма.
Миниатюрная, хрупкая, внешне ни в какой мере неубедительная, — недоброжелатели называли ее рыжиком, поклонники — златокудрой, — она, помимо всего, обладала замечательной дикцией и знала толк в подчёркиваниях и ударениях.
Читая свои стихи, она слегка раскачивалась из стороны в сторону, сопровождая каждую цензуру притоптыванием маленькой ноги в лакированной туфельке.
В стихах чувствовались пружины, рессоры, покачивания шарабана, который назывался кэбом.
Милый, милый Вилли! Милый Вилли! Расскажите мне без долгих дум — Вы кого-нибудь когда-нибудь любили, Вилли-Грум?! Вилли бросил вожжи… Кочки. Кручи… Кэб перевернулся… сделал бум! Ах, какой вы скверный, скверный кучер, Вилли-Грум!Не прошло и года, как Вера Инбер сразу повзрослела.
Побывав в Кремле у Льва Троцкого, вождя красной армии и любителя жеманных стихов, она так, одним взмахом послушного пёрышка и написала:
Ни колебаний. Ни уклона. Одна лишь дума на челе. Четыре грозных телефона Пред ним сияют на столе…* * *
Сентябрь на исходе.
Пришел Валентин Горянский, талантливый, уродливый, тщедушный.
Принёс свою только что вышедшую книгу стихов «Крылом по земле».
Книга отличная, ни на какие другие стихи непохожая, а похвалить нельзя, неловко: книга посвящена мне; так на титульной странице и напечатано.
Он сияет, а жертва смущена.
Зато Горянский не унимается.
Говорит, что два раза подряд ходил в Камерный театр, где всё еще продолжала идти моя трёхактная пьеска «Весна семнадцатого года».
Неумеренно хвалит пьесу, обижается, что автор-шляпа назвал её обозрением, превозносит постановку Азагарова, Татьяну Большакову в главной роли, и в восторге от публики, которая все время «реагирует»…
— Неужели так-таки всё время?
Валентин Иваныч не сдаётся, гнёт свою линию, требует драм, романов, трилогий, говорит, что «строка тебя погубит», — строка это значит работа на построчных, работа в газете.
Возражать ему трудно, остановить словесный поток немыслимо.
Человек он страстный, искренний, невоздержанный.
В стихах целомудрен, в прилагательных и эпитетах расточительно щедр.
Ни один из собеседников не знает, не ведает, что, по прошествии многих лет и долгих десятилетий, Валентин Горянский будет писать в «Возрождении» вымученные пасквили, посвященные тому самому московскому другу, которому была посвящена прекрасная книга «Крылом по земле».
Никакой личной вражды в этом не было.
«Ряд волшебных изменений милого лица» объяснялся проще и прозаичнее: нужда толкнула поэта к эмигрантскому набобу, которого в стихах и прозе изводили «Последние новости».
— Война Белой и Алой Розы.
Набоб мечтал о мщении, и приобрел поэта по сходной цене.
Коготок увяз, всей птичке пропасть.
Следующей и последней ступенью был «Парижский вестник», который на немецкие деньги издавал во время оккупации Жеребков.
Потерявший зрение, почти слепой, голодный, дошедший до крайней степени нищеты и отчаяния, несчастный Горянский со страстью и талантом обливал припадочной жёлчью и бешеной слюной всё, во что когда-то верил и что нежно и бескорыстно любил.
Незрячим глазам не суждено было увидеть вошедшие в Париж дивизии Леклерка, развернутые знамёна, обезумевшую от радости толпу.
В раскрытые окна вливались звуки Марсельезы, звенела медь, и мерно и гулко отбивали марш не потерявшие веры батальоны, пришедшие с озера Чад.
Угасающее сердце встрепенулось, забилось в высохшей груди и угасло навсегда.
На весах справедливости перетягивает прошлое.
— Мир праху поэта.
* * *
В октябре пошли дожди, первые утренние заморозки, последние декреты Временного Правительства.
Путиловский завод поговорил с Сормовским, поговорил и договорился, работа на вооружение, на нужды войны прекратилась.
На фабриках митинги, на площадях митинги.
Заборы заклеены афишами, летучками, манифестами.
На каждом шагу красный флаг, плакат, воззвание.
И одно, из всех щелей, со всех сторон, отовсюду выпирающее, подавляющее, всё сразу объясняющее, магическое слово:
— Долой!..
В Китай-Городе еще сомневаются.
В Торговых рядах надеются.
На Хитровом рынке всё знают наперед.
Долго ждать не придётся.
Конспекты выработаны в Женеве, схемы в Циммервальде, инструкции на финляндской даче, планы военных действий — в Петербурге и в Москве.
Правительство бессильно, но власть лозунгов непоколебима.
— При мне крови не будет!..
В Московском градоначальстве принимают меры. Бразды правления взял на себя присяжный поверенный Вознесенский.
Адвокатурой занимается мало, всё время посвящает своему любимому детищу «Вестнику права».
Милый человек, покладистый, благожелательный.
Быстро загорается, и столь же быстро потухает.
Без конца курит трубку, набитую английским кнастером, и сопит.
Называют его сопкой Манчжурии, или просто Сопкой.
Совещаний и заседаний Александр Николаич терпеть не может, но, невзирая на это, только то и делает, что совещается.
Господа комиссары, инспектора, все высшие и средние чины милиции — всё это присяжные поверенные, и без совещаний жить не могут.
Большой приёмный зал в здании градоначальства превращён в бивуак.
В креслах, на диванах, обитых пунцовым шёлком, а то и попросту растянувшись на дорогих, полных пылью коврах, дремлют, сидят, стоят юнкера Алексеевского Училища.
Все они беспомощно-очаровательны, преступно-молоды и безусы.
Обезоруживающе вежливы и серьёзны.
За серьезностью чувствуется усталость, за усталостью сквозит безнадёжность.
Каждый час смена караула, короткая команда, звяканье шпор, стук винтовок о деревянный паркет.
В соседнем зале, овальном кабинете с окнами на Тверской бульвар, — срочное совещание.
Вознесенский председательствует и сопит, комиссары докладывают, и просят слова к порядку дня.
Порядок дня большой, а октябрьские сумерки надвигаются быстро.
Без конца звонит телефон.
Из участковых комиссариатов весть одна другой тревожнее.
На улицах баррикады, на Пресне пожар, университет Шанявского на Миуссах занят отрядом рабочих, милиция разбегается, на вокзалах сходки, поезда не ходят, на подъездных путях развинчены рельсы, всем распоряжается Викжель, или еще короче, Всероссийский Исполнительный Комитет Железнодорожных Служащих.
С бульвара всё чаще и чаще доносятся выстрелы.
Вознесенский приказывает погасить свет и лечь на пол.
В голосе его слышится неожиданный металл, и слова к порядку дня уже никто не просит.
Телефон звонит все реже и реже.
Стрельба учащается. Юнкера отстреливаются.
Есть раненые. Пробираясь ощупью, спотыкаясь в темноте, несут на носилках первую жертву.
Карабкаясь ползком, а то и на четвереньках, при свете оплывшего огарка, присутствующие узнают убитого наповал.
Фамилия его — Бессмертный.
Трагическая игра слов напрашивается сама собой, но никто и звука не проронит.
Белотелый, дородный, умница и душа нараспашку, отличный цивилист, Л. С. Бессмертный усердно занимался практикой, не вылезал из фрака, как принято было на сословном наречии определять удачливых и быстро шедших в гору адвокатов, любил жизнь, и первую, февральскую революцию принял, как нечаянную радость, как редкий дар судьбы взыскующему поколению.
Ход событий радость эту не мало омрачил, и по отношению к угрожающему, идущему на смену большевизму этот добродушный человек испытывал не просто ненависть и инстинктивное отталкивание, а настоящее, глубокое, доходившее до настоящей тошноты отвращение.
— Если это им удастся, — говорил он с неподдельной тоской в голосе, — то живые души станут мёртвыми, а мертвыми душами будет управлять гениальный осел или безмозглый диалектик!
Вспоминая прошлое, невольно ищешь какого-то запоздалого пояснения, утешительной поправки к незадачливой чужой биографии. И думаешь:
— Милый человек видал только пролог, только первые сумерки, предшествовавшие Вальпургиевой ночи. Ни Дзержинского, ни Менжинского, ни Ягоды, ни Ежова, ни Сталина, отца народов, он не видел, не знал, и может быть, и не предчувствовал.
И, как говорят французы:
— C’est déjà quelque chose.[3]
* * *
На утро 25 Октября заговорили пушки.
Распропагандированные полки вышли из казарм.
На крышах вагонов прибыли с фронта накалённые добела дезертиры.
Уличный плакат стал золотой Грамотой.
Из трёхцветных флагов вырвали синее и вырвали белое, и с красными полотнищами, развевавшимися на ветру, прошли церемониальным маршем по вымершим, безмолвным московским улицам.
Защищались до конца юнкера Алексеевского училища.
Погибло их не мало, и через несколько дней, в страшную непогоду, в стужу, в снежный вихрь, бесновавшийся над городом, — от Иверской и вверх по Тверской — бесконечной вереницей потянулись гробы за гробами, и шла за ними осмелившаяся, несметная, безоглядная Москва, последний Орден русской интеллигенции.
На тротуарах стояли толпы народу, и, не обращая внимания на морских стрелков с татуированной грудью и неопытных красногвардейцев, увешанных гранатами, долго и истово крестились.
* * *
В Феврале был пролог. В Октябре — эпилог.
Представление кончилось. Представление начинается.
В учебнике истории появятся имена, наименования, которых не вычеркнешь пером, не вырубишь топором.
Горсть псевдонимов, сто восемьдесят миллионов анонимов.
Горсть будет управлять, анонимы — безмолвствовать.
Свет с Востока. Из Смольного — на весь мир!
Космос остаётся, космография меняется, меридианы короче.
От Института для благородных девиц до крепости Брест-Литовска рукой подать.
Несогласных — к стенке:
Прапорщиков — из пулемёта, штатских — в затылок.
Патронов не жалеть, холостых залпов не давать. Урок Дубасова не пропал даром.
Всё повторяется, но масштаб другой.
В Петербурге — Гороховая, в Москве — Лубянка.
Мельницы богов мелют поздно.
Но перемол будет большой, и надолго.
На годы, на десятилетия.
Французская шпаргалка — неучам и приготовишкам, русская Вандея — для взрослых и возмужалых.
Корнилов, Деникин, Врангель, Колчак — всё будет преодолено, расстреляно, залито кровью.
Рыть поглубже, хоронить гуртом.
Социальная революция в перчатках не нуждается.
На Западе ужаснутся. Потом протрут глаза.
Потом махнут рукой, и станут разговаривать.
— О марганце, о нефти, о рудниках, о залежах.
Из Америки приедет Абель Арриман. За ним другие.
Сначала купцы, потом интуристы.
— Герцогиня Астор, Бернард Шоу, Жорж Дюамель, Андрэ Жид.
Икра направо, икра налево, рябиновая посередине.
Сначала афоризмы, потом парадоксы, потом восхищение:
— Родильные приюты для туркменов, грамматика для камчадалов, «Лебединое озеро» для всех!..
Из Англии явится мисс Шеридан и увековечит в мраморе Надежду Крупскую.
Отмечено это будет даже за рубежом, в неисправимом гнезде белогвардейской эмиграции.
Как хорошо, что в творческом припадке, Под действием весеннего луча, Пришло на ум какой-то психопатке Изобразить супругу Ильича! Ах, в этом есть языческое что-то… Кругом поля и тракторы древлян, И на путях, как столб у поворота, Стоит большой и страшный истукан, И смотрит в даль пронзительной лазури, На чёрную под паром целину… А бандурист играет на бандуре Стравинского «Священную Весну»…* * *
А покуда всё это будет, надо жить. Под шум мотора под окном, под треск грузовика, нагружённого латышами.
Жить и надеяться.
На чудо, на спасение, на Мильерана, на Клемансо, на президента Соединенных Штатов.
Вообще говоря на то, чем жили все рабы при всех фараонах:
— Через две недели большевики кончатся, выдохнутся, погибнут, разлетятся, как пух с одуванчиков!..
В ожидании пока все пойдет пухом и прахом, как предсказывали лучшие умы, не мешает, однако, подтянуть животы, стиснуть зубы, смахнуть с лица контрреволюционное выражение, и через комиссара почт и телеграфов, Вадима Николаевича Подбельского, получить ордер на подлую машинку Примус, без торжества которой никакая революция в мире немыслима.
Подбельский, бывший репортёр «Русского слова» и бывший дорогой коллега, товарищ председателя Союза журналистов и писателей, хотя и большевик, но тоже глубоко свой парень.
Соображает, думает, мнётся, неловко ему, не по себе бедному, потом — Эх! Где наша не пропадала! — закрывает двери на все запоры и пишет крупным почерком голубиное слово:
— Выдать…
Жизнь прекрасна! Всё еще впереди! И военный коммунизм, и вобла, и вымирающее от голода Поволжье, и суд над адмиралом Щастным, и адмиральская пощёчина генералиссимусу Троцкому, и электрофикация облаков, и убийство в доме Ипатьева, и сифилис, и Апокалипсис, и сочинения Радека, и титул почётного Узбека Марселю Кашэну.
17-ый год на исходе.
Новых календарей не отпечатали, не успели, 31 декабря не отменено.
Перекличка нерасстрелянных состоится в доме Толмачёва, в «Алатре» в ночь под Новый год.
Последние римляне в смокингах. Баженов во фраке, дамы в бальных платьях, на актрисе Рейзен умопомрачительная шаль, прямо из Гренады, из Севильи, из Саламанки.
Собинов, председатель «Алатра», отсутствует; но погреб еще не реквизирован, заветный ключ крепко держит в руках Попелло-Давыдов.
По знаку оперного дирижёра Златина, на столах появляются водки, закуски, индейки, шампанское.
Охраняют входы Туржанский, будущий синеаст, и душка Берсенев, актёр Художественного Театра.
Лоло-Мунтшейн не расстаётся с моноклем, В. Н. Ильнарская не расстаётся с Лоло.
Называли их — Рампа и Жизнь.
В честь их театрального журнала и недавнего бракосочетания.
На маленькой эстраде Пётр Лопухин тонким детским фальцетом рассказывает «веселенькую» историю, которую знает вся Москва.
Лев Никулин читает свою фривольную поэму, написанную вне времени и вне пространства.
М. С. Линский представляет собравшимся молоденькую Сильвию Дианину, будущую актрису «Летучей мыши».
Дианина поёт, танцует, Линский на седьмом небе, это он её отыскал в только что открывшемся кабарэ под подозрительным по контрреволюции названием «Ко всем чертям», и предсказал ее актёрскую судьбу.
В полночь появляется Борисов с гитарой, и весь Алатр, стоя, и в последний раз поёт —
Время изменится, Всё переменится…Тосты — один другого смелее и дерзости похвальной, но отчаянной.
Присяжный поверенный Якулов, сердцеед и душа общества, в потрясающей черкесске, перетянутой серебряным пояском на плотной талии, лихо танцует лезгинку с разбушевавшейся Потопчиной.
В дверях какой-то подозрительный стук, шум, звяканье, настойчивые уговоры Туржанского.
Дамы в бальных платьях бледнеют.
Выхоленного Виленкина и усатого Меировича, явившихся в полной офицерской форме при четырёх Георгиях, куда-то спешно уводят, прячут, те сопротивляются, суета, замешательство.
Актриса Рейзен решительно поднимается на помощь Туржанскому и через несколько минут шум стихает.
Отряд особого назначения удаляется, польщённый командир из бывших ефрейторов церемонно берет под козырёк и обещает не беспокоить.
Н. Н. Баженов бережно ведет Рейзен обратно в зал, — овации, рукоплескания, восторги.
— Красота — это страшная сила! — стараясь перекричать всех уже не детским фальцетом, а собственным, честным баритоном, восклицает Пётр Лопухин, и смачно целует ручки победительницы.
Секрета ее ещё никто не знает, ибо секрет Луначарского есть государственная тайна.
Пир во время чумы кончен.
Следующей переклички не будет.
XIX
Время шло, не останавливаясь.
Каждый день приносил новое, страшное, непоправимое.
Обе столицы превращались в вотчины, но назывались коммунами.
Петроградской коммуной правил Зиновьев, Московской — солдат Муралов.
Стены и заборы были заклеены стихотворным манифестом Василия Каменского, одного из вождей разбушевавшегося футуризма.
Манифест прославлял Стеньку Разина: в нарочито-хромых гекзаметрах должна была вдохновенно отразиться лапидарная проза Ильича.
— Грабь награбленное!
Декрету не хватало ореола. Марксистской логике — былинной поэзии. Указ должен был стать заповедью.
Придворная литература рождалась на улицах и мостовых.
Это только потом, много лет спустя, восторг неофитов и примитивы самоучек получили великодержавное оформление, в порядке советского престолонаследия и смены монархов.
Картуз Ильича превратился в корону Сталина.
И по сравнению с монументальным «Петром» Алексея Николаевича Толстого закорузлая поэма Василия Каменского показалась жалкой реликвией глинобитного века.
Жизнь однако продолжалась.
Чрезвычайная Следственная Комиссия, — так церемонно называлась когда-то ЧК, — еще не достигла высот последующего совершенства, оставались какие-то убогие щели и лазейки, чрез которые проникало порой незаконное дуновение свежего воздуха, и ничтожная, еще нерасстрелянная горсть инакомыслящих и инаковерующих, упорствующих, раскольников, непримиримых и духоборов или, по новой терминологии, гнилых интеллигентов, в безнадёжном отчаянии хваталась на каждый призрак, за каждый мираж, за всё, что на один короткий миг казалось подавленному воображению еще возможным и, рассудку вопреки, осуществимым…
Свобода печати официально еще не была отменена.
За исключением «Русского слова», — редакция на Тверской и типография были немедленно реквизированы для «Известий совета рабочих и крестьянских депутатов», — почти все московские газеты не только продолжали выходить, но, озираясь по сторонам и оглядываясь, даже позволяли себе не только целомудренные возражения и осторожную критику, но и некоторые субтильные вольности, за которыми, впрочем, следовало немедленное заушение, конфискация, и закрытие.
В нескромной памяти запечатлелся случай из жизни «Раннего утра».
Владелец газеты и официальный ее редактор Н. Л. Казецкий, человек темпераментный и несдержанный, ни за что не хотел уступить доводам и уговорам передовика и фактически заведующего редакцией, тишайшего и неизменно улыбающегося Э. И. Печерского, который умильно, но настойчиво возражал против напечатания в газете уж очень откровенных в смысле контрреволюции частушек.
— Вот увидите, Николай Львович, газету закроют…
— Ну, и закроют! На день раньше, на день позже, — какое это имеет значение?! По крайней мере, пропадать, так с музыкой! А что частушки эти будет завтра вся Москва повторять, за это, Эразм Иустинович, я, старый волк, вам головой ручаюсь!..
Печерский только разводил руками, и неуверенно улыбался.
— Хотите может быть плебисцит устроить? — язвительно предложил Казецкий.
Предложение вызвало дружный хохот всей редакции.
Недаром друзья называли Казецкого самодержцем, а враги самодуром.
Спорить с ним было бессмысленно, и только для Печерского, и то ввиду его особого в газете положения, допускалось иногда, в виде редкого исключения, это всеподданнейше высказанное собственное мнение.
Но Казецкий не сдавался, и требовал «вотума».
Никто разумеется всерьёз этого не принимал, репутация редактора была слишком хорошо известна, но время было сумбурное, оживление нездоровое, и нервы у всех не на шутку взвинчены.
А терять было действительно нечего.
Дамоклов меч, как великолепно выражался балетный хроникер Флееров, давно уже был занесен над всей «пишущей братией».
В конце концов, после недолгого, но веселого замешательства, милейший Муска, а в миру Федор Генрихович Мускатблит, раз в неделю военный обозреватель, а остальные шесть раз в неделю заведующий городской хроникой, загадочно переглянулся с окружавшими его сотрудниками и быстро подсчитав не столько голоса, сколько красноречивое выражение каждой пары глаз, включая и косившего на один глаз Зурича, — выступил вперед и, блаженно оскалив всю свою худую, еле обтянутую кожей челюсть, так, не заикаясь, и отцедил:
— Вотум наш, Николай Львович, сами видите, вполне ясный и отчётливый, — на чём Господин Великий Новгород порешит, на том и пригороды станут…
Казецкий был доволен, или делал вид, что доволен.
Почесал острыми, выхоленными ногтями свою отлично-подстриженную жесткую с проседью бородку Буланжэ, и приказал Василию Шемякину, — так почему-то назывался его лакей и кучер, которого в действительности звали Мишей, — открыть несколько бутылок Абрау-Дюрсо, хранившихся в заповедном шкапу, в знаменитом, устланном персидскими коврами редакторском кабинете, куда вход был строжайше воспрещен и про который московские зоилы говорили: Тайны Мадридского двора.
Впрочем, хроникёр Флееров, который всё знал, уверял, что никаких тайн там нету, а что в кабинете просто происходят очень деловые совещания частной балетной школы, которой Н.Л., сам большой и усердный балетоман, весьма сочувствовал, покровительствовал, и поддерживал — главным образом — в печати.
Как бы то ни было, Абрау-Дюрсо пришлось чрезвычайно кстати.
Все были в отменном состоянии духа, завеселились по-настоящему, а непременный член редакции, главный метранпаж Михаил Валерьянович, отведя в сторону молодого автора тогдашних частушек, шепнул ему таинственно, скороговоркой:
— Помяните мое слово, газета наша выйдет завтра в последний раз.
Так оно и случилось.
Напрасно бегали к Подбельскому, бывшему члену правления союза журналистов, а ныне Комиссару почт и телеграфов.
Ходили целой депутацией к В. Н. Фриче, бывшему председателю того же Союза, а ныне Комиссару Московской Коммуны по иностранным делам.
Оба сановника только руками замахали, — отвяжись, нечистая сила!..
Не помогло и вмешательство прославленной балерины, бывшей солистки Его Величества, а в будущем заслуженной Народной солистки.
Непроданные номера газеты были конфискованы, матрица Михаила Валерьяновича уничтожена, набор рассыпан, типография реквизирована для нужд «Красного Огонька», а «Раннее утро» закрыто.
А из злополучных частушек, которых и сам автор не помнит, удержалась в памяти только одна, и то сказать, вполне безобидная:
Веры истинной оплот Укрепляет души: Очень ловко Центрофлот Держится на суше.Состав преступления — оскорбление величества — был налицо.
* * *
Впрочем всё это были только присказки, а сказка была впереди.
Погода, климат, выносливость, дух сопротивления, — всё это портилось.
Улучшались только рессоры и пружины советского режима, механизм участковой милиции, Всероссийская Чрезвычайная Комиссия, отряды китайцев и латышей, и всей преторианской гвардии.
Феликс Эдмундович Дзержинский питался одной морковью, иногда свёклою, а трупную падаль только обонял, и тоже нервно почёсывал свою мягкую шатеновую бородку, еще сам не зная и не ведая, что у него золотое сердце, которое, спустя недолгий срок, открыл великий сердцевед, Алексей Максимович Горький.
Но вообще говоря, все еще были молоды и не расстреляны, — и Зиновьев, и Каменев, и Рыков, и Бухарин, и Киров, и Троцкий, и Коссиор, и Чубарь.
А Маленкову и Жданову не было и тринадцати годов отроду.
Всё было впереди, — и лучезарное будущее, и цынга, и голод, и «Двенадцать» Блока; и чёрный малахитовый мавзолей; и Аннибалова клятва братьев писателей над гробом Ленина; и шествие маршалов, маршалов, маршалов; и прорытие каналов, каналов, каналов; и «подвиги, и доблести, и славы»…
А жизнь все-таки продолжалась. И как сказано в «Воскресении» Толстого:
«Как ни старались люди… изуродовать ту землю, на которой они жались; как ни забивали её камнями, чтобы ничего не росло на ней, как они ни счищали всякую пробивающуюся травку… — Весна была весною, солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, между плитами камней, и березы, тополи, черёмуха распускали свои клейкие и пахучие листья… Даже на тюремном дворе был свежий, живительный воздух полей, принесенный ветром в город».
Аллегория, разумеется, была далеко не полная.
Но была тюрьма. И была весна — 18-го года.
Только что арестовали Сытина.
За дерзкую попытку обмануть рабоче-крестьянскую власть и получить продовольственные карточки для певчих церковного хора в своём подмосковном имении.
Посадили в одиночную камеру П. И. Крашенинникова.
— За слишком большую предприимчивость по устройству сытинских дел.
И вообще за недавние грехи молодости.
— За «Вечёрку», — так сокращенно называлась шумная и не очень уважаемая, но имевшая большой тиражный успех, особенно в годы войны, — ежедневная газетка «Вечерние новости».
За «Трудовую копейку», за «Женское дело», за целый ряд других листовок, календарей и альманахов, которыми кишмя кишело на Большой Дмитровке издательское подворье Петра Иваныча, краснощекого, черноглазого, чернобородого и белозубого присяжного поверенного, предпочитавшего полную неизвестностей, возможностей и неожиданностей, недисциплинированную вольницу полулитературного рынка чинным регламентам и строгим уставам сословной адвокатуры.
Надо сказать, что при всём том, писателей и литераторов, профессиональных газетчиков и журналистов еще покуда не трогали.
И не столько из соображений такта, или особого к ним уважения, или какого-то мистического целомудрия, а больше по тем же легендарным причинам, кои, как принято считать, всегда предшествуют образованию Космоса.
Ибо советский Космос, как и библейский Космос, возник из распутного и разнузданного Хаоса, из первобытного, бесформенного, безмордого месива солдатни и матросни, и сотворение ленинского мира хотя и произошло в один день, но такие высокоценные детали, как миропомазание Маяковского, раскаяние Эренбурга, и удвоенные пайки для Серапионовых братьев, — всё это появилось не сразу.
Ничего поэтому удивительного не было и в том, что так называемые труженики пера, попавшие в категорию первых беспризорных, оказались по полицейскому недосмотру в некоем неестественно-привилегированном положении и, разумеется, не преминули этой кратковременной привилегией воспользоваться.
Газеты рождались явочным порядком и, как однодневные мотыльки, бесследно исчезали по безапелляционному, с претензией на церемонную законность, постановлению Комиссариата по делам печати.
Одним из неугомонных пионеров «газеты во что бы то ни стало» был В. Е. Турок, сотрудник закрывшегося навсегда «Русского слова», талантливый журналист, писавший под псевдонимом Вилли.
Нарочитая несерьезность этой подписи, как и множества, если не большинства других псевдонимов того времени, была, надо думать, «созвучна эпохе», только что отзвучавшей.
Отношение к цензуре, к цензурным комитетатам, Главным Управлениям, Особым присутствиям, и прочим достижениям шефа жандармов Бенкендорфа и великого инквизитора Победоносцева, было по преимуществу сугубо-ироническим, не без намеренного верхоглядства — ты меня за бока, а я тебя свысока!..
И во всех этих кличках, прозвищах, псевдонимах была, конечно, какая-то непочтительная, инстинктивная ужимка, поза, гримаса.
Гримаса «человека, который смеется», и смехом этим защищается.
Даже нововременский Сыромятников назывался Сигма, и сам Буренин был Алексис Жасминов.
А о так называемой либеральной печати и говорить не приходится.
Все эти Альфы и Омеги, Пессимисты и Незнакомцы, Санхо-Пансо и Дон-Кихоты, провинциальные Трубадуры, Лоэнгрины, Железные Маски, Офени, Иваны Колючие, Незнамовы, Бурсаки, Безродные, Непомнящие, Ивановы-Классики, Тарелкины, Чертопхановы, Страшноватенки, и столичные Глоб-Троттэры, Пэнгсы и Домби, а имя им — легион, все они, кто умно, кто убого, кто с блеском и талантом, кто с потугами и тщетой, хуже, лучше, с искрой, без искры, с огоньком, без огонька, но каждый по-своему, и все купно, часто в бровь, но нередко и в самый глаз, как могли, как умели, кому как Бог на душу положил, и всё же по большей части честно и неподкупно боролись, протестовали, намекали, доказывали, казнили презрением, многозначительно замалчивали, и как, не щадя живота, злоупотребляли цитатами, кавычками, восклицательными знаками, а пуще всего многоточием!..
Так вот этот самый Вилли, один из легиона, торжествующий и возбуждённый, влетает однажды в столовую еще не закрытого, но бездействующего Союза Журналистов в Столешниковом переулке и, как бомба, взрывается у нашего стола, уставленного чайными стаканами с морковным чаем и одним кружочком вялого лимона на всю братию.
— Владимир Евсеич, что с вами? Откуда? От следователя? От комиссара? Вызывали? Допрашивали? На вас лица нет!..
— Как это так лица нет?! — поднял голос Петр Потемкин, по уши влюбленный в заведующую буфетом Любовь Дмитриевну, и поэтому находившийся всегда за стойкой и всегда в приподнятом состоянии духа, — да, посмотрите на него, — и П.П. стал преувеличенно театральным голосом декламировать:
— Лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен, он весь как Божия гроза!..
Надо думать, что Потемкин был прав, ибо все немедленно согласились, что, действительно, лик его ужасен, и что случилось нечто гораздо более важное и необыкновенное, чем вызов к комиссару или следователю.
Вилли продолжал раздувать ноздри, тяжело дышал, сопел, отхлебнул принесенного Потемкинской Музой какого-то подозрительного квасу, и, отдышавшись, торжественно объявил:
— Нашел издателя, только что выпущен из тюрьмы. Отличный мужик, имени сказать не имею права, — лицо, пожелавшее остаться неизвестным! Ездил с ним в типографию Мамонтова. Все согласны. Бумага есть. Газета на восемь страниц. Будет называться «Час». Выходит завтра!.. В крайнем случае, послезавтра!
Впечатление было ошеломляющее.
Кто-то неуместно спросил:
— А кто будет редактор?
Вилли уничтожающе посмотрел на вопрошающего, и процедил сквозь зубы:
— Дураки уехали в Бразилию, так что вопрос исчерпан. Никакого редактора не будет, а будет редакционная коллегия.
И не без язвительности добавил:
— Желающие могут становиться в очередь…
— Эх ты, Епиходов! — опять крикнул из-за стойки неунимавшийся Потемкин по адресу злополучного и красного, как рак, специалиста по молниеносным интервью.
Ртуть в термометре быстро поднималась. Все заговорили наперебой и сразу.
Выяснилось, что авансы будут выданы сегодня же, но после захода солнца; что новая газета будет типа вечерней, то есть, в 12 часов пополудни и никаких испанцев; и что называться она будет «Час» главным образом потому, что технически это гораздо удобнее, чем если бы она называлась «Век»…
— А впрочем, — закончил Вилли, — сами увидите, и поймете. Ибо, как говорил Александр Федорович Керенский, управлять — это значит предвидеть…
Через сорок восемь часов после морковного чаепития, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, в Российской Советской Социалистической Республике, в городе Москве, на Москве-Реке, и не забыть, что было это весною 18-го года, отпечатанный у Мамонтова, на Таганке, вышел в свет, свежий как бутон, хотя и пахнущий типографской краской, первый номер вечерней газеты «Час».
Направление газеты было неопределенное, но, как неприятно выразился впоследствии всё тот же В. М. Фриче, весьма нахальное.
Вместо передовой, была крайне несвоевременная историческая справка Виссариона Павлова на тему о восстании рабов под предводительством Спартака, и особенно о том, как это восстание было подавлено: со всеми подробностями, уточнениями, и чуть ли не указаниями практического свойства.
Фельетон Вилли тоже носил характер вполне исторический, а именно: свобода печати в период великой французской революции.
Выводов в фельетоне не было никаких, но, как принято было в те времена говорить, выводы напрашивались сами собой.
А. А. Епифанский дал захватывающего интереса очерк о Хитровом рынке, который после «тяжких десятилетий вопиющей нищеты и притеснений царской полиции», расцвел, наконец, махровым цветом, и нашел свое настоящее призвание: торговлю стариной и роскошью, конфискованной во время обысков у проклятой буржуазии.
Молодая и жеманная поэтесса, в настоящее время Кавалер ордена Красного Знамени, напечатала совершенно непозволительные стишки, вроде того, что:
Шакал, надевший шкуру Льва, Всегда останется шакалом…Дальнейшие фиоритуры этого забытого произведения были настолько прозрачны, что создатель Красной Армии, так и не дождавшийся маршальского жезла, был не на шутку уязвлен.
Были еще статьи Ю. М. Бочарова, Григория Ландау, стихи Потемкина, Валентина Горянского, Дон-Аминадо, а главное, была первая глава коллективного романа «Черная молния».
Идея романа была взята у самого В. И. Ленина, и касалась электрофикации облаков, ни более и ни менее.
Подана была эта идея не просто, а как идефикс!..
Но зато с большим пафосом и с очень наглой претензией на научность.
В конце первой главы, как и полагалось, было напечатано курсивом и в скобках:
— Продолжение следует.
Никакого продолжения, впрочем, не последовало, ибо газета «Час» была в первый же день выхода закрыта со всем соответствующим церемониалом постановлений, конфискаций и вызовов куда следует.
«Управлять — это значит предвидеть!»
Неугомонный Вилли всё предвидел.
Начиная дело, через несколько подставных лиц, своевременно сделавших нужные заявки, он обеспечил «ход событий».
На следующий день после закрытия «Часа» вышел «Третий час», с пояснением в подзаголовке:
«Выходит ежедневно, в 3 часа дня по московскому времени».
На этот раз приказ по линии был определенный:
— На первой странице декреты и распоряжения правительства, и никаких комментарий.
На второй и третьей — литературная критика, библиография, война с футуристами, стихи о любви, новости медицины, биологии, чорт в ступе.
Четвертая страница, и последняя — шахматный отдел и конкурсы для читателей.
Два номера вышли благополучно.
Два дня мы были в перестрелке, Что толку в этакой безделке!.. Мы ждали третий день!И не даром ждали.
На третьем номере газета была закрыта.
Вилли, однако, не унимался, и после нескольких изнурительных дней хлопот, просьб, хождений и унижений, мировая печать обогатилась новым ежедневным (!) изданием — «Четвёртый час».
Состав сотрудников был тот же, а передовая статья кончалась многозначительным восклицанием, неосмотрительно взятым напрокат из современного народного эпоса:
— Сенька, подержи мои семечки, я ему морду набью!..
Правительство сразу догадалось — кому, и хотя в редакции царило непринужденное веселье, в своем роде пир во время чумы, — новая газета скоропалительно прожившая свой однодневный век, была не только закрыта, но и сам Вилли, и анонимный издатель, были посажены в Бутырскую тюрьму, из которой только что, после трехмесячного заключения, выпустили на свет Божий старика Сытина и П. И. Крашенинникова.
Члены знаменитой редакционной коллегии быстро смотали удочки и благоразумно переменили место жительства.
Ночевали в Томилине, в Малаховке, на станции Удельной, где Бог пошлёт, и жили изо дня в день, с опаскою, с оглядкою, милостью дворников и нескольких покладистых милицейских, высоко ценивших самодельный денатурат, который уже назывался не просто ханжой, а Рыковкой.
И хотя в распоряжении очаровательной и всегда печальной Елены Митрофановны, жены В. Е. Турока, еще имелась очередная заявка на новую газету с весьма неожиданным, хотя по-своему вполне последовательным названием «Полночь», но шалый энтузиазм уже прошел и период импровизаций и партизанских набегов кончился.
Окончательно выяснилось, что солдат Муралов шуток не понимает.
Но в одиночной камере контакт с миром был, очевидно, потерян.
Из Бутырок от упорного редактора пришла почти вдохновенная записка с планами, советами и указаниями сделать всё возможное, чтобы «Полночь» не только вышла, но еще и с тютчевским эпиграфом в подзаголовке:
«Я поздно встал, и на дороге Застигнут ночью Рима был»…Увы, тюремное вдохновение уже не нашло резонанса. Каждый пошел в свою сторону.
Пульс страны бился на Лубянке.
Латыши ханжи не пили.
Двустволки заговорили ясным языком.
Стрельба в цель стала бытовым явлением.
Благодаря вмешательству красавицы Рейзен, бездарной актрисы Малого театра, перешедшей со вторых ролей на сцене на первые роли в жизни, — она уже в это время стала открыто появляться с одним из самых видных сановников нового режима, — удалось с большим трудом устроить освобождение Вилли.
Жизнь его не пощадила.
Худой, замученный долгим тюремным заключением, с нездоровым, лихорадочным блеском в глазах, без кровинки в лице, он уже щедро и быстро платил свою дань «одной из самых счастливых эпох человечества».
Но уготованный судьбой напиток еще не был испит до конца.
Несколько месяцев спустя, бывший прапорщик запаса, снова надевший серую шинель, непримиримый Вилли, «золотопогонник» Добровольческой Армии, отбиваясь от окруживших город большевиков, на одной из главных улиц Ростова, был зарублен шашками красных казаков.
И вновь, и в который раз обретали свой пророческий смысл бессмертные стихи Тютчева:
Я поздно встал, и на дороге Застигнут ночью Рима был…Елена Митрофановна ушла в монастырь, похоронив мужа в братской могиле.
Русская биография была выдержана до конца.
* * *
По распоряжению властей изменен был не только календарь, но и самое время.
Календарь ушел на тринадцать дней вперед, время — на четыре часа назад.
На городских циферблатах, спорить с которыми было бессмысленно, стрелки ясно показывали 3 часа дня, а по проклятому Гринвичу было 7 часов вечера.
Над Москвой-рекой стлались зеленые, синие, золотые сумерки.
В садах, на Большой Полянке, за Каменным мостом, поздним цветением цвела сирень, чирикали воробьи, играла шарманка.
Уездную русскую весну одним из первых открыл Левитан, московскую весну написал Нестеров.
Была в ней великая смутность, истома, неясность, и какой-то целомудренный холодок отказа, смирения, и покорности.
Если в тихий весенний вечер медленно идти от Никитских ворот до Малой Кисловки, и по Малой Кисловке дойти до двухэтажного дома, где жила Китти Щербацкая, то многое может человеческому сердцу открыться и стать простым и ясным.
Даже многоречивый и расточительный Бальмонт, преодолев изыски, вывихи и изломы, написал незабываемые по необыкновенной, щемящей простоте строки, посвященные северной весне.
И когда человек оглядывается назад, на прошлое, на давно прошедшее, и вспоминает этот неповторимый апрельский холод страшного 18-го года, то должен ли он оправдываться, объяснять, и просить прощения у жестоковыйной смены за этот запечатленный в сердце образ Китти, за пришедшие на память стихи?
Есть в русской природе усталая нежность, Безмолвная тишь, безглагольность покоя. Безвыходность горя. Безгласность. Безбрежность. Во всём утомление. Глухое. Немое. …Взойди на рассвете на склон косогора. Над зябкой рекою дымится прохлада. Чернеет громада заснувшего бора. И сердцу так больно, и сердце не радо. Как будто душа о желанном просила, А сделали ей незаслуженно больно. И сердце простило. Но сердце застыло. И плачет, и плачет, и плачет невольно.Но мир так устроен, что не «всем, всем, всем» от Господа Бога наказано бродить по Никитскому бульвару, глядеть на распускающиеся почки, и в бледно-зеленых сумерках, написанных Нестеровым, растерянно умиляясь, неслышно повторять про себя всю русскую хрестоматию.
Выпущенный на волю, маг и чародей, Петр Иванович Крашенинников прищурил левый глаз, взял лихача у Страстного Монастыря, и поехал к Сытину.
— Свидание монархов в шхерах… — отшучивался П.И. в ответ на вопросы любопытных.
Так или иначе, а в результате этого исторического свидания, в угловом кабинете «Праги», у Тарарыкина, состоялся деловой завтрак.
Состав приглашённых был поистине неожиданный.
Времена, что и говорить, были сумасшедшие, но фантазия Петра Иваныча была тоже незаурядной.
По правую руку Сытина сидел приятный, голубоглазый, в золотом ореоле редеющей профессорской шевелюры, тщательно выбритый и выхоленный, в черном шелковом галстуке, повязанном a la Lavaliere, официально приват-доцент Московского университета, а неофициально эстетический анархист, Алексей Алексеевич Боровой.
Слева — сосредоточенный, смущенно-улыбающийся, и, несмотря на пятнадцать лет сибирской каторги, из которой он только год тому назад вернулся, моложавый, бодрый, и ни по возрасту, ни по проделанному в жизни стажу, неправдоподобно доверчивый и почти наивный, никакой там не эстетический, а настоящий, всамделешный, чистейшей девяностошестой пробы, анархист Яков Новомирский.
Остальные были молодежь и техники, про которых Петр Иваныч так и говорил:
— Народ безмолвствует и… ест.
А еда, невзирая на последние дни Помпеи, была первый сорт.
И семга, и икра, и холодная осетрина, и расстегаи с вязигой, и поданная во льду казенная очищенная с белой головкой, не говоря уж о рябиновой, смородиновой и перцовке, и обязательном коньяке завода Шустова.
Прислуживали половые в белоснежных, — снег остался от старого режима, — рубахах, подпоясанные малиновым шнуром; а распоряжался всем сам Тарарыкин, напомаженный, прилизанный, и на миг воспрявший духом.
Пили много, в особенности техники.
Сытин водки не уважал, ел чинно и мало, и, вообще говоря, вид у него был задумчивый и озабоченный.
Зато во всю старался Крашенинников, воодушевлял, шутил, одобрял, сглаживал углы, обходил, скользил, соединял несоединимое, и вообще творил легенды.
— Allegro! Presto! Furioso!
А легенда, впрочем, была приготовлена заранее, на каком-то очень тайном совещании, без участия пьющих техников и подававшей надежды молодежи.
И заключалась она в том, что: страна жаждет настоящей газеты; что газета будет, само собой разумеется, оппозиционной; но в том смысле, как это принято в Англии, ни более ни менее, то есть оппозиция будет оппозицией его величества; а, в применении к нынешним условиям, вполне анархической.
Коротко и ясно.
В этом было что-то заумное, потустороннее, бредовое, но, как своевременно, в минуту невольного замешательства, авторитетной ссылкой на Ницше пояснил Боровой, — и в бреду есть своя, роковая, логика!..
Сытин виновато улыбался, Крашенинников торжествовал, Тарарыкин суетился, на смену Шустову пришел Редерер, газета под редакцией Якова Новомирского будет называться «Жизнь», а негласным покровителем ее намечен некто Каржанский, про которого говорили, что он писатель, и хотя и не большевик, но старый друг Ильича, жил с ним в одной квартире у Женевского сапожника, и вообще в любое время дня и ночи вхож в Кремль.
После чего решено было обсудить вопрос о формате, количестве страниц и другие технические вопросы.
Но техники были настолько навеселе, что обсуждение пришлось отложить на завтра.
Тем более, что деловой завтрак грозил превратиться в поздний ужин.
По выходе из Праги, А. А. Боровой, с которым мы были давно знакомы, еще по быстро прошумевшей в годы войны «Нови» А. А. Суворина (Алексея Порошина), спросил меня, какое будет мое амплуа в новой газете.
— Опять «Соринки дня»? Или альбом пародий? Или фельетон в стихах? Эпиграммы? Вообще, кинжалы в спину революции?!
И сам развеселился, довольный собственной шуткой.
Услышав однако, что бывший фельетонист ни стихами, ни эпиграммами, и никакими иными сомнительными экспериментами подрывать оппозицию его величества не собирается, и что намеченная ему роль сведется всего-навсего к заведыванию судебной хроникой, Ал. Ал. выразил сначала недоумение, потом сожаление, но в конце концов дружески согласился, что в решении этом есть известная мудрость.
— Плетью обуха не перешибешь, и пожалуй вы правы; церемонии кончились; и в случае чего, по головке вас не погладят…
Боровой задумался, и покуда мы молча шагали, свернув с Арбата на Поварскую, что-то про себя соображал и прикидывал.
Вероятно и его, тонкого и душевного человека, и влюбленного парижанина, со всем его отвлеченным эстетическим анархизмом, насыщенным стихами Максимилиана Волошина и дворянской фрондой седобородого князя Кропоткина, вероятно, и его вся эта задуманная в «Праге» авантюра не слишком соблазняла и притягивала.
Становилось поздно, кое-где постреливали, и в быстро наступавшей темноте то и дело раздавались пронзительные свистки милицейских, да с грохотом проезжал за очередными жертвами тяжелый военный грузовик.
— География определяет историю, мне еще до самого Смоленского рынка шагать придется, — всё с той же милой улыбкой, обнажившей белые, редкой красоты зубы, сказал, прерывая молчание, Боровой, — а жалко… Хотелось бы о многом поговорить.
И вдруг, что-то очевидно вспомнил и уже прощаясь, добавил:
— Кстати, о судебной хронике. Вы конечно знаете, что на днях начинается в Кремле большой процесс, дело левых эсэров.
— Еще бы не знать! Новомирский на этот процесс очень рассчитывает, собирается раздуть большое кадило. Но вещь эта, конечно, деликатная, и надо ее подать вкусно и тонко, так чтобы комар носа не подточил.
— Так вот, — продолжал Боровой, — именно по этому поводу я и хотел вам рекомендовать одного из моих слушателей, исключительно талантливого, умного, можно даже сказать блестящего человека. Фамилия его Рындзюн, Владимир Рындзюн.
— Все понимает, много знает, и за внешней робостью и сдержанностью таит большую внутреннюю разнузданность и то, что принято называть греческим огнем.
— Я ему часто говорю: сердца, Рындзюн, у вас нет, вместо сердца у вас какая-то субстанция холода, но холодом этим вы обжигаете. И, откровенно говоря, есть в нем что-то интеллектуально-преступное, какой-то душевный вывих, провал, цинизм, доходящий до грации.
Боровой посмотрел на часы, — было уже поздно, — и заторопился:
— Я вас задержал, простите, дружеская беседа затянулась далеко за полночь…
— Однако разрешите закончить, я хочу сказать, что, по моему искреннему убеждению, с этим кремлевским процессом протеже мой справится на ять!
Расстались мы на том, что Рындзюн завтра же придет в типографию, где отрезвевшие техники должны были собраться на совещание.
* * *
В типографии было тесно, неуютно и накурено.
Кроме выпускающего, метранпажа и старших наборщиков, появились еще какие-то черногривые и огнедышащие молодые люди кавказского типа, как выяснилось потом, грузинские анархисты из окружения Новомирского.
Вид у них был восторженный, речь громкая, повадка боевая, а суетились они так, что протолкаться было немыслимо.
Носитель греческого огня пришел точно, минута в минуту.
Застенчивый, не слишком разговорчивый, усики щетинкой, светлые зелено-водянистые глаза — слегка на выкате, и из широко распахнутых отворотов белой сорочки для тенниса — безжизненно алебастровая, байроновская шея.
Впечатление от первой встречи неясно.
Впрочем, что и кому было вполне ясно в эти жуткие времена?
Чья визитная карточка? Чья фишка?
Текст был один для всех:
Мы дети страшных лет России…Разговор о левых эсэрах длился недолго.
Говорили больше о том, как добыть для него особый пропуск, билет для прессы.
Рындзюн уронил одну фразу, которая запомнилась, показалась правдивой.
— Большевики идут на все, и до конца. Поэтому и преуспевают. А левые эсэры жеманятся и сами не знают, чего хотят, ложиться спать или вставать. Все это нюансы и тонкости для галерки. Ставка неудачников, заранее обреченных.
Советовать будущему судебному референту — быть кротким, как голубь, и мудрым, как змий, — казалось лишним.
За светлоокого циника ручался Боровой, а там видно будет.
* * *
Через несколько дней «Жизнь» вышла в свет.
Анархисты напоминали о своих заслугах пред революцией, заявляли о своей лояльности, трижды подчеркивали свою независимость, производили осторожные вылазки и разведки, слегка критиковали и явно намекали на то, что место под солнцем принадлежит всем…
Крашенинников прочитал номер от строки до строки и облегченно вздохнул:
— Ночь в Крыму, все в дыму, ничего не видно… Если не сорвутся, дело пойдет на лад.
Писатель Каржанский секретно сообщил, что пока что всё обстоит благополучно.
Во втором номере появился первый отчет о знаменитом процессе.
Отчет, по существу, намеренно — бесцветный, но с некоторыми не лишёнными остроты подробностями, касательно великолепия убранства зала, а также внешней характеристики подсудимых.
Правда, пассаж о шевелюре Камкова был сделан с такой проницательной беспощадностью, что за самую голову его даже защита уже не дорого дала бы.
Но в общем никакой запальчивости и раздражения, всё на месте, придраться не к чему.
В последующих двух-трёх номерах была довольно смелая статья Борового о роли личности в истории, нечто вроде вежливой, но открытой полемики с ортодоксальным марксизмом.
От Каржанского пришло первое предостережение:
— Осторожней на поворотах!
Крашенинников заволновался, кинулся к Новомирскому.
Но старый каторжанин, показавшийся уже не столь наивным, был непреклонен.
— Вы губите газету!.. — умоляюще бубнил Петр Иваныч.
— Программа важнее газеты! — не уступал Новомирский.
— Какая программа?! — искренно удивился бывший присяжный поверенный, считавший, что завтраком у Тарарыкина все вопросы о программе были до конца определены и исчерпаны.
— А вот завтра увидите! — угрожающе стоял на своем прямолинейный и задетый за живое редактор.
Ночью, когда набирался номер, Крашенинникова в типографию не пустили.
На следующее утро газета вышла с напечатанным жирным шрифтом и на первой странице «Манифестом партии анархистов».
Всего содержания манифеста за давностью лет, конечно, не упомнить, но кончался он безделушкой:
— Высшая форма насилия есть власть!
— Долой насилие! Долой власть!
— Да здравствует голый человек на голой земле!
— Да здравствует анархия!!!
Через два часа после выхода газеты Каржанский срочно телефонировал:
— Скажите Сытину, чтобы сейчас же ехал в деревню. Остальные, как знают. Типография реквизирована. Газете — каюк. Больше звонить не буду. Прощайте, может быть, навсегда!..
Говорят, что Сытин, когда ему обо всём этом сообщили, только беспомощно развел руками и с неподдельной грустью сказал:
— Торговали — веселились, подсчитали — прослезились.
И, перекрестясь, уехал в деревню.
Остальные смылись с горизонта, и больше о них слышать уже не довелось.
* * *
Июль на исходе.
Жизнь бьет ключом, но больше по голове.
Утром обыск. Пополудни допрос. Ночью пуля в затылок.
В промежутках спектакли для народа в Каретном ряду, в Эрмитаже.
И в бывшем Камерном, на Тверском.
В Эрмитаже поет Шаляпин. В Камерном идет «Леда» Анатолия Каменского.
На Леде золотые туфельки и никаких предрассудков.
— Раскрепощение женщины, свободная любовь.
* * *
Швейцар Алексей дает понять, что пора переменить адрес.
— Приходили, спрашивали, интересовались.
Человек он толковый, и на ветер слов не кидает.
Выбора нет.
Путь один — Ваганьковский переулок, к комиссару по иностранным делам, Фриче.
У Фриче бородка под Ленина, ориентация крайняя, чувствительность средняя.
— Пришел я, Владимир Максимилианович, насчет паспорта…
— И ты, Брут?!
— И я, Брут.
Диалог короткий, процедура длинная.
Бумажки, справки, подчистки, документики.
От оспопрививания начиная, и до отношения к советской власти включительно.
Фриче поморщился, презрел, министерским почерком подмахнул, и печать поставил:
— Серп и молот, канун да ладан.
Вышел на улицу, оглянулся по сторонам, читаю паспорт, глазам не верю:
«Гражданин такой-то отправляется за границу…»
* * *
Чрез много лет пронзительные строки Осипа Мандельштама озарятся новым и безнадежным смыслом:
Кто может знать при слове — расставанье, Какая нам разлука предстоит…Опыта не было, было предчувствие.
Отрыв. Отказ. Пути и перекрестки.
Направо пойдешь, налево пойдешь. Сердца не переделаешь.
«Что пройдет, то станет мило. А что мило, то пройдет».
Так было, так будет.
Только возврата не будет. Всё останется позади.
Словами не скажешь. Но только то, что не сказано, и запомнится навсегда.
У каждого свое, и каждый по-своему.
А там видно будет.
* * *
Поезд уходил с Брестского вокзала. До станции Орши, где начинается Европа:
— Немецкая вотчина. Украинское гетманство.
Вдоль вагонов шныряют какие-то наймиты, синие очки, наспех наклеенные бороды.
До совершенства еще не дошли. Дойдут.
В салон-вагоне турецкий посланник со свитой; обер-лейтенант с красной лакированной сумкой через плечо, — дипломатический курьер германского посольства в Денежном переулке; и весело настроенные румынские музыканты, отпиликавшие свой репертуар в закрывшихся ресторанах.
Вокруг — необычайная, сдержанная, придавленная страхом суета.
Третий звонок.
Милые глаза, затуманенные слезой.
Опять Отрыв. И снова Отказ. От самих себя. И друг от друга.
И под стук колес, в душе, в уме — певучие, неспетые, несказанные слова:
Шаль с узорною каймою На груди узлом стяни…* * *
В русской Орше последний обыск.
Всё, что было контрреволюционного, отобрали: мыла фабрики Раллэ, папиросы фабрики «Лаферм», царские сторублевки с портретом Екатерины.
Распоряжался всем огненно-рыжий комиссар в новеньком френче, в широчайших галифэ на невероятно худых, тонких ногах.
Огромный наган убедительно болтался сбоку, на желтом кожаном поясе.
Комиссарские глаза буравили, наган болтался, граждане путались в ответах, и дрожали.
По щучьему веленью, добрую половину из поезда высадили и загнали неизвестно куда.
Балканские дипломаты, румынские скрипачи, и счастливчики, избежавшие последнего заушения, благополучно перебрались по другую сторону добра и зла, где лихо гарцевал есаул Коновалец, а проверял документы пожилой прусский офицер, убийственно-вежливый.
По дороге в Киев из салон-вагона доносились звуки вальса, скрипки и цимбалы сопровождали турецкое превосходительство, уставшее от шифрованных телеграмм и сложных международных отношений.
* * *
…Киев нельзя было узнать.
Со времен половцев и печенегов не запомнит древний город такого набега, нашествия, многолюдства.
На улицах толпы народу. В кофейнях, на террасах не протол питься.
Изголодавшиеся москвичи и отощавшие петербуржцы набросились на белый хлеб и пожирают его, стоя и сидя.
Все друг с другом раскланиваются и, попивая кофеёк, рассказывают, как они вырвались, как бежали, и что у них отняли и забрали.
Настроение идиотски-праздничное.
На клумбах в Купеческом саду расцветают августовские розы.
Золотая, южная осень ласкает, нежит, зачаровывает.
На площади перед городской Думой — медь, трубы, литавры, — немецкий духовой оркестр играет военные марши и элегии Мендельсона.
Катит по Крещатику черный лакированный экипаж, запряженный парой белых коней, окруженный кольцом скороспелых гайдуков и отрядом сорокалетнего ландштурма.
В экипаже ясновельможный гетман в полковничьем мундире, в белой бараньей шапке с переливающимся на солнце эгретом.
Постановка во вкусе берлинской оперы. Акт первый.
Второго не будет.
В подвале «Метрополя» «Подвал Кривого Джимми», кабарэ Агнивцева с осколками Кривого Зеркала.
В городском театре тот же Валиев, и вся Летучая Мышь в полном сборе.
Газет тьма тьмущая.
«Киевская мысль». «Киевские отклики». «Киевлянин» профессора Пихно.
Кроме того, газета «Утро», и газета «Вечер».
Затея петербургская, деньги Протофиса.
Но наибольшим успехом, и на галерке и в бэльэтаже, пользуется еженедельный листок Василевского (Не-Буквы) «Чортова перечница».
Листок официально — юмористический, не официально — центр коллективного помешательства.
Всё неожиданно, хлёстко, нахально и бесцеремонно.
Имен нет, одни псевдонимы, и то выдуманные в один миг, тут же на месте.
В заголовке сказано:
«Чортова перечница, орган старых шестидесятников, с номерами для приезжающих».
Шельмуют всех и каждого, начиная с Вудро Вильсона и кончая полковником Скоропадским.
Игорь Кистяковский, московская знаменитость, а теперь гетманский министр внутренних дел, еженедельно вызывает Василевского для объяснений и внушений.
Василевский нисколько не смущается и говорит: — Вы, Игорь Александрович, дошли до министерства, мы до «Чортовой перечницы». Разница только в том, что у нас успех, а у вас никакого…
Кистяковский куксится, но всё это не надолго.
Скоро придет Петлюра.
«Время изменится, всё переменится».
Скоропадского увезут в Берлин, министры сами разъедутся, немцы после отречения Вильгельма вернутся восвояси, а столичные печенеги и половцы кинутся на станцию Бирзулу.
По одну сторону станции будут стоять петлюровцы, по другую французские зуавы и греческие гоплиты в гетрах.
Из Москвы придет телеграмма о покушении на Ленина.
Советский террор достигнет пароксизма.
Дору Каплан повесят и забудут.
Забудут не только в Кремле и на Лубянке, но и в зарубежных «Асториях» и «Мажестиках».
Дело не в подвиге, а дело в консонансах…
Шарлотта Кордэ — это музыкально. Дора Каплан — убого и прозаично.
Свидетели истории избалованы. Элите нужен блеск и звук.
На жертву, на подвиг, на тяжелый кольт в худенькой руке — ей наплевать.
…Перед киевским разъездом будет недолгое интермеццо.
Хома Брут покажется ангелом во плоти.
Архангелы Петлюры стесняться не будут.
Ни Бабефа, ни Прудона. Грабеж среди бела дня, в самостийном порядке.
Убивать на месте, но убивая орать — хай живе!..
Остальное — дело Истории, «Которая вынесет свой властный приговор».
Вместо Кистяковского — Саликовский.
Тот самый. Александр Фомич. Старый журналист, редактор «Приазовского Края».
Из Ростова-на-Дону в первопрестольный Киев, из радикального либерализма — в зоологическую гущу.
Пришли к нему целой депутацией, ходатайствовали, убеждали:
— Как же так, Александр Фомич? У вас свобода печати, а вы закрываете, штрафуете, грозите казнями египетскими…
Ответ краткий:
— По-российску не баю. По-москальску не розумию…
Опять сматывать удочки. В Бирзулу, так в Бирзулу. К чорту на рога, куда угодно.
Перед отъездом, в одной из обреченных газет — последний привет, последнее четверостишие:
Не негодуя, не кляня, Одно лишь слово! Но простое! — Пусть будет чуден без меня И Днепр, и многое другое…* * *
— Мишка, крути назад!
Опять фильм в обратном порядке.
Из Москвы — в Киев, из Киева — в Одессу.
На рейде — «Эрнест Ренан».
В прошлом философ, в настоящем броненосец.
Международный десант ведет жизнь веселую и сухопутную.
Марокканские стрелки, сенегальские негры, французские зуавы на рыжих кобылах, оливковые греки, итальянские моряки — проси, чего душа хочет!
Каждый развлекается, как может.
Большевики в ста верстах от города.
Блаженно-верующим и того довольно.
А что думает генерал Деникин, никто не знает.
Столичные печенеги прибывают пачками.
Обходят барьеры, рогатки, волчьи ямы, проволочные заграждения, берут препятствия, лезут напролом, идут, прут, валом валят.
Музыка играет, штандарт скачет, всё как было, всё на месте, Фонтаны, Лиманы, тенора, грузчики, ночные грабежи, «Свободные мысли» Василевского.
Вместо ненавистного Бупа — Буп это бюро украинской печати, — добровольческий Осваг.
Газет, как грибов после дождя.
В «Одесском листке» Сергей Федорович Штерн.
В «Современном слове» Дмитрий Николаевич Овсяннико-Куликовский, Борис Мирский (в миру Миркин-Гецевич), П. А. Нилус, А. М. Федоров, Вас. Регинин, бывший редактор петербургского «Аргуса», Алексей Толстой, он же и старшина игорного клуба; А. А. Койранский на ролях гастролера, Леонид Гросман, великий специалист по Бальзаку и до Достоевскому; молодой поэт Дитрихштейн, еще более молодой и тоже поэт Эдуард Багрицкий; Я. Б. Полонский, живой, способный, пронзительный, — в шинели вольноопределяющегося; Д. Аминадо, тогда еще Дон, и, в торжественных случаях, почетный академик, Иван Алексеевич Бунин.
«Одесскую почту» издает Некто в сером, по фамилии Финкель.
Газета бульварная, но во всем мире имеет собственных корреспондентов!..
Корреспонденты с Молдаванки не выезжают, но расстоянием не стесняются, и перышки у них бойкие.
«Почта» живет сенсациями, опровержениями, сведениями из достоверных источников.
Улица довольна, недовольны только пайщики, которых, как говорят, Финкель беззастенчиво грабит.
Вероятно, поэтому газетные мальчишки и орут во весь голос:
— Требуйте свежий номер «Ограбленной почты»…
Кроме того, есть «Призыв», который издает Ал. Ксюнин, раскаявшийся нововременец.
Н. Н. Брешко-Брешковский в газетах не участвует, ходит вприпрыжку, и самотеком пишет очередной роман под скромным названием «Царские бриллианты».
Театры переполнены, драма, опера, оперетка, всяческих кабарэ хоть пруд пруди, а во главе опять «Летучая мышь» с неутомимым Никитой Балиевым.
Сытно, весело, благополучно, пампушки, пончики, булочки, большевики через две недели кончатся, «и на обломках самовластья напишут наши имена»…
Несогласных просят выйти вон.
Пейзаж, однако, быстро меняется.
Небо хмурится, сто верст, в которые уверовали блаженные, превращаются в шестьдесят, потом в сорок, потом в двадцать пять.
Ксюнин требует решительных мер.
Внемлет ему один Брешко-Брешковский.
Ни направо не пойдешь, ни налево не пойдешь, впереди — море.
Хоть садись на мраморные ступени, убегающие вниз, размышляй и думай:
— Ведь вот, сколько раз измывались над Горьким, сколько раз шпыняли его за олеографию, за «Мальву».
Никак не могли ему простить первородного греха, неуклюжей, стопудовой безвкусицы.
А ведь вышло по Горькому:
— Море смеялось.
* * *
Смена власти произошла чрезвычайно просто.
Одни смылись, другие ворвались.
Впереди, верхом на лошади, ехал Мишка-Япончик, начальник штаба.
Незабываемую картину эту усердно воспел Эдуард Багрицкий:
Он долину озирает Командирским взглядом. Жеребец под ним играет Белым рафинадом.Прибавить к этому уже было нечего.
За жеребцом, в открытой свадебной карете, мягко покачиваясь на поблекших от времени атласных подушках, следовал атаман Григорьев.
За атаманом шли победоносные войска.
Оркестр играл сначала «Интернационал», но по мере возраставшего народного энтузиазма, быстро перешел на «Польку-птичку», и, не уставая, дул во весь дух в свои тромбоны и волторны.
Мишка-Япончик круто повернул коня и гаркнул, как гаркают все освободители.
Дисциплина была железная. Ни выстрела, ни вздоха.
Только слышно было, как дезертир-фельдфебель со зверским умилением повторял:
— Дай ножку. Ножку дай!
И ел глазами взвод за взводом, отбивая в такт:
— Ать, два. Ать, два. Ать… два…
* * *
Жизнь сразу вошла в колею.
Колея была шириной в братскую могилу. Глубиной тоже.
Товарищ Северный, бледнолицый брюнет с горящими глазами, старался не за страх, а за совесть.
Расстреливали пачками, укладывали штабелями, засыпали землей, утрамбовывали.
На утро всё начиналось снова.
Шарили, обыскивали, предъявляли ордер с печатями, за подписью атамана, как принято во всех цивилизованных странах, где есть Habeas Corpus[4] и прочие завоевания революций.
Атаман был человек просвещенный, но безграмотный, и ордера подписывал кратко, тремя буквами:
— Гри.
На большее его не хватало.
Да и время, надо сказать, было горячее, и все отлично понимали, что для уничтожения гидры трех букв тоже достаточно.
Всё остальное было повторением пройденного и шло по заведенному порядку.
В городском продовольственном комитете, который ввиду отсутствия времени, переименовали в Горпродком, что было гораздо короче и понятнее, выдавали карточки, по которым выдавали сушеную тарань, а для привилегированных классов населения, то есть для беззаветных сподвижников Мишки-Япончика, еще и длинные отрезы плюшевых драпировок из городской оперы.
— Хоть раз в жизни, но красиво! — как великолепно выражалась Гедда Габлер.
Стрелки на часах Городской думы были передвинуты на несколько часов назад, и когда по упрямому солнцу был полдень, стрелки показывали восемь вечера.
С циферблатами не спорят, с атаманами тем более.
На рейде, против Николаевского бульвара, вырисовывался всё тот же безмолвный силуэт «Эрнеста Ренана», на который смотрели с надеждой и страхом, но всегда тайком.
Проходили дни, недели, месяцы, из Москвы сообщали, что Ильич выздоровел и рана зарубцевалась.
Всё это было чрезвычайно утешительно, но в главном штабе Григорьева выражение лиц становилось всё более и более нахмуренным.
История повторялась с математической точностью.
— Добровольческая армия в ста верстах от города, потом в сорока, потом в двадцати пяти.
Слышны были залпы орудий.
Созидатели новой эры отправились на фронт в плюшевых шароварах, и больше не вернулись.
За боевым отрядом потянулись регулярные войска, и грабили награбленное.
Созерцатели «Ренана» наглели с каждым часом, и являлись на бульвар с биноклями.
Тарань поддерживала силы, бинокли укрепляли дух.
Ранним осенним утром в город вошли первые эшелоны белой армии.
Обращение к населению было подписано генералом Шварцем.
* * *
Недорезанные и нерасстрелянные стали вылезать из нор и щелей.
Появились арбузы и дыни, свежая скумбрия, Осваг.
Ксюнин возобновил «Призыв».
Открылись шлюзы, плотины, меняльные конторы.
В огромном зале Биржи пела Иза Кремер.
В другом зале пел Вертинский.
Поезда ходили не так уж чтоб очень далеко, но в порту уже грузили зерно, и пришли пароходы из Варны, из Константинополя, из Марселя.
Мальчишки на улицах кричали во весь голос:
— Портрет Веры Холодной в гробу, вместо рубля двадцать копеек…
Было совершенно ясно, что Матильда Серао ошиблась, и жизнь начинается не завтра, а, безусловно, сегодня, немедленно, и сейчас.
На основании чего образовали «группу литераторов и ученых» и, со стариком Овсяннико-Куликовским во главе, отправились к французскому консулу Готье.
Консул обожал Россию, прожил в ней четверть века, читал Тургенева, и очень гордился тем, что был лично знаком с Мельхиором де-Вогюэ.
Ходили в нему несколько раз, совещались, расспрашивали, тормошили, короче говоря, замучили милого человека окончательно.
В конце концов, на заграничных паспортах, которые с большой неохотой выдал полковник Ковтунович, начальник контрразведки, появилась волшебная печать, исполненная еще неосознанного, и только смутным предчувствием угаданного смысла.
Печать была чёткая и бесспорная и, как говорится, d’une clarte latine.[5] Но смысл ее был роковой и непоправимый.
Не уступить. Не сдаться. Не стерпеть. Свободным жить. Свободным умереть. Ценой изгнания всё оплатить сполна. И в поздний час понять, уразуметь: Цена изгнания есть страшная цена.* * *
Начало января 20-го года.
На стоявшем в порту французском пароходе «Дюмон д’Юрвиль» произошел пожар.
Вся верхняя часть его обгорела, и на сильно пострадавшей палубе уныло торчали обуглившиеся мачты, а от раскрашенной полногрудой наяды, украшавшей нос корабля, уцелел один только деревянный торс, покрытый зеленым мохом и перламутровыми морскими ракушками.
Вся нижняя часть парохода осталась нетронутой, машинное отделение, трюм, деревянные нары для солдат, которых во время войны без конца перевозил «Дюмон д’Юрвиль», всё было в полном порядке.
Что можно было починить, починили наспех, и кое-как, и по приказу адмирала командовавшего флотом, обгоревший пароход должен был идти в Босфор.
Группа литераторов и ученых быстро учла положение вещей.
Опять кинулись к консулу, консул к капитану, капитан потребовал паспорта, справки, свидетельства, коллективную расписку, что в случае аварии, никаких исков и претензий к французскому правительству не будет, и в заключение заявил:
— Бесплатный проезд до Константинополя, включая паек для кочегаров и литр красного вина на душу.
Василевский в меховой шубе и в боярской шапке уже собирался кинуться капитану на шею и, само собой разумеется, задушить его в объятиях, но благосклонный француз так на него посмотрел своими стальными глазами, что бедняга мгновенно скис и что-то невнятно пробормотал не то из Вольтера, не то просто из самоучителя.
20-го января 20-го года, — есть даты, которые запоминаются навсегда, — корабль призраков, обугленный «Дюмон д’Юрвиль» снялся с якоря.
Кинематографическая лента в аппарате Аверченки кончилась.
Никому не могло придти в голову крикнуть, как бывали прежде:
— Мишка, крути назад!
Все молчали. И те, кто оставался внизу, на шумной суетливой набережной.
И те, кто стоял наверху, на обгоревшей пароходной палубе.
Каждый думал про свое, а горький смысл был один для всех:
Здесь обрывается Россия Над морем Черным и глухим.* * *
Группа была пестрая, случайная, соединенная стечением обстоятельств, но дружная и без всяких подразделений и фракций.
Старик Овсяннико-Куликовский в последнюю минуту передумал, махнул рукой, смахнул слезу, и остался на родине.
С. П. Юрицын, бывший редактор «Сына отечества», наоборот только в последнюю минуту и присоединился.
Был он мрачен, как туча, и держался в стороне.
Художник Ремизов, в «Сатириконе» Ре-Ми, еще за час до отплытия начал страдать морской болезнью.
Ни жене, ни сыну ни за что не хотел верить, что пароход еще стоит на месте, и, стало быть, все это одно воображение.
— Гримасы большого города! — ядовито подсказал розовый, застенчивый, но всегда находчивый Полонский.
Намек на имевшие всероссийский успех знаменитые Ремизовские каррикатуры оказал живительное действие, талантливый художник сразу выздоровел, и на следующий день, несмотря на настоящую, а не выдуманную качку, не только держал себя молодцом, но даже написал портрет капитана Мерантье, что сразу подняло акции всей группы.
Капитан благодарил, консервные пайки были сразу удвоены.
Б. С. Мирский, — мы всегда предпочитали этот лёгкий псевдоним его двойному, ученому имени, — казался моложе других, заразительно хохотал, и рассказывал уморительные истории из жизни «Синего журнала» и других петербургских изданий того же типа, о которых теперь никто бы ему и напомнить не решился.
Ехал с нами и приятель Мирского, А. И. Ага, бывший секретарь бывшего министра А. И. Коновалова, почти доцент, но никогда не профессор.
Жена его и двухлетний сын Данилка, пользовавшийся всеобщим успехом, делили с нами и пищу кочегаров, и мертвую морскую зыбь.
Суетился, как всегда, один Василевский, которого называли Сумбур-Паша, без всякой впрочем задней мысли, касавшейся его сложного семейного положения.
Положение было действительно сложное, ибо вез он с собой двух жен, одну бывшую, с которой только что развелся, и другую, настоящую, на которой только что женился.
Вышел он, однако, из этой путаницы блестяще: одну устроил на корме, другую на носу.
И так, в течение всего пути, и бегал с кормы на нос, и с носа на корму, в боярской шапке, и с огромным кипящим чайником в руках, добродушно поставляя крутой кипяток на северный полюс и на южный.
Ехали долго: турецкие мины еще не все были выловлены.
Обгоревшая громадина тоже требовала немало забот и зоркой осмотрительности.
Кроме того, в одно прекрасное утро взбунтовались и негры-кочегары, ошалевшие от красного вина и раскаленных печей.
Скрестили черные руки на черной груди и потребовали капитана Мерантье в машинное отделение.
Василевский вызвался его сопровождать, но одного взгляда стальных глаз было достаточно, чтобы в корне задушить этот самоотверженный порыв.
Переговоры продолжались долго.
Группа ученых и литераторов не на шутку приуныла.
Ремизов взволновался и предлагал написать всех негров по очереди, да ещё пастелью.
Большинством голосов пастель была отвергнута.
В ожидании событий кто-то предложил свой корабельный журнал, на страницах которого каждый из присутствующих должен был кратко ответить на один и тот же ребром поставленный вопрос:
— Когда мы вернёмся в Россию?..
Корреспонденты с мест немедленно откликнулись.
Один писал:
— Через два года, с пересадкой в Крыму.
Последующие прогнозы были еще точнее и категоричнее, но сроки в зависимости от темперамента и широты кругозора, всё удлинялись и удлинялись.
Заключительный аккорд был исполнен безнадёжности.
Вместо скоропалительной риторики кто-то, кто был прозорливее других, привёл стихи Блока:
И только высоко у царских врат, Причастный тайнам плакал ребёнок О том, что никто не прийдет назад.После полудня негры выдохлись.
Настроение пассажиров быстро поднялось.
Страшная кочегарка показалась хижиной дяди Тома.
Загудели машины, из покривившихся на бок, пострадавших от пожара труб вырвались клубы черного дыма, и снова закружились неугомонные чайки над старым «Дюмон д’Юрвилем».
На шестые сутки — берега Анатолии.
Мирт и лавр, и розы Кадикэя.
Босфор. Буюк-Дере. Дворцы, мечети, высокие кипарисы.
Колонна Феодосия. Розовые купола Святой Ирины в синем византийском небе.
И над всем, над прошлым, над настоящим, сплошной довременный хаос, абсурд, бедлам, международный сумасшедший дом, который никакой прозой не запечатлеть, никаким высоким штилем не выразить.
О, бред проезжих беллетристов, Которым сам Токатлиан, Хозяин баров, друг артистов, Носил и кофий и кальян. Он фимиам курил Фареру, Сулил бессмертие Лоти. И Клод Фарер, теряя меру, Сбивал читателей с пути. А было просто… Что окурок, Под сточной брошенный трубой, Едва дымился бедный турок, Уже раздавленный судьбой. И турка бедного призвали, И он пред судьями предстал. И золотым пером в Вереали Взмахнул, и что-то подписал… Покончив с расой беспокойной И заглушив гортанный гул, Толпою жадной и нестройной Европа ринулась в Стамбул. Менялы, гиды, шарлатаны, Парижских улиц мать и дочь, Французской службы капитаны, Британцы мрачные как ночь, Кроаты в лентах, сербы в бантах, Какой-то Сир, какой-то Сэр, Поляки в адских аксельбантах, И итальянский берсальер, Малайцы, негры и ацтеки, Ковбой, идущий напролом, Темнооливковые греки, Армяне с собственным послом! И кучка русских с бывшим флагом, И незатейливым Освагом… Таков был пестрый караван, Пришедший в лоно мусульман. В земле ворочалися предки, А над землей был стон и звон. И сорок две контрразведки Венчали Новый Вавилон. Консервы, горы шоколада, Монбланы безопасных бритв, И крик ослов… — и вот, награда За годы сумасшедших битв! А ночь придёт — поют девицы, Гудит тимпан, дымит кальян. И в километре от столицы Хозары режут христиан. Дрожит в воде, в воде Босфора, Резной и четкий минарет. И муэдзин поет, что скоро Прийдет, вернется Магомет. Но, сын растерзанной России, Не верю я, Аллах прости! Ни Магомету, ни Мессии, Ни Клод Фареру, ни Лоти…Константинопольское житиё было недолгим.
Встретили Койранского, обрадовались, наперебой другу друга расспрашивали, вспоминали:
— Дом Перцова, Чистые Пруды, Большую Молчановку, Москву, бывшее, прошлое, недавнее, стародавнее.
Накупили предметов первой необходимости — розового масла в замысловатой склянке, какую-то чудовищную трубку с длинным чубуком, и замечательные сандаловые четки.
Поклонились Ай-Софии, съездили на Принцевы острова, посетили Порай-Хлебовского, бывшего советника русского посольства, который долго рассказывал про Чарыкова, наводившего панику на Блистательную Порту.
— Как что, так сейчас приказывает запречь свою знаменитую четверку серых в яблоках, и мчится прямо к Абдул-Гамиду, без всяких церемоний и протоколов.
У султана уже и подбородок трясется, и глаза на лоб вылезают, а Чарыков всё не успокаивается, — пока не подпишешь, не уйду! А не подпишешь, весь твой Ильдыз-Киоск с броненосцев разнесу!..
Ну, конечно, тот на всё, что угодно, соглашается; Чарыков, торжествуя возвращается в посольство.
А через неделю-другую, новый армянский погром, и греческая резня.
Но престиж… огромный!
И Порай-Хлебовский только вздыхает, и усердно советует ехать дальше, — ибо тут, в этом проклятом логовище, устроиться нельзя, немыслимо.
…Пересадка кончилась, сандаловыми четками жив не будешь.
Как говорят турки: йок! — и всё становится ясно и понятно.
Константинополь — йок; вплавь, через Геллеспонт, как лорд Байрон, мы не собираемся; стало быть прямым рейсом до Марселя на игрушечном пароходике компании Пакэ, а оттуда в Париж, без планов, без программ, но по четвертому классу.
* * *
Арль. Тараскон. Лион. Дижон.
Сочинения Альфонса Додэ в переводе Журавской?
История французской революции в пяти томах? Чорт? Дьявол? Ассоциация идей?
Направо пойдешь, налево пойдешь?
И, одолевая всё, сон, усталость, мысли и ощущения, мешанину, путаницу, душевную неприкаянность, — опять та же строка, как ведущая нить, старомодная строчка Апухтина:
«Курьерским поездом, летя, Бог, весть куда»…
XX
Вышли с дохлыми нашими чемоданами на парижскую вокзальную площадь, подумали, не подумали, и так сразу, в самую гущу и кинулись.
Одурели от шума, от движения, от бесконечного мелькания, от прозрачной голубизны воздуха, от всей этой нарядной, праздничной парижской весны, украшавшей наш путь фиалками.
Не ты ли сердце отогреешь, И, обольстив, не оттолкнешь? Ты лёгким дымом голубеешь, И ты живешь, и не живешь…Шли по площадям, по улицам, останавливались, оглядывались, не оглянешься — задавят.
Как правильно говорил Лоло, предусмотрительно опираясь на жену и на палочку:
— Улицу перейти — жизнь пережить!
Долго стояли перед витринами больших магазинов, жадно смотрели на какие-то кожаные портфели, несессеры, портмонэ, на шелковые галстуки, на хрустальные флаконы, на розовые окорока у Феликса Потэна, на бриллиантовые ожерелья в зеркальных окнах Картье.
До Люксембурга, до Лувра, до Венеры Милосской еще не дошли.
А пошли насчет паспорта, насчет вида на жительство, на улицу Греннель, в посольство, в консульство, к Кандаурову, к Кугушеву, долго им рассказывали о том, что глаза наши видели, они слушали и говорили, что ушам своим не верят.
Так мы по-хорошему и объяснились.
Узнали, что В. А. Маклаков в посольстве бывает редко и вообще держится выжидательно, и в стороне.
Зато профессор Савитков, всё еще комиссар, и всё еще временного правительства, приходит ежедневно и хотя очень страдает от одышки, но интересуется решительно всем.
Из консульства — к Бурцеву на бульвар Сэн-Мишель, где помещалась редакция «Общего дела».
В редакции гам, шум, бестолковщина, кавардак со стихиями.
Главный редактор мил, близорук, беспомощен.
Добрые глаза, козлиная бородка, указательный палец желт от курева, рукава на кургузом пиджачке короткие, штаны страшные, а штиблеты такие, что наводят панику на окрестности.
Всю свою жизнь прожил на левом берегу, на Монмартре, на Монпарнассе, на улице Муфтар.
Выпил в Ротонде немало черного кофе с Лениным и Троцким, которых ненавидит тихо и упорно.
Открыл вопиющее дело Азефа, но говорить об этом не любит, отмахивается, отмалчивается.
Во время войны, в конце 14-го года, вернулся в Россию, говорят, что у него были слезы на глазах.
После октябрьской революции получил звание наемника Антанты и общественного врага номер первый, и в последнюю минуту вырвался в Париж, на Монмартр, на Монпарнас, на улицу Муфтар.
Слез уже не было.
Осталось упрямство, упорство, близорукое долбление в одну точку.
На этих трех китах и держалось «Общее дело», по-французски «La Cause Commune», на раннем эмигрантском жаргоне «Козья коммуна».
Бурцев обласкал, обнадежил, заказал «Впечатления очевидца», и дал сто франков в виде аванса.
Впечатлений набралось немало, строк еще больше, но скоро после этого возникли «Последние новости», и сотрудничество в «Общем деле» ограничилось короткой гастролью.
* * *
Н. А. Тэффи приехала на месяц раньше, чувствовала себя старой парижанкой, и в небольшом номере гостиницы, неподалеку от церкви Мадлэн, устроила первый литературный салон, смотр новоприбывшим, объединение разрозненных.
Встречи, объяснения, цветы, чай, пирожные от Фошона.
— Когда? Откуда? Какими судьбами?
— Из Финляндии? Из Румынии? Шхеры? Днестр? Из Орши? Из Варны? Из Крыма? Из Галлиполи?
Расспросам не было конца, ответам тем более.
Граф Игнатьев, бывший военный атташе, приятно картавил, грассировал, целовал дамам ручки, рассказывал про годы войны, проведенные в Париже, многозначительно намекал на то, что в самом недалеком будущем надо ожидать нового десанта союзников на Черноморском побережье, вероятно в Крыму, а может быть близ Кавказа, Мильеран горячий сторонник интервенции, всё будет отлично, через месяц-два от большевиков воспоминания не останется…
Всё это было чрезвычайно важно, интересно, и казалось настолько бесспорным и неизбежным, что Саломея Андреева, петербургская богиня, которой в течение целого десятилетия посвящались стихи всего столичного Парнаса, не в силах была удержать нахлынувшего потока чувств, надежд и обещаний, и так и кинулась нервным прыжком к военному атташе и, с неподражаемой грацией и непринужденностью светской женщины, расцеловала его в обе щеки.
Восторгу присутствующих не было границ.
Игнатьев сиял, картавил, скалил свои белые зубы, щетинил рыжеватые, безукоризненно подстриженные усы, и пил черный, душистый портвейн — за дам, за родину, за хозяйку дома, за всё высокое и прекрасное.
Больше всех шумел, толкался, зычно хохотал во всё горло Алексей Николаевич Толстой, рассказывавший о том, как он в течение двух часов подряд стоял перед витриной известного магазина Рауля на бульваре Капуцинов и мысленно выбирал себе лакированные туфли…
— Вот получу аванс от «Грядущей России» и куплю себе шесть пар, не менее! Чем я хуже Поля Валери, который переодевается по три раза в день, а туфли чуть ли не каждые полчаса меняет?! Ха-ха-ха!..
И привычным жестом откидывал назад свою знаменитую копну волос, полукругом, как у русских кучеров, подстриженных на затылке.
— А вот и Тихон, что с неба спихан, — неожиданной скороговоркой, и повернувшись в сторону, так, чтобы жертва не слышала, под общий, чуть-чуть смущенный и придушенный смех, швырнул свою черноземную шутку неунимавшийся Толстой.
В комнату уже входил Тихон Иванович Полнер, почтенный земский деятель, и зачинатель первого зарубежного книгоиздательства «Русской Земли», на которое ожидали денег от бывшего посла в Вашингтоне Бахметьева.
То ли застегнутый на все пуговицы старомодный, длиннополый сюртук Тихона Ивановича, то ли аккуратно расчесанная седоватая бородка его, и положительная, негромкая речь, — но настроение как-то сразу изменилось, стихло, и положение спас всё тот же неиссякаемый, блестящий расточитель щедрот А. А. Койранский.
Выдумал ли он его недавно, или тут же на месте и сочинил, но короткий рассказ его не только сразу поднял температуру на много градусов, вызвал всеобщий и искренний восторг, но в известной степени вошел в литературу, и остался настоящей зарубкой, пометкой, памяткой для целого поколения.
— Приехал, говорит, старый отставной генерал в Париж, стал у Луксорского обелиска на площади Согласия, внимательно поглядел вокруг, на площадь, на уходившую вверх — до самой Этуали — неповторимую перспективу Елисейских полей, вздохнул, развел руками, и сказал:
— Все это хорошо… очень даже хорошо… но Que faire? Фер-то кэ?!
Тут уже сама Тэффи, сразу, верхним чутьем учуявшая тему, сюжет, внутренним зрением разглядевшая драгоценный камушек-самоцвет, бросилась к Койранскому и, в предельном восхищении, воскликнула:
— Миленький, подарите!..
Александр Арнольдович, как электрический ток, включился немедленно и тряся всей своей темно-рыжей, четырехугольной бородкой, удивительно напоминавшей прессованный листовой табак, ответил со всей горячностью и свойственной ему великой простотой:
— Дорогая, божественная… За честь почту! И генерала берите, и сердце в придачу!..
Тэффи от радости захлопала в ладоши — будущий рассказ, который войдёт в обиход, в пословицу, в постоянный рефрэн эмигрантской жизни, уже намечался и созревал в уме, в душе, в этом темном и непостижимом мире искания и преодоления, который называют творчеством.
— Зачатие произошло на глазах публики! — с уморительной гримасой заявила Екатерина Нерсесовна Дживилегова, жена известного московского профессора, и львица большого света… с общественным уклоном.
Ртуть в термометре подымалась.
В. Н. Носович, прокурор Сената и блестящий юрист, нашел, что дружеское это чаепитие необходимо увековечить.
— Помилуйте, господа! Ведь это и есть увертюра, предисловие, первая глава зарубежного быта…
— На весь файф-о-клок меня пожалуй не хватит, но виновницу торжества быть может и удастся изобразить… — неожиданно откликнулся на предложение Носовича изящный, холодный, выхоленный, Александр Евгеньевич Яковлев, про которого говорили, что он слишком талантлив, чтобы быть гениальным.
— Надежда Александровна! — обратился он к Тэффи, — карандаши со мной, слово за вами, согласны?
— Ну, еще бы не согласна, — с неподдельным юмором ответила хозяйка дома, — благодаря вам, я, кто его знает, может быть и в Лувр попаду!..
— Рядом с Джиокондой красоваться будете! — не удержался восторженный Мустафа Чокаев, представлявший независимый Туркестан на всех файф-о-клоках.
Все принимали самое живое участие в обсуждении предстоящего сеанса, — как надо Тэффи усадить, с букетом, с книгой в руках? Или, может быть, стоя, у окна?
Но у художника был свой замысел, и спорить с ним никто не решался.
— Буду писать вас в профиль, с лисой на плечах.
— А лисью мордочку тоже в профиль, вот так, под самым подбородком! — сдержанно, но властно, показывал и распоряжался Яковлев, усаживая свою модель в кресло.
— Гениально задумано! — авторитетно поддержал приятеля похожий на кобчика в монокле Сергей Судейкин.
— А вы, господа, занимайтесь своим делом! — сделав свирепое лицо, наставительно заявил Толстой.
И набросившись на пти-фуры, добавил, жуя и захлебываясь:
Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон…И поза, и цитата были неподражаемы.
Взрыв смеха, черные слезы на глазах Татьяны Павловой, талантливой актрисы, про которую втихомолку острили, что у нее голос Яворской, плечи Гзовской, а игра Садовской.
«В стороне от веселых подруг», как выразился ее собственный сиятельный муж, сидела на диване, дышавшая какой-то особой прелестью и очарованием, Наталия Крандиевская, только недавно написавшая эти, так поразившие Алданова, и не его одного, целомудренно-пронзительные, обнаженно-правдивые стихи:
Высокомерная молодость, Я о тебе не жалею. Полное снега и холода, Сердце беречь для кого?..Крандиевская перелистывала убористый том «Грядущей России», первого толстого журнала, только что вышедшего в Париже.
Барон Нольде, с обезоруживающей вежливостью, и Сергей Александрович Балавинский, с обезоруживающим восхищением, исполняли роль Чичисбеев и вполголоса поддерживали разговор, касавшийся литературного эмигрантского детища.
Журнал редактировали старый революционер, представительный, седобородый Н. В. Чайковский, русский француз В. А. Анри, Алексей Толстой, напечатавший в журнале первые главы своего «Хождения по мукам», и М. А. Алданов, который в те баснословные года еще только вынашивал свои будущие романы, а покуда писал о «Проблемах научной философии».
В книге были статьи Нольде, М. В. Вишняка, Дионео, воспоминания П. Д. Боборыкина, «Наши задачи» кн. Евгения Львовича Львова, и стихи Л. Н. Валькиной, посвященные парижскому метро.
…По бело-серым коридорам Вдоль черно-желтых Дюбоннэ, Покачиваясь в такт рессорам, Мы в гулкой мчимся глубине.По этому поводу Балавинский, сжигая папиросу за папиросой, рассказал, что Зинаида Гиппиус, прочитав эти, в конце концов, безобидные строчки, пришла в такую ярость, что тут же разразилась по адресу бедной супруги Н. М. Минского весьма недружелюбным экспромтом:
Прочитав сие морсо, Не могу и я молчать: Где найти мне колесо, Чтоб ее колесовать?..— Пристрастная и злая! — тихо промолвила Наталья Васильевна, утопая в табачном дыму своего кавалера справа.
— А вот и стихи Тэффи, я их очень люблю, хотя они чуть-чуть нарочиты и театральны, как будто написаны под рояль, для эстрады, для мелодекламации.
Но в них есть настоящая острота, то, что французы называют vin triste, печальное вино…
— Графинюшка, ради Бога, прочитайте вслух… — собравшись в тысячу морщин, умолял Балавинский.
— Сергей Александрович, если вы меня еще раз назовете графинюшкой, я с вами разговаривать не стану! — с несвойственной ей резкостью осадила старого Чичисбея жена Толстого.
Но потом смилостивилась, чудесно улыбнулась и под шум расползавшегося по углам муравейника, стала тихо, без подчеркиваний и ударений, читать:
Он ночью приплывет на черных парусах, Серебряный корабль с пурпурною каймою. Но люди не поймут, что он приплыл за мною, И скажут: вот, луна играет на волнах… Как черный серафим три парные крыла, Он вскинет паруса над звездной тишиною. Но люди не поймут, что он уплыл со мною, И скажут: вот, она сегодня умерла.Через тридцать лет с лишним, измученный болезнью, прикованный к постели, Иван Алексеевич Бунин, — расспрашивая о том, как было на rue Daru, хорошо ли пели и кто еще был на похоронах Надежды Александровны, — с трогательной нежностью, и поражая своей изумительной памятью, вспомнит и чуть-чуть глухим голосом, прерываемым приступами удушья, по-своему прочтет забытые стихи, впервые услышанные на улице Vignon, когда всё, что было, было только предисловием, вступлением, увертюрой, как говорил сенатор Носович.
Но три десятилетия были еще впереди…
Генерал Игнатьев еще не уехал с Наташей Трухановой в Россию, чтоб верой и правдой служить советской власти.
Алексей Николаевич Толстой, уничтожавший Тэффины пти-фуры, тоже еще был далек от Аннибаловой клятвы над гробом Ленина.
А с прелестных уст Наталии Крандиевской еще не сорвались роковые, находчиво-подогнанные под обстоятельства времени и места слова, которые я услышал в Берлине, прощаясь с ней на Augsburgerstrasse, и в последний раз целуя ее руку:
— Еду сораспинаться с Россией!
…Яковлев уложил карандаши, но показать набросок ни за что не соглашался.
Тэффи облегченно вздохнула, и вернулась к гостям.
Было уже поздно. В открытые окна доносилась музыка из соседнего ресторана.
Все почему-то сразу заторопились, шумно благодарили хозяйку, давали друг другу адреса, телефоны, уславливались о встречах, о свиданиях.
— Смотр, объединение, начало содружества, прием, файф-о-клок, — всё удалось на славу.
* * *
Через несколько дней, на rue Washington близ Елисейских Полей, небольшая группа новых парижан обсуждала вопрос об издании русской газеты.
Потребность в ней чувствовалась уже с первых дней, волна эмиграции росла непрерывно, и после разгрома добровольческих армий Юденича, Колчака, Деникина, человеческий поток все углублялся, ширился, бил через край, и принимал размеры более чем внушительные.
Ни в читателях, ни в писателях недостатка не будет.
Оставалось найти издателей.
Профессионального опыта от них не требовалось.
Нужны были иные качества, склонности, свойства.
Легкий характер, легкие деньги, и, в крайнем случае, готовность на самоубийство.
Известный петербургский адвокат М. Л. Гольдштейн, которого широкая публика упорно именовала защитником князя Огинского, оказался и удачливым соблазнителем одного из малых сих.
Звали его Залшупин, особых знаков отличия за ним не числилось, но дензнаков было у него очевидно много, и большого сопротивления он тоже не проявил.
Кто палку взял, тот и капрал, — редактором оказался сам инициатор, присяжный поверенный Гольдштейн.
Программа — минимум:
— Ни платформы, ни установки, а наипаче увлечений.
— Не направлять, а осведомлять! — коротко формулировал новый редактор.
Было совершенно ясно, что скромный человек на роль Герцена не претендовал, Плеханову не завидовал и Петру Струве подражать не собирался.
Ни «Колокола», ни «Искры», ни «Освобождения» не будет.
А будут «Последние новости», Quotidien russe, без запальчивости и раздражения.
Первый номер вышел 27-го апреля 1920-го года.
Просуществовала газета двадцать лет с лишним, первого издателя разорила, первого редактора не прославила, а в истории русской эмиграции сыграла роль огромную и выдающуюся.
В первом номере, — теперь это библиографическая редкость, — была сдержанная, но как всегда содержательная статья Нольде о «Заграничной России»; профессорский этюд С. О. Загорского, который назывался «Погоня за Россией», — заглавие запомнилось, содержание в памяти не удержалось; длинный судебный отчёт о процессе Кайо; стихи Д. Аминадо, посвящённые Парижу; и тот самый ударный рассказ Тэффи «Кэ-Фэр», про который не раз было сказано и пересказано:
«Се повести временных лет, откуда есть пошла русская земля… и откуда русская земля стала есть».
А ровно через год, после долгих переговоров, колебаний и убеждений, незадачливые любители издательского искусства с огорчённым достоинством удалились под сень струй, и на площадь Палэ-Бурбон приехал П. Н. Милюков со всем своим генеральным штабом.
Осведомительный нейтралитет был немедленно сдан в архив, газета получила определённый облик, а то совсем пустячные обстоятельство, что сразу установленное республиканско-демократическое направление настроениям и вкусам большинства зарубежной массы далеко не соответствовало, нисколько нового редактора не смутило.
Генеральная линия была начертана раз навсегда, и до последнего номера, вышедшего 11 июня 1940-го года, никаких уклонений и ответвлений ни вправо, ни влево, допущено не будет.
Победителей не судят.
Но ненавидят.
Число поклонников росло постепенно, число врагов увеличивалось с каждым днём, а количество читателей достигало поистине легендарных — для эмиграции — цифр.
Ненавидели, но запоем, и от строки до строки, читали.
Объяснения этому дадут будущие профессора в будущих своих этюдах.
* * *
Лето, как настоящие шуаны, провели в Вандее, в Олонецких песках.
Так окрестил Sables d’Ologne, чудесную приморскую деревушку на берегу Атлантического океана всё тот же Алексей Николаевич.
С Толстым были дети, старший Фефа, сын Натальи Васильевны от первого барака ее с петербургским криминалистом Волкенштейном, и младший Никита, белокурый, белокожий, четырёхлетний крохотун с великолепными тёмными глазами, которого называли Шарманкин.
На что он неизменно и обиженно-дерзко отвечал:
— Я не Шарманкин, я граф Толстой!
Это ему, Никите, трогательно писала из Москвы бабушка Крандиевская, автор когда-то популярной в России повести «То было раннею весной»:
«Здравствуй, сокол мой прекрасный! Здравствуй, принц далёких стран!»
На открытке, отправленной в Хлебный переулок, в Москву, крупным чётким почерком самого Толстого был дан следующий ответ:
«Дорогая бабуля, срочно сообщаю вам, что мои дети такие же безграмотные болваны, как и их многочисленные отцы.
По этой причине нещадно бью их тяжёлыми предметами, а еще кланяюсь деду Василию Афанасьевичу, прабабушке их Поварской, и всем трём переулкам — Хлебному, Скатертному и Столовому».
Всё это было придумано для увеселения публики, — Алёша обожает валять дурака! — снисходительно объясняла Наталия Васильевна.
И на самом деле Никиту Толстой просто обожал, но внешне никак этого не проявлял и не высказывал.
А всяких нежностей и прозвищ, ласкательных и уменьшительных, и совсем теперь не мог.
И чтоб лишний раз подразнить жену, не упускал случая, чтоб с напускной торжественностью не сказать:
— А вот к Фефе я отношусь с большим уважением. И хотя он, чорт, шепелявит, как Волкенштейн, — кстати сказать, Волкенштейн славился своей отличной петербургской дикцией, — но я твёрдо знаю, что из него выйдет гениальный архитектор и что он мне поставит гробницу Фараона, с высоты которой я буду плевать на всех!..
* * *
Жили мы хорошо и уютно.
Взасос читали романы Лидии Крестовской, которая поселилась тут же рядом.
А как только она уходила на прогулку со своей детской колонией, в коей состояла мониторшей, так мы немедленно роман захлопывали, и занимались каждый своим делом.
Вздыхали, писали письма в Россию, катались на лодке, и часто ездили верхом на унылых прокатных клячах под предводительством стройного красавца, Henri Dumay, который редактировал какой-то бесцветный радикальный еженедельник «Progres Civique» и со скучной настойчивостью подготовлял падение Мильерана и приход к власти Эдуарда Эррио.
Толстой то и дело менял ментоловые компрессы, и продолжал писать «Хождение по мукам».
По поводу компрессов у него была тоже своя теория.
— Шиллер писал «Орлеанскую деву», держа ноги в ледяной воде и попивая крепкий чёрный кофе. Все это чепуха и обман публики. Я верю только в ментол, или по-нашему — мяту, потому что мята холодит мозги… у кого они есть. И освежает.
Есть еще другой способ, но утомительный:
Грызть карандаши Фабера до самого грифеля.
Огрызки выплевывать, а грифель глотать.
Потому что грифель действует на молекулы и на серое вещество.
А без серого вещества — ни романсов, ни авансов!.. Поняли?!
И вдруг без всякой связи с предыдущим зычным голосом затягивал:
Кто раз любил, тот понимает, И не осудит ни-ког-да-а-а…После чего — компресс на голову, и уходил писать.
По временам всё это казалось сном, выдумкой, неправдоподобной летней сказкой у самого синего моря, прелестной комедией, тургеневским «Месяцем в деревне».
Толстой обожал сниматься, и обязательный редактор «Progres Civique», проглядевший все глаза на Comtesse moscovite, считал своим долгом без конца щелкать аппаратом, лишь бы сделать приятное знаменитому писателю.
Тем более, что писатель объяснялся главным образом знаками, и умоляюще вопил:
— Наташа, объясни ему, что я говорю по-французски, как испанская корова!
Наташа переводила, любезный француз само собой разумеется возражал, и прикладывая руку к сердцу, уверял, что наоборот, у графа отличный акцент и очень большой словарь.
В ответ на что, Толстой угрюмо бурчал:
— Пусть Бога благодарит, что он по-русски не смыслит. А то я бы ему сказал три слова из моего словаря!
Наталья Васильевна безнадежно махала рукой, а monsieur Dumay начинал щёлкать.
Сюжет для снимков выдумывал, конечно, Алексей Николаевич.
— Ты, — обращался он ко мне, — будешь изображать циркового борца лёгкого веса, потому что не признаешь лангуст и худ, как церковная мышь. Надень на себя твое купальное трико, и нацепи одну единственную медаль, самую малюсенькую, и то, так сказать, для красоты слога!
Называться ты будешь Джон Пульман, и приехал ты только что из Ирландии. — А я нацеплю одиннадцать медалей, золотых и серебряных, — Никита, неси медали, незаконнорожденный! — и буду называться борец тяжелого веса Иван Дуголомов, чемпион мира и Калужской губернии, поняли? Ничего не поняли!.. Скажи французу, чтоб плёнку переменил!
Борцы отправлялись в полотняную кабинку, которую то и дело трепал и срывал с места морской ветер, и через несколько минут выходили на арену.
Публику изображали Наталья Васильевна, неистовствовавший от восторга Никита, будущий архитектор Фефа, автор «Иностранного легиона» Лидия Крестовская, какая-то приблудная мамаша из детской колонии, какая-то красивая, высокая Нина, вышедшая замуж за Рейтерского корреспондента Вильямса, и потому законно называвшаяся Ниной Вильямс, и еще одна курносенькая русская барышня по имени Лёля, а по прозвищу, данному графиней Толстой, — Вишенка.
По ходу действия, мы должны были изобразить предельный момент борьбы, Иван Дуголомов пыхтел, сопел, надувался, и железным кольцом обхватывал борца лёгкого веса.
По данному знаку, фотограф примерялся, щурил глаз, нацеливался, и щёлкал:
— Дирекция благодарит почтеннейшую публику за посещение! — торжественно провозглашал Толстой, и, почувствовав внезапный острый голод, требовал лангуст, устриц, белого вина, — благо всё это стоило грош медный, — и с нескрываемой жадностью, обсасывая косточки, презрительно швырял в сторону не обладавших столь бешеным аппетитом созерцателей:
Вам, гагарам, недоступно Наслаждение битвой жизни! Гром ударов вас пугает…Гагары хохотали, как ни одни гагары в мире не хохочут, а гордый Буревестник, выпятив увешанную медалями грудь борца и кормилицы, церемонно тряс руку monsieur Dumay, и улыбался слащавой, наигранной улыбкой, которую почему-то сам называл:
— Улыбка номер семнадцатый!..
По вечерам сидели в темноте, на лавочке, у самого ржаного поля, напоминавшего Россию.
Дышали запахом морских сосен, соображали, как удешевить жизнь, устраивали экзамен на Чехова — какой породы была собака в рассказе «Дама с собачкой»? как звали буфетчика из «Жалобной книги»? где это сказано — «эх вы! женихи!.. поручики!..»
И так без конца, до поздней ночи.
В один из таких вечеров, — пришлось к случаю, к разговору, — поделился с Толстым своей давно уже назревавшей мыслью об издании журнала для детей.
— Без кислых нравоучений и сладеньких леденцов, без Лухмановой, без Желиховской, и Самокиш-Судковской.
С настоящими авторами, не подделывающимися под стиль сюсюкающих писателей для детей, и с настоящими художниками.
Толстой воспламенился, загорелся, сел на своего конька, и понесся во весь опор:
— Журнал будет в четыре краски, на дорогой веленевой бумаге, начистоту, всерьёз, чтоб все от зависти подавились!.. А я тебе напишу роман с продолжением, из номера в номер, на целый год, но, конечно, гонорар вперед, потому что пока не будет у меня лакированных туфель, я ни одной строчки не смогу из своего серого вещества извлечь!
Наталию Васильевну мысль о журнале тоже увлекла, но остановить буйно помешанного, как она в таких случаях шутливо называла мужа, было немыслимо.
Надо было терпеливо ждать, пока он сам собой выдохнется.
Разошлись поздно. Высоко в небе вспыхнула и погасла падучая звезда. От ржаного поля потянуло ночной свежестью.
Август был на исходе.
Через несколько дней Вандейское сидение кончилось.
Пора возвращаться «домой», в Париж, с новым сувениром в продавленном чемодане, — фотографическим снимком чемпионата борьбы, перечёркнутым надписью:
«Вы жертвою пали в борьбе роковой… падайте дальше! Дорогому такому-то его счастливый соперник. Иван Дуголомов».
* * *
В октябре 1920-го года вышел первый номер двухнедельного журнала для детей.
Назывался он «Зеленая палочка».
Обложку, в четыре краски, как было задумано летом, сделал Ре-Ми. На первой странице, — чтобы объяснить, почему именно так назвали журнал, — был воспроизведен отрывок из детских воспоминаний Льва Николаевича Толстого.
«О том, как старший брат его Николенька, объявил, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми и все будут любить друг друга.
Тайна эта, — говорил нам брат Николенька, написана на зелёной палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага, в яснополянском парке…
Единая задача «Зелёной палочки», стало быть, одна для всех:
— Всем вместе искать простую и важную тайну, посредством которой можно сделать всех людей на свете счастливыми».
Новая затея была встречена весьма сочувственно, и благодаря стараниям О. С. Бернштейна, московского адвоката и знаменитого шахматиста, средства для издания с величайшей готовностью отвалил некто Р., по образованию доктор философии, по склонностям игрок в теннис, по профессии зернопромышленник, по щучьему велению меценат.
Общество издательского дела называлось «Север», главным акционером является сам мистер Р., который поставил одно условие:
— Никакого публичного оказательства, никакой рекламы…
Таким людям надо при жизни памятник ставить — восторженно заявил А. В. Руманов, принимавший участие в предварительных совещаниях, заседаниях, переговорах.
Эмигрантская ли судьба, судьба ли просто, распорядилась по-своему.
Через несколько лет, когда бывший зернопромышленник от сердечного припадка скоропостижно скончался, денег не было не только на памятник, но и на скромное погребение.
На похороны пришлось собирать среди добровольных давальцев.
* * *
Первый номер решено было подать в порядке ударном.
— Стихи Бунина. Рассказ Куприна. Сказка Алексея Толстого. Обращение к детям кн. Г. Е. Львова. Иллюстрации Судейкина. Рисунки Ре-Ми. Поэма Саши Чёрного. Колыбельная песня Нат. Крандиевской. Постоянный отдел «Крепко помни о России». Еще один постоянный отдел «Произведения молодых авторов», где дочь поэта Мирра Бальмонт, 13 лет от роду, писала с величайшей и многообещающий простотой:
Связку белых венчальных цветов Я искал для невесты моей. Но нашел я лишь чёрный тюльпан, Не нашел я цветка ей белей…После этого «чёрного тюльпана» редакция стала смотреть в оба, и уже никакие просьбы и ходатайства отцов и матерей не могли поколебать принятого за правило решения.
Были, конечно, и неизбежные конкурсы — географические, исторические, литературные.
— Укажите самое короткое название реки в России.
— Самое длинное.
— В каком году произошло покорение Казани?
— Когда родился Сергей Тимофеевич Аксаков?
Очень скоро выяснилось, что на вопросы отвечали дети, но подсказывали им родители.
С этим тоже пришлось бороться, ибо бескорыстная задача развивать детскую любознательность стала сводиться к непосильному удовлетворению корысти взрослых.
Ибо за правильное, быстрое разрешение конкурса полагалась премия.
Родителей и опекунов развелась тьма-тьмущая, а детский журнал был один-одинёшенек.
И никаких зёрен зернопромышленника на все эти премии хватить не могло.
Пришлось и в этом смысле навести порядок.
Несмотря, однако, на все эти и многие другие, более серьезные и труднее преодолимые препятствия и закорючки, журнал становился на ноги, не увлекаясь ни дружбой, ни родством, ниже ожиданием выгод.
С каждым новым выпуском количество подписчиков и читателей возрастало, и требования на «Зеленую палочку» приходили из Англии, из Америки, из Бессарабии, из Латвии, из Финляндии, из Югославии, из Эстонии.
В смысле приобретения литературного материала дирекция, как говорил Балиев, не останавливалась ни перед какими растратами.
Ал. Толстой брал авансы, как взрослый, но слово своё сдержал, и дал большую повесть «Детство Никиты», с продолжением в каждом номере.
Большим успехом пользовались «Приключения Коли Шишмарёва», которые аккуратно доставлял Александр Яблоновский.
Вперемежку печатались рассказы кн. В. В. Барятинского, Бориса Лазаревского, еще неопороченного в те времена Ивана Наживина, стихи К. Бальмонта, Мих. Струве, Сергея Кречетова и даже Игоря Северянина.
Воспоминания и рисунки Георгия Лукомского, посвященные исчезавшему быту старой России, научные очерки Николая Рубакина, и «Остров сокровищ» Стивенсона в блестящем переводе Койранского дополняли литературный инвентарь детского журнала.
Попытка привлечь европейские имена ограничилась поездкой в Juvisy к самому Камиллу Фламмариону.
В качестве очередной секретарши была мобилизована та самая Вишенка со вздёрнутым носиком, о которой шла речь в Олонецких песках.
Написали адски вежливое письмо, приложили — для убедительности — номер «Зеленой палочки» с портретом Льва Толстого, и получили весьма любезное приглашение приехать в назначенный день и час.
Приняла нас супруга великого человека и попросила подождать:
— Сейчас Maitre, к сожалению, занят, у него очень важный спиритический сеанс… Maitre вызвал дух Птоломея, и с минуты на минуту ждут, что дух будет реагировать…
Редакция и глазом не моргнула. Но какой-то комок в горле всё-таки застрял.
Сколько мы так сидели на увитой плющём террасе, сейчас не вспомнить. Но, очевидно, долго.
Наконец, послышался какой-то шум, движенье стульев, шарканье ног, и в дверях показались какие-то старо-древние, безжалостно накрашенные дамы, в шляпках с птичками; пожилые, и почему-то все худощавые, мужчины в высоких, упиравшихся в подбородок воротничках и в черных послеобеденных рединготах; и, замыкая шествие, сам хозяин, живой Камилл Фламмарион.
Все остальное произошло молниеносно быстро.
Оказалось, что сеанс не кончен, и что это только перерыв.
Как реагировал дух Птоломея Александрийского, мы так и не узнали, но перерывом надо было воспользоваться, немедленно, не теряя ни одной минуты.
Борода у Фламмариона была седая и почтенная, шевелюра белая, как лунь, пышная и взволнованная, глаза водянистые, выцветшие, когда-то в первом воплощении, голубые, и выражение их было странное, неуловимое, скорее отсутствующее и равнодушное.
У вас глаза морского цвета, У вас неверные глаза…Но переводить стихи Бальмонта на французский язык мы не стали.
И сразу приступили к делу.
Вишенка выучила шпаргалку наизусть, и бойко объяснила «наши цели и задачи», и то, с каким нетерпением ждут читатели «Зеленой палочки» подробного описания, как живёт и работает великий астроном.
Астроном, это было совершенно очевидно, всё мимо ушей пропустил, но с Вишенки глаз не спускал, и только фыркал, как старый морж.
Жестом пригласил следовать за ним, и по крутой, узкой, и всё время вьющейся зигзагами лесенке повёл на самый верх, на вышку, в обсерваторию.
Тыкал нас по очереди в подзорную трубу, объяснял, что Кассиопеи еще не видно, но спутников ее, если смотреть внимательно, можно различить.
Вишенка так старалась, что вымазала губной помадой все медное отверстие трубы, и со слезами на глазах уверяла, что ясно видела всех спутников.
Продолжалось это интермеццо несколько минут, после чего старик ни на один из наших вопросов, столь тщательно обдуманных и заранее приготовленных, ни звука не ответил, но фотографию свою дал и надписал:
«Aux lecteurs de la Selënaga Palotschka. Ad veritatem per scientiam. Camille Flammarion. Observatoire de Juvisy».[6]
* * *
Рассказать маленьким читателям, как всё это было в действительности, являлось задачей поистине непосильной.
Пришлось прибегнуть к старой, классической формуле, которая называется:
— В обработке для детей и юношества.
Делать было нечего, обработали детей, как могли, и очередной номер журнала вышел с портретом Фламмариона, с автографом, с объяснительной заметкой, лживой, как дух Птоломея из Александрии.
Просуществовала «Зелёная палочка» год и, за отсутствием средств, закрылась.
Похоронных объявлений, на которых строится всякое печатное дело «в этом мире борьбы и наживы», в детский журнал никто разумеется не давал.
Эпидемия авансов тоже в немалой мере истощила кассу.
Кроме того, большие суммы были истрачены почтенным обществом «издательского дела» на целый ряд выпущенных «Севером» книг:
— «Песни о Гайавате» в переводе Бунина. «Избранных рассказов для детей» А. И. Куприна. «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.
Кроме того, вне детской серии, по настоянию господина Р., был издан объёмистый очерк русской революции Петра Рысса под названием «Русский опыт» и, при дружеском попустительстве остальных сотрудников и участников этого своеобразного предприятия, вышла в свет еще одна книга «Авантюристы гражданской войны».
Автором ее был некто Ветлугин.
Появлению его на парижском горизонте предшествовало полученное мной письмо, которое А. И. Куприн справедливо назвал человеческим документом.
— Конверт, в котором пришло письмо, был с турецкой маркой, а исповедь авантюриста гражданской войны гласила следующее:
Константинополь, 21 августа 1920 года
«Я не знаю, помните ли Вы меня: перед каждым из нас с тех пор промелькнул такой калейдоскоп испорченных репутаций, неотомщенных невинностей, безнаказанных пороков.
В покойной московской «Жизни» я был на ролях enfant terrible, а в период второй империи мы с Вами встречались в Киеве, под знаком Протофиса, октябрьской Вены, ноябрьского Берлина.
Тогда не дождавшись Петлюры и не сумев вторично уехать в лучшие края, я почти пешком ушел в Харьков, оттуда на Дон, и тут-то начались страшные сны.
С Добрармией мы очищали Кубань. С Добрармией брали Царицын, Харьков, Курск.
С Добрармией, в страшный предкрещенский мороз, под «Новый» 1920-й год, уходили из Ростова, по колено в снегу, с душой, замерзшей средь слишком чугунных генералов и слишком хрупких патриотов.
В этот период: апрель 19-го — январь 20-го, я заведывал редакцией уже другой, ростовской, добровольческой «Жизни», где под именем Денисова (в этой маске меня, вероятно, помнят проживающие теперь в Париже Сергей Кречетов и А. Дроздов) с восторженной беспринципностью воспевал и «блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой», в статьях, замечательных единственно тем, что во всякую погоду писались они с тем же неумирающим ужасом русского дезертира, давшего Аннибалову клятву никогда больше не служить нигде и никому.
Потеряв и оставив в Ростове всё вплоть до белья и русского паспорта, минуя Новороссийск, через Армавир, Туапсе, я направился в Батум, где пытался заниматься убийствами или торговлей, это все равно, и откуда совершал рейды или, если хотите, набеги, на Тифлис, Баку, Энзели.
У грузин жилось хорошо, все они стали настоящими иностранцами, вывесили грузинские вывески на вокзалах и магазинах, и в заседаниях своего Учредительного Собрания говорили только… по-русски.
Впрочем, произошли и другие коренные реформы, — шашлык стал называться кибаб, чурек — леван, керенки — боны, че-ка — особый отряд.
В Баку били фонтаны, татары армян, большевики — муссоват (партия, а не кушанье), и кандидат прав Петербургского университета Гайдар Баммат доказывал изумленным итальянцам прелести вековой Дагестанской культуры.
Потом настала очередь Персии.
И в мае месяце, в те благоуханные ночи, когда при свете двурогой луны длиннобородые сторожа стреляют солью в мальчишек, крадущих лимоны, приблизительно в двадцатых числах, вместе с остальными поклонниками советского режима, через Джульфу и Нахичевань, более под верблюдом, чем на нём, я бежал в Тифлис.
Здесь уже жил советский посол Киров, и с балкона дома на Ртищевской просвещал грузин, закостеневших в меньшевизме.
Помогали ему в этом святом деле, по морской части — граф Бенкендорф, назначенный сюда морским агентом в виду большой судоходности Куры, по сухопутной, — взрывы мостов и разборка шпал, — генерал Сытин.
Послушав Кирова и отпраздновав 26-го мая вторую годовщину грузинской республики, волею особого отряда, вылавливавшего «деникинских черных генералов», на собственные средства я был отправлен в Батум.
Круг снова замыкался и становилось скучно, и уже снова вялыми показались мне слова моей пятичленной молитвы, составленной в Ростове в мае 19-го года:
«Господи, избави меня от эвакуации, мобилизации, доноса, ареста и реквизиции, а со спекуляцией я справлюсь сам!..»
Но в этот момент англичане, не получая нефти, заскучали в свой черед, смотали удочки, спрятали фунты и, под лязг аджарских ножей, передали русский Сан-Франциско грузинам.
Я посмотрел, подумал, почесал затылок, и вместе с «реэвакуируемыми» (о, великий русский язык…) отправился в Крым, запасшись для убедительности — белым билетом и румынским паспортом.
Пустынная Феодосия, судорожно напряженный Севастополь, притаившаяся Ялта, и над всем полуостровом опаляющее дыхание борьбы со смертью, последний поединок с мировым драконом.
С Перекопа дул соленый, насыщенный трупным запахом ветер.
Ни дышать, ни жить здесь было нельзя.
И даже мне, закостеневшему в опытах Земсоюза и Освага, стало ясно, что либо нужно взять винтовку и со слащёвским десантом пойти туда, где снова от Суджи и Кизляра до Ростова и Юзовки шевелились казачьи станицы, гремели дедовские берданки, и на сотни верст подымалось зарево сожженных совдепов и сметенных округов, или ехать в Константинополь — для позорных дел и голодных забвений.
Для первого не хватило — чего? Не знаю! Может быть чувства элементарного долга, которому можно научиться в ускоренной школе прапорщиков, и который не мог я усвоить в самой длительной редакции…
Для второго — еще оставались крохи денег.
И вот я в Константинополе.
Гордо развиваются русские флаги на… пиках танцоров в Petits Champs; ползут пароходы по Босфору, сплетней и мелкой интригой клубятся Принцевы острова; на Пере и Галате видения былых величий, сплошные тени одиннадцати столетий, плюмажей, шпаг, фабрик, усадьб; Рюрикович под руку со спекулянтом из Житомира идут продавать последнее кольцо, подаренное одним жене другого.
Я очень чувствую, что мое письмо, быть может, и смешно, и неуместно, и назойливо.
Но я так изголодался по беседе, что, помня Ваше доброе отношение ко мне, решился написать Вам. И знаете еще почему?
Потому что мне всегда казалось, вы считали меня большевиком и думали, что я состою у них на службе.
Увы! При всей моей беспринципности, я оказался по эту сторону добра и зла, по ту остался принципиальный Соболев, который, — помните, — не пожелал участвовать в «Жизни», когда я написал, что, вопреки логике и по силе и течению событий, Советы становятся стражем национальной независимости.
Сами большевики поняли это лишь через два года, и пригласили Брусилова…
Быть может, Вы не откажете написать мне в свободную минуту, не возможно ли мне присылать изредка статьи и корреспонденции либо в «Последние новости», либо в какую-либо другую газету.
Не приходится говорить, как я мечтал ехать в Париж, и как для этого не оказалось ни визы, ни денег.
Жму Вашу руку.
Ваш В. Р — ъ.»
* * *
На вечеринке, которую устроил Василевский по случаю выхода «Свободных мыслей» в Париже, константинопольское письмо было прочитано вслух, и вызвало немало разговоров.
Сумасбродный и скоропалительный редактор сейчас же объявил, что в следующем номере еженедельника письмо будет полностью напечатано…
Его быстро успокоили, объяснив, что автор письма еще покуда жив и под категорию знаменитых покойников не подходит.
И что лучше помочь человеку выбраться из турецкого плена, а там видно будет.
Куприн, на которого человеческий документ произвел особое впечатление, сказал, что завтра же пойдет к Великому Визирю, — так называли одного влиятельного француза, без конца хлопотавшего за бесправных беженцев, — и уверен, что виза будет дана.
Через месяц Рындзюн был уже в Париже, и на страницах «Общего дела» появились подписанные именем Ветлугина его первые очерки, посвященные эпизодам гражданской войны.
Всё, что он писал, было бойко, безответственно, и талантливо. Но успех ему сопутствовал, и хлёсткая фраза многих сбивала с толку.
Безошибочно угадал его один только Бунин.
По поводу «Авантюристов гражданской войны», вышедших в издании «Севера», Бунин так и писал:
«Ветлугин — дитя своего времени.
Ужасную молодость дал Бог тем, что росли, мужали, и остались живы за последние годы.
Какую противоестественную выдумку, какое разочарование во всем, какое неприятное спокойствие приобрели они!
Сколь много они видели, и сколько грязи, крови. И как ожесточились.
И нынешний Ветлугин смотрит на мир ледяными глазами, и всем говорит:
— Все вы, чорт знает что, и все идите к чорту!
Недостаток это? Большое несчастие, болезнь? Что будет с Ветлугиным? Изживет он свою болезнь или нет?
Ведь нужно, необходимо, чтобы хоть иногда, невзначай, и на ледяные глаза навертывались слёзы…»
Тэст был сделан, диагноз поставлен, логическое продолжение не замедлило прийти.
Через год с лишним, в тех же русских Пассях, — так называли первые пионеры парижский квартал Passy, — молодой, но уже издерганный Ю. В. Ключников, петербургский доцент и нетерпеливый политик, читал свою пьесу «Единый куст».
Среди приглашенных были Бунин, Куприн, Толстой, Алданов, Илья Эренбург, недавно бежавший из Крыма, Ветлугин и автор настоящей хроники.
Пьеса, по выражению Куприна, были скучна, как солдатское сукно.
А неглубокая мысль ее заключалась в том, что Родина есть Единый куст, и все ветви его, даже те, которые растут вбок или в сторону, питаются одними и теми же живыми соками, и надо их во время направить и воссоединить, чтобы куст цвел пышно и оставался единым.
Присутствовавшие допили чай и разошлись.
Настоящий обмен мнениями, больше впрочем походивший на нарушение общественной тишины и порядка, имел место уже на улице Ренуар против знаменитого дома 48-бис, где проживало в то время большинство именитых русских писателей.
Больше всех кипятился и волновался Алексей Толстой, который доказывал, что Ключников совершенно прав, что дело не в пьесе, которая сама по себе бездарна, как ржавый гвоздь, а дело в идее, в руководящей мысли.
Ибо пора подумать, — орал он на всю улицу, — что так дольше жить нельзя, и что даже Бальмонт, который только что приехал из России, уверяет, что там веет суровым духом отказа, и тяжкого, в муках рождающегося строительства, а здесь, на Западе, одна гниль, безнадежный, узколобый материализм и полное разложение…
Бунин, побледневший, как полотно, только и успел крикнуть в предельном бешенстве:
— Молчи, скотина! Тебя удавить мало!..
И, ни с кем не попрощавшись, быстро зашагал по пустынной мостовой.
Куприн только улыбнулся недоброй улыбкой, и тоже засеменил своими мелкими шажками, опираясь на руку Елизаветы Маврикиевны.
Алданов молчал и ежился, ему, как это часто с ним бывало, и на этот раз было не по себе.
Беседа оборвалась.
Больше она не возобновлялась.
* * *
Непокорные ветви продолжали расти вбок, в сторону.
Толстые уехали в Берлин.
Ветлугин что-то невнятное промямлил, не то хотел объяснить, не то оправдаться, и последовал за Толстыми.
На прощание сказал, что любят отечество не одни только ретрограды и мракобесы, и что любовь — это дар Божий…
— А вы, — закончил он, ища слов и как будто замявшись, — вы еще хуже других, ибо расточаете свой дар исключительно на то, чтоб мракобесие это поэтизировать, и соблазняя, соблазнить, как говорил Сологуб. И все-таки, несмотря на всё, я вас люблю… можете верить, или не верить, мне это в высокой степени безразлично.
В доказательство непрошенной любви, спустя несколько месяцев, пришло последнее письмо из Берлина.
Помечено оно было февралем 22-го года.
…«хотя вы и считаете меня гнусным перебежчиком и планетарным хамом, но упорно не отвечать на письма еще не значит быть новым Чаадаевым и полнокровным европейцем.
Хочу, чтоб вы знали, что и в моем испепеленном сердце цветут незабудки.
Посылаю вам целый букет:
Издательское бешенство все возрастает.
«Слово» открыло отделение в Москве, на Петровке!..
И, кроме того, переходит на новую орфографию, которую вы так страстно ненавидите.
А. С. Ефрон возвращается на родину, где ему возвращена типография. Хлопотал об этом Алексей Максимович Пешков, он же Горький.
«Грани» — издательство проблематичное, настроение правое, но с деньгами у них слабо.
Продаются, однако, и они хорошо, и альманах «Граней» допущен в Россию.
Незабудка номер два: в «Доме искусств», в очередную пятницу, были Гессен и… Красин.
После этого, А. А. Яблоновский и Саша Черный кажутся ультразубрами.
Тема дня — приезд двух советских знаменитостей, поэта Кусикова и беллетриста Бориса Пильняка.
Оба очень славные ребята, таланты недоказанные, но пить с ними весело, рассказывают много такого, о чем мы и понятия не имеем.
С ними, с Ященко, Толстым и Соколовым-Микитовым много и часто пьянствуем.
Воображаю ваше презрение.
Толстой вернулся из Риги в отличном настроении.
Имел огромный успех, сам играл Желтухина в своей «Касатке».
Но дело не в этом, а в том, что Рига — аванпост, а также и трамплин.
Все переговоры ведутся в Риге, а судя по советской «Летописи литераторов» и по преувеличенному ухаживанию Пильняка, — Толстой по-прежнему любимец публики.
Так что будьте уверены, что продолжение последует…
Я живу одиноко, ни на какую родину не поеду, а если куда и поеду, но на родину Генри Форда, в Америку.
В ожидании чего, пишу памфлеты и романы, и продаю на корню.
Содержание их неважное, а названия первый сорт.
Судите сами:
«Записки мерзавца».
«Лицо, пожелавшее остаться неизвестным».
И «Иерихонские трубачи».
В последний раз жду от вас ответа и жму руку.
Вами забытый и Вас любящий А. Ветлугин».
Этим последним, и в некотором роде, тоже человеческим документом четырехлетний роман был исчерпан.
* * *
Большевизанство Ветлугина было также наиграно, как и всё остальное в его путаной биографии.
На последний шаг он не решился.
Пить водку с Кусиковым это одно, а регистрироваться на вечное поселение — совсем иное.
Расчет был сделан, сальдо в пользу Америки оказалось бесспорным.
Уехали Толстые. Уехал Илья Эренбург.
А единый куст расцвел в Праге, и по новой ботанике назывался «Смена вех».
В предисловии, написанном Ключниковым, были приведены цитаты из Бердяева, из статьи его в знаменитых «Вехах» 1909-го года.
Цитата была выдернута умелой рукой и приспособлена к требованиям момента:
«В данный час истории — интеллигенция нуждается не в самовосхвалении, а в самокритике»…
За предпосылкой следовала посылка из Александра Блока.
«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию!»
Смерть поэта от голодной цынги стройности силлогизмов не нарушила.
Оставалось найти заключение.
Принадлежало оно уже самому Ключникову:
«В Ленине старая русская интеллигенция без остатка исчерпывает и изживает самое себя.
Ленин — это та цена, которой куплена новая Россия, а с нею и новая русская интеллигенция.
И только благодаря Ленину — превращение интеллигенции в мещанство становится исторически невозможным».
Камертон был дан, чуткий отклик профессора Устрялова воспоследовал немедленно.
Оправдание оппортунизма, знаменитой передышки, и всего вытекавшего из Нэпа было подано горячо и на совесть.
«Великий утопист, но и великий приспособленец может пожертвовать коммунизмом, чтобы спасти Советы!..
Ленин более гибок и чуток, нежели Робеспьер.
Он понял, что от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности нужен спуск на тормозах.
Когда спуск будет завершен, тормоза станут лишними.
Но горе тем, кто из жалких эмигрантских конур попытается мешать Великой Русской Революции в ее стремлении спастись, освободиться от собственных излишеств».
Отсюда вывод и предостережение всем, всем, всем.
Провозгласит его Бобрищев-Пушкин:
«Третьей революции не будет.
Прийдя из России, Вторая и Последняя, Великая Октябрьская революция захватит Европу и только глухие не слышат уже происходящих обвалов и подземных глухих раскатов.
Может быть Европе и будет дана отсрочка на десять, пятнадцать, двадцать пять лет, но это отсрочка имеет значение только для нас смертных, а не для всего человечества.
Ибо что значит жизнь одного поколения для истории всего мира!»
После такого манифеста, что оставалось делать целому поколению, как не воспользоваться отсрочкой.
Хорошо пророкам и ясновидящим.
Горе мещанам, которые не способны предвидеть, предчувствовать, угадать.
Ни прогрессивного паралича, коим кончаются биографии гениальных диалектиков.
Ни восхождения новых созвездий на необъятной советской планисфере. Ни тяжкого булыжника, которым где-то в Мексике раскалывают череп вождя красной армии.
Ни братской могилы, в которую прокурор Вышинский уложит целый эшелон других вождей.
Ни вечной и бессмертной славы действительно единственного в мире Отца народов, которого через три недели после кровоизлияния в мозг, беспощадная история, как корова, языком слижет.
Ах! Мещане, мещане! Вечные мещане!
Живите полной жизнью, пока вас не повесили и не расстреляли, или просто не выкинули за борт истории, написанной Ключниковым и Устряловым, Бобрищевым-Пушкиным и Лукьяновым в старом городе Праге, тридцать лет назад.
— Keep smiling! — говорят невозмутимые англичане.
И кто его знает, может они и правы.
«Старайтесь улыбаться». Смейтесь.
Благо есть над чем.
* * *
Смех был у всякого свой, но хор звучал дружно.
Саша Чёрный, который с возрастом упразднил петербургского Сашу, и стал просто А. Чёрный, завел себе фокстерьера, у которого тоже был псевдоним: назывался он — Микки.
Собачку свою Александр Михайлович отлично выдрессировал, и когда намечал очередную жертву для стихотворной сатиры, то сам скромно удалялся под густолиственную сень, а с фокса снимал ошейник и, как говорится, спускал с цепи.
Чутье у этого шустрого Микки было дьявольское, и на любой избранный автором сюжет кидался он радостно и беззаветно.
Но сам автор отходил от сатиры всё больше и больше.
Тянуло его к зеленым лугам, к детям, к простым и вечным сияниям еще не постигших, не прозревших, невинно открытых миру сердец и глаз, ко всему, что он так удачно и без вычуров и изысков назвал «Детским островом».
Александр Александрович Яблоновский оставался всё тем же, каким его знала читающая Россия.
«Родные картинки», перенесенные заграницу, почти не изменились по содержанию.
Тем было сколько угодно.
Голубь, переночевавший в конюшне, не превратился на утро в лошадь.
Подход и трактовка, тонкий и беззлобный юмор, и только невзначай заслуженные розги, удивительно уживались с тихой, укоризненной улыбкой, за которой следовал добродушный отеческий выговор по адресу пестрой эмигрантской голубятни.
Петр Потемкин, к великому огорчению друзей и почитателей, даже и улыбнуться не успел.
Смерть унесла его рано, слишком рано, и на могилу его мы принесли розовую герань, которую он так любил и так проникновенно воспел, как бы в ответ на вызов, утверждая право на счастье, на подоконники, на герань за ситцевыми занавесками, на всё то, что Бобрищев-Пушкин считал мещанским и обреченным, а поэты и Дон-Кихоты — обреченным, но человеческим.
Впрочем, и то сказать, не так уж много было цветов герани на эмигрантских подоконниках, и ни уютом, ни избытком, ни обеспеченным пайком могли похвастаться случайные жильцы шоферских мансард и захудалых меблирашек.
Но был «Покой и воля», и отдых на крапиве, как говорил Аверченко.
Но всё же отдых, и передышка.
Бытовую сторону отдыха на крапиве отлично уловил Вл. А. Азов, присяжный фельетонист петербургской «Речи», постоянный сотрудник «Нового сатирикона», автор «Четырех туров вальса» в «Кривом зеркале», и просто остроумный и даровитый журналист, обладавший каким-то особым, спокойным, Джеромовским юмором старой английской школы.
Его русские пословицы в вольном переводе с нижегородского на французский имели немалый и заслуженный успех.
— Малэр арривэ, кордон сильвуплэ! — это могло служить подходящим эпиграфом к любой зарубежной биографии.
— Пришла беда, отворяй ворота…
Михаил Андреич Осоргин юмористом себя не считал, из журналистов перешел в беллетристы, писал повести и романы, писал с увлечением, и читали его тоже с увлечением, и славу он имел быструю и значительную.
«Сивцев Вражек» и «Там, где был счастлив» были большими этапами его большого литературного успеха.
Но тянуло его к юмору инстинктивно и неудержимо, и считался он великим насмешником, а заостренные шутки его были метки и безошибочны.
В «Последних новостях» нередко появлялись его полулирические, полуиронические повествования о том, как надо сесть на землю, разводить огород, сеять русский укроп и нежинские огурцы, и что может из всего этого выйти разумного, доброго и вечного, если даже укроп пропадет, а огурцы не примутся.
Всё это было легко, мило, воздушно и насмешливо.
Казались тяжеловесными только его философские вставки и примечания, которыми он, то и дело, приправлял и укроп, и огурчики.
А происходило это от того, что этот изящный, светловолосый и темноглазый человек отравлен был не только никотином, коего поглощал неимоверное количество, но еще и какой-то удивительной помесью неповиновения, раскольничества, особого мнения и безначалия.
И не только потому, что он мыслил по-своему, а потому, чтобы, не дай Бог, не мыслить так, как мыслят другие.
В этом была раз навсегда усвоенная поза, ставшая второй натурой.
Как-то на балу писателей, завидев одетого с иголочки и окруженного дамами Осоргина, А. А. Яблоновский не выдержал, и с вечным своим добродушием, но не без доли ядовитости, так ему экспромтом и преподнёс:
— Ну какой же вы анархист, Михаил Андреевич? Вы, просто-напросто, уездный предводитель дворянства, и вам бы с супругой губернатора мазурку танцевать, а не Кропоткина по ночам мусолить!
Осоргин шутку не только проглотил легко, но и оценил её по достоинству.
Но, что и говорить, главенствующая роль принадлежала, конечно, Тэффи, и по неотъемлемому ее таланту, и по раз навсегда установленной табели о рангах.
Писать она терпеть не могла, за перо бралась с таким видом, словно ее на каторжные работы ссылали, но писала много, усердно, и все, что она написала, было почти всегда блестяще.
Эмигрантский быт был темой неисчерпаемой, и если не всё в этом быту подлежало высмеиванию и осмеянию, то смягчающим вину обстоятельством, — относилось это и ко всем остальным присяжным юмористам, — могло послужить старое, и не одной земской давностью освященное двустишие:
Смеяться, право, не грешно Над тем, что кажется смешно.И, может быть, Тэффи была и права.
И смешным могло ей искренно казаться всё, без исключения.
Ее «Городок» — это настоящая летопись, по которой можно безошибочно восстановить беженскую эпопею.
«Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной.
Поэтому жители городка так и говорили:
— Живем худо, как собаки на Сене…
Молодежь занималась извозом, люди зрелого возраста служили в трактирах: брюнеты в качестве цыган и кавказцев, блондины — малороссами.
Женщины шили друг другу платья и делали шляпки, мужчины делали друг у друга долги.
Остальную часть населения составляли министры и генералы.
Все они писали мемуары; разница между ними заключалась в том, что одни мемуары писались от руки, другие на пишущей машинке.
Со столицей мира жители городка не сливались, в музеи и галлереи не заглядывали, и плодами чужой культуры пользоваться не хотели»…
Когда-нибудь из книг Тэффи будет сделана антология, и, — со скидкой на время, на эпоху, на географию, — антология эта будет верным и весёлым спутником, руководством и путеводителем для будущих поколений, которые, когда придет их час, тоже, по всей вероятности, будут бежать в неизвестном направлении, но во всяком случае не в гости, а живот спасая.
Ибо велика мудрость Экклезиаста, и не напрасно гласит она, что всё в мире повторяется, и возвращается ветер на круги своя.
Pro domo sua принято писать кратко.
Правило глупое, но достойное.
Поэтому ничего не скажу — про Колю Сыроежкина, Дым без отечества, Нашу маленькую жизнь, и Нескучный сад.
Об этом писали другие, именитые и знаменитые.
И Бунин, и Куприн, и Алданов, и Адамович, и Зинаида Гиппиус, и Марина Цветаева, и евразийский князь Святополк-Мирский.
С меня хватит.
Единственно, что в архиве сохранилось, что, вероятно, мало кому известно, и о чём, ввиду отсутствия за рубежом многих советских комплектов, может быть и стоит упомянуть, это именно о том, что тоже называлось «За рубежом», но в кавычках.
Название это принадлежало советскому еженедельнику, посвященному эмигрантской литературе.
Редактировал еженедельник Максим Горький.
Посвятил он мне следующие строки:
«Д. Аминадо является одним из наиболее даровитых, уцелевших в эмиграции поэтов. В стихотворениях этого белого барда отражаются настроения безысходного отчаяния гибнущих остатков российской белоэмигрантской буржуазии и дворянства… Приводим несколько последних произведений поэта контрреволюционного стана».
После чего, под заголовком «Поэзия белой эмиграции», — нижним фельетоном, в разворот на две страницы, как выражаются русские метранпажи, — одно за другиим, следуют шесть длиннейших стихотворений, которые — спорить и прекословить не станем — были явно написаны не подозревавшим себя «дворянином», но в коих было столько же безысходной тоски и отчаяния, сколько построчной платы получил за московскую перепечатку белогвардейский бард контрреволюционного стана…
* * *
Не всё было весело в русском городке, через который протекала Сена.
Но смешного, чудовищно-нелепого, было немало.
Короновался на царство и вступил на осиротевший российский престол великий князь Кирилл Владимирович, объявивший себя Императором.
Царскосельские скачки были перенесены в Сэн-Брийак, куда переехали на жительство оставшиеся в живых шуаны, камергеры с ключами, и весь Двор.
Городок был объявлен столицей, а в гостинице «Мажестик» на Av. Kleber состоялся Зарубежный съезд, устроенный на шальные деньги А. О. Гукасова, мечтавшего на белом коне и лихим галопом вернуться в Россию.
Богатый нефтепромышленник, получивший баснословные суммы от сумасшедших англичан на эту самую нефть, которая осталась на Кавказе и которую эти самые англичане, после падения большевиков, — «большевики кончатся через две недели!» — собирались эксплоатировать, — Гукасов развлекался, как мог.
Издавал орган национальной мысли, который назывался «Возрождение», и устраивал собственную палату депутатов, которая именовалась Зарубежным съездом.
«Возрождение» вначале редактировал бывший редактор «Освобождения», известный экономист и ученый, Петр Бернгардович Струве, а впоследствии Семенов.
От «Освобождения» до «Возрождения» расстояние большое.
Во всяком случае куда большее, чем от Штутгарта до Парижа.
Но великие люди расстоянием не стесняются, а эволюция государственных идей совершается хотя и медленно, но верно.
Ничего окончательного в этом мире нет, — окончание в следующем номере — употребляется только для красоты слога.
Нечего и говорить, что между «Возрождением» и «Последними новостями» сразу установились дружеские и добрососедские отношения, а между Струве и Милюковым немедленно началась интимная «Переписка из двух углов».
На переписку Вячеслава Иванова с Гершензоном походил этот ежедневный обмен любезностями весьма мало, но литературные традиции были соблюдены.
Так или иначе, а вся эта пища богов заключала в себе немало живительных калорий, благодаря чему духовные интересы эмиграции были обеспечены на многие годы.
Появилась даже своя собственная зарубежная азбука, которая, по имени нового императора Кирилла Владимировича, получила название Кириллицы.
Весь этот русский Ампир подавлял изобретательностью, роскошью, игрой воображения, оригинальностью, новизной, пробуждал умы, и веселил души.
Ничего подобного история Европы до сих пор не видела.
Никакой параллели между французской эмиграцией, бежавшей в Россию, и русской эмиграцией, наводнившей Францию, конечно, не было.
Французы шли в гувернёры, в приживалы, в любовники, в крайнем случае в губернаторы, как Арман де-Ришелье или Ланжерон и де-Рибас.
А русские скопом уходили в политику, и философию, а главным образом, в литературу.
Были страны, которые чрезвычайно это поощряли и не только выдавали ренты и субсидии, но особых идеалистов награждали еще медалями и орденами.
Так, например, король сербский Александр пригласил к себе во дворец Зинаиду Николаевну Гиппиус и Димитрия Сергеевича Мережковского и, под стройные звуки балалаечного оркестра, собственноручно приколол им орден Св. Саввы первой степени, с мечами и бантом.
И, действительно, было за что.
У Мережковского было не только большое литературное имя, но еще и особенная, недюжинная, почти патологическая страсть к раболепству и преклонению.
Великие мира сего: короли, халифы, военачальники и диктаторы ослепляли его, околдовывали, превращали в лепёшку.
В конце концов, какое имеет значение, за что именно удостоен был Мережковский королевской милости, за литературу, за пресмыкательство, за «Трилогию» или патологию?
Триумфальное возвращение из Белграда, ленты, ренты, сплетни, стихи, — «шопот, робкое дыханье, трели соловья»…
А в Городке не умолкает газетный шум, кипит словесная война.
Все пишут, все печатают, все издают.
Графоманы, скифы, младороссы, скауты, калмыки, монархисты, волчата, дети лейтенанта Шмидта, суворинские сыновья, — валяй, кто хочешь на Сенькин широкий двор.
Толчея, головокружение, полная свобода печати.
«Наш путь». «Наша правда». «Наш значок». «Стяг». «Флаг». «Знамя». «Знаменосец».
«Вестник хуторян». «Вестник союза русских дворян». «Нация». «Держава». «Русский сокол». «Русский витязь».
«Имперская мысль». «Эриванская летопись». Орган калмыцкой группы Хальмак «Ковыль».
А о количестве «Огоньков» и говорить не приходится.
И так, без перебоя, двадцать пять лет подряд, до «Советского патриота» включительно.
И всё больше младороссы, младороссы, младороссы.
То есть, попросту говоря, молодые люди, не доросшие до России.
А наряду с этим роман генерала Краснова «От двуглавого орла к красному знамени».
Роман Брешко-Брешковского «На белом коне».
Роман Анны Кашиной «Жажду зачатия».
И роман госпожи Бакуниной «Твоё тело принадлежит мне…»
Отдых на крапиве продолжается. Музыка играет, штандарт скачет.
* * *
«Иллюстрированная Россия», еженедельник Миронова, дает ежегодный бал с танцами до утра.
Ни пройти, ни протесниться. Толпы несметные.
Туалеты не от Ляминой, а от самих себя, но всё же умопомрачительные.
В программе всё, что полагается:
Песня индийского гостя из оперы «Садко». Половецкие пляски.
Плевицкая в кокошнике, поет, закрыв глаза:
«Замело тебя снегом, Россия!..»
Зал неистовствует.
Лакей в ливрее несет букет белых роз, перевязанных атласной лентой.
Не хватает только кареты, чтоб выпрячь лошадей и везти любимицу собственными силами.
Через несколько лет за женой генерала Скоблина приедет карета из тюрьмы Сэн-Лазар, кокошник будет снят, и удалую жизнь свою любимица, простоволосая и в арестантском халате, кончит в одиночной камере.
Похищение генерала Миллера, председателя Воинского союза, останется государственной тайной, предателей, на случай внезапного раскаяния, расстреляют, мавр сделал свое дело, мавра — к стенке.
В неведении будущего бал продолжается.
В центре программы — конкурс красавиц, выборы королевы русской колонии.
Вспышки магния, радость родителей, и светлая вера в то, что наступит же некогда день и погибнет высокая Троя, и возрожденная Россия соединится с Иллюстрированной, и танцы будут длиться всю ночь, до самой зари, до утра.
При особом мнении остаются основатели другого еженедельника, где никаких иллюстраций, никаких обывателей, никаких мещан, одни скифы:
— Карсавин, Трубецкой, Святополк-Мирский, Вернадский, одержимый В. Н. Ильин и человек с актерской фамилией Малевский-Малевич.
В подзаголовке никаких точек с запятыми, никаких многоточий, ничего недоговоренного.
«Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии.
Она, шестая часть света, Евразия — узел и начало новой мировой культуры.
Возврата к прошлому нет.
И то, что совершено революцией — неизгладимо и неустранимо».
Вдохновленные строки Блока обрамляют евразийскую прозу, после чего никаких надежд на продолжительный отдых не остается.
Летит, летит степная кобылица И мнёт ковыль…Тираж, однако, небольшой. Жития еженедельнику несколько месяцев. Надгробных речей никаких.
Если не считать непочтительных стихов, посвященным парижским скифам.
Уже у стен священного Геджаса Гудит тимпан. И всё желтее делается раса У египтян. Паломники, бредущие из Мекки. Упали ниц. Верхом садятся тёмные узбеки На кобылиц. Плен пирамид покинувшие мумьи Глядят с тоской. И скачет в мыле, в пене, и в безумьи Князь Трубецкой. И вот уже, развенчан, но державен, К своей звезде Стремится Лев Платонович Карсавин Весь в бороде…На следующий день Карсавин звонил в «Последние новости», восхищался, хвалил, благодарил, но упрекнул в поэтической вольности:
— Вы мне прицепили бороду, а я бреюсь безопасной бритвой, и совершенно начисто…
— Хотите опровержение? Тем же шрифтом и на том же месте?..
— Нет, ради Бога, не надо!..
На этом отношения с Евразией благополучно окончились.
Остальное — дело Истории.
Которая, как всегда, вынесет свой беспристрастный приговор.
* * *
Не всё, однако, в смысле печатного слова, измерялось и ограничивалось «Вестником хуторян» и «Эриванской летописью».
Были неоднократные попытки издания почтенных толстых журналов и альманахов, — в Париже «Новый град», «Числа», «Окно», «Вёрсты» под редакцией Сувчинского и Льва Шестова, в Праге «Воля России».
Был непременный «Русский инвалид», и отличное издание, посвящённое библиографии, графике, истории словесности и русским книгохранилищам «Временник русской книги», который издавал и редактировал Я. Б. Полонский.
Во «Временнике» печатались статьи Милюкова, Лозинского, А. Н. Бенуа, Осоргина, Унгебауна, Кизеветтера, Кульмана, А. М. Ремизова, и целого ряда других знатоков, библиофилов, и просто усердных любителей и собирателей русских литературных ценностей.
Исследование Милюкова о первопечатнике Иване Федорове; статья переводчика А. Монго о рукописях Пушкина, найденных в Авиньоне; этюд Кизеветтера о московских букинистах; письма Пушкина об авторском праве; и, исполненные высокого интереса и упорного труда, замечательные исследования Я. Б. Полонского, посвященные архивам кн. Волконской в Риме, В. С. Гагарина и книгохранилищам русских иезуитов и Европе, — всё это сослужило и еще сослужит службу будущим историкам, языковедам, и тем немногим и избранным, кто, как М. А. Алданов, дышит полной грудью только в спёртом воздухе библиотек, среди пыльных фолиантов и монографий.
Не всем же выбирать королев русской колонии, менять вехи на вехи, играть в бирюльки на зарубежных съездах или просто пить горькую от тоски по родине и плакать пьяными слезами под маринованный рыжик и цыганский романс.
Но, конечно, первую и бесспорную роль в зарубежной литературе играли «Современные записки».
Почти двадцать лет существования, шестьдесят томов подлинного толстого журнала, огромное количество отдельных изданий, — всё это представляло не только героический, невообразимый в эмигрантских условиях труд, но, выражаясь языком банальных аксиом, являлось и настоящим, драгоценнейшим вкладом в историю русской культуры.
Теперь это уже не вклад, а памятник, своего рода Луксорский обелиск, в священных иероглифах которого окончательно разберутся не пристрастные и, как всегда близорукие, современники, а охлаждённые чередой грядущих десятилетий, беспристрастные и равнодушные потомки.
В деле издания «Современных записок» героями труда были четверо могикан, четверо последних римлян:
— Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков, М. В. Вишняк, В. В. Руднев.
Воображаемые их портреты должны были бы написать художники различных школ.
Николая Дмитриевича Авксентьева — Васнецов.
Илью Бунакова — Рерих.
Вадима Викторовича Руднева — Врубель.
А что касается единственного оставшегося в живых Вишняка, то ему вместо портрета, я всегда предлагал нашумевшего во времена оны — Винниченко.
И не столько самого писателя, сколько название его романа:
«Честность с собой».
Ибо никакая иная формула не могла бы со столь поразительной краткостью выразить Вишняковскую сущность.
— Честность с собой — честность с другими.
Все четыре редактора вышли из одной и той же школы старого русского идеализма, все принадлежали к одному и тому же Ордену Интеллигенции, но характеры и темпераменты у них были разные, и соединявшая их крепкая и до гробовой доски ненарушимая дружба основана была не на взаимной гармонии мыслей и согласованности идей, а на вечных спорах, схватках и противоречиях…
Крайности сходятся, даже тогда, когда их не две, а четыре.
Авксентьев был благосклонен, благожелателен и добродушен.
Любил открывать заседания, давать слово, председательствовать на банкетах и приятным баритоном произносить речи и спичи.
Несмотря на официальное эсэрство, тянуло его вправо, и скорее к Маклакову, чем к Милюкову.
Бунаков был бурнопламенный, горел, пылал, перегорал, испепелялся.
В качестве комиссара Временного Правительства один боролся со всем Черноморским флотом, требовавшим углубления революции.
В полном изнеможении вернулся в Петроград, и, подобно многим, только в самую последнюю минуту покинул советский застенок, посвятив все годы своего невольного изгнания беззаветному и страстному служению родине.
На первом месте были для него «Пути России» — ряд продуманных, выстраданных и не на лёгком ходу написанных им статей и очерков, посвященных русскому прошлому и настоящему.
Но превыше всех путей был для него путь религиозного устремления, путь поздно обретённой веры, тяжкое и мучительное восхождение на гору Фаворскую, вершины которой открылись ему уже в концентрационном лагере Компьенна и в предсмертом бреду, в немецкой газовой камере.
Бывший городской голова Москвы, земский врач и тоже правый эсэр, В. В. Руднев, сжигал себя по-иному, и хованщина его была больше сектантской, раскольничьей, чужому глазу невидимой и недоступной.
Двигатель внутреннего сгорания работал бесшумно, но безостановочно.
Религиозный уклон требовал жертвы и отказа, а языческая сущность влекла к утехам, радостям, к короткому земному счастью.
Обвиняющий слышался голос, И звучали в ответ оправданья. И бессильная воля боролась С возрастающей бурей желанья.Бурю сломила смерть. В сорок первом году, в Марселе, незадолго до устроенного друзьями отъезда за океан, в Соединенные Штаты Америки.
Остался один душеприказчик, последний спорщик, последний иконокласт, несогласный, непримиримый, никаким уклонам неподверженный, всегда при особом мнении, всегда в меньшинстве, недовольный собой, недовольный другими, правдивый забияка, прямой и самовзрывчатый, из последних римлян самый последний, Марк Вениаминович Вишняк.
Трудно писать о живых недругах, еще труднее — о живых друзьях.
В семьдесят лет он еще юноша, доживём до восьмидесятилетия, тогда и поговорим.
В «Современных записках» было собрано всё, что было выдающегося в современной русской литературе.
— Бунин, Куприн, Алексей Толстой, Алданов, Борис Зайцев, Ремизов, Ходасевич, Гиппиус, Мережковский, Павел Муратов и Осоргин.
Долго печатался сибирский роман Георгия Гребенщикова «Чураевы».
Нечаянной радостью прозвучала «Нена» В. М. Зензинова.
Страстные споры вызвало появление молодого писателя Вл. Сирина.
Культурные дамы запоем читали его «Приглашение на казнь» и клялись со слезами на глазах, что всё поняли и всё постигли.
А не верить слезам и клятвам — великий грех.
Печатались в журнале стихи Бальмонта, Марины Цветаевой, Крандиевской, «Римские сонеты» Вячеслава Иванова, и целой плеяды начинающих поэтов из «Зеленой лампы», из «Перекрестка», из «Цеха поэтов».
А что касается многоуважаемых отделов, посвящённых искусству, философии, науке, политике и экономическим и социальным вопросам, то и в этой высокой и отвлечённой стратосфере сияли созвездия первой величины: проф. Ростовцев, Лосский, Чупров, Шестов, Маклаков, Милюков, Бердяев, Гершензон, Федотов, Ф. А. Степун, Мельгунов, Керенский, Вл. Жаботинский, Вейдле, Нольде и музыкальный критик Б. Ф. Шлецер, который во французских изданиях называл себя просто де-Шлецер.
Особое место занимали «Воспоминания» Александры Львовны Толстой, и, исполненные блеска, горячности и непоследовательности, боевые и всегда вызывавшие нескончаемый спор незаурядные статьи Екатерины Дмитриевны Кусковой, которую в шутливом послании ко дню ее восьмидесятилетия я назвал Марфой-Посадницей.
Последняя книжка «Современных записок» вышла в 1937 году, и уже пятнадцать лет спустя полные комплекты журнала стали редкостью.
* * *
Из далёкой Советчины доносились придушенные голоса Серапионовых братьев; дошел и читался нарасхват роман Федина «Города и годы»; привлёк внимание молодой Леонов; внимательно и без нарочитой предвзятости читали и перечитывали «Тихий Дон» Шолохова.
Восторгался стихами Есенина упорствовавший Осоргин, и где только мог, повторял, закрывая глаза, есенинскую строчку «Отговорила роща золотая»…
Близким и понятным показался Валентин Катаев.
Каким-то чужим, отвратным, но волнующим ритмом, задевала за живое «Конармия» Бабеля.
И только когда много лет спустя, появился на парижской эстраде так называемый хор красной армии, и, отбивая такт удаляющейся кавалерии с такой изумительной, ни на одно мгновение не обманывавшей напряжённый слух, правдивой и музыкальной точностью, что, казалось, топот лошадиных копыт замирал уже совсем близко, где-то здесь, рядом, за неподвижными колоннами концертного зала, а высокий тенор пронзительно и чисто выводил этот щемивший душу рефрэн — «Полюшко, поле»… — тут даже сумасшедший Бабель стал ближе и на какой-то короткий миг всё чуждое и нарочитое показалось, рассудку вопреки, родным и милым.
Впрочем, от непрошенной тоски быстро вылечил чувствительные сердца Илья Эренбург, от произведений которого исходила непревзойдённая ложь и сладкая тошнота.
Да еще исполненный на заказ сумбурный роман Ал. Толстого «Чёрное золото», где придворный неофит бесстыдно каррикатурил своих недавних меценатов, поивших его шампанским в отеле «Мажестик» и широко раскрывавших буржуазную мошну на неумеренно роскошное издание толстовской рукописи «Любовь — книга золотая».
«Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости оттенок благородства!»
Впрочем, всё это были только цветочки, ягодки были впереди: «Петр Великий» еще только медленно отслаивался в графских мозговых извилинах, и обожествления Сталина, наряжённого в голландский кафтан Петра, не предвидел ни чудесный грузин, ни смущённый Госиздат.
Зато на славу развлекли и повеселили «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, и первое по праву место занял всеми завладевший сердцами и умами неизвестный советский гражданин, которого звали Зощенко.
О чудотворном таланте его, который воистину, как нечаянная радость, осветил и озарил всё, что творилось и копошилось в тёмном тридевятом царстве, в тридесятом государстве, на улицах и в переулках, в домах и застенках, на всей этой загнанной в тупичок всероссийской жилплощади, о чудодейственном таланте его еще будут написаны книги и монографии.
В литературный абзац его не вместишь, и стало быть, покуда будут эти книги написаны, одно только и остается: отвесить утешителю дней низкий земной поклон.
После Зощенки кто мог читать Демьяна Бедного, Ефима Зозулю и прочих казённокоштных старателей и юмористов.
А ведь, кроме комсомольских увеселителей, были якобы и всамделишние писатели из народа, поэты от сохи, от подпочвы, которых подавала «Молодая гвардия», одёргивала за уклон «Литературная газета», и производила в лауреаты Академия Наук.
Где они? Кто они? Какое наследие оставили они не то что надменному веку, а хоть одной покладистой пятилетке?
Имя им — легион, произведения их — пыль.
Помнится, невзначай указал мне Адамович на одного из легиона, и тоже от сохи, некоего Мих. Светлова.
Издание Молодой гвардии, сборник стихов «Ночные встречи».
Не приведи, Господи, встретить такого ночью!..
Но всё же, для памяти, записал в записной книжке.
Четыре строчки из стихотворения «На море».
Там, под ветра тяжёлый свист Ждёт меня молодой марксист. Окатила его сполна Несознательная волна…Да! Этот не то, что от сохи, а от самых земных пластов, от суглинка, от рыхлого чернозёма.
Такая мощь и сила в нём, Что, прочитав его творенья, Не только чуешь чернозём, Но даже запах удобренья.* * *
С зарубежной поэзией дело обстояло проще.
В знаменитом Тэффином «Городке», который лежал, как собака на Сене, было всё, что угодно, но Академии Наук не было.
Лауреатов венчали в угловых кафе, но за кофе платили они сами. Все было чинно и скромно.
Молодые поэты читали стихи друг другу, а добившись славы, выступали на вечерах «Зелёной лампы», и лорнировала их в лорнет Зинаида Гиппиус, которую за несносный нрав называли Зинаидой Ге-пе-ус, да ещё тонким фальцетом учил уму-разуму Мережковский.
Была у них и своя собственная «Поэтическая ассоциация», и «Палата поэтов», и «Перекресток», и «Объединение», и покровительствовали им и поощряли и Адамович, и Ходасевич, и В. В. Вейдле, и в торжественных случаях И. А. Бунин.
Никто их не мордовал, не затирал, и никаких социальных заказов не заказывал.
Росли они, как в поле цветы, настоящие цветы жизни, хотя писали главным образом о смерти, о распаде, о тлении.
Георгий Викторович Адамович давал о них лестные отзывы, и потом с виноватой улыбкой оправдывался:
— Литература проходит, а отношения остаются… Надо быть снисходительным.
Среди молодых поэтов были и старые, которые тоже считались молодыми, и когда перечитываешь «Якорь», антологию зарубежной поэзии, составленную Адамовичем и М. Л. Кантором, то просто диву даёшься.
Кому нужны были эти метрические записи, справки о днях рождения и тезоименитства, все эти точные сведения о первой и второй молодости?
Но ничего не поделаешь, очевидно, в хорошем обществе так принято — за чайным столом о возрасте не говорить, но в случае антологии требовать и стихи и паспорт.
Впрочем, от неизбежного забвения не спасет и антология.
А войти в хрестоматию не каждому суждено.
А ведь были среди молодых поэтов по-настоящему талантливые люди.
Их было немного, дипломов никто им не выдавал, но имена запомнились, стихи запечатлелись.
Дов. Кнут, Ант. Ладинский, Мих. Струве, И. Голенищев-Кутузов, Лидия Червинская, Алла Головина, Леонид Зуров, скорее впрочем прозаик, чем поэт.
Выделялся из них, особняком стоял один Анатолий Штейгер.
Умер он совсем молодым, в Швейцарии, в санатории для туберкулёзных.
Оставил по себе милую память, лёгкую тень, и небольшую, тоненькую тетрадь стихов, под неожиданным названием «Неблагодарность».
Фактура стиха — дело профессиональных критиков и специалистов.
Простым смертным дано только воспринимать и чувствовать.
Испытывать невольное волнение, или не испытывать ничего, равнодушно пройти мимо.
К стихам Анатолия Штейгера равнодушие неприложимо.
Никто, как в детстве, нас не ждёт внизу. Не переводит нас через дорогу. Про злого муравья и стрекозу Не говорит. Не учит верить Богу. До нас теперь нет дела никому — У всех довольно собственного дела. И надо жить, как все, — но самому… Беспомощно, нечестно, неумело.Вспоминая бледного, хрупкого, темноглазого поэта, так рано покинувшего мир, совершенно невольно, словно повинуясь какому-то внутреннему, непроизвольному автоматизму, вспоминаешь и сказанную нездешними словами строку Лермонтова.
Если бы на свете были настоящие меценаты, знающие на что надо тратить деньги, то на могиле Анатолия Штейгера уже давно стоял бы невысокий памятник из мрамора Каррары, а на памятнике было бы написано:
«По небу полуночи Ангел летел»…Ничего не поделаешь. На свете есть много хороших и отзывчивых людей, но все они вечно торопятся, потому что страшно заняты.
* * *
Редким и, может быть, единственным исключением в импровизированном хаосе зарубежных начинаний являлись «Последние новости».
Возникли они из небытия, но оформление их произошло быстро, и бытие оказалось прочным, крепким и на долгие годы обеспеченным.
Ни тарелочного сбора, ни меценатских щедрот.
Все шло самотёком, издателям на утешение, заграничному отечеству на пользу.
Тираж рос, подписчиков хоть отбавляй, отдел объявлений работал до отказу, и в пятом часу утра уже на всех парижских вокзалах грузились кипы свежих, вкусно пахнувших типографской краской номеров, с заманчивой бандеролью:
— Лион, Марсель, Гренобль, Нью-Йорк, Белград, Вена, София, Истамбул, Англия, Швейцария, Испания, Алжир… полный курс географии, до Гонолулу включительно.
«Дубовый листок оторвался от ветки родимой», и судьба раскидала людей по всему лицу земли.
Отсюда и география.
В Директорском кабинете, одиноко, заседал бывший член Государственной Думы, по убеждениям кадет, по образованию агроном, Николай Константинович Волков.
Заседал он двадцать лет без малого, и всё подсчитывал строчки.
Коммерческую часть держал крепко, при слове аванс покрывался лёгкой испариной, в издательском деле ровным счётом ничего не смыслил, но общественное добро берёг, как зеницу ока.
На заседаниях правления Волков долго и обстоятельно докладывал, а председательствовал Александр Иванович Коновалов, бывший московский миллионер, член Временного Правительства, старый либерал и общественный деятель.
Ал. Ив. скучал, хмыкал, что-то такое жевал, выпячивал нижнюю губу и явно томился.
Был у него широкий размах, привычка к большим делам, и по сравнению с «Товариществом мануфактур Ивана Коновалова с сыном», микрокосм заграничной газеты казался ему чем-то бесконечно малым.
В соседних комнатах на улице Тюрбиго, над кофейней Дюпона, — работала контора, принималась подписка, пожертвования в пользу больных, неимущих, инвалидов, а по субботам выдавались гонорары, вычитывались авансы, и заведывавшая буфетом, Любовь Дмитриевна, вдова Потёмкина, отпускала в кредит сладкие пирожки собственного изделия и Кузьмичевский чай в стаканах.
Но самое священнодействие происходило на другом конце огромного, занимавшего целый этаж редакционного помещения.
В четыре часа дня, летом в жару, зимой в холод, с регулярностью человека, до конца исполняющего свой долг, появлялся П. Н. Милюков.
Неуёмный, широкоплечий, охраняющий входы Н. В. Борисов, за которым впоследствии так навсегда и установилось звание «папин мамелюк», вытягивался во весь свой рост, и в узком коридоре первым встречал Павла Николаевича.
Папаша, — так заочно именовали главного редактора, — немедленно следовал во внутренние покои, и сейчас же принимался за чтение рукописей, которые раньше всех и с немалым остервенением уже зорко просмотрел Ал. Аб. Поляков, и для проформы перелистал И. П. Демидов.
Милюков читал долго, упорно и добросовестно. От строки и до строки.
Несмотря на всю свою благожелательность, подход к авторам у него был заранее подозрительный.
Всюду чувствовалась крамола, контрабанда, отступление от «генеральной линии».
Надо сказать правду, что подозрительность его имела основания, ибо в смысле политических убеждений, склонностей и симпатий, — состав сотрудников «Последних новостей» единого целого далеко собой не являл.
Старика Мякотина упорно тянуло к народным социалистам. Ст. Иванович (Талин) был закоренелый марксист. М. А. Осоргина, вообще говоря, пленяло всякое безначалие, голый человек на голой земле! живи, как хочешь! и прочие дерзостные уклоны и выпады. А Николай Викторович Калишевич, подписывавший свои нижние фельетоны, или как их еще называли подвалы, именем Р. Словцова, — был, и попросту говоря, человеком правых убеждений.
Неисправимой правизной страдал и ближайший помощник редактора И. П. Демидов, и загадочный и молчаливый Конст. Конст. Парчевский, и кн. В. В. Барятинский, и любимец публики капитан Лукин, и бывший начальник главной Императорской квартиры, а впоследствии военный обозреватель, генерал Данилов, и дававший то, что принято называть большой хроникой, Н. П. Вакар, и не занимавшаяся политикой, но слегка косившая вправо Надежда Александровна Тэффи.
Да я и сам, что греха таить, не единожды подвергался редакторским обвинениям в нарушении линии.
Помню, как на заре этих уже далёких дней, влетело мне по первое число за несколько невинных строк в стихотворном послании, называвшемся «Писаная торба».
Могу ли ждать от тучных генералов, Чтоб каждый раз в пороховом дыму, Они своих гражданских идеалов Являли блеск и в Омске, и в Крыму? Когда в поход уходит полк казацкий, Могу ль желать, чтоб каждый на коне, Припоминал, что думал Златовратский О пользе грамоты в безграмотной стране? Ах, милые! Вам надо до-зарезу, Я говорю об этом, не смеясь, Чтоб даже лошадь ржала Марсельезу, В кавалерийскую атаку уносясь…Всецело преданным папашиным заветам и директивам оставались пожалуй немногие.
А среди немногих заведывавший иностранной хроникой М. Ю. Бенедиктов, молодой, мечтавший о политической карьере, республиканский буквоед и фаворит А. Ф. Ступницкий; и талантливый и неуравновешенный петербургский доцент Александр Михайлович Кулишер, в литературе Юниус, а по прозвищу, придуманному беспощадным Абрамычем (А. А. Поляковым), — сумасшедший мулла.
Сумасшедший мулла был человеком в высоком смысле образованным, написал немало объёмистых томов по социологии, государствоведению и философии истории.
Но, как говорили многочисленные завистники и недоброжелатели, был он не столько историк, сколько истерик.
Павла Николаевича он утомлял, но и околдовывал.
Зато от генеральной линии не отступал ни на шаг, и в смысле чистоты риз был хотя и нелеп, но умилителен.
Конец его был страшен: во время немецкого владычества, за какую-то провинность, а может быть и просто нелепость, сумасшедшего муллу забили лагерной плетью, и забили на смерть.
* * *
Невзирая, однако, на разнокалиберность состава и не неодинаковость склонностей и убеждений, жили мы на редкость дружно, тесно, а порою и весело.
Душой газеты, и настоящим, неполитическим ее редактором был, разумеется, все тот же А. А. Поляков.
Милюков возглавлял, Поляков правил.
Альбатрос парил в поднебесье, рулевой стоял у руля.
Стоял и наводил панику на окрестности.
Сокращал Минцлова, укрощал многострочного Вакара, доказывал Павлу Павловичу Гронскому, что Милюков статьи его всё равно не пропустит, и красным карандашом, краснее которого не было на свете, перечёркивал опасные места, советуя их исправить заранее.
Потом, завидев Полякова-Литовцева, хватался за голову и затыкал уши, ибо наперёд знал, что Литовцев не только развернётся на два полных подвала, но еще будет читать всю свою многовёрстную статью вслух и после каждого абзаца захлёбываться и требовать шумного и немедленного одобрения.
А специальностью Абрамыча было всё, что угодно, но во всяком случае не восхищение и не угождение.
Андрей Седых, которого все любили за весёлый нрав и несомненное остроумие, говорил по этому поводу, что в России было три словаря — один Грота, другой Даля и третий Ал. Абр. Полякова.
На что Поляков неизменно отвечал ему одной и той же тирадой, выдернутой на этот случай из какого-то моего давнишнего альбома пародий.
— Эй вы, Седых, чортова кукла, идите-ка сюда и послушайте!
Седых, не подымаясь с места, сейчас же и весьма непринуждённо парировал:
— Лучше быть чортовой куклой, чем очковой змеёй.
Прозвище было придумано всё тем же своевольным Андреем, и заключало в себе весьма прозрачный намек на знаменитые Абрамычевы очки, через стекла которых сверкал и пронзал очередную жертву неумолимый взгляд когда-то голубых глаз.
Поляков терпеливо и угрожающе ждал, пока Седых, под непрерывный стук пишущих машинок, не выговорит весь свой репертуар.
— Красноречивей слов иных очков немые разговоры!.. — продолжал подливать масла в огонь неунимавшийся король репортажа.
Наконец, когда уже все реплики были очевидно исчерпаны, Седых без всякого энтузиазма подходил к столу Саванароллы, — еще одно из многих прозвищ Абрамыча — и с невинным видом спрашивал:
— Вы мне кажется хотите сказать что-то приятное?
Поляков наклонялся через весь стол, и с убийственной отчётливостью произносил свою излюбленную фразу:
— Я вам хотел сказать, молодой человек, то, что вам хорошо известно…
— А именно? — продолжая криво улыбаться и уже заранее трясясь от душившего его смеха, наигранной октавой спрашивал Седых.
Все четыре машинки во мгновение ока останавливались, и Поляков, комкая отчет о заседании Палаты, только что отстуканный королём репортажа, уже в полном бешенстве выражался вовсю:
— Известно ли вам, молодой человек, что заседания Палаты Депутатов происходят в Париже, а не в Феодосии? И что то, что вы переводите с французского, предпочтительно переводить на русский, а не на крымско-татарский?
— А именно? — продолжал уже менее независимо вопрошать уроженец Феодосии Седых.
В ответ на что Саванаролла шумно отодвигал свой расшатанный, с просиженным сидением, стул и, тыкая изуродованную красным карандашом рукопись, под самый подбородок ошарашенного референта, уже не орал, а гремел:
— А именно… Вы еще смеете спрашивать. А именно то, что, как выразился один из наших сотрудников:
И при Гроте, и при Дале Вам бы просто в морду дали За подобные слова!Чтоб заглушить хохот, все четыре машинистки сразу ударяли по всем своим клавишам, и под стук четырех Ундервудов исторический диалог замирал.
Повторялись эти дружеские перебранки не только ежедневно, но и по нескольку раз в день.
В отношении работы Поляков был нетерпим, и спуска не давал никому.
Попадало Швырову за перевранное сообщение из Лондона; попадало Шальневу за такое неслыханное преступление, как то, что беговая лошадь взяла первый приз на скачках, когда нужно было сказать не бегах; гром и молнии обрушивались на голову бедного Сумского, который позволил себе информационную заметку о присуждении Нобелевской премии неожиданно закончить латинским изречением — Caveant consules! явно намекая на то, что он, Сумский, с мнением жюри не согласен.
— А кто вас спрашивает, согласны вы или нет? И вообще куда вы лезете, и причем тут латынь?
Вслед за чем следовало несколько избранных выражений, которых, как правильно говорил Седых, нельзя было найти ни у Грота, ни у Даля.
Но в особенный раж приводили его пишущие дамы, как называл их Чехов, приносившие «небольшой рассказ».
Борисов, дежуривший у телефона, приходил и спрашивал:
— Звонила госпожа Беляева, просит сказать, когда будет напечатан ее рассказ «Любовь до гроба».
— Пошлите её…
Борисов однако продолжал настаивать:
— Но что же ей все-таки сказать?
— Скажите ей, пусть повесится!
Папин мамелюк больше не настаивал и уже только из коридора слышно было, как он, пытаясь сгладить шероховатости, вежливо и нагло сообщал:
— Редактор сейчас очень занят… будьте добры позвонить завтра и спросите моего коллегу Шарапова… завтра его очередь дежурить у телефона, он вам обязательно всё скажет!
Несмотря на крутой нрав и постоянные выходки и заушения, Полякову всё прощали за его необыкновенную преданность газете, за его недюжинный профессиональный опыт, добросовестность, честность, прямоту, а в особенности за это на редкость безошибочное чутьё старого воробья, которого ни на какой мякине не проведёшь.
Кроме всего прочего, то есть чтения рукописей и редакторской правки, газету надо было сочинять, изобретать, выдумывать, а не так просто, здорово живёшь, помечать шрифты и сдавать в набор.
Павел Николаевич Милюков был искренно убежден, что главное в газете это — передовая.
Коммерческий директор, ученый агроном Волков, тоже не менее искренно полагал, что главное в газете это объявления, и по преимуществу похоронные.
Ибо тариф для покойников был самый высокий.
И конечно — что и говорить! — понимал и творил газету один Поляков.
Работал он до четырёх часов утра, курил крепчайший табак, который сам называл антрацитом, сам верстал все восемь страниц, не доверяя ни метранпажам, ни наборщикам, а после всех корректоров сам держал последнюю корректуру.
Уходил из типографии в конец измочаленный, всегда недовольный и собой и другими, и только выйдя на чистый воздух, жадно затягивался энной папиросой, и сам про себя повторял вслух, не то по привычке, не то из какого-то неосознанного суеверия:
— О, Господи, Господи! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!
А в половине второго дня сидел уже за редакционным столом, и «сочинял» завтрашний номер.
— Заказать военный обзор полковнику Шумскому; послать Вакара в Медон по делу об убийстве, а Андрея Седых к митрополиту Евлогию; напомнить Адамовичу дать статью по случаю столетия со дня рождения, или со дня смерти, — значения не имеет; дернуть Я. Я. Кобецкого насчет его биржевых заметок; приструнить Иноземцева за обзор печати, — большую себе волю забрал, много комментирует, мало цитирует; уломать Волкова насчет поездки Парчевского в Парагвай; сказать этому чорту, Петрищеву, чтоб прекратил свое неуместное заигрывание с «искренними коммунистами»; вдвое сократить милейшего князя Сергея Михайловича Волконского, который так растёкся мыслью по древу, словно дело идёт не о «Помолвке в Галерной гавани», а о трагедии Эврипида.
А еще что? Ах, да! Прочитать, наконец, рассказ Даманской, — третий месяц в ящике лежит, а Августа Филипповна, конечно, скучает.
Обо всех этих думах, заботах, тревогах и треволнениях, о вечной и упорной борьбе с рекламой, пошлостью, разгильдяйством, наездничеством, а часто и с вопиющей безграмотностью, знали все, кроме самого Павла Николаевича Милюкова.
И так случилось, что только под занавес, после того, как «Последних новостей» уже и след простыл, во время оккупации, в горах Савойи, в Aix-les-Bains привела судьба встретиться с Милюковым — в иных условиях, в иной обстановке, в номере «Международной гостиницы», где на убогом письменном столе, между склянок с лекарствами, разбросаны были мелко исписанные листки последней рукописи, которая называлась «Московский дневник — университетские годы».
Милюков и болел, и умирал, как тургеневский Базаров, любимый его герой.
Никогда не жаловался, ни о чём не просил, никого не затруднял, не тревожил.
— Не откажите в пустяке, согласитесь быть моим душеприказчиком…
Печально было это слушать, и неожиданно.
Мне всегда казалось, что Милюков меня скорее терпел, как в некотором роде необходимое зло в газете, и вдруг такой необычайный, ничем как будто неоправданный переход к близости, доверию, почти к совсем дружескому, милому отношению.
Отказываться было нельзя. Нотариус требовал душеприказчика на месте, остальные были в Париже и в Лондоне.
Пришлось согласиться. Павел Николаевич был искренне доволен, благодарил и крепким Базаровским рукопожатием подчеркнул свою трогательную признательность.
Встречались мы с ним часто, почти в течение года с лишним, и закат его был высокий, ясный, Олимпийский.
Рассказывал он о многом, о пережитом, о прошлом, и в голосе его звучали ноты, исполненные чарующей мягкости.
Открытие, познание человеческой души приходит всегда слишком поздно.
Чужой печали верьте, верьте!.. Непрочно пламя в хрупком теле. Ведь только после нашей смерти Нас любят так, как мы хотели.Из Савойских разговоров особенно запомнился один.
П.Н. сидел в кресле, укутав ноги пледом, и долго смотрел на карту Европы, висевшую напротив, на стене.
Карта была утыкана разноцветными бумажными флажками, точно определявшими линию русского фронта.
— Глядите, наши наступают с двух сторон, и продвигаются вперёд почти безостановочно…
Глаза его светились каким-то особым необычным блеском.
Он сразу оживлялся, и повторял с явным, подчёркнутым удовлетворением.
— Наш фронт… наша армия… наши войска…
В устах этого старого непримиримого ненавистника большевиков слово — наши — приобретало иной, возвышенный смысл.
В самые тяжкие и, казалось, безнадёжные моменты, он ни на один миг не переставал верить в победу союзников, в победу русского оружия.
До окончательного триумфа он так и не дожил.
…Разговор, как это часто бывало, опять перешёл на прошлое.
— Скажите, — спросил он со свойственной ему прямотой, улыбаясь и глядя в глаза собеседнику. — Правда ли, что меня в редакции называли Альбатросом, и что это, собственно говоря, значит?
Уклониться от ответа было невозможно, да может быть и ненужно.
— Да, это правда, Павел Николаевич. Есть такое стихотворение французского поэта Бодлэра, в вольном переводе Якубовича, П.Я.
В стихотворении этом поэт описывает горделивый полёт альбатроса, мощно расправившего свои белые крылья, высоко парящего в небе, в недосягаемых облаках, над синим морским простором.
Нет ему равного на свете, белому альбатросу! Только бы и парить, взлетать всё выше и выше, владычествовать над горизонтами, подыматься над самою стратосферой.
Но стоит ему опуститься на палубу проходящего корабля, как не узнать гордой птицы!
Опустив могучие крылья, неуклюже ступает он, переваливаясь с боку на бок, по скользкому настилу, и пьяный матрос, забавы ради, суёт ему кнастер в клюв, и всякая проходящая масть куралесит и измывается над одиноким царём просторов…
Ответственный редактор только улыбнулся, не то загадочно, не то с каким-то неуловимым оттенком грусти.
Сравнение с Бодлэровским персонажем было, очевидно, и лестно, и огорчительно.
Отступать было поздно, Базаров требовал уточнений.
— Идея государства, философия, культура, история русской интеллигенции, Британская энциклопедия — всё это, если хотите, принадлежит вам неотъемлемо, всё это есть ваш мир, ваша стратосфера! — Но стоим вам столкнуться с грубой каждодневной действительностью с обыкновенными людьми, с обыкновенной житейской прозой…
— Продолжайте, продолжайте, — уловив мое невольное смущение, настаивал Милюков, — всё это более чем интересно, а главное… неожиданно.
Шлюзы были открыты, пришлось продолжать.
— Вспомните, Павел Николаевич, ваше недавнее окружение, ваши мнения, оценки людей, отношение к отдельным лицам и сотрудникам.
Вашей правой рукой и ближайшим помощником считался И. П. Демидов. Он вам длинно докладывал, вы терпеливо слушали.
Все ваши распоряжения, внушения и редакционные требования передавались через него, как говорится, — к руководству и к исполнению.
Демидов усердно поддакивал, никогда не спорил, со всем соглашался, и выйдя из вашего кабинета, в полном отчаянии воздевал руки к небу, и, дав волю жёлчи и раздражению, неизменно разражался одной и той же тирадой:
— Клянусь, вам, господа, что старик меня с ума сведет!
А происходило это оттого, что мир Демидова был не ваш мир, и мировоззрение его было не ваше, и вкусы его, и склонности, и тяга вправо, а не влево, — всё было диаметрально противоположно тому, во что вы сами верили и в чем были раз и навсегда убеждены.
Так шли годы, а вы всего этого не видели, не чувствовали, не замечали, и были трогательно уверены, что вокруг вас царит тишь да гладь, да божья благодать, и что всё в высшей степени благополучно в королевстве датском! Очевидно политическое прозрение это одно, а обыкновенная человеческая зоркость совсем другое… И выходило так, что жрецы не столько поклонялись и слепо верили, сколько терпели и приспособлялись.
А вот, например, Ал. Абр. Полякова, который, по совести говоря, был единственной душой дела и являлся действительным, а не политическим редактором «Последних новостей», вы раз и навсегда произвели в техники и искренно считали его полезным элементом, ночным выпускающим, чем-то вроде главного метранпажа.
Но так как этот городской сумасшедший и Неистовый Роланд никаких ни чинов, ни орденов, а наипаче лавров никогда не добивался и не искал, то так оно, по раз заведенному ритуалу и продолжалось: Милюков возглавлял, а Поляков претворял в действительность и облекал возглавление плотью и кровью!
Павел Николаевич только беспомощно развёл руками и почти торжественно, но тихо, сказал:
— Да, да… Может быть, это и так… Может быть, вы правы.
И сейчас же добавил:
— Однако, продолжайте, продолжайте. Никогда не поздно познать истину!
Разговор коснулся знаменитой делегации южноамериканских коммунистов, пришедших якобы поклониться, покаяться и испросить политических указаний на будущее…
Милюкова неоднократно предупреждали, что всё это блэф, выдумка и, главным образом, скороспелый и неуклюжий шантаж.
Но Павел Николаевич стоял на своём, по тем временам покаяние и невозвращенство было еще новостью, и, кто его знает, может быть, чревато важными и неожиданными последствиями.
В плане разговора о человеческой зоркости воспоминание о приёме делегации оказалось чрезвычайно кстати.
Бывший министр иностранных дел трогательно сознался, что на этот раз он, действительно, дал маху и продолжал настаивать на продолжении начатого:
— Очевидно «ошибок молодости» числится за мной немало…
Пришлось к слову, вспомнили Николая Викторовича Калишевича-Словцова, которого ответственный редактор неизменно подозревал чуть ли не в саботаже, в намеренном искажении генеральной линии и в упорном противодействии будущему республиканско-демократическому строю…
Между тем, никто иной, как Калишевич, в каждое своё дежурство в качестве ночного редактора, с поразительной честностью и истинным сознанием долга, далёким от всякого приспособленчества, прочитывал от строки до строки все так называемые руководящие статьи и переделывал, и, заметив малейшее уклонение от великодержавной программы, беспощадно откладывал в сторону и Юниуса и Петрищева, и Е. Д. Кускову, и Дионео, и самого П. Н. Милюкова.
На следующий день происходило соответствующее объяснение, и Павел Николаевич должен был неоднократно соглашаться, что состав преступления, порой даже в его собственных статьях, был налицо и что ночной редактор был совершенно прав.
— А вы, Павел Николаевич, считали Словцова, нисколько не скрывавшего своей так называемой правизны, чуть ли не врагом, и уж во всяком случае явным недругом!
Павел Николаевич сосредоточенно слушал и молчал, как молчал бы всё тот же Базаров, в присутствии которого кто-то другой скальпелем вскрывал очередную лягушку.
От Словцова перешли к Волкову и папашиному фавориту Ступницкому.
И тот и другой были, несомненно, прямолинейные и, по-своему, честные люди.
Но у каждого из них прямая линия неизбежно упиралась в тупик, а честность в убогую узколобость.
Волков верил в Бога, в сибирское землячество и в доктора Манухина.
В газете ровным счётом не смыслил ничего.
Несмотря на это, Милюков считал его достойным себе наследником и преёмником, и, вероятно, искренно думал, что дело «Последних новостей» находится в крепких и надёжных руках.
Арсений Федорович Ступницкий был на ролях любимого ученика, перипатетика и дофина.
Республиканско-демократическую азбуку знал на зубок, а в идеях государственного порядка смыслил столько же, сколько Николай Константинович Волков в издании газеты.
Так оно впоследствии и оказалось.
В разговоре, который происходил в номере «Международной гостиницы», ни сам Милюков, ни случайный его собеседник, предвидеть то, что случится, разумеется, не могли.
Ибо и Фома неверующий, и любой, самый мрачный и последовательный мизантроп были бы бессильны, положа руку на сердце, предсказать, в какой эволюционный тупик зайдут достойные и надёжные наследники Милюковских заветов и традиций…
«Русские новости» 45-го года, бесцеремонно провозгласившие себя идейными продолжателями «Последних новостей», поклонившиеся до земли, распластавшиеся, расплющившиеся в лепёшку пред гениальным Сталиным, наводнившие столбцы безоговорочно-советского листка статьями возрожденского молодца и немецкого наймита Льва Любимова и фельетонами ухаря-перебежчика Николая Рощина, — и всё это под редакцией Ступницкого, и при директоре-распорядителе, ученом агрономе Волкове, да при благосклонном участии, — правда только по началу, — потом сообразили и одумались, — многих иных, именитых и знаменитых… до всего этого, благодарение судьбе, Милюков не дожил.
Ибо горько и невыносимо было бы горделивому альбатросу, покинув заоблачную лазурь, в последний раз спуститься на скользкую корабельную палубу, где в присядку плясала оголтелая матросня.
* * *
— Ну, что ж, альбатрос, так альбатрос!.. по-моему это даже лестно, — прервал внезапно наступившую паузу, — и всё с той же милой и полусмущённой улыбкой подвел черту Милюков.
Но отпустить собеседника не отпускал, чувствовалось, что одинок он, предоставлен самому себе и что ворошить прошлое не только не скучно ему, а скорее даже приятно, лишь бы было с кем…
Стали перебирать всякие пустяки.
Вспомнили и знаменитый единственный эмигрантский фильм, показанный на писательском балу, в «Лютеции».
— А помните, как вы меня загримировали Фритиофом Нансеном?
— Как же не помнить! А помните вы, Павел Николаевич, как мы вас усадили за шахматной доской с Петром Струве, а Алёхин изображал арбитра, и с какой поразительной самоотверженностью вы отдавали себя на полное растерзание художникам, техникам, поставщикам, и в особенности главному режиссёру Н. Н. Евреинову?
— Да, всё это было чрезвычайно удачно задумано и сделано, а главное, все были моложе, моложе…
Какая-то спокойная грусть опять прозвучала в его голосе.
Надо было что-то придумать, как-нибудь отвлечь, развлечь старика.
— А известен ли вам такой случай, Павел Николаевич, из нашей редакционной жизни?
— Про что именно?
— А про то, как пришёл в редакцию какой-то почтенный, но сурового вида господин и заявил, что желает видеть Милюкова.
— А как доложить? — спрашивает Шарапов.
А он этаким страшным басом и на самой низкой октаве и отвечает:
— Скажите, что я муж Георгия Пескова!
П.Н. до того развеселился, разразился таким милым, почти юношеским смехом, что у него даже очки запотели от невольно набежавших слёз.
Пояснений никаких не требовалось, старый редактор сразу вспомнил, что Георгий Песков был псевдонимом одной из многоуважаемых дам, обогащавших газету длинными рассказами с продолжением в следующем номере.
Разговор явно затянулся, вид у П.Н. был утомлённый, я стал прощаться, а он всё благодарил и благодарил, долго тряс руку, и, с трудом встав с кресла, уж у самых дверей вспомнил и даже наизусть процитировал несколько запомнившихся ему строк из моего юбилейного посвящения на приснопамятном банкете у Феликса Потэна.
Вышел я от Милюкова с огорчённым сердцем, но от какой-то большой тяжести освобожденным.
— Сказал — и облегчил душу.
А восьмидесятилетнего старика было по-настоящему жаль.
Не так уж много Милюковых на белом свете.
Много за его долгую жизнь копошилось вокруг него всякой человеческой скверности и мрази, завистливой и убогой посредственности, тупости, глупости и безответственного бахвальства, а наипаче всего пошлости.
А в этот страшный сорок второй год, когда сделки с совестью совершались не ежедневно, а ежеминутно, и все эти бесчисленные Рощины, Любимовы, Лоллии Львовы, Жеребковы, графини Чернышёвы и Солоневичи бесстыдно лизали немецкие ботфорты и ездили в полонённые русские города издавать газеты и просвещать «освобожденный» народ, а Дмитрий Сергеевич Мережковский истошным голосом вопил и кликушествовал во все микрофоны германского штаба, — одно сознание, что Милюков жив, было отдохновением, успокоением для души, одной из немногих надежд, одной из немногих точек опоры.
Не про него ли это была сказано, не к нему ли была воистину приложима, исполненная высокой грусти, вдохновенная, проникновенная строка?
— Белеет парус одинокий…
* * *
— Мишка, крути назад!
1-е марта 1931 года.
Никакой заслуги в том, что дата эта приводится со столь разительной точностью, нет.
Ибо, несмотря на бурную деятельность немецких гауляйтеров, очищавших и, по приказу повешенного впоследствии Розенберга, вывозивших в Германию всё, что имело хоть какое-нибудь отношение к политической или бытовой истории русской эмиграции, — в архиве автора, нетронутом предшественниками канцлера Аденауэра, случайно уцелело и ниже приводимое посвящение П. Н. Милюкову по случаю десятилетия его редакторской деятельности в «Последних новостях».
Чествование, или банкет, скорее семейный праздник, в слегка расширенном по такому случаю кругу сотрудников и ближайших единомышленников П.Н., происходил в ресторане Felix Potin’a, помещавшемся на первом этаже (обычно ресторан предназначался только для деловых завтраков и вечером был закрыт), как раз над гастрономическим магазином того же, славившегося своим бакалейным товаром парижского epicier.
Поэтому, все участники этого эмигрантского торжества и приглашённые, а было их около ста человек, собравшись к 8 часам вечера, после закрытия магазина, должны были, чтобы попасть на банкет, пройти чрез длинные анфилады внушительных холодильников, прилавков, стоек, полок, столов, уставленных розовой ветчиной, страсбургскими паштетами, миланскими колбасами, всякими остро пахнущими добротными сырами, копченьями, соленьями, бочками маслин, сельдей, и прочей грешной и аппетитной снеди, вызывавшей, как у Павловских собак, немедленные условные рефлексы.
Все это было настолько неожиданно и… оригинально, что покойный Г. М. Арнольди, «председатель русско-демократического объединения», обладавший вкусом и злым языком, не выдержал и так и буркнул одному из главных растяп и устроителей:
— Чехова хоронить привезли в вагоне от устриц, и чествовать Милюкова будут в бакалейной лавке…
Несмотря впрочем на эту действительно неосмотрительную нелепость, — распорядителем был один из бывших министров временного правительства, — сам юбиляр, как и следовало ожидать, не обратил на холодильники ни малейшего внимания, и с обычной своей несколько смущённой, столь знакомой всем улыбкой, торжественно проследовал меж рокфоров и лимбургских сыров, прямой и слегка розовый, ведя под руку незабываемую Анну Сергеевну, седую, вечную курсистку, а на склоне лет председательницу общества университетских женщин.
Местничества и табели о рангах в этом своеобразном мире почти и не существовало, — но всё же само собой, а вышло как-то так, что главный штаб фатально очутился по близости к своему редактору, а остальные уселись, как попало.
Сразу стало шумно, непонятно, уютно и весело.
Заговорили все сразу, прямо через столы и по диагонали, сбоку и наискосок, так что обносившие блюда французские лакеи только растерянно улыбались и смущённо переглядывались с непроницаемыми мэтр-д-отелями.
Речи начались рано и кончились поздно.
Вспоминали прошлое, пили за будущее, «подымали свой бокал», кто-то, конечно, расчувствовался и так и сказал, что слёзы мешают ему говорить, после каждой речи следовали бурные аплодисменты и троекратные лобызания юбиляра, который, как и всё в жизни, и это перенес стоически.
Во всём этом было много теплоты, не мало искренности, но не мало и умолчаний, и опасных уклончиков от генеральной милюковской линии, как ядовито пояснял Мих. Андр. Осоргин.
— Ну, а теперь, после ужина горчица, и, стало быть, очередь за вами, — ласково, но не без редакторской повелительности, обратился к автору настоящих воспоминаний ставший под конец совсем пунцовым Павел Николаевич.
Приветствие было в стихах, и, конечно, не только заранее написано, но по просьбе А. И. Коновалова отпечатано на правах рукописи, в количестве 60 экземпляров, под нейтральным заглавием «Всем сестрам по серьгам» и с пометкой даты: 1 марта 1921 — 1 марта 1931.
На расстоянии лет, десятилетий даже, всё так переменилось, поблекло, безвозвратно ушло, навсегда умолкли когда-то бодрые, молодые голоса, а от многочисленных и шумных участников банкета, — или, как говорил все тот же Арнольди, «Пир» Платона у Потэна, — осталась в живых только малая горсть, и то рассеянная по всему лицу не русской земли.
Но, если рассказывая о том, что было, не следует увлекаться ни дружбой, ни родством, ни ожиданием выгод, то, может быть, тем более неуместно поддаваться гамлетовским сомнениям и задавать самому себе все равно нерешённый и неразрешимый вопрос — стоит ли ворошить прошлое?..
После предисловий и реверансов, и, разумеется, с некоторыми неизбежными пропусками и сокращениями, — ведь у каждой эпохи есть своя акустика, — вот это покрытое земской давностью юбилейное посвящение, последние экземпляры которого исчезли, как и весь Пражский Архив, в котором они находились.
Горит восток зарёю новой… Уже на Пляс Палэ-Бурбон Седой, решительный, пунцовый, Свои стопы направил он. Вокруг — сотрудников шпалеры. Ползет молва из-за кулис. В кустах рассыпались эсэры. Гудят грузины. Брызжет Рысс. Сквозь огнь окопов прёт Изгоев. На левом фланге — сам Чернов. На правом, в качестве героев, Застыли Марков и Краснов. Отрядов пестрых Мельгунова «Нависли хладные штыки». Вдали мелькают вехи Львова. Заходят в тыл меньшевики. Тогда, не свыше вдохновенный, На то он слишком атеист, А точный, ясный, неизменный, И как всегда позитивист, Одной и той же предан думе, И не витая в небесах, Всё в том же сереньком костюме, Давно протёртом на локтях, «Идет, Ему коня подводят…» Но таково его нутро — Он лошадь роскошью находит, И опускается в метро. И, путь вторым проделав классом, Слегка смущенный, весь в пыли, К верхам, к низам, к эрдекам, к массам, Выходит вновь из-под земли. В его руках — передовая. На пальцах кляксы от пера. «И се, равнину оглашая, Далече грянуло ура. И он промчался пред полками», Простой, решительный, седой, Сверкая круглыми очками… «За ним вослед неслись толпой» Гнезда папаши Милюкова Достопочтенные птенцы, Его редакторского слова, Как выражается Кускова, Издревле верные жрецы: Демидов, ласковый и смуглый, И Волков, твёрдый как булат. И Коновалов, с виду круглый, А по характеру квадрат. Маститый Неманов-Женевский, Борисов, папин мамелюк, Научный двигатель Делевский, И простое двигатель — Зелюк. И все проделавший этапы Столь многочисленных карьер, И посвящённый буллой папы В чин кардинала Кулишер. И хмурый Марков, вождь казацкий, Дитя землячеств и станиц. И, наконец, профессор Шацкий, «Одно из славных русских лиц»… И, с анархического фланга, Немного буйный Осоргин. И, капитан второго ранга, Отшвартовавшийся Лукин. Князья — Барятинский, Волконский, Князь Оболенский, Павел Гронский, И Зуров, Бунинский тиун. Последний римлянин Лозинский, Всегда обиженный Ладинский, И Сумский, он же и Каплун. И Адамович ядовитый, Чей яд опаснее боа, И сей, действительно маститый И знаменитый Бенуа. И рядом маленький Унковский, И Дионео, он же Шкловский, — Полу-Эйнштейн, полу-Бергсон. И Шальнев, харьковский иль тульский, И проницательный Мочульский, И тьма министров и персон. И, с виду дож венецианский, Не граф, но всё-таки Сперанский, И Мад, и вдумчивый Цетлин, И Абациев, горный сын, Наш Богом данный осетин. И Оцуп, выдумавший «Числа». И Мейснер, спирт и скипидар. И на строку глядевший кисло Братоубийственный Вакар. И, по обычаю Прокруста, — Рукой Абрамыча-отца Усекновенная Августа Без предисловья и конца. И он, осолнечен, олунен, Пред ликом чьим лишь ниц падёшь, О ком сказал директор: — Бунин Уж очень дорог, но хорош! И дважды крупный Калишевич, Как таковой, и как Словцов. И Мирский, он же и Гецевич, Из оперившихся птенцов. И Кузнецова — дочь курганов, И сам блистательный Алданов, И Вера Муромцева, и — Усердный Зноско, чьи статьи Почище всяческих романов. И Азов, старый сибарит. И Поляков из объявлений. И наш Ступницкий, наш Арсений, Папашин новый фаворит. И указательный, как палец, Мякотин, местный иерей. И Жаботинский, друг-скиталец, И друг «Последних Новостей». И Бенедиктов благородный, И Метцлей выводок дородный, Зажатый Волковым в кулак. И счастья баловень безродный, Андрей Мойсеевич Цвибак. И он, чей череп пребывает В жестоковыйном дэкольте, Кто культам всем предпочитает Российский культ maternite. Кто сам и ось, и винт, и смазчик, Кто рвёт, и мечет, и клянёт, И прячет рукописи в ящик, И в тот же ящик и плюёт. Чьей нрав крутой и бесшабашный Приемлет даже Милюков, Кто Поляков, но самый страшный, И самый главный Поляков… …И с ними в бешенном галопе, Под чёрной сотни стон и крик, Промчался бурей по Европе Сей поразительный старик. Вокруг чернил бурлили реки, Был пусть и мрачен горизонт. Но плотным строем шли эрдеки И вширь выравнивали фронт. Ротационные машины Гудели грозно… И во мрак — Уходит Струве сквозь теснины, Сдаётся пламенный Вишняк. По швам, по золоту лампасов, Трещит светлейший Горчаков. Ногою дрыгает Гукасов, Рукою машет Маклаков. Слюну в засохшие чернила Семёнов в судорогах льёт. Взбесясь, киргизская кобыла В обрыв Карсавина несёт. И Мережковский Атлантиду И рвёт и мечет по частям, И посылает Зинаиду… На мировую к «Новостям». …Но годы мчатся. Наступает Тот день, когда средь мирных стен «Как пахарь битва отдыхает», И смелых чествует Potin. — И от работы ежедневной Освободясь на миг один, С женою, с Анною Сергевной, Сверкая холодом седин, Слегка взволнованный, смущённый, Друзей вниманием польщённый Старик пирует…* * *
Лобызания. Аплодисменты. Весь ритуал. Всё, как полагается. Холодильники остались на месте. Банкет кончился.
* * *
А через несколько дней пришла открытка из Грасса, высочайший рескрипт за подписью Бунина:
— Придворный льстец, Но молодец!XXI
Автор к автору летит, Автор автору кричит: Как бы нам с тобой дознаться, Как бы нам с тобой издаться? Отвечает им Зелюк — Всем — писаки, вам каюк! Отвечает им Гукасов — Не терплю вас, лоботрясов! Отвечает Имка — Мы Издаем одни псалмы!Шутливая пародия эта, написанная не присяжным юмористом, а самим Ив. Ал. Буниным, метко отражала положение книжного дела в эмиграции.
Меценаты выдыхались, профессиональные издатели кончали банкротством, типографы печатали календари.
И вдруг — среди бела дня — сцена заклинания духов.
Словно из-под земли вырастает дух Корнфельда, который в Петербурге издавал первый «Сатирикон».
Дух тщательно выбрит, тонзура как у католического прелата, глаза играют, галстук бабочкой, одышки никакой.
Время — деньги, разговор вплотную, ни вздохов, ни придаточных предложений.
— Решил возобновить «Сатирикон», хотите быть редактором?
— Идея гениальная, а редактором будете вы сами.
— Почему же не вы?
— Потому что дорожу отношениями и не хочу их портить.
Корнфельд опешил.
— Помилуйте, какой же я редактор? В издательском деле, в книжном, в художественной части, в обрамлении, я, можно сказать, собаку съел. Но взять на себя редактирование, нет, не чувствую себя в силах…
— Скромность подобна плющу, который опутывает ветки молодости… А так как вы уже не молоды, то скромность ваша ни к селу, ни к городу. Кроме того, вспомните, что сказал наш общий друг Ленин: «И любая кухарка может управлять государством».
А редактировать журнал тем более!
— Спасибо за кухарку! — обиженно протянул в нос прелат с бабочкой, но, после третьей рюмки Мартелля — три звездочки, modus vivendi, или как переводили бурсаки из Квитко-Основьяненко, мода на жизнь, была установлена: редактором-издателем будет Корнфельд, то есть портить отношения с братьями-писателями и художниками его дело, а внутренняя работа будет лежать на мне.
Состав сотрудников блистал всеми цветами радуги.
Чтоб не портить отношений, были привлечены академики, лауреаты, переводчики, беллетристы, поэты, и даже земские статистики, и приват-доценты, которые заграницей сами произвели себя в профессора.
Из старых сатириконцев оказались на лицо всего трое — Влад. Азов, Валентин Горянский и Саша Чёрный.
Остальные тоже сами произвели себя в юмористы.
Художники и рисовальщики откликнулись с величайшем живостью.
А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, Добужинский, Стеллецкий, Шухаев, Ал. Яковлев, Терешкович, Пикельный, Серебряков, и главный застрельщик, талантливый блестящий Икс, который свои литературные произведения подписывал именем Тимирязева, а под рисунками и каррикатурами ставил другой псевдоним.
— Шарый.
Настоящая фамилия его была куда звучнее, и слава была прочной, а наличие псевдонимов объяснялось иными соображениями…
Была весна. Апрель. На больших бульварах одуряющий запах золотых мимоз, привезенных из Ниццы, парижских фиалок, розовых гвоздик.
Первая страница первого номера посвящена безвременно ушедшим Петру Потёмкину и Аркадию Аверченко.
Разве мог он знать и чаять, Что за молодостью дерзкой Грянет странная гроза — Годы тёмного разгула, Годы горького скитанья, И что всё засыплет пепел — И улыбку, и глаза.Стихи были посвящены покойному Аверченко. Написал их Саша Чёрный. А через короткое время хоронили его самого.
* * *
На долю Сатирикона, третьего по счёту, выпал большой и заслуженный успех.
Так выражались не только рецензенты, но и вся именитая и знаменитая литературная табель о рангах, и просто обыкновенные смертные, платившие три франка золотом за отпечатанный на отличной бумаге номер.
Рисунки Бенуа, Шухаева, Добужинского, старый Петербург, стихи Агнивцева — «Подайте Троицкому мосту, подайте Зимнему Дворцу…» — русская ностальгия неизбежно врывалась в весёлый, не совсем, впрочем, беззаветный смех.
Графическая сатира таинственного Шарого была и просто замечательна.
Его портреты вождей, матроса Дыбенко, Троянский конь, Яблочко, школа дипломатии, эмигрантский вариант Дяди Вани, Чарли Чаплин у подножья Сфинкса, с пояснением — «Великие Немые» — всё это конечно войдет в маленькую историю, в большую хрестоматию подлинного, не смеха, а юмора.
Много остроты и верного чутья было в неожиданных по теме и трактовке рисунках Гросса и Пикельного.
Много прозы, как всегда занятной, но уже дышавшей раздражением и усталостью, аккуратно поставлял из своего итальянского убежища А. В. Амфитеатров.
Отлично писал в манере Гофмана Валентин Горянский.
Как всегда, мудрил и мудрствовал А. М. Ремизов.
И упорно подражал самому себе Вл. Азов.
Стихов была бездна, все они были, вероятно, совершенно гениальны, так как на следующий день их уже никто не помнил.
Пытался грешить пером Никита Балиев.
Так называемые юморески, весьма, впрочем, милые, давал Н. Н. Евреинов.
Грешил стихами и прозой и я сам, подписывая прозу, неизвестно почему К. Страшноватенко.
Очевидно удачны, потому запомнились, были анонимные пояснения под некоторыми каррикатурами и рисунками.
Под анонимом следует разуметь плод коллективного творчества. Помню чудесный фотомонтаж Шарого, изображавший С. В. Рахманинова в ореоле славы, и подпись к нему:
Руками громы извлекаю Ногой педали нажимаю, Я — Рах! Я — Ма! Я — Ни! Я — Нов!На другом рисунке похоронная процессия, за гробом идут две равнодушные фигуры, и одна другую спрашивает:
— Как вы думаете, попадёт он в царствие небесное?
— Не думаю… для этого он слишком застенчив.
Или вот еще замечательная каррикатура того же Шарого:
«К уразумению смысла русской эмиграции». Сидит в кресле Илья Ильич Обломов. На коленях у него уцелевший экземпляр «Столицы и усадьбы, а в руках похожая на свастику большая буква Ять.
По лицу текут слезы. А пояснение такое:
О славном прошлом воздыхает, И Ять слезами обливает…Или еще. Рисунок Шварца, — современная Клеопатра.
Голая, жирная, розовая, глаза прищурены, в ателье пусто и неуютно. Под рисунком подпись:
— Какая тоска… Ни Цезаря, ни Антония, — одни художники!
Все, конечно, не вспомнить, а и вспомнишь — не перескажешь.
Но бился в этом третьем «Сатириконе» живой пульс, и отличное было у него кровообращение, и мог бы он жить и жить, а вот что-то около года просуществовал, и потом взял и помер.
Друзья говорили — денег не хватило, враги говорили — юмор был, а юмористов как кот наплакал.
Плакал он очевидно недолго, и сдаётся мне, что на этот раз враги были правы.
* * *
А тут подошел май-месяц, но уже другого — 1932-го года.
Холодный был май и неуютный.
Только и было радости и пищи для души, что все, как помешанные, запоем читали «Любовники лэди Чаттэрлей» и потом рассказывали друг другу своими словами.
6-го мая, в третьем, четвёртом часу дня экстренные выпуски газет, аршинные заголовки, обычный призыв к населению соблюдать спокойствие и самообладание, и краткое официальное сообщение о покушении на убийство президента республики Поль Думера.
Состояние раненого тяжёлое, почти безнадежное.
Убийца арестован. Русский. По фамилии Горгулов.
Эмигрантский Городок в панике. Спешно закрывают двери, ставни. Шепчутся, сообщают из самых достоверных источников, что убийцу расстреляют, а всех остальных повесят.
Ночью президент Республики, не приходя в сознание, умирает.
Горгулов в тюрьме. Его допрашивают.
Ответы его нелепые, бессмысленные, несуразные.
…Бездушная машина задавила фиалку… Отмщение машине. Мир должен быть освобожден. Добро победит Зло. Правда восторжествует. Президент не при чём. Он есть символ. Символ уничтожен. Очередь за сущностью. Зелёная программа будет выполнена до конца…
Сумасшедший? Одержимый? Симулянт? Советский агент? Провокатор?
Французские газеты теряются в догадках.
Знает истину только одно «Возрождение».
«Большевик чистой воды. Подослан Дзержинским, подослан Менжинским».
Дзержинского уже давно нет в живых. Никакого значения, всё равно подослан.
С какой целью? И вы еще спрашиваете? Взорвать эмиграцию, Францию, Европу, Континент, Америку, все пять частей света, всю географию, глобус, весь земной шар!
«Последние новости» держатся выжидательно.
Вакар гонит строку. Андрей Седых интервьюирует министров, депутатов.
Президенту — национальные похороны. Республиканская гвардия. Военный оркестр. Марш Шопена. Марш Бетховена. Несметные толпы народу.
Спектакли пражской группы, в знак траура, тоже отменены…
Проходит несколько недель. Суд. Три защитника по назначению. Психиатрическая экспертиза. Речи. Приговор. Машина доктора Гильотэна. Голова Горгулова падает в корзину. Пьеса кончена.
Эмиграцию не расстреляли, не повесили, никуда не выслали.
Из достоверных источников, однако, сообщают, что, случись это все у немцев, от русской эмиграции осталось бы мокрое пятно, а, может быть, даже и пятна не осталось бы.
Всё, стало быть, к лучшему в этом лучшем из миров. Надо, однако, признать, что сумбур в умах преступление Горгулова породило огромный.
Глупостей и нелепостей по этому поводу было высказано столько, что хватило бы их не на одно, а на два, на три поколения.
Единственным светлым моментом на этом безнадёжном фоне была умная, тонкая, беспощадная статья Ходасевича.
По иронии судьбы напечатана она была всё в том же «Возрождении» и трактовалось в ней не о самом Горгулове, а о горгуловщине вообще.
Выдержки из нее объясняли и еще объяснят многое и многим.
Даже и по сей день не потеряла эта замечательная статья своей остроты и актуальности.
«Среди бредовых брошюр, стихов и романов, собрания диких нелепых книжек, изданных в эмиграции, среди коллекции всех видов литературной бессмыслицы, тощая брошюрка Горгулова ничем особым от тысячи других ей подобных не отличается.
Называется она «Тайна жизни скифов», могла бы называться и иначе, как угодно.
К несчастью, творцы этой сумасшедшей литературы суть люди психически здоровые.
Как и в Горгулове, в них поражена не психическая, а, если можно так выразиться, идейная организация.
Нормальные психически, они болеют, так сказать, расстройством идейной системы.
И хуже всего и прискорбнее, что это отнюдь не их индивидуальное несчастье.
Точнее, что в этом несчастье с особой силой сказался некий недуг нашей культуры.
Уже с середины прошлого века, всколыхнувшего новые слои русского общества, слои в культурном отношении средние и низкие, так называемые «главные вопросы» — церковь, власть, народ, интеллигенция, — проникло в самую толщу и подверглись бурному обсуждению, редко основанному на действительном понимании обсуждаемого».
И дальше:
«Две войны и две революции сделали самого тёмного, самого малограмотного человека прямым участником величайших событий.
Почувствовал себя мелким, но необходимым винтиком в огромной исторической мясорубке, кромсавшей его самого, пожелал он и лично во всём разобраться, — и в результате, сложнейшие проблемы религии, философии, истории стали обсуждаться на площадях, на митингах…
Идейная голь занялась переоценкой идейных ценностей.
С митингов и из трактиров повальное философствование перекинулось в «Литературу».
На проклятые вопросы в изобилии посыпались проклятые ответы.
И вот и вышло, что Горгуловщина родилась раньше Горгулова.
От литературы она унаследовала лишь одно, но зато самое опасное:
— О предметах первейшей важности судить по прозрению, по наитию…
Кретин и хам получили право публичного кликушествования.
За Хлебниковым, Маяковским и им подобными страшными горланами шли другие помельче.
Очутились они и в эмиграции.
Для этих людей их собственное невежество является как бы гарантией против шествования «избитыми путями».
И еще дальше:
«В какой-то степени, в каком-то отдалённом, непережёвыванном плане горгуловская идея вышла из Блоковских «Скифов».
И если бы Блок дожил до Горгулова, он, может быть, заболел бы от стыда и горя…
А между тем, Горгуловых вокруг и всюду — тьма.
Об одном маленьком Горгулове некий прославленный писатель с восторгом воскликнул:
— У него в голове священная каша!
С этой мечтой о каше надо покончить раз и навсегда.
Оболваненных и самовлюблённых скифов надо толкать не в новый мистический град Китеж, а научить их вести себя по-человечески в старом граде, к примеру сказать, в Париже».
Мережковский, прочитав эту статью, пришёл в бешенство.
Ведь он-то и был тот самый прославленный писатель, который с высоты своей башни с цветными стёклами уронил столь заумное и вещее слово насчёт священной каши.
Так или иначе, а горгуловщине нанесен был меткий и, может быть, роковой удар.
Правдивое слово было сказано чётко, без всяких обиняков.
* * *
Преувеличивать, однако, не следует.
Не каждый же день творились безумства и совершались преступления.
Были в эмиграции и монотонные будни, обыкновенные, серые, тянувшиеся изо дня в день, как во всяком благоустроенном человеческом обществе.
Конечно, не без того, чтоб укокошили гетмана Петлюру, которого некоторые особенно бойкие французские газеты именовали сыном Скоропадского, племянником полковника Бискупского, и вообще говоря прямым потомком Рюриковичей.
Но всё это больше для красоты слова, и особого влияния на умы не имело.
Зато, к примеру сказать, атамана Махно и пальцем никто не трогал.
И жил от тихо и мирно, писал мемуары, ходил на лекции Степуна, никогда ни на каких тачанках не ездил куда бы то ни было.
Он брал такси, и даже добивался свидания с Алдановым, чтоб получить от него предисловие к увеличивающимся в объеме мемуарам.
Но Алданов, хотя никому ни в чём отказать не мог, от предисловия всё же уклонился.
Кроме того, большим утешением в жизни было так называемое чистое искусство.
Музыка, живопись, литература, не говоря уже о балете, о Лифаре, «о подвигах, о доблести, о славе», как писал Александр Блок.
Приезжал Рахманинов, блистал Стравинский, играл на двух роялях Прокофьев.
Ходил Городок на выставки своих собственных художников, умилялся, хотя ничего не понимал, пред картинами Гончаровой; еще больше умилялся, хотя совсем ничего не понимал, глядя на этюды Ларионова; притворялся, что ценит Анненкова; искренно восхищался Яковлевым и предсказывал большое будущее Шагалу, у которого, впрочем, уже было большое прошлое.
О литературе и говорить нечего.
Несмотря на твёрдо укоренившееся мнение, что дубовый листок, оторвавшийся от ветки родимой, должен непременно засохнуть и превратиться в пыль, равно как обречён на гибель и разложение каждый покинувший родную почву и подпочвенные пласты честный писатель, — кстати сказать, о Тургеневе, написавшем большинство своих произведений в Буживале под Парижем, почему-то забывали, — несмотря на все эти мрачные предпосылки и предсказания, литература в эмиграции расцвела пышным цветом.
«Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Последнее свиданье» и «Солнечный удар», не говоря уже о целом ряде других книг рассказов, стихов и воспоминаний, Бунин написал на берегу Средиземного моря, в Грассе, в Приморских Альпах, на берегу Атлантического океана, в Париже, а не на Волге, не в Москве, и не в Елецком уезде Орловской губернии.
Куприн написал своих «Юнкеров», «Елань», книгу «Храбрые беглецы», рассказы для детей, не выезжая с улицы Жака Оффенбаха, и, конечно, задолго до того страшного дня, когда бессильного, немощного, полупарализованного, полуживого, и уже бывшего, а не сущего, везли его в отдельном купэ на советскую родину, на подпочвенные пласты, на осиротевшую дачу в Гатчине.
Все вещи Алданова, начина от «Св. Елены» и «Девятого Термидора» и кончая «Ключом», «Бегством», «Истоками», — блестящий перечень их в несколько строк не уложишь, — задуманы и созданы в эмиграции, заграницей, за рубежом.
Рассказы, романы, повести Бориса Зайцева — «Анна», «Дом в Пасси», его «Тургенев», «Жуковский», — всё это плоды трудов и дней невольного и длительного изгнания.
Свою замечательную книгу «После России» Марина Цветаева написала тоже здесь, а не там.
Там была только одиночная камера, и в одиночной камере смерть.
То же самое, и в полной мере, относилось и к Осоргину, и к Адамовичу, и к Ходасевичу, и к Мочульскому, и к многочисленным молодым беллетристам и поэтам, чуть ли возникшим и окрепшим уже в эмиграции.
А об историках, философах, и учёных и говорить не приходится.
Бердяев, Лев Шестов, Ростовцев, Лосский, Степун, — вся эта Большая, а не Малая медведица, расточала свой звездный блеск тоже не на русские, и на иностранные горизонты.
И вот оказывалось, что о любви к отечеству и о народной гордости можно было с полным правом декламировать вслух не только на Ленинском шоссе или на площади Урицкого, но и где-то у чорта на рогах, на левом берегу Сены, в стареньком помещении Тургеневской библиотеки, неожиданно пополнившейся томами и томами новых изгнанников, на которых, продолжая желтеть от времени, глядели старомодные портреты Герцена и Огарёва, не убоявшихся легкокрылого афоризма, что мол на подошвах сапог нельзя унести с собой родину…
Оказалось, что можно, и что история эта, конечно, повторяется.
И что даже их советские превосходительства, полпреды и торгпреды, прятавшиеся в глубине лож, чтоб тайком взглянуть и услышать живого Шаляпина на сцене Парижской Оперы, и те не могли сдержать контрреволюционных восторгов, и роняли невзначай неосторожное слово:
— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…
Да и как могло быть иначе, когда шаляпинская легенда творилась на глазах публики, на глазах всего мира, и голос его звучал в сердцах и увековечивался на дисках, а аплодировал ему и старый свет, и новый свет.
А он, как одержимый, носился по всему земному шару, с материка на материк, с континента на континент, пересекал моря и океаны, из Сан-Франциско в Токио, из Шанхая в Массачузетс, и, утомлённый, упоённый, счастливый, возвращался «домой», в Париж в собственный многоэтажный дом на Avenue d’Eylau, где ждали его многочисленные дети и неотложные дела — знаменитые завтраки с друзьями…
* * *
В горнице Бориса Годунова, прямо против входных дверей, сразу бросалась в глаза «Широкая масленица» Кустодиева, та самая, с Шаляпиным в шубе, в бобровой шапке, над Москвой, над метелицей, над качелями и каруселями.
А в открытое окно — как на ладони, Эйфелева башня, вся в тонких стропилах, перехватах, антеннах и кружевах.
Первым делом — портвейн, чёрный-чёрный, густой и, как говорит сам Федор Иванович, неслыханного аромата.
Потом разговор о всякой всячине, разговор так вообще.
Разговор в частности придёт в своё время.
— Хотите, дорогой, излюбленный ваш диск послушать?
— Ну, еще бы! Сколько раз подряд готов слушать…
Хозяину и самому диск по душе.
Грамофон, конечно, первый сорт, американской марки, последнее слово техники.
Кресла мягкие, глубокие, портвейн действительно неслыханного аромата, а из волшебного ящика волшебный голос, и какая чёткость, и какие слова!
Жили двенадцать разбойничков, Жил Кудеяр-атаман. Много разбойнички пролили Крови честных христиан.Шаляпин самому себе вполголоса подпевает, а хор Афонского, словно литургию служит, на церковный лад, торжественно и настойчиво, на низких регистрах подхватывает:
— Господу Богу помолимся!..Всё неслыханно, все неправдоподобно… и чёрный портвейн, и Кудеяр-атаман, и русское пение, и византийский рефрэн, и степной богатырь в европейских манжетах, и антенны Эйфелевой башни, и Широкая масленица Кустодиева.
Потом всё станет пьянее и понятнее.
За огромным длинным столом в столовой — моложавая, дородная, нарядная Мария Валентиновна, сыновья Борис и Федор, и дочери, одна другой краше, Стэлла, Лидия, Марфа, Марианна, и последняя, отцовская любимица Дассия.
На столе графины, графины, графины.
Зубровка, перцовка, рябиновая, сливовица, польская запеканка, и настоящая русская смирновка с белой головкой, с двуглавыми орлами на зелёной наклейке.
И всё это не столько для питья, сколько для глаза, для радости чревоугодного созерцания.
Завтрак длится долго.
Весело, но чинно.
Федор Иванович оживлён, шутит, дразнит поочерёдно то одного, то другого, и только маленькой Дассии с трогательной белокурой косичкой, перевязанной розовой ленточкой, то и дело посылает воздушные поцелуи.
Дассия краснеет, а папаша не унимается.
Для апофеоза — Гурьевская каша, пылающая синим ромовым огнём, подаёт сам повар, весь в серых штанах в клетку, в фартуках, в колпаках, глаза лукавые, почтительная улыбка во весь рот.
Коньяк и кофе в царской горнице, разговор вдвоём, разговор в частности.
— Со сцены, дорогой мой, надо уйти во время. В расцвете сил, и как поётся в старинном романсе, глядя на луч пурпурного заката.
А не то, что когда солнце уже зашло, и в зале начинают сморкаться и покашливать.
Так вот, есть у меня давнишняя, на совесть продуманная, под самым сердцем выношенная идея…
Хочу поставить «Алеко» Рахманинова!
Это его первая опера, написанная по классу композиции, при окончании Московской консерватории.
Оперу эту никогда нигде не ставили, и её почти никто не знает.
Свежесть и сила в ней необычайные.
Задумал я её поставить для последнего своего прощального спектакля, и спеть и сыграть самого Алеко, загримировавшись под Пушкина, потому что Алеко это сам Пушкин, влюбленный в Земфиру! — и так далее, и так далее, вы сами небось всё уже давно поняли и без меня сообразили.
Федор Иванович увлёкся и, не давая опомниться, продолжал:
— И нужна мне, милый друг, ваша помощь… Да, да, да! Сейчас вы окончательно всё поймете. Необходимо мне, чтобы вы написали либретто!.. то есть приспособили пушкинский текст…
И, видя на моём лице ужас и изумление, вскочил с места, достал из ящика заветную партитуру, отпечатанную в Москве у Гутхейля, потом уселся рядышком и начал, словно в лихорадке, перелистывать страницу за страницей, восклицать, шептать, объяснять, и остановить его не было уже никакой возможности.
Резоны, просьбы, возражения, — Шаляпин парировал одним словом:
— Умоляю!..
Вид умоляющего Шаляпина, может быть, и был достоин кисти Кустодиева, но я держался твёрдо, и клятвенно уверял распалившегося и вошедшего в раж хозяина, что я не неуважай-корыто, что к Пушкину, как и все грамотные люди, питаю благоговение, и калечить и приспособлять Пушкинский текст никому никогда и ни за что в мире не соглашусь!
Дружеская беседа, как говорили в России, затянулась далеко за полночь, коньяку и крепкого кофе было выпито немало, накурились мы тоже вдоволь, и, чтобы хоть как-нибудь выйти из нелепого и безнадёжного тупика, в который загнал меня, раба Божьего, не привыкший к отказам царь Борис, сказал, что соображу, размыслю, подумаю, и через несколько дней зайду, чтоб окончательно поговорить.
Троекратное лобызание, еще одна, «последняя, прощальная» рюмка коньяку, бурное рукопожатие с вывихом суставов, и очаровательная, совершенно очаровательная, обезоруживающая улыбка, о которой особенно грустно было вспоминать несколько месяцев спустя.
После непродолжительной, но тяжкой болезни, Шаляпина не стало.
Среди многотысячной толпы, — всё движение на площади было остановлено, — перед зданием Большой Оперы, стоя на ступеньках, лицом к катафалку, утопавшему в лаврах и розах, ещё раз, в последний раз, пел всё тот же хор Афонского, и французы, которые никакой родины не покидали, плакали так, как будто они были настоящими русскими, у которых уже не было ни родины, ни молодости, а только одни воспоминания о том, что было и невозвратимо прошло.
* * *
Хронику одного поколения можно было бы продолжать и продолжать.
Ведь были еще страшные годы 1939–1945!
И вслед за ними — сумасшедшее послесловие, бредовый эпилог, которому и поныне конца не видно.
Но… соблазну продолжения есть великий противовес:
— Не всё сказать. Не договорить. Вовремя опустить занавес.
И, только под занавес, «глядя на луч пурпурного заката», дописать, не уступив соблазну, заключительные строки к роману Матильды Серао, роману нашей жизни.
Бури. Дерзанья. Тревоги. Смысла искать — не найти. Чувство железной дороги… Поезд на третьем пути!Была весна, которой не вернуть
Что еще можно добавить к этому основательному тому ярких, живописных воспоминаний в короткой биографической справке? Что Дон-Аминадо был человеком легендарным, а мы его совсем забыли, что лишь изредка это необычное, почти экзотическое имя, всплывало в издаваемых у нас книгах воспоминаний, тех или иных литературных мемуарах? У Ивана Бунина, у Марины Цветаевой, в томах «Литературного наследства»? Отвергая почти все без разбора из того, что было создано нашей прошлой культурой, мы особенно мстили тем, кто до конца жизни оставался непримиримым к новой власти, к Сталину, к неслыханному произволу, творившемуся в России. К одним из таких непримиримых относится и Аминад Петрович Шполянский. Имя это не было пустым звуком для читателя еще до отъезда за рубеж. Он широко печатался в сатирических столичных и провинциальных журналах, выпустил две книги стихов — «Песни войны» и «Весна семнадцатого года». В эмиграции он не растерялся и в отличие от многих, как сообщает в своей книге «Отражения» Зинаида Шаховская, как-то естественно включился в новую жизнь, познакомился и сблизился с французскими поэтами, журналистами. Его любили, с ним дружили. Эмигрантский народ знал Дон-Аминадо куда лучше, чем, скажем, Цветаеву или Ходасевича. Он был просто популярен. На его вечера в разных городах Европы приходили те, кто любил его веселую, острую музу, хотя стихи свои публично он читать не хотел. Современники подчеркивали, что с годами, не в пример многим другим юмористам, Дон-Аминадо совершенно не устаревал. А сейчас видим — не устарел и нынче. Это замечательное свойство — быть своим во всех временах — присуще далеко не всем, даже одареннейшим, натурам.
В смысле дали мировой Власть идей непобедима. — От Дахау до Нарыма Пересадки никакой.Эти гротескные трагические строки мог сочинить двадцатилетний поэт перестроечной эпохи.
Глеб Струве в предисловии к исследованию «Русская литература в изгнании» в перечне известных писателей, выехавших из России в эмиграцию, наряду с Бальмонтом, Буниным, Куприным, Мережковским, Северяниным называет и Дон-Аминадо. Перечисленные имена известны каждому школьнику, и вот творчество Дон-Аминадо пребывало для нас в забвении. Саше Черному, тоже жившему за рубежом, повезло больше, том его стихов издали у нас в шестидесятых годах. А между тем Бунин считал Дон-Аминадо «одним из самых выдающихся русских юмористов». Дежурный фельетонист уже парижских «Последних новостей» он сквозь призму своего юмора преломлял эмигрантские будни, политические и идеологические схватки. Он «бодался» со всеми: со сменовеховцами, евразийцами, младороссами, политическими противниками Милюкова в лагере «Возрождения». Доставалось и советскому «менталитету». Вот к примеру пародия на Молотова:
Лобик из Ломброзо, Галстучек-кашне, Морда водовоза, А на ней пенсне.Убийственная характеристика!
Кстати, что за странная фамилия Дон-Аминадо? Некоторые разъяснения на этот счет мне дал литературовед А. Иванов, глубоко знающий жизнь и творчество поэта и эссеиста. Сам писатель не оставил после себя никаких разъяснений на счет своего псевдонима. Подлинное имя поэта — Аминад. Имя стало творческой фамилией. Многие читатели могут и не знать его подлинную фамилию Шполянский. А откуда же испанская приставка Дон? Есть все основания думать, что не обошлось здесь без Дон Кихота. В пользу этого свидетельствует тот факт, что одновременно в газете «Новь» поэт подписывался: Гидальго. Испанизированный псевдоним перекликался с литературщиной, маскарадностью, театральностью, которых в поэзии Дон-Аминадо хоть отбавляй.
Сатирическая фельетонная поэзия Дон-Аминадо, напечатанная в прессе или прозвучавшая из уст автора, скрашивала минуты неуютной жизни тех, кто слушал или читал поэта. Он «учил улыбаться и нас», — вспоминала З. Шаховская.
Но вот другой Дон-Аминадо. Другой поэт, другой человек.
Как рассказать минувшую весну, Забытую, далекую, иную, Твое лицо, прильнувшее к окну, И жизнь свою, и молодость былую? ………………………………………. О, помню, помню!.. Рявкнул паровоз. Запахло мятой, копотью и дымом. Тем запахом, волнующим до слез, Единственным, родным, неповторимым, Той свежестью набухшего зерна, И пыльною, уездною сиренью, Которой пахнет русская весна, Приученная к позднему цветенью.Проникновенные, ставшие хрестоматийными строки «Поздней сирени» и многие другие лирические откровения Дон-Аминадо открывают нам отличной крепости лирического поэта.
Впрочем, хочу привести характеристики творчества Дон-Аминадо, данные Мариной Цветаевой в письме к нему, опубликованном журналом «Новый мир» в апреле 1969 года. Характеристики емкие, точные и страстные, как все, что выходило из-под пера замечательной русской поэтессы. Цветаева неоднократно признавалась, что видит в Дон-Аминадо подлинного поэта. «Вы совершенно замечательный поэт». «Да, совершенно замечательный поэт (инструмент) и куда больше поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше лирической жилы, чем во всем их серьезе…» «Я вам непрерывно рукоплещу — как акробату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал по проволоке. Сравнение не обидное. Акробат, ведь это из тех редких ремесел, где все не на жизнь, и я сама такой акробат…» «Вы — своим даром — роскошничаете». «…Вы каждой своей строкой взрываете эмиграцию!.. Вы ее самый жестокий (ибо бескорыстный — и добродушный) судия». «Вся Ваша поэзия — самосуд: эмиграции над самой собой».
Своенравная, щедрая к дружбам Марина Цветаева говорит в лицо Дон-Аминадо все, что думает о нем, о поэте. Предостерегает его, корит, верит в него.
Писателя поддерживал Бунин, они дружили, подолгу общались. В изданном Милицей Грин трехтомном исследовании «Устами Буниных» довольно часто встречаются упоминания о разного рода встречах, обедах, разговорах. Запись от 5 января 1942 года мне показалась особенно характерной: «Подумать только: 20 лет, 1/3 всей человеческой жизни пробыли мы в Париже! Барятинский, Аргутинский, Кульман, Куприн, Мережковский, Аминад. Все были молоды, счастливы». А вот незадолго до кончины Ивана Алексеевича — запись Веры Николаевны, жены писателя: «Был Аминад. Как всегда, приятен, умен и полон любви к Яну».
Книга Дон-Аминадо «Поезд на третьем пути», предложенная мною издательству «Книга» для нового воспроизведения, одна из замечательнейших русских книг-воспоминаний XX века. Своеобразная по тону, — это как бы «фельетон» вместо мемуаров, иронически беспощадная и, по существу, грустная книга, в которой множество живых подробностей и характеристик «дел и дней» литераторов в России и затем в изгнании. В «Поезде на третьем пути» на фоне политического брожения предреволюционных лет, совпавшего с годами литературного расцвета, проходит жизнь русской интеллигенции. Сначала глухая провинция, потом Одесса, Киев, Москва, октябрьский переворот, эмиграция. Дон-Аминадо сумел передать настроение трагической эпохи. Его мемуары как бы импрессионистичны, события, лица, комедии и трагедии человеческого существования обозначены только пунктиром, но в этом аллюзионном использовании материала автор дает волю читательскому воображению и памяти. Как писал известный исследователь русской зарубежной литературы профессор В. Казак, для воспоминаний Дон-Аминадо характерна ироническая дистанция по отношению к изображаемому, но за легкостью форм не теряется политическая и человеческая серьезность автора. Один только отрывок из книги.
«В Феврале был пролог. В Октябре — эпилог.
Представление кончилось. Представление начинается.
В учебнике истории появятся имена, наименования, которых не вычеркнешь пером, не вырубишь топором.
Горсть псевдонимов, сто восемьдесят миллионов анонимов.
Горсть будет управлять, анонимы — безмолвствовать…
Несогласных — к стенке:
Прапорщиков — из пулемета, штатских — в затылок.
Патронов не жалеть, холостых залпов не давать. Урок Дубасова не пропал даром.
Все повторяется, но масштаб другой.
В Петербурге — Гороховая, в Москве — Лубянка.
Мельницы богов мелют поздно.
Но перемол будет большой, и надолго».
По выходе книги воспоминаний Дон-Аминадо в русскоязычных газетах и журналах появилось много восторженных рецензий и откликов. Книга стала событием литературной жизни. Думается, что и новое издание известных мемуаров станет подарком для всех, кто любит жанр воспоминаний, кому не безразлична наша отечественная история.
И, конечно же, нельзя не отметить, что первый раз мемуары Дон-Аминадо «Поезд на третьем пути» вышли в прекрасном зарубежном издательстве имени Чехова в Нью-Йорке. Выпустив десятки замечательных книг, как правило, русских авторов, оно, к сожалению, прекратило свое существование.
Свою первую эмигрантскую книгу (Париж, 1921) Дон-Аминадо назвал «Дым без отечества». Блистательно обыграны замечательные грибоедовские строки. Что ж, рискну продолжить лингвистическую игру: да, «перемол» истории продолжается, наше отечество в дыму пожарищ и перестроек. Этот дым потихоньку развеется. И тогда в полном блеске своих талантов, книг, трагических судеб предстанут перед нами блудные сыны отечества, оставшиеся русскими патриотами и в мировом рассеянии. Среди них и Дон-Аминадо, «роскошничавший своим даром».
Феликс Медведев
Примечания
1
Я большой осел.
(обратно)2
Девятисотые годы… Блестящая эпоха!
(обратно)3
Это уже что-то… (фр.)
(обратно)4
Конституционная гарантия против произвольного ареста.
(обратно)5
С латинской ясностью.
(обратно)6
Читателям «Зелёной палочки». К правде через науку. Камилл Фламмарион.
(обратно)



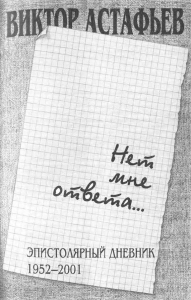
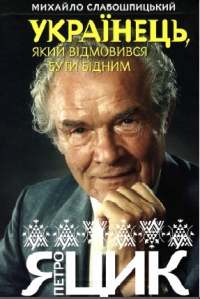
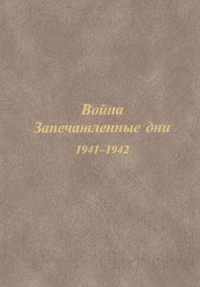
Комментарии к книге «Поезд на третьем пути», Дон-Аминадо
Всего 0 комментариев