Ольга Волкогонова Бердяев
В судьбе нет случайностей; человек скорее создает, нежели встречает свою судьбу.
Л. Н. ТолстойАвторы биографических книг нередко находятся в состоянии глубокой влюбленности в свой «предмет» – человека, о котором пишут. Сознаюсь, понурив голову: данная книга – другой случай. Может быть, это и к лучшему: комплиментарных текстов о Бердяеве, хватает в самых разных жанрах. Существует и другая, гораздо менее многочисленная категория биографических книг, авторы которых пытаются развенчать неоправданную славу или популярность того человека, чье имя «на слуху». Такая задача мне тоже в голову не приходила. Может быть, кому-то в моем жизнеописании Бердяева не хватит «соли и перца», но я изо всех сил старалась избежать крайностей и рассказать о Николае Александровиче объективно (если это вообще возможно в писательском деле).
Мое отношение к творчеству Бердяева менялось: от восхищения в юношеские годы, когда студенты философского факультета могли читать его работы только «из-под полы» и бердяевские книжки (и то далеко не все!) хранились за толстыми стенами библиотечного спецхрана, куда попасть могли только обладатели специального «допуска», до разочарования во времена, когда можно стало читать все. В руки поплыли самые разные книжки, на полках перестало хватать места для того, что впервые было опубликовано после десятилетий цензуры. Стали широко издаваться и работы тех людей, что окружали Бердяева, кто думал, писал, жил в одно с ним время. Оказалось, что его гордое одиночество и непохожесть на остальных – миф, созданный, в том числе, и самим Николаем Александровичем. Упаси боже, я не думаю, что Бердяев занимался сознательным мифотворчеством о своей персоне, – конечно, нет. Но ему, как и каждому из нас, все происходящее в собственной душе и голове казалось чем-то принципиально особенным, не похожим на то, что происходит с другими. Он не раз писал о своей непонятости, отталкивании от других, одиночестве… Он и в самом деле был очень одинок, но дело было не столько в оригинальности мыслей и рассматриваемых им тем (как ему казалось), сколько в личностных качествах, полученном воспитании, характере. В какой-то момент я обнаружила, что почитаемый мною гордый аристократ Бердяев, как и любой другой мыслитель, не был свободен от сильных влияний со стороны других: когда многие увлекались марксизмом – Бердяев тоже вполне искренно им увлекался, если Лев Шестов зачитывался Ницше, – Бердяев тоже выписывал себе из Германии собрание сочинений немецкого бунтаря, русская интеллигенция открывала для себя Ибсена – и Николай Александрович публиковал статьи об Ибсене, когда Сергей Булгаков и другие стали переходить к идеализму и религии – Бердяев тоже пережил духовный переворот… И даже идея добытийственной свободы, центральная в философии зрелого Бердяева, явно вырастала из средневековой мистики (чего он и сам, впрочем, никогда не скрывал). Разумеется, после такого открытия я высокомерно поставила на работах Бердяева печать вторичности и в Николае Александровиче разочаровалась. Но прошло время, и оказалось, что многие бердяевские мысли и идеи прочно застряли в моей голове, пришло понимание того, что без его фигуры невозможно нарисовать картину русской мысли прошлого века, что не только на него влияли, но и он влиял на других. Вот в таком спокойном состоянии ума я и взялась за это жизнеописание.
Мне повезло: Бердяев оставил после себя несколько философских автобиографий для словарей, но главное – замечательный рассказ о себе, «Самопознание». Многочисленные книги о Бердяеве (а их, поверьте, сотни!) традиционно опираются именно на этот текст. Но, на мой взгляд, здесь существует опасность: мемуары не всегда являются надежным источником. Автор мемуаров создает свой образ в умах и сердцах читателей по законам искусства, «редактируя» (не злонамеренно, о нет! не отдавая в этом отчета) свою жизнь, выстраивая ее с позиции того момента, когда он сел писать эти самые мемуары. Любые мемуары – мифотворчество. То, что в молодости казалось исключительно важным, может потерять свое значение для пожилого мэтра, и наоборот, «проходное» увлечение, событие наполнится особым смыслом и ему будут посвящены многие страницы. К тому же, в «Самопознании» я нашла целый ряд неточностей и умолчаний, что неудивительно: жизнь у Николая Александровича была долгой, бурной, разной, всего и не упомнишь, да и оценки произошедших событий не могли не меняться в течение жизни. Поэтому я не хотела покорно следовать за «Самопознанием», рассматривая его в качестве «канона» для понимания Бердяева, получилось ли – не мне судить.
Что включать в книжку? Тоже непростой вопрос. Ряд авторов считают, что жизнеописание – прежде всего факты, события, происшествия, которые случились с героем. С этим трудно спорить, но и тут я должна повиниться: отнюдь не все известные мне случаи из бердяевской жизни нашли место в книжке. Писать или нет о том, что в 1908 году автомобиль с Бердяевым, его женой Лидией и свояченицей Евгенией Рапп столкнулся на улицах Парижа с омнибусом, после чего Лидия Юдифовна, женщина чувствительная и экзальтированная, пережила настоящий нервный срыв, хотя и не получила ни одной царапины? У Бердяева царапины и ушибы были, но стоит ли это упоминания? Я об этом писать не стала. Надо ли перечислять имена и фамилии тех священников, которые отпевали Бердяева, прежде чем он упокоился на кламарском кладбище? Их было несколько; сохранились свидетельства о том, кто именно провожал Николая Александровича в последний путь. Но я и об этом писать не стала. Есть другие книги о Бердяеве, – где каждой «открытой» в архивах, воспоминаниях, мемуарах жизненной детали находится свое место. Наверное, одна из лучших книг такого склада написана о Бердяеве покойным Александром Цветковым[1]. Такие книги чрезвычайно интересны для специалистов, они дают им новый материал для размышлений, но не всегда любопытны для обычных читателей, которые хотят получить целостную «картинку», образ того или иного деятеля. А для складывания такой картинки излишние детали могут быть вредны и утомительны, потому что синяки Николая Александровича ничего к его образу добавить не могут, как и фамилии священников на панихиде.
Другая – бо́льшая – часть книг о Бердяеве вообще про факты его жизни ничего не рассказывает, ограничиваясь небольшой биографической справкой в начале; в них речь идет о его философских взглядах. Разумеется, это самое главное – ведь Бердяев был философом, организатором академий, журналов, кружков, этим он и интересен; его знают благодаря его работам, а не чаепитиям на даче в Бабаках. Но такие книжки – тоже для специалистов, в них его личность вообще остается за скобками. Поэтому я и здесь пошла по компромиссному пути: конечно, я рассказала многое из того, что знаю, что мне кажется важным, о жизни Бердяева. Он любил животных, особенно собак. По-моему, такое качество – важная характеристика его личности, потому я и упомянула о ней. У него были платонические отношения с женой, Лидией Юдифовной, которая во второй половине своей жизни вообще соблюдала устав католической монахини, – тоже важно, причем не с точки зрения удовлетворения обывательского любопытства, а для объяснения отталкивания Николая Александровича от всего плотского, материального, для понимания его взглядов – в том числе, теоретических, философских. Но и сами философские рассуждения, каюсь, в книжке есть: бердяевская философия – его личный духовный опыт, положенный на бумагу. Николая Александровича нельзя понять, не имея представления о его взглядах и убеждениях; у него не было отстраненности от своих творений, он буквально запечатлел себя на страницах своих философских книг и статей. Все-таки основные события жизни Николая Александровича проходили внутри его головы, а не снаружи. В каком-то смысле его работы «Философия свободы» и «Смысл творчества» – более важные рубежи в его жизни, чем даже высылка и эмиграция.
Но главный вопрос, который встал передо мною, был вопрос о широкой популярности Бердяева. И в России, и за пределами нашей страны вероятность услышать ответ: «Бердяев» на вопрос о русских мыслителях 20 столетия, крайне высока. Николая Александровича знают больше других его современников, его имя и творчество вышло далеко за пределы профессионального интереса специалистов-философов, у его творчества много поклонников. О философии Бердяева написаны сотни томов, тысячи статей, сборников, ему были посвящены многие симпозиумы и конференции. Для околофилософских кругов Западной Европы и Северной Америки Николай Бердяев – это и есть русская философия. Незадолго до своей смерти Лев Шестов писал о своем давнем друге: «Можно сказать, что в лице Н. Бердяева русская философская мысль впервые предстала перед судом Европы или, пожалуй, даже всего мира». В то же время, почти нигде на Западе его философию не изучают в университетах, вы найдете упоминания о ней только в учебниках, посвященных истории русской мысли, – получается, что она интересна только «этнографически», в контексте изучения России, но не сама по себе. С другими мыслителями-эмигрантами ситуация сложилась совершенно иная: или их типично русская философия «больной совести» оказалась чужда западным читателям, а их имена известны только в кругу соотечественников (такова была участь большинства), или (как это было, например, в случае с близким приятелем Бердяева – Львом Исаакиевичем Шестовым) они были замечены и оценены прежде всего своими западными коллегами-интеллектуалами, широкая же читательская публика о них не подозревает. Известность Бердяева другого рода: его не так много публиковали в специализированных философских западных журналах, его главные философские книги («О назначении человека», «Экзистенциальная диалектика», другие) после перевода на иностранные языки почти не переиздавались, трудно выделить в его работах те оригинальные концептуальные идеи, которые были бы подхвачены и развиты учениками (даже в кружке французского персонализма вокруг журнала Esprit наследование не было прямым), зато он был переведен на двадцать языков, книги его издавались относительно большими тиражами и во многих странах, он получал десятки приглашений в неделю из различных университетов и культурных центров с просьбой выступить, прочесть лекцию, поучаствовать в конференции, о его книгах много спорили не столько в научных, сколько в литературных и политических журналах. Да и написано им было удивительно много: он работал каждый день по несколько часов, и так – всю жизнь. Но как верно заметил Николай Полторацкий: «Его почитатели ценили в нем совсем не то, что он сам считал в своем творчестве главным»[2]. Николай Александрович всю жизнь посвятил философии, ощущал себя мыслителем – одиноким, не похожим на других, с новыми, подчас парадоксальными ответами на сложные метафизические вопросы. А читатели зачастую проходили мимо собственно философского содержания его работ, не видели или не ценили его открытий, улавливали лишь второстепенное – оценки других подходов, суждения, связанные с политическими реалиями, красивые фразы (в работах Бердяева можно найти немало отточенных афоризмов). Известный философ Мераб Мамардашвили говорил: «У русского философа Николая Бердяева есть книжка «Самопознание. Опыт философской автобиографии». И вот странная вещь. После неоднократного чтения этой интересной, ярко написанной книги я обнаружил, что за спиной Бердяева нет устойчивой традиции осуществленных, доведенных до конца и выполненных актов мысли, а личной интуиции и гениальности у него, очевидно, не хватило на то, чтобы самому это осуществить без предшествующей традиции». Подобные оценки встречаются и у некоторых других философов, то есть людей, принадлежащих с Бердяевым к одному «цеху».
Почему же тогда фигура Бердяева стала самой узнаваемой на групповом портрете русской философии начала прошлого века? При ответе на этот вопрос оценки личности и творчества Бердяева давались и даются подчас полярные. Многие, очень многие видят в факте популярности и признания справедливое подтверждение незаурядного таланта и оригинальности мысли Николая Александровича. Отец Александр Мень так образно объяснил непохожесть Бердяева на современников: в бердяевское время было немало философов, историков, богословов, публицистов, но каждый, так сказать, сидел на своем шесте. A Бердяев свободно ходил по всем мирам, в этом проявлялся его «масштаб»[3]. Совершенно иначе видел Бердяева Иван Солоневич. Талантливый полемист, он обвинял Бердяева и других представителей того поколения русской интеллигенции (сам он был моложе) в вольной или невольной подготовке социалистической революции – пока они жили в России и в непонимании тоталитарной, варварской сущности советского режима – когда они оказались в эмиграции. «Бердяев начал свою общественную карьеру проповедью марксизма, потом стал буржуазным либералом, потом сбежал за границу, где перешел в ряды «черной реакции», потом сменил вехи и стал на советскую платформу… Все это можно объяснить и евангельской фразой: «вернется пес на блевотину свою». Верхи русской интеллигенции так и сделали: вернулись на свою же революционную блевотину…» – безапелляционно писал Солоневич. И даже еще резче: «Русская профессура оказалась глупее даже и германской. Германскую все-таки разбили враги, русскую расстреляло или выгнало вон ее же собственное детище – ее же выученики, питомцы и последователи. Германская профессура сидит все-таки дома и никто ее по подвалам не таскает, русская бежала на чужбину, или погибла на родине трудящихся всего мира… У проф. Люмана остался хоть его участок, если даже вилла и разбита. У русского профессора Бердяева не осталось ничего, кроме органов усидчивости, которые он кое-как унес из пожара, зажженного им самим. Здесь провал полный, абсолютный, стопроцентный. Провал, после которого при малейшем запасе совести и совестливости надо бы надеть покаянное рубище, пойти в Каноссу и заняться там подметанием уборных. Но русская профессура рубища не надела, в Каноссу не пошла и уборных, к сожалению, не подметает. Она продолжает пророчествовать».
«Революционаризм» не устраивал и не устраивает многих, а коренится-то он в самой философской системе Бердяева. Философскую систему тоже многие не принимали, называли «бердяевщиной» (а иногда – и «белибердяевщиной»). Учение Бердяева всегда вызывало споры, у него были не только почитатели и последователи, но и резкие критики, особенно среди современных ему русских философов. И оснований для такой критики было достаточно: Бердяева справедливо упрекали в непоследовательности, многочисленных повторах, тенденциозности, противоречивости, бездоказательности. Андрей Белый, лично знавший Бердяева, довольно зло охарактеризовал эту «несистематичность» и изменяемость философской позиции Бердяева: «…Мировоззрение Бердяева мне виделось станцией, через которую лупят весь день поезда, подъезжающие с различных путей»[4]. Никита Струве, внук Петра Бернгардовича Струве, близкие отношения которого с Бердяевым закончились разрывом уже в эмиграции, дал свою оценку творчеству Николая Алекандровича уже в наши дни. Его оценка – оценка парижского профессора, директора издательства «YMCA-Press» (где Бердяев публиковал свои главные работы), главного редактора нескольких журналов (в том числе – «Вестника Русского христианского движения», а с РСХД Николай Александрович активно сотрудничал долгие годы), она спокойная, взвешенная, но все-таки немного обидная, пренебрежительная: «Бердяев принадлежит к «пророческому» типу философов. У него нет системы, его интуиции всегда парадоксальны, он их не доказывает, не пытается примирить, а в стремительном, иногда повторно-утомительном, афористическом потоке выпаливает на бумагу». О противоречиях писали и те, кто очень высоко ценил творчество Николая Александровича. Например, Георгий Федотов: «Бердяев писал горячо, всегда в борьбе на нескольких фронтах, не страшась преувеличений и противоречий». Кто же прав? Возможно, единственно «правильной» оценки и не существует, а для того, чтобы выработать свое мнение о наследии Бердяева, надо почитать его книги.
Но вопрос о популярности Бердяева все равно остается, на него все равно надо отвечать. Легче всего найти ответ стоящему на точке зрения гениальности Бердяева: действительно, его книги не похожи на другие, он смог уловить то, что для других мыслителей осталось скрытым и незамеченным, чуткость его духа и «хождение по всем мирам» сделали его знаковой фигурой первой половины 20 столетия. Труднее найти ответ на вопрос о широкой популярности Бердяева тем, кто, даже признавая за ним философский талант, не видит абсолютно новых подходов в его философии. Кто-то видит причину в стиле его книг, в умении писать просто и ярко о сложном, – Сергей Левицкий, например, отмечал «блестящий литературный талант» Бердяева. Конечно, это дело вкуса и подготовки читателя. Но простыми для восприятия бердяевские работы назвать трудно: за его стремительной мыслью следить не просто, да и соответствующая подготовка требуется, чтобы справится со всеми «меонами», «космической коммюнотарностью», «интегральным откровением» и «социальным трансцендированием». К тому же, Бердяев никогда не редактировал свои работы. Он писал быстро, много, это было его ежедневной потребностью, но не любил править и вычитывать уже написанное. Поэтому наряду с запоминающимися афористичными страницами в его работах много повторов, неясностей, длиннот. «Он мастер удачных, образных определений, но они часто тонут среди черновых набросков. Мы лишь предчувствуем блестящий писательский дар, запущенный как старый русский сад, заросший сорными травами», – верно написал об этой особенности бердяевских текстов Георгий Федотов. Но, конечно, доля истины в утверждении, что популярность Бердяева обуславливается его писательским даром, есть. Если даже «рядовому» читателю не хватит духа осилить бердяевскую книжку, то уж запоминающиеся афоризмы и определения врезаются в память прочно и надолго: «Смысл истории – в ее конце», «Культ святости надо дополнить культом гениальности», «Свобода есть свобода не только от господ, но и от рабов», – чеканные формулы Бердяева парадоксальны и отточены.
Есть и другой момент, на который указывали биографы Николая Александровича: при всем его отталкивании от массовидности, общественности, практики, он был человеком активным и заметным. Ему были обязаны своим существованием журналы – «Вопросы жизни», «София», «Путь», он исполнял обязанности председателя Всероссийского Союза писателей в послереволюционной России, без него не могла бы появиться на свет Вольная академия духовной культуры в Москве и Религиозно-философская академия в Берлине и Париже, более десяти лет он тесно был связан с Русским студенческим христианским движением, он стал одним из организаторов и инициаторов межконфессиональных собраний в Париже, – чего только не было в его бурной жизни! Да и философия его была тесно связана с пережитым: с войнами, революцией, марксистским опытом, – то есть с темами, которые затрагивали не только высоколобых профессионалов-философов, но и других читателей. Конечно, это тоже расширяло круг читателей Бердяева. Не случайно наиболее востребованными на Западе были и есть те его книги, которые связаны с его пониманием истории, русской культуры и русского марксизма.
Существует еще один аспект его популярности. Бердяев выразил в своих порой противоречивых и страстных работах дух времени, в котором ему довелось жить. Его духовная эволюция – характерна для русского интеллигента-интеллектуала рубежа веков; в его творчестве нашли отзвук наиболее заметные и яркие идеи того удивительно богатого на таланты времени; он стал точкой пересечения различных художественных, философских, политических влияний Серебряного века русской культуры и периода послеоктябрьской эмиграции. «Одиночка» Бердяев – в каком-то смысле типичен, причем он оставил свой след и в марксистских кружках, и на «башне» Вячеслава Иванова, и в эмигрантских изданиях и организациях. Без фигуры Николая Александровича просто невозможно представить панораму той эпохи, когда «плавились миры». Вы будете натыкаться на упоминания о Бердяеве, на его письма, его характеристики, поступки всюду: станете ли интересоваться жизнью Марины Цветаевой или судьбой Зинаиды Гиппиус, захотите ли узнать о Льве Шестове или Сергее Булгакове, заинтересует ли вас Ромен Роллан или Жак Маритен. Я благодарна Николаю Александровичу: он дал мне возможность при написании книги окунуться в атмосферу той эпохи, ощутить себя среди удивительных людей того времени. Ремизовские шаржи и вечера Гафиза, парижский салон Мережковских и религиозно-философские общества, Лавка писателей и героическое служение матери Марии Скобцовой, – читать и думать об этом времени было настоящим счастьем. В книжке я постаралась познакомить читателей с людьми, которые окружали Бердяева, – думаю, настоящий портрет должен быть «групповым», потому что без этого нельзя понять пристрастия, склонности, настроения человека, да и круг общения говорит о личности гораздо больше, чем аттестаты и дипломы.
Книга не снабжена библиографией, – вовсе не из-за лености автора. Дело в том, что первая и наиболее полная библиография[5] была составлена еще человеком, лично хорошо знавшим Николая Александровича – Тамарой Клепининой, вдовой погибшего в нацистских застенках отца Дмитрия Клепинина. Это – своего рода «классика» указателя бердяевских работ, с которой могут ознакомиться все желающие. Что касается работ о Бердяеве, – их слишком много: только в указателе Библиотеки конгресса США насчитывается более 300 таких книг, а на самом деле их гораздо больше. Выбирать из них кажущиеся наиболее интересными – субъективизм, который может не совпасть с субъективными же установками читателя и вызвать заслуженную критику. В пространстве всемирной интернет-паутины о Бердяеве тоже немало сайтов. Наверное, лучшим и наиболее полным можно назвать тот, что находится в библиотеке священника Якова Гавриловича Кротова[6], где книги Бердяева и материалы о нем удивительно полны и собраны с несомненными любовью и вниманием.
Несмотря на известность Бердяева, ни в Москве, ни в Киеве, ни в Кламаре нет музея философа. Вернее, во французском Кламаре хотя бы что-то похожее на музей существует, – дом, где Бердяев прожил долгие годы, где написаны многие его работы, сохранен и его можно осмотреть: если заранее договориться о времени визита, дом для вас откроют и покажут подлинные вещи Николая Александровича. В Москве музей начинался: «бердяевед» Александр Цветков, умерший от тяжелой болезни в 28 лет, успел собрать множество материалов о жизни Николая Александровича. После его смерти про музей, как у нас водится, забыли. В Киеве, родном городе Бердяева, ситуация еще более нелепая: даже попытка открыть в честь Бердяева мемориальную доску на здании Киевского национального университета им. Тараса Шевченко не была поддержана (Николай Александрович не делил философию на русскую и украинскую, что не всем в годы становления украинской государственности нравилось). Вот так и получается: всемирного признания Бердяеву не хватило для того, чтобы в России и Украине память о нем была увековечена. Но главное все-таки – книги Бердяева. Как только в стране перестали действовать идеологические запреты, – Бердяев стремительно ворвался в нашу интеллектуальную жизнь. При всех недостатках (а у кого их нет?) Бердяев – самый читаемый русский философ, его творчество отразило целую «геологическую» эпоху русской культуры. Поэтому и появилась на свет эта книга. Крылатая фраза Фихте – «Каков человек, такова и его философия» – кажется мне удивительно верной, когда речь идет о Николае Александровиче Бердяеве.
Часть 1. Становление
1. Детство: «аристократический мир»
Очень люблю моих родителей, но у меня всегда было чувство, что я не от родителей родился, а пришел из какого-то другого мира.
Н. БердяевКиевский район Липки, что на Печерске, получил свое название из-за липовой рощи. Но 6(18) марта 1874 года, когда в семье Бердяевых родился младший сын Николай, липы уже вырубили, и о них напоминало только красивое название. От старых времен остался, правда, Кловский дворец, построенный на землях и на деньги Киево-Печерской лавры для государыни Елизаветы Петровны. По прямому назначению дворец не использовался, – венценосные особы постройку в стиле барокко не жаловали, предпочитая останавливаться в растреллиевском Мариинском дворце на высоком берегу Днепра. Но и Кловский дворец радовал глаз, а когда вокруг него посадили большую липовую рощу, район обрел свое лицо, а заодно и название, сохранившееся до наших дней. С 1833 года, после перепланировки, местность начали застраивать особняками, и она стала аристократическим районом Киева. В Липках находились генерал-губернаторский дом и его канцелярия, дом командующего войсками Киевского военного округа, первая Киевская гимназия (в том самом Кловском дворце), старые Присутственные места, банки. Место было красивым, вокруг домов зеленели ухоженные сады с цветниками. Уже на склоне лет, во Франции, Бердяев вспоминал Лавру и церкви Печерска, особняки и сады Липок, Никольский монастырь, Крещатик, Софию, Днепр, Царский сад и кладбище возле Аскольдовой могилы, где были похоронены предки философа… До конца жизни он считал Киев одним из самых красивых городов России (поскольку о разделении Украины и России на самостоятельные государства при его жизни и речи не было) и Европы.
Ребенком Николай был довольно поздним, и родители души в нем не чаяли. Крестниками мальчика стали светлейший князь Н. П. Лопухин-Демидов и графиня Е. В. Красинская. Обилие великосветских знакомств семьи было связано с ее родовыми корнями, в их жилах текла голубая кровь. Бердяевы – старинная татарская фамилия, восходящая еще к эпохе Московского княжества и связанная с татарским игом, она происходила от слова со значением «Он дал». Род Бердяевых был известен со второй половины XV века, внесен в 6-ю часть дворянских родословных книг Смоленской, Ярославской, Вологодской и Харьковской губерний. Родословные дворянские книги состояли из шести частей, и принадлежность к какой-либо из них могла сразу сказать знающему человеку кое-что о семейной генеалогии: в первую часть записывали «жалованное» дворянство, во вторую – военное, третья содержала фамилии получивших дворянство по чину, четвертая – иностранное дворянство, пятая – титулованное, а шестая, о которой и идет речь, содержала древние благородные дворянские рода, которые могли подтвердить свою принадлежность к этому сословию не менее ста лет «до момента издания Жалованной грамоты». Грамота устанавливала порядок ведения официальных родословных дворянских книг и датировалась 1785 годом. Бердяевы имели даже еще более древнюю историю. В Гербовнике за 1598 год о Бердяевых говорилось: «Фамилии Бердяевых многие служили Российскому Престолу дворянския службы в числе детей боярских, стряпчими и в иных чинах и жалованы были от Государей… поместьями»[7].
Семья имела долгие военные традиции. Несколько поколений Бердяевых по мужской линии служили военными. Один из предков был стольником на воеводской должности у Петра Первого. Прадед имел чин генерал-аншефа, был генерал-губернатором Новороссии и вёл личную переписку с императором Павлом I. Дед, по преданию, будучи молодым поручиком-кавалергардом, отличился в бою с Наполеоном при Кульме в 1813 году: когда его командиры погибли, принял командование частью на себя, отчаянно атаковал французов, после чего те дрогнули и проиграли битву на этом участке. За участие в этом сражении предок Бердяева получил два креста – Георгиевский и специальный Кульмский крест, учрежденный прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III для отличившихся в битве. Позднее тот же дед стал атаманом Войска Донского. Отец Бердяева в молодости служил в Кавалергардском полку, но рано вышел в отставку и поселился в родовом имении Обухове на берегу Днепра, стал уездным предводителем дворянства, мировым судьей. Тем не менее, движимый патриотическими чувствами, во время Турецкой войны он вернулся на военную службу, а после отставки долгие годы проработал председателем правления Земельного банка Юго-Западного края. Однако в денежных делах особой сноровкой Александр Михайлович не отличался и «имел тенденцию к разорению», как впоследствии и его сын-философ. Родовое имение Бердяевых в Обухове было продано, из особняка в Липках семья через несколько лет переехала в более скромный дом, но к счастью, обеднению препятствовало наличие польского имения-майората, пожалованного деду Бердяева за военные заслуги, – Александр Михайлович не мог ни продать, ни заложить этого имения по существовавшим законам. Он сдавал его в аренду, и это не раз выручало семью.
Среди предков Николая Бердяева были, впрочем, не только генералы, но и монахини. Его бабушка, урожденная княжна Бахметьева, – та самая, что была замужем за храбрым поручиком, «побившем Наполеона» в Кульмском сражении, – была монахиней в миру: она приняла тайный постриг еще тогда, когда был жив ее муж. Выполняя все обязанности матери и хозяйки большого дома, она втайне исполняла строгий монашеский устав аскезы и воздержания. Муж лишился красавицы-жены и, хотя он и был православным человеком, это озлобило его против монастырей и монахов. Говорят, в старости, встречая на прогулке монахов, он замахивался на них палкой. Прабабушка со стороны матери, княгиня Кудашева, тоже приняла монашеский постриг – уже после смерти своего мужа. Бердяев возил с собою с квартиры на квартиру ее небольшой портрет в монашеском одеянии, писанный маслом, – ему нравилось ее строгое выражение лица.
Мать, Александра Сергеевна, урожденная княжна Кудашева, была чрезвычайно красивой женщиной, которая смогла сохранить привлекательность до преклонных лет. По матери она происходила из французского рода графов Шуазель-Гуффье, молодость ее прошла в Париже, в общении была женщиной светски-легкой. Алина, как ее звали дома, всю свою жизнь предпочитала писать письма по-французски, по-русски нередко делала ошибки, да и разговаривали дома чаще всего по-французски. Николай Александрович, вспоминая мать, уже на излете жизни отмечал ее доброту и писал о том, что она была больше француженкой, чем русской. Оба сына Алины Сергеевны и Александра Михайловича владели французским языком совершенно свободно, а поскольку семья и в Европу ездила нередко – «на воды», в Карлсбад, то и немецкий братья знали хорошо. Старший брат, Сергей, со временем стал и вовсе настоящим полиглотом – он писал стихи на украинском, русском и немецком языках, делал переводы с английского, итальянского, польского, испанского, чешского, болгарского, латыни. Способности к языкам у Николая были скромнее, но и он не был «безъязыким»: свободный французский и достаточный для чтения сложных философских книг и бытового объяснения немецкий облегчали его общение с иностранцами.
Представление о смешении кровей, культурных традиций, семейных ветвей и веточек будет неполным, если не упомянуть еще об одной «западной» линии в семье. Родственниками Бердяева по матери были польско-литовские графы Браницкие, являвшиеся одновременно и родственниками царской семьи, – люди чрезвычайно богатые, имевшие недвижимость в Париже, Варшаве, Риме, Ницце. В их роскошном имении, названном «Александрия», окруженном прекрасным парком, на окраине Белой Церкви, Бердяевы бывали почти каждую осень. У маленького Николая была там даже своя лошадка-пони. По происхождению и своему положению в обществе Бердяевы были аристократами, людьми светскими, обладавшими связями и знакомствами в высшем свете, что помогло им потом «хлопотать» за участвовавшего в революционных беспорядках младшего сына. Достаточно сказать, что Сергей Кудашев, дед Бердяева, умерший еще до рождения Николая, был Киевским вице-губернатором. Уже в эмиграции Бердяев вспоминал: «Когда меня арестовали и делали обыск, то жандармы ходили на цыпочках и говорили шепотом, чтобы не разбудить отца. Жандармы и полиция знали, что отец на «ты» с губернатором, друг генерал-губернатора, имеет связи в Петербурге»[8].
Родители мечтали увидеть Николая в военном мундире. Дети тех, чьи роды были внесены в пятую и шестую части родословных дворянских книг, могли быть зачислены в Пажеский корпус и Императорский Александровский лицей вне зависимости от того, какое положение в настоящий момент занимали их родители. По традиции Николай был зачислен в пажи с самого детства, но в Пажеский корпус так и не попал. Он воспитывался сначала дома. Вероятнее всего, о младенце заботилась кормилица, хотя достоверных сведений об этом не сохранилось. Николай был действительно довольно поздним ребенком: Алина Сергеевна и Александр Михайлович были женаты уже шестнадцать лет, когда он появился на свет. Маленьким мальчиком Николай попал под опеку няни, Анны Ивановны Катаменковой, бывшей крепостной дедушки, которая нянчила когда-то и его отца, и старшего брата Сергея. Няня умерла, когда Николаю было четырнадцать, он очень горевал, потому что все эти годы чувствовал любовь и заботу старой женщины, хотя уже и не находился формально под ее опекой. Потом пришел черед учителей и гувернеров, которые, в отличие от старенькой няньки, не оставили у своего воспитанника глубоких и благодарных воспоминаний. Мальчиком Николай был довольно замкнутым и вспыльчивым, играть с детьми не любил, друзей у него не было, – исключение составляла лишь кузина Наташа: в семье тети, Юлии Николаевны Гудим-Левкович, Ни (как звали Николая дома) бывал очень часто. Семьи дружили, дети часто проводили лето в великолепном родовом имении Гудим-Левковичей (собственное родовое имение Бердяевых в Обухове к тому моменту уже было продано). Дома же мальчик предпочитал читать.
Страсть к чтению была связана с рано возникшим у него чувством одиночества. Родители, будучи уже довольно пожилыми людьми, в воспитании Николая участвовали мало, ничего ему не запрещали, но и никак не направляли его духовного становления, никогда не были участниками его игр или открытий. Брат был старше его почти на пятнадцать лет. Книги (а читать Николай научился очень рано) давали ему возможность жить не в сумрачном, холодном доме, где редко бывали гости и отношения между обитателями часто носили натянутый характер, а в выдуманном и ярком мире Жюля Верна или Фенимора Купера. Уже тогда возникли ростки будущего чувства отталкивания от действительности, которое Бердяев испытывал всю свою жизнь. Книги давали ему более реальное чувство жизни, чем замкнутый мир их невеселого дома. Николаю рано стали нравиться книги из серии Павленкова о жизни замечательных людей, исторические романы и повествования. У его отца, Александра Михайловича, была большая историческая библиотека, которой сын пользовался. Не по возрасту рано Николай познакомился с сочинениями Толстого, – причем он зачитывался не только рассказами и повестями, но и «Войной и миром». Когда Ни еще играл в куклы, он прочитал этот роман яснополянского страца, поэтому любимую свою куклу-мальчика наряжал в военную форму и называл князем Андреем – в честь князя Болконского. («С «Войной и миром» связано для меня чувство родины, может быть, единственное чувство родины»,[9] – писал Бердяев уже в эмиграции).
Мальчик очень любил делать что-то своими руками: он увлекался столярным делом (пытался сколотить табуретку, стул, ну а рамки для фотографий производились им часто и успешно), с воодушевлением помогал рабочим во время ремонта «щекатурить» и красить стены, даже огородничеством занимался. Потом, правда, эти бытовые навыки куда-то делись: лично знавший его в Париже Дональд Лаури вспоминал, что в зрелом возрасте Бердяев не мог сам поменять перегоревшей лампочки или развести огонь в камине[10]. 9-летним мальчиком Ни научился ездить верхом (верховой езде его обучал специально приглашенный для этой цели казак), стрелять в цель. Но друзей у него почти не было: герои из книг значили для него больше, чем окружавшие его люди, он убегал из неприветливого дома в выдуманную реальность. Впрочем, один друг все же был – кот, которого Ни обожал.
В семье не было принято насилие по отношению к детям ни в каких формах, братьев не стесняли в их занятиях. Бердяев говорил, что родители его ни разу не наказали. Даже если это утверждение – преувеличение, оно все равно дает представление о той свободе, которую мальчик должен был воспринимать как что-то само собой разумеющееся, что сопровождало его всю жизнь. Возможно, индивидуализм Бердяева, о котором много писали и говорили и он сам, и знавшие его люди, во многом объясняется именно таким воспитанием.
Родители мальчика не отличалась крепким здоровьем, – у матери была больная печень, отец тоже все время принимал лекарства, постоянно от чего-то лечили и сыновей. Врачи (конечно, профессора!), поездки на воды, задернутые во время болезней шторы… Ни и сам в детстве тяжело переболел, – его состояние диагностировали как «ревматическую горячку». Это наложило свой отпечаток на характер Бердяева: до конца жизни он боялся чем-нибудь заболеть, был очень мнительным в этом вопросе. Он пил только кипяченую воду, не выходил на улицу без шарфа, панически боялся сквозняков. Жена Бердяева уже в 1935 году писала в своем дневнике: «Ни очень боится болезней. Это травма его детских лет, проведенных у постели всегда больной (печень) матери с ее тяжелыми припадками прохождения камней, когда она кричала всю ночь, а маленький Ни дрожал от страха, слушая эти крики»[11]. Ей вторил сам Бердяев, отмечая в своем характере отголоски детского опыта: «В детстве мне была внушена мысль, что жизнь есть болезнь»[12]. Кроме того, отец и брат Николая были людьми чрезвычайно нервными, вспыльчивыми. Сам он тоже находил у себя проявления этой «нервной наследственности», которая выражалась в «гневливости» и излишней эмоциональности. Можно вспомнить и тот факт, что Бердяев всю жизнь разговаривал во сне, а когда нервничал – то и кричал. Не мог он спать и в полной темноте, поэтому в его комнате всегда было какое-то освещение, – как правило, горящая лампадка перед иконой. Но, конечно, прежде всего, нервные расстройства были характерны для его брата, – человека психически не уравновешенного.
Старший брат, Сергей, имел большое влияние на Николая. Разница в 14 с лишним лет помешала им стать по-настоящему близкими, но семейная жизнь во многом определялась присутствием этого красивого и одаренного, но нервно больного и ощущавшего себя глубоко несчастным человека. Сергей был наилучшей иллюстрацией фразы, которую время от времени произносила Алина Сергеевна: «Во всех Бердяевых есть что-то ненормальное». У Сергея бывали нервные припадки, во время которых он мог даже потерять сознание. Атмосфера дома напоминала романы Достоевского: брат, будучи талантливым юношей, не мог найти должного применения своим дарованиям (в том числе, из-за собственной бесхарактерности и неспособности упорно добиваться поставленной цели), часто конфликтовал с родителями. Сергей учился сначала в киевской Коллегии Павла Галагана, затем за рубежом. После возвращения из-за границы, получив диплом врача, он оставил медицинскую практику, вышел в отставку и полностью посвятил себя литературно-публицистической и журналистской деятельности. За революционную деятельность он был арестован, осужден и даже провел некоторое время в сылке, – Ни тогда было всего десять. Сергей женился на Елене Григорьевне Гродзкой, и это окончательно испортило его отношения с родителями: речь шла о «неравном браке», с точки зрения старших Бердяевых, так как Елена была «не из их круга». Елена писала новеллы и рассказы о жизни евреев в черте оседлости, поэтому борьба с юдофобством и антисемитизмом стала одной из основных тем творчества и ее мужа. Говорят, Елена Григорьевна была умной и красивой женщиной, – недаром в возрасте 25 лет Николай некоторое время был увлечен женой брата, о чем узнали и другие члены семьи, – это стало темой для тяжелых разговоров Николая с материью.
В 1890-1893 годах Сергей и его жена редактировали и издавали в Киеве еженедельный журнал «По морю и суше», который стал продолжением петербургского журнала, издававшегося Еленой Гродзкой до замужества. Издание не было коммерчески успешным, к тому же у Сергея и Елены не раз возникали трения с цензурой, и, в конце концов, журнал был продан и перенесен новым владельцем в Одессу, где несколько лет выполнял функции печатного органа для моряков. На Николая литературные занятия Сергея, его демократические взгляды, критическое отношение к буржуазному образу жизни и морали оказали чрезвычайно большое воздействие. Более того, Сергей впоследствии снабжал своего младшего брата-студента нелегальной литературой. Кроме того, Николай испытывал восхищение от того, что брат обладает способностями, которые ему самому не даны, – Сергей был полиглотом, писал стихи, увлекался математикой.
В тринадцать лет, согласно семейной традиции, Николай был определен во Владимировский Киевский кадетский корпус – сразу во второй класс. Около шести сотен воспитанников корпуса жили в нем на полном пансионе, носили специальную форму, а окончившие кадетский корпус могли без экзаменов поступать в высшие учебные заведения – не только военные, но и университеты. Впрочем, с точки зрения родителей Николая, после кадетского корпуса следовало поступать в Пажеский и делать военную карьеру. Получилось же совсем иначе. Казарменная жизнь с жесткой дисциплиной, несмотря на данное Бердяеву в виде исключения разрешение возвращаться по вечерам домой, была непростым испытанием для необычного юноши, не знавшего раньше насилия над собой ни в чем и уже в подростковом возрасте читавшем серьезные философские и исторические книги, романы Толстого и Достоевского. Он начал читать Гегеля и Шопенгауэра в четырнадцать, в семнадцать освоил «Логику» Милля, – таланты, которые вряд ли были востребованы в кадетском корпусе. Да и особого расположения к себе со стороны других кадетов он не почувствовал: разрешение не ночевать в корпусе, нелюбовь к совместным играм, великосветское присхождение, которым большинство кадетов похвастаться не могли, болезненность, – все это не способствовало его популярности. У него не появилось в корпусе друзей. Единственным его другом в это время был его тезка – Мукалов, с которым он познакомился еще до своей кадетской жизни. Судя по всему, он был старше Ни, ему благоволил и отец Бердяева (возможно, как потенциальному защитнику своего позднего сына), – он даже оплачивал какую-то часть его образования. Мукалов, который затем стал моряком советского коммерческого флота, остался другом Бердяева на долгие годы: уже находясь в ссылке, Николай Константинович Мукалов навещал Бердяева в Париже, а Бердяев ездил в Лондон, чтобы увидеться с ним.
Позднее Бердяев писал о времени военного обучения: «Я не любил корпуса, не любил военщины, все мне было не мило. Когда я поступил во второй класс кадетского корпуса и попал во время перемены между уроками в толпу товарищей кадетов, я почувствовал себя совершенно несчастным и потерянным. Я никогда не любил общества мальчиков-сверстников и избегал вращаться в их обществе… Общество мальчиков мне всегда казалось очень грубым, разговоры низменными и глупыми… Кадеты же мне показались особенно грубыми, неразвитыми, пошлыми… В коллективной атмосфере военного учебного заведения я был резким индивидуалистом, очень отъединенным от других»[13]. Успеваемостью он тоже не блистал: математика и диктанты давались с трудом, его годовые баллы были ниже средних по группе, а по Закону Божьему подросток как-то получил «единицу» по 12-балльной системе. Это стало небывалым случаем в корпусе! На лето Николаю частенько назначали «обязательные работы» по какому-то предмету, например, по алгебре. Отличными оценки были только по рисованию, которым Николай искренне увлекся. Родители вынуждены были нанять для своего сына домашнего репетитора, чтобы он не слишком сильно отставал в учебе от других кадетов. Позанимавшись с подопечным, репетитор первоначально хотел отказаться от уроков – как он объяснил родителям, из-за абсолютной неспособности мальчика к обучению. Но в это же самое время «неспособный» 14-летний Николай самостоятельно штудировал «Философию духа» Гегеля, увлекался Шопенгауэром, зачитывался Вольтером, а в семнадцать освоил «Критику чистого разума» Канта!
Практически все занятия, бывшие в почете среди кадетов, вызывали у Николая плохо скрываемое отвращение или скуку: он не любил гимнастику и физические упражнения, плохо танцевал и отчаянно скучал на балах, ненавидел маршировки, ему был абсолютно чужд коллективизм, возведенный в ранг бесспорной ценности в кадетской среде. Тем не менее, Бердяев провел в кадетском корпусе в общей сложности около пяти лет, каждый год с нетерпением ожидая летних «вакаций» – свободного времени, когда можно было читать без оглядки на установленный в корпусе распорядок дня, не думать о необходимости маршировок и ежедневных занятий. Когда по логике событий уже был близок его перевод для дальнейшего образования в Пажеский корпус в Петербург, Николай уговорил родителей разрешить ему оставить корпус. Он смог убедить родных, что военная стезя – не для него. Оглядываясь на свою жизнь уже из Парижа, Бердяев замечал: «у меня была антипатия к военным и всему военному, я всю жизнь приходил в плохое настроение, когда на улице встречал военного. Я с уважением относился к военным во время войны, но не любил их во время мира»[14]. Утверждение, по меньшей степени, противоречивое: уважать во время войны и не любить в мирной жизни, – довольно легкомысленная позиция. Но Бердяев не заботился об избегании противоречий, они всегда были его сутью.
Выйдя в 1891 году из кадетского корпуса, Бердяев начал наверстывать упущенное, так как на семейном совете было решено, что он самостоятельно подготовится к экзаменам на аттестат зрелости для поступления в университет. Задача была непростой: Бердяев, интеллектуально развитый не по годам, никогда не отличался, тем не менее, особыми успехами в учебе, ему с трудом давалось «регулярное» образование, он умел отдаваться лишь тому, что занимало его ум, но оставаться совершенно неспособным к пассивной зубрежке и заучиванию того, что его не волновало. Особые трудности вызвало изучение латыни и древнегреческого, которые не входили в программу Кадетского корпуса. Поэтому к сдаче экзаменов экстерном он готовился не один год, а аттестат был получен им лишь со второй попытки. Большинство дисциплин он при этом смог сдать только на «три» (французский язык, сданный на «отлично», стал исключением), а средний балл аттестата у Николая получился лишь 3,5. Причем в это же время, как следствие пережитого нервного стресса, у Николая появился тик, не исчезнувший до конца жизни: его лицо передергивалось, голова отбрасывалась назад, рот непроизвольно раскрывался, язык вываливался, причем контролировать эти приступы Николай не мог. (Впрочем, все знавшие Бердяева отмечали его внешнюю привлекательность, а некоторые даже называли его красивым, – приобретенный тик не портил общего впечатления, когда знакомые Бердяева привыкали к этим непроизвольным судорогам. Говорят, именно поэтому Бердяев любил сигары: зажатые в углу рта, они делали тик не столь заметным.) Усилия Николая увенчались успехом: в 1894 году он поступил в Киевский университет имени св. Владимира, первоначально – на физико-математический факультет.
К этому времени уже сформировался серьезный интерес Бердяева к философии. Как он сам не раз подчеркивал и судя по воспоминаниям знавших его людей, мироощущение Бердяева было трагичным. Прежде всего, это выражалось в неприятии «неправды жизни», отталкивании от данности. Будучи уже пожилым человеком, Бердяев писал: «Мою любовь к метафизике, характерную для всего моего существования, можно объяснить моим коренным и изначальным отталкиванием от обыденности, от принуждающей меня эмпирической действительности. …Я всегда верил в освобождающий характер философского познания»[15]. В молодости увлечение философскими вопросами было связано и с попыткой нравственного объяснения и оправдания конечности человеческого бытия, недаром Артур Шопенгауэр, пессимистическими работами которого Николай очень увлекался в юности, писал: «Едва ли люди стали бы философствовать, если бы не было смерти». Как многие люди в юности, Николай попытался найти свой ответ на вопросы: зачем я живу? в чем смысл моего существования? Но на вопрос о смысле жизни не существует простого ответа. Можно дать ответ примитивный, поверхностный, как говорил Ницше – «усыпляющий», «чтобы не прийти в себя», но простого ответа нет. Бердяев очень рано почувствовал это, он понял, что поиски смысла уже осмысленны («искание смысла уже дает смысл жизни, и я посвящу свою жизнь этому исканию»), и связывал он эти поиски с философией. Особое воздействие на его духовное формирование оказали работы Канта и Шопенгауэра. Тем не менее, факультет Бердяев выбрал естественный, обоснованно считая, что профессиональная философия и философия как образ мысли и образ жизни – вещи совершенно разные. Да и не было в Киевском университете в это время философского факультета (хотя вся история университета начиналась именно с него): в 1850 году философский факультет был разделен на историко-филологический и физико-математический, и «чистой» философии в университете не осталось.
2. Студенчество: «революционный, марксистский мир»
Но, конечно, в каждой порядочной русской биографии должны быть таганки и бутырки. Ими кончался университет и начиналась общественная деятельность.
М. ОсоргинПервый университетский год Бердяева был связан с занятиями естествознанием. Математика и физика давались ему с трудом, голова была занята совсем другим – кантианством. Поэтому по окончании первого курса он перевелся на самый большой в то время юридический факультет, – там читал лекции Георгий Иванович Челпанов, тоже увлеченный философией Канта. Николай посещал лекции и семинары этого известного философа, оставившего след в истории русской культуры и своими сочинениями, и преподаванием в Киевском и Московском университетах, и созданием в 1912 году первого в России и третьего в мире Психологического института в Москве. По субботам на квартире Челпанова собирались молодые люди для того, чтобы поговорить о различных философских вопросах. Участником этих бесед стал и Николай. Бердяев еще встретится с Челпановым, но не как ученик с учителем, а как коллега с коллегой – в 20-х годах уже советского века в Московском университете.
В юношестве Бердяевым был написан философский этюд, от которого до нас дошло только название – «Мораль долга и мораль сердечного влечения». Интерес к морали, к этической проблематике, пробудившийся у Бердяева чрезвычайно рано, очень типичен для отечественной философии. Роза Люксембург когда-то обоснованно назвала русскую литературу «учительной и мучительной». Видимо, эту характеристику можно отнести и к философии. Русская философия – учительная и мучительная одновременно, для нее характерна нравственная точка отсчета во всех теориях и построениях. Для русских мыслителей философское творчество приобретает характер нравственной проповеди. Ярким примером тут могут быть сочинения столь любимого Бердяевым Льва Толстого, который не только свою философию строил, пытаясь дать теоретическое обоснование моральным нормам, но и фабулу своих художественных произведений ставил в зависимость от «воспитательной» функции искусства. Если Анна Каренина изменила мужу, то, с точки зрения Толстого, она просто не могла счастливо прожить жизнь! Конечно, такая трактовка сочинений Толстого – упрощение. Но проанализируйте судьбы героев его романов, и вы поймете, что в этом упрощении есть момент истины. Примеры можно было бы множить и множить. Очевидно, что для русских мыслителей, если они и не писали специальных сочинений по этике (что, кстати, бывало нечасто), нравственная точка отсчета была основной даже при построении картины мира или учения о познании. Если для западноевропейской философии характерно отношение к этике как к своеобразной «надстройке» над онтологией, теорией познания, философией истории, как к выводу из этих областей философского знания, то русскими мыслителями этика положена в самое основание систем, они видят в ней некий фундамент своего философствования. Этическим интересом отчасти можно объяснить и увлечение Николая марксизмом.
Именно в университете у молодого Бердяева проявился интерес к книгам Карла Маркса. Обращению к марксизму способствовало не покидавшее Бердяева чувство, что мир и общество основаны на зле и несправедливости; для него было характерно «страстное желание не только познать истину и смысл, но и изменить мир согласно истине и смыслу»[16]. Позднее С. А. Левицкий, представитель следующего за Бердяевым поколения философов русского зарубежья, писал, что зачатие русского религиозного ренессанса начала века было «греховным» – оно было тесно связано с влиянием на русскую мысль двух «антихристов»: Маркса и Ницше. Через увлечение марксизмом прошли многие известные представители религиозной мысли рубежа веков. Их остроумно окрестили «кающимися марксистами». К таким «кающимся марксистам» принадлежал и Бердяев. Преклонение перед Марксом-мыслителем, в оригинальности которого он не усомнился и в конце своей жизни («Карл Маркс был гениальный и острый мыслитель классического типа»[17], – писал Бердяев много лет спустя, в эмиграции), привело к вполне практическим последствиям: Бердяев стал марксистом не только в теории, он вступил в революционный студенческий кружок – Центральный кружок саморазвития учащихся, а затем и в Киевский Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Это было своеобразным разрывом Бердяева с привычной окружающей средой, аристократическим окружением, проявлением его бунта против несвободы внешнего мира. «…Выход из мира аристократического в мир революционный – основной факт моей биографии, не только внешней, но и внутренней»[18], – так оценил он это событие в своей жизни. Отец Бердяева, узнав об увлечении сына, иначе отнесся к происходящему: он иронично заметил, что Николай – «барин-сибарит» еще бо́льший, чем он сам, потому не поверил в серьезность революционных устремлений Бердяева. Как показали дальнейшие события, Александр Михайлович недооценил решительности сына.
Марксистское «крещение» произошло под влиянием Давида Логвинского, с которым Бердяев сблизился на первом курсе университета, еще занимаясь естественными науками. «Это был единственный человек, с которым у меня установились дружеские отношения. Он был умственно очень одарен, многими головами выше других студентов. С ним возможно было общение на довольно высоком уровне»[19], – вспоминал позднее Бердяев. Логвинский входил в социал-демократический кружок, участвовал в работе нелегальной типографии. В конце концов, Давид Яковлевич Логвинский был арестован и после длительного тюремного заключения сослан в Сибирь, где умер от туберкулеза. По просьбе Николая родители Бердяева пытались хлопотать об облегчении участи друга их сына через своих высокопоставленных знакомых, но это не помогло. Именно благодаря Логвинскому Николай вошел в марксистский кружок. Там он познакомился, например, с Анатолием Луначарским. Будущий первый нарком просвещения советской республики в то время учился не в университете, а в Киевской гимназии (в университет он поступил позже и не в Киеве, а в Цюрихе), но уже имел довольно солидный для его возраста (он был на год младше Бердяева) революционный «стаж»: с 1892 года Луначарский состоял в нелегальной организации. К этому же периоду относились и другие марксистские знакомства Бердяева. Революционная романтика наполнила дни Николая смыслом и осязаемой целью.
Впрочем, ортодоксальным марксистом Бердяев не был никогда. Он достаточно рано почувствовал, что и теоретический марксизм, и – тем более – революционная марксистская практика ограничивают свободу личности, стирают ее индивидуальность. Не приняв казарменного коллективизма и кадетского конформизма, «барин-сибарит» не принял и идейной группировки, «подбора по вере», жесткой партийной дисциплины, характерных для среды революционной интеллигенции, так как считал это посягательством на независимость мысли и творчества. Не случайно Николай интересовался народничеством как некоторой революционной альтернативой марксизму, в частности, читал книги Н. Я. Михайловского, – но позиция Михайловского, привлекавшая Бердяева утверждением примата личности над обществом, тем не менее, казалось ему слабой в теоретическом, философском плане. Сам Бердяев в своем формировании прошел через немецкую философию (прежде всего, через Канта), и ему гораздо ближе было философское обоснование марксизма (выросшего, как известно, из немецкой философской традиции), чем народничества, опиравшегося на позитивизм. «В марксизме меня более всего пленил историософический размах, широта мировых перспектив»[20], – отмечал Бердяев позднее, то есть – та самая революционная романтика. Вот так получилось, что, будучи ярким индивидуалистом как в своих взглядах, так и в повседневной жизни, Бердяев все же примкнул к марксистскому движению.
Николай стал относительно известен в марксистской среде. Он выступал с докладами, читал лекции членам Киевского социал-демократического комитета, участвовал в написании листовок, привозил в сундуке с двойным дном из-за границы запрещенную литературу, распространял напечатанные на подпольном гектографе статьи. Его первая статья «А. Ф. Ланге и критическая философия в их отношении к социализму» появилась в 1899 году в немецком марксистском журнале «Neue Zeit» («Новое время»), причем после статьи возникла переписка с Карлом Каутским, заинтересовавшимся молодым автором. Марксизм соответствовал нравственным исканиям молодого Бердяева. «Хлеб для меня – материальный вопрос, хлеб для другого – духовный вопрос», – известный бердяевский афоризм хорошо объясняет его увлечение революционными идеями.
Осознание неправильного устройства мира вызвало в нем желание этот мир изменить. Критическая сторона марксизма, его «отрицательная правда» привлекали тогда, да и сегодня, многих: диагноз буржуазному обществу был поставлен Марксом гениально. Сложнее обстояло дело с позитивной программой, «положительной правдой» марксизма. С одной стороны, Бердяев был всегда социалистом по своим воззрениям: он считал несправедливым общество, основанное на частной собственности и эксплуатации. С другой стороны, марксистский вариант социализма, путь к которому лежал через диктатуру и насилие, через уравнительность и коллективизм, его не устраивал. С самого начала Бердяев восхищался Марксом как гениальным мыслителем, но подвергал его теорию достаточно смелым интерпретациям, недаром свою позицию он относил к «критическому марксизму».
Популярность марксизма была велика. Связано это было, прежде всего, с теми процессами, которые происходили в русском обществе. Начало занятий Бердяева в университете совпало с коронованием последнего русского царя Николая II. Его отец, Александр III, был консервативно настроен, но сделал для России чрезвычайно много: при нем начали строить железную дорогу через Сибирь – Великий сибирский путь, который нашим современникам более известен как Транссибирская магистраль, усилились российские армия и флот, была начата реформа образования, царь издал законы о взаимоотношениях рабочих и фабрикантов – владельцы фабрик и заводов по суду должны были отвечать за задержку зарплаты рабочим, ограничивались размеры штрафов, а штрафной капитал можно было использовать только на нужды самих рабочих и т. д. Царствование Александра III нельзя назвать безоблачным, но оно стало одним из самых спокойных. Впрочем, покушение на жизнь и этого царя готовилось террористической фракцией партии «Народная воля» (членом которой был старший брат Ленина) и чуть было не осуществилось в 1887 году.
При Николае II ситуация изменилась. Хотя им был принят прогрессивный для того времени закон о максимальной продолжительности дня (11 с половиной часов), были введены обязательные выходные – воскресенье и 14 праздничных дней в году, но в воздухе отчетливо ощущалось недовольство общества. Николай и его министр финансов – граф Сергей Юльевич Витте – провели реформы, которые вызывали у современников самые разные оценки. Витте, ставший министром незадолго до смерти Александра III, был человеком талантливым, энергичным, но и чрезвычайно честолюбивым, одни называли «великим реформатором» и «русским Бисмарком», но многие оценивали его и негативно, называя «министром-клоуном». А прочнее всего к нему прилипло прозвище «Граф Полусахалинский»: Витте получил титул графа за то, что возглавлял русскую делегацию при заключении Портсмутского договора после проигранной войны 1905 года с Японией, по которому Россия потеряла почти половину Сахалина, – южная часть острова стала японской. Его деятельность до сих пор вызывает споры среди экономистов и историков. Кто-то реформами Витте восхищается, кто-то – резко критикует. С одной стороны, Витте считается «отцом» первой российской индустриализации, с другой – индустриализация эта была половинчатой и проводилась «сверху». Главным же предметом споров является денежная реформа 1897 года по введению в оборот золотого рубля. Витте был, говоря современным языком, «монетаристом». Многие из живущих в сегодняшней России помнят ситуацию, когда после долгих «деревянных» советских десятилетий рубль стал конвертируемым. Помнят и экономические последствия этого, – как положительные, так и отрицательные. Похожие процессы происходили и на рубеже 19 и 20 веков. С одной стороны, обеспеченная золотом валюта, разумеется, способствовала устойчивости рубля (российский рубль стал тогда одной из самых твердых мировых валют), притоку в страну иностранных капиталов, инвестициям в экономику. С другой – капитал не только ввозился, но вывозился, положение отечественных производителей было ослаблено (предшественник Витте на посту министра, И. А. Вышнеградский, был сторонником «покровительственной» политики по отношению к российскому производителю, но при Николае II таможенное налогообложение было соответственным образом изменено), внешний долг России вырос, а индустриализация проводилась, главным образом, за счет государственной казны. Некоторым объективным результатом реформ стал, с одной стороны, индустриальный рост страны, а с другой – экономический кризис и поражение России в войне против Японии, завершившиеся затем революционными событиями в стране.
На рубеже двух веков Россия бурлила. Деревня, несмотря на нищету и малоземелье крестьян, анахроничную трехпольную систему земледелия, общину с ее переделами и чересполосицей, тормозившими модернизацию крестьянского хозяйства, была относительно инертной (хотя буквально через несколько лет забурлит и российская деревня). В городах же зрело недовольство. Положение рабочих было незавидным: зарплаты оставались мизерными (например, на Морозовских текстильных фабриках платили около 20 рублей), а условия труда тяжелыми. Новая техника внедрялась в производство чрезвычайно медленно: чем покупать новый станок, хозяину было проще нанять еще рабочих из-за дешевизны рабочей силы. В то же время, специфика развития страны заключалась в том, что проводимая правительством индустриализация и особенности российского капитализма способствовали концентрации рабочей силы на крупных промышленных предприятиях. Это, в свою очередь, стало важным фактором для пробуждения классового сознания рабочих, начавших вести борьбу за улучшение своего тяжелого экономического положения и рано ставших выдвигать не только экономические, но и политические требования. Характерным явлением того времени стали стачки рабочих. Например, в 1895 году было зафиксировано 274 стачки, в которых участвовало более 61 тыс. рабочих[21]. В исторических архивах сохранились многочисленные свидетельства активности рабочих, их сплоченности: докладная записка рабочих Шемахинского завода министру земледелия и государственных имуществ о необходимости наделения неработающих на заводе мастеровых землей, прошения рабочих Нижнее-Исетского завода о нарушении управляющими условий найма, жалобы мастеровых Нязепетровского завода на притеснения со стороны заводоуправления, прошение мастеровых Нижне-Уфалейского завода об облегчении их тяжелого положения, вызванного недостатком работ и притеснениями заводоуправления, – перечень можно продолжать чрезвычайно долго. В результате, в 90-х годах и в начале 900-х годов Россия пережила мощный подъем рабочего движения. Для распространения марксизма в стране сложились объективные условия. Марксистские кружки и организации появлялись в российских городах как грибы после дождя. Неудивительно, что многие мыслители, писатели, ученые того времени пережили увлечение марксизмом. Не стал исключением и Николай Бердяев.
В 1897 году Бердяев был арестован на несколько дней как участник большой студенческой демонстрации. Демонстрацию окружили казаки, но стрельбы не было. Арестованы были практически все и сидели вместе в арестантских ротах. Через год, в ночь на 12 марта 1898 года, – Николай арестован во второй раз за организацию беспорядков. В квартире Бердяевых произвели обыск, изъяли нелегальную литературу. В этот раз Бердяев провел месяц в Лукьяновской тюрьме, находившейся на окраине Киева. Городские остряки называли ее Романовской дачей. Николай пережил в тюрьме настоящий духовный подъем и воодушевление, испытал редкое для него (как крайне индивидуалистически настроенного человека) чувство единения с другими арестантами, – их заключение представлялось ему в романтическом свете «общего дела». Справедливости ради надо сказать, что заключение не было тяжелым. Сначала Бердяева держали в большой камере, где арестованные (и, конечно же, Николай) выступали друг перед другом с докладами, а во время прогулок в тюремном дворе устраивались настоящие собрания и обсуждения самых разных вопросов. Затем Бердяева перевели в одиночную камеру, но это отнюдь не означало ухудшения условий его содержания, скорее, наоборот: дверь камеры держали открытой, и он мог ходить по коридорам и общаться со знакомыми даже на других этажах тюрьмы. В конце концов, вольному режиму пришел конец, Николая поместили в настоящую одиночку, сделав невозможным общение с товарищами. Впрочем, здесь тоже были свои положительные моменты: он мог читать. Но и такое заключение не было долгим, – из тюрьмы его смогли «выхлопотать» родственники, заплатив залог в пять тысяч рублей. Немалые деньги в то время.
Дело было громким, получившим всероссийский резонанс. В Лукьяновскую тюрьму приехал сам киевский генерал-губернатор Михаил Иванович Драгомиров. Он произнес целую речь перед арестованными, завершив ее словами о том, что, как ребенок не может родиться раньше, чем на девятом месяце, так и общество не может измениться раньше, чем созреют объективные предпосылки для этого. Мысль, не противоречащая марксистскому учению! По Марксу, история закономерна, общественные отношения соответствуют определенной ступени развития производительных сил, и смена типов общества – общественно-экономических формаций – не может произойти раньше, чем позволят экономические факторы: производительные силы общества должны развиться до такого уровня, чтобы существующие производственные отношения стали для них тормозом, сдерживающим моментом. Недаром марксистов называли в Европе «партией лунного затмения»: согласно их теоретическим выкладкам, получалось, что возможность перехода к следующему типу общественного устройства зависит не от желания людей, а от объективных причин, независимых от устремлений политических деятелей и партий. Неудивительно, что Драгомиров указал арестантам на слабое место в их взглядах: генерал-адъютант был интеллигентным человеком, в недавнем прошлом – профессором военной истории Академии генерального штаба (и начальником оной), автором обстоятельных «Очерков австро-прусской войны». Кстати, родители Бердяева были с Драгомировым в довольно близких отношениях.
Разбирательство тянулось почти два года, – ведь арестовано по этому делу было около 150 человек! Все это время Бердяев жил дома, но состоял под надзором полиции и по правилам не мог покидать Киев. Впрочем, когда он решил съездить в Петербург, ему удалось получить разрешение на короткую поездку в столицу. Из университета его исключили. Университетское образование оборвалось навсегда. Будущий профессор Московского университета, доктор теологии Honoris causa Кембриджского университета, мыслитель с прижизненной мировой известностью, никогда не имел обычного университетского диплома.
После выхода из тюрьмы Бердяев познакомился с Шестовым. Замечательный религиозный философ, известный не только в России, но и в мире мыслитель Лев Исаакиевич Шестов (Иегуда Лейб Шварцман) (1866-1938) тоже был киевлянином. Познакомились они так: 26-летний Бердяев и 34-летний Шестов встречали новый 1900 год в общей компании. Шестов, выпив лишнего, стал задирать и дразнить Бердяева. Когда хмель прошел, Шестов, сообразив, что Бердяев может быть обижен (так и было!), извинился и пригласил его к себе в гости в знак примирения. Бердяев пришел. Так началась эта дружба, продлившаяся без малого 40 лет, до самой смерти Шестова. В гостеприимном доме Шварцманов в Киеве (отец Шестова был богатым текстильным коммерсантом) довольно часто собирались тогда представители как местной интеллигенции, так и приезжие столичные литераторы и артисты, – устраивались музыкальные вечера, «собеседования». Захаживал на них и Николай Бердяев. Дом Шварцманов был не похож на те дома, где Бердяеву приходилось бывать ранее. Отец нового друга, Исаак Моисеевич, был ортодоксальным иудеем, вся семья была глубоко верующей. С этим была связана и настоящая тайна Шестова: когда он находился на лечении в Италии, то познакомился там с Анной Березовской, изучавшей в Риме медицину. Знакомство закончилось браком, о котором отец Шестова не знал до конца своей жизни, – избранница его сына была православной, что было немыслимым нарушением традиций для старшего Шварцмана. Даже когда у Шестова родились две дочки, глава семейства Шварцманов не узнал о внучках!
Жена и дочь Шестова жили в Швейцарии, где Лев Исаакиевич проводил времени больше, чем в родном городе. Но за те несколько месяцев, что Шестов и Бердяев общались в Киеве в 1900 году, они стали интересны друг другу, и интерес этот никогда больше не угасал. Они много и страстно спорили (Шестов напишет позднее: «никогда мы не были согласны»), но именно в этих спорах оба пытались ответить на «последние» вопросы человека, поиск ответов на которые и делает его мыслящим существом. Философская иррационалистическая позиция Шестова, уже опубликовавшего в то время работы о Шекспире, Ницше, Толстом, не имела ничего общего с марксистским радикализмом. Однако именно разговоры и споры с ним, а не с товарищами по подпольному кружку, называл Бердяев «поисками истины».
Бердяев зачитывался Ницше и Ибсеном (сочинения которого были очень популярны у интеллигентов рубежа веков, его пьесы шли в российских театрах), символистами и Достоевским. Особенно было велико воздействие Ницше. Увлечение творчеством этого философа, писавшего «на 6000 фунтов над уровнем человека», носило характер поистине эпидемический в России того времени. Страстные работы, «написанные кровью» (только так и надо писать! – был убежден Ницше), стали широко известными, популярными и во всей Европе. Отчасти это было парадоксальным, – ведь Ницше был эстетом, аристократом духа, он никогда не писал для массового читателя и презрительно к нему относился. Судьба же его идей была совсем иной: тексты Ницше стали изучать в гимназиях Германии, в рюкзаках немецких юношей, отправлявшихся на фронты Первой мировой, рядом с Библией и «Фаустом» лежали его книжки. Из Ницше (не без помощи его сестры, Э. Ферстер-Ницше, объявившей себя духовной «душеприказчицей» покойного брата) пытались сделать идеолога германизма…
Бердяев читал Ницше и раньше, но под влиянием Шестова (который в это время написал уже работу, сопоставлявшую творчество Ницше с позицией Толстого, и писал следующую – о Ницше и Достоевском) произошло своеобразное «переоткрытие» им немецкого мыслителя: Бердяев попросил своего знакомого (В. В. Водовозова) прислать ему из Берлина 8-томное собрание сочинений Ницше на немецком языке, которое он буквально проштудировал. Тогда же он перевел с немецкого на русский эссе Людвига Штейна о Ницше. Бердяев, как и многие русские интеллигенты того времени, «пережил» и «переболел» Ницше (так он потом писал). Многие строки из заветного восьмитомника звучали в унисон его собственным размышлениям. Он рано понял, что оправдание собственному существованию можно найти только в мысли, осмысливании. Те, кто не задумывается над смыслом своего бытия, говорил и Ницше, не поднялись над уровнем животного мира: «Пока человек ищет в жизни счастья, он еще не возвысился над кругозором животного; вся разница в том, что он с большим сознанием хочет того, чего животное ищет в слепом стремлении». От таких людей принципиально отличаются философы. (Ницше здесь имел в виду, разумеется, не профессиональную принадлежность, а умение и желание мыслить, которое может быть свойственно и солдату, но быть не присуще университетскому профессору философии.) Так вот, для философа «самоусыпление» людей невыносимо, он хочет найти в текучей жизни безусловное, главное. Для этого он должен возвыситься над своим временем, встать, как писал Ницше, «на сверхисторическую точку зрения», чтобы видеть не временное, случайное, а то, что имеет истинную, вечную ценность. Бердяева тоже манила сверхисторическая точка зрения, – он всегда жил и мыслил в отталкивании от окружавшей его действительности, всегда стремился не к преходящему, но к вечному. Идеи Ницше воспринимались Бердяевым как призывы к свободе и творчеству, бросающие вызов патриархальным устоям российского общества. «Заратустра проповедует творчество, а не счастье, – писал позже, в 1916 году, Бердяев в «Смысле творчества», – он зовет к подъему на горы, а не к блаженству на равнине… Ницше почуял, как никто еще и никогда на протяжении всей истории, творческое призвание человека… Он проклял добрых и справедливых за то, что они ненавидят творящих»[22].
Ницше рассматривал жизнь как результат столкновения множества индивидуальных воль, конкурирующих друг с другом, сталкивающихся в борьбе. Эти воли проявляются как «воля к власти»: жизнь – борьба, а награда победителю в этой борьбе – власть. Выжить в борьбе – это значит осуществить свою волю к власти. Для Ницше воля к власти была критерием для оценки любого явления и события. «Что хорошо? – спрашивал Ницше. – Все, что повышает чувство власти, волю к власти, саму власть в человеке. Что дурно? Все, что происходит из слабости. Что счастье? Чувство нарастающей силы, власти, чувство, что преодолено новое препятствие… Пусть гибнут слабые и уродливые – такова первая заповедь нашего человеколюбия. Надо еще помогать им гибнуть. Что вреднее любого порока? Сострадать слабым и калекам». Как видите, из своей концепции воли к власти Ницше сделал радикальные выводы: мораль (особенно христианская), демократические идеи о равенстве, сострадание подрывают волю к власти, противоречат закону жизни, поэтому их надо отбросить. Человеческое общество всегда состояло и будет состоять из сильных и слабых, рабов и господ, никакого равенства быть не может. Бердяев встал перед дилеммой: согласиться с немецким бунтарем и признать вечность неравенства (это было так близко его индивидуалистической натуре!) или стоять на позиции марксизма, сделавшем равенство своим лозунгом. Процесс колебаний и критического переосмысления марксистской концепции был запущен…
Ницше стал автором концепции Ubermensch (сверхчеловека). Как из обезьяны когда-то появился человек, так из современного человека появится новая раса людей – «хищный зверь, великолепная, ищущая добычи и победы белокурая бестия». Сверхчеловек живет «по ту сторону добра и зла», то есть разрушает рамки общественной морали. Вы же не будете осуждать тигра за то, что он съел на обед косулю? Но так же не применимы обычные моральные нормы и к сверхчеловеку. Подлинной справедливости все равно нигде и никогда не было, более того, все попытки осуществить справедливость всегда были жестоки. Поэтому Ницше заявлял, что разумнее признать справедливость функцией силы: кто силен, тот и устанавливает свой закон жизни. (Именно эта концепция Ницше дала основание использовать потом его идеи для идеологического оправдания нацизма, хотя сам Ницше нигде и никогда не связывал появление сверхчеловека с какими-либо национальными признаками, а к родной ему германской культуре относился более чем критично.) Но часто забывают еще об одном моменте этого учения: сверхчеловека Ницше представлял себе как того, «кому мышление и духовное обновление доставляет удовольствие». Учение о сверхчеловеке приобрело многих последователей, среди которых был, например, писатель Джек Лондон, в своих знаменитых северных рассказах, романе «Маленькая хозяйка большого дома» и других произведениях рисовавший образы именно таких сильных «сверхчеловеков».
В России, стране «больной совести», именно этот аспект творчества Ницше – связанный с учением о сверхчеловеке – стал наиболее обсуждаемым. Ницшевское понятие Ubermensch вызвало целую полемику среди интеллектуалов. Лев Николаевич Толстой, например, увидел в учении о сверхчеловеке попытку замещения идеала нравственности идеалом красоты (и это было подвергнуто его гневной критике!), симптом приближающегося краха искусственной цивилизации, в которой мы живем. Владимир Сергеевич Соловьев усмотрел в ницшевской концепции опасность и «соблазн», но и прозрение истины: «вся ценность человека в том, что он больше чем человек, что он переход к чему-то другому, высшему»[23], к богочеловеческому. Совсем иначе – в позитивном ключе – прочитало Ницше следующее поколение русских мыслителей – символисты, деятели религиозного ренессанса. Кто только из крупных фигур рубежа веков ни писал о Ницше и его идеях, ни давал свое их «прочтение»! А. Белый и Вяч. Иванов, Д. С. Мережковский и Л. И. Шестов… Даже в марксистской среде была предпринята попытка проинтерпретировать сверхчеловека Ницше как «героя», ведущего за собой массы (А. Луначарский, М. Горький). Теоретик либерального народничества Н. К. Михайловский тоже увидел позитивный момент в учении Ницше о сверхчеловеке – в утверждении безусловной ценности волевой активности человека.
Надо сказать, что восприятие этой части учения германского мыслителя в нашей стране обладало некоторой спецификой: сверхчеловек воспринимался, в основном, не как антропологический тип (homo super-sapiens) и не в культурно-историческом плане (как совершеннейший человек), а как идеал творческого духа, как мистическая индивидуальность, символизирующая собой жизненную и творческую мощь[24]. Бердяев, попавший под обаяние стиля и идей германского гения, сверхчеловека Ницше тоже воспринимал не столько как разрушителя культуры и веры, имморалиста, сколько как носителя индивидуалистических ценностей духа, духовного аристократа. Надо отметить, что увлечение Ницше российскими философами было, как правило, выборочным. Бердяев тоже прошел мимо многих моментов ницшевской философии (языческих, например), но он расслышал трагическую ноту в построениях Ницше, почувствовал одиночество человеческой души в мире, где «Бог умер». Понятый так сверхчеловек совсем не соответствовал уравнительным настроениям марксистского окружения Бердяева.
Позднее, уже в эмиграции, Бердяев вспоминал, что «пережил период подъема и цветения, один из лучших в моей жизни»[25] в это время. Юношеское весеннее настроение, «опьянение мыслью», ощущение неисчерпанности творческих сил, популярность в своем кругу, влюбленность (в автобиографии Бердяев упомянул об «одной прекрасной женщине», но кто была эта прекрасная незнакомка, увы, неизвестно) – все это не могло не создавать определенного настроения. Но тогда же начался и внутренний кризис: в его душе происходила громадная работа, которая постепенно отдаляла его от марксизма.
В это время Бердяев пишет свою первую книгу «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском». Она выйдет в свет в Петербурге уже в 1901 году с большим предисловием Петра Бернгардовича Струве (1870-1944). Со Струве Бердяев познакомился будучи под следствием, во время своей краткой поездки в Петербург. Сын пермского губернатора, Струве, отдав дань увлечению славянофильством, стал западником, а затем увлекся марксизмом, был одним из лидеров социалистического движения. Аресты, ссылки, подпольная деятельность, участие во II Интернационале. Именно он написал к I съезду РСДРП «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии». Их многое объединяло с Бердяевым: дворянское происхождение, сильные семейные традиции (Струве был внуком известного астронома, основателя Пулковской обсерватории, в семье был своеобразный культ науки и интеллектуализма), первоначальный интерес к естествознанию, – Струве тоже поступил на естественный факультет Петербургского университета, а потом перевелся на юридический, искреннее увлечение марксизмом, проинтерпретированным с нравственной точки зрении, заметная роль в марксистском движении и постепенный отход от марксистских позиций. Струве, как и Бердяеву, импонировало, что марксизм противостоял традиционно широко представленным в отечественной литературе убеждениям о специфическом национальном характере и духе русского народа и его особенных исторических судьбах. Марксизм предложил предельный исторический схематизм – движение истории объяснялось как прогрессивная смена общественно-экономических формаций, и национальные особенности не могли изменить этой объективной, с точки зрения сторонников учения, логики развития. Сводя исторический процесс к смене экономических форм и рассматривая капитализм как неизбежную ступень этого развития, Струве утверждал, что эту фазу должна пережить и Россия. Одну из своих ранних работ Струве даже закончил призывом: «признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму!». Но прошло совсем немного времени, и размышления привели Струве к выводу, что в марксизме немало противоречий, что не все его положения теоретически и философски обоснованы. В результате, взгляды Струве эволюционировали: он не только отказался (и попытался это обосновать) от идеи о фатальной необходимости падения капитализма и перехода к социализму и коммунизму в силу «естественных» законов экономики, но и в философии начал двигаться к идеализму. Похожую духовную эволюцию от марксизма к идеализму переживал тогда и Бердяев, – это их сблизило.
Уже первая бердяевская книга содержала попытку осуществить своеобразный синтез марксистской философии (ее социальной критической части) и переработанной им немецкой классической философии (прежде всего, позиций Канта и Фихте), недаром его взгляды в данный период подчас называют «неокантианским марксизмом». Струве тоже увидел в книге попытку соединения социологических выводов марксизма с идеализмом в философии: «Важный шаг в деле критической перестройки марксизма на основе идеалистической философии делает книга Бердяева»[26]. Бердяев критиковал субъективный метод Михайловского в социологии, считая, что он явно проигрывает в споре с марксистской картиной общества, но он критически оценил и многие положения марксизма – прежде всего, те, которые принижали значение личности в истории общества. До того, как книга вышла в свет, Бердяев выступил с публичным докладом, где излагал ее основные идеи. Доклад был настолько хорошо принят слушателями, что они устроили выступавшему настоящую овацию (на теплый прием повлияло и то, что слушатели знали о высылке докладчика в ближайшем будущем).
Тональность книги была марксистской. Бердяев критиковал социологию Михайловского именно с марксистской точки зрения. Он даже защищал позицию, что классовая точка зрения (то есть точка зрения материалистического понимания истории – марксизма) не противоречит научности: истина, писал Бердяев, действительно, не может быть классовой – «она логически всегда возвышается над классами и одинаково обязательна для всех, но исторически, как известная теория, принимает классовый характер и может сделаться даже как бы монополией какого-нибудь класса. Вот почему мы смело можем сказать, что исторический материализм… логически обязателен для всякого разумного существа, но психологически доступен только одному классу»[27] – пролетариату. Вполне по-марксистски Бердяев признает в своей первой книге и наличие общественного прогресса в истории, направленного социального развития. В этом вопросе особенно ярко видно отличие взглядов молодого Бердяева от позиции зрелого мыслителя.
Вопрос о том, существует ли прогресс в человеческой истории насчитывает не один век дискуссий. Можно ли считать современное общество более передовым, чем, скажем, древнегреческое? В конечном счете, ответ на этот вопрос зависит от того, какие критерии прогресса мы предложим. Если таким критерием сделать, например, грамотность или среднюю продолжительность жизни, то, очевидно, что наше общество выиграет спор. Если же в качестве критерия мы возьмем гармонию с природой, мораль или, например, развитие искусств, – ответ будет не столь очевиден и прост. Многие философы и историки, сторонники идеи прогресса, старались найти некий общезначимый критерий, благодаря которому можно было бы бесспорно показать поступательное развитие человечества. В качестве таких критериев французские просветители XVIII века предлагали, например, развитие человеческого разума, не поясняя, впрочем, как это развитие можно измерить и оценить, а также – какой разум имеется в виду: при сопоставлении разумных способностей Аристотеля, например, с умственным потенциалом современного «человека толпы» вряд ли выиграет последний. Марксисты за основу предлагали брать объективный момент – рост производительных сил, но и этот критерий не бесспорен: переход к новой организации общества почти всегда сопровождался в истории частичным разрушением производительных сил. К примеру, при складывании средневекового уклада хозяйства новое общество долгое время отставало от античного по производительности труда, технике, но, согласно прогрессистской теории, средневековое общество было более передовым. Таким образом, марксистский подход опять не помогал решить задачу. Современные авторы иногда пишут о степени свободы человека как критерии прогресса, но и здесь есть свои «подводные камни»: как быть с переходом от первобытного строя к рабству? Прогрессивен ли был такой переход или нет? Да и современное общество – освобождает оно человека или закрепощает по сравнению с прошлыми веками? Над решением сложной задачи продолжают размышлять и сегодня, потому что априорная уверенность в том, что прогресс существует, закладывается в человеческие головы как нечто само собой разумеющееся.
Зрелый Бердяев совсем иначе посмотрел на проблему прогресса. Прогресс? Это когда настоящее всегда приносят в жертву будущему и история пишется с точки зрения превосходства последующего поколения над предшествующим? Когда все страдания, лишения, усилия прошлых поколений рассматриваются как удобрение, как средство для достижения в будущем совершенного идеального состояния человечества? Такая позиция была морально недопустима для Бердяева в конце жизни. Будущее не должно пожирать настоящее и прошедшее, человек не может быть средством для своего потомка, нельзя соединить безграничный оптимизм в отношении будущего с бесконечным пессимизмом в отношении прошлого. Да и доказательств у теорий прогресса нет никаких, одни нерешенные (и неразрешимые?) вопросы. Значит, теория прогресса ложна и безнравственна, – убеждал своих читателей Бердяев. «В истории нет прогресса счастья человеческого, – есть лишь трагическое, все большее и большее раскрытие внутренних начал бытия, раскрытие самых противоположных начал, как светлых, так и темных, как божественных, так и дьявольских, как начал добра, так и начал зла. В раскрытии этих противоречий и выявлении их и заключается величайший внутренний смысл исторической судьбы человечества»[28], – таков был вывод философа. Его взглядам была присуща апокалипсическая окраска: «апокалипсис есть не только откровение о конце мира, о страшном суде. Апокалипсис есть также откровение о всегдашней близости конца внутри самой истории, внутри исторического еще времени, о суде над историей внутри самой истории, обличение неудачи истории. В нашем греховном, злом мире оказывается невозможным непрерывное, поступательное развитие. В нем всегда накопляется много зла, много ядов, в нем всегда происходят и процессы разложения»[29].
25-летний Бердяев-марксист видел проблему совсем иначе. «Все наше мировоззрение покоится на одной идее, – на идее прогресса»[30], – уверенно писал он. Но здесь же появились и принципиальные расхождения молодого Бердяева с догматическим марксизмом. Для ортодоксов марксистского учения очевидно, что даже нравственные оценки можно давать только с классовой точки зрения. Бердяев, для которого само участие в революционном движении имело личное нравственное обоснование, обладал в этом вопросе особой чуткостью. «Один общественный идеал выше и нравственно предпочтительнее другого, потому что за него стоит исторический процесс, потому что он прогрессивнее, он приспособленнее к требованиям социального развития; нравственность одного класса лучше и справедливее нравственности другого, потому что она жизнеспособнее, потому что ей принадлежит будущее», – излагал он марксистский подход, но соглашался с ним лишь отчасти: «все это совершенно верно и заслуги исторического материализма в этом отношении неоценимы…. Из представленной нами аргументации узнано, что данный идеал, например, идеал демократический, не только субъективно-желателен, но также объективно-необходим, что социальное развитие неизбежно приведет к его торжеству. Мне, конечно, очень важно это знать, но от этого нисколько не увеличивается этическая ценность моего идеала. Отсюда еще не следует, что он лучше, справедливее, нравственнее всякого другого идеала»[31]. Он рассматривает такой гипотетический случай: представим, что логика социального развития ведет к отвратительным для меня результатам, например, к новым, более утонченным формам эксплуатации. Согласиться с этим я не могу, даже понимая, что за этим идеалом – будущее и борьба моя против него обречена на поражение. Получается, что объективная необходимость, даже зафиксированная наукой, не может придавать бесспорной нравственной ценности всему, что ей соответствует.
Еще сильнее отличие бердяевской позиции от ортодоксального марксизма ощущалось в философских вопросах. Он попытался дать обоснование активности человека в истории, опираясь на кантовский категорический императив. Позднее он сам характеризовал свою позицию как «этизацию» марксизма. Бердяев показывал, что различие между худшим и лучшим, нравственным и безнравственным изначально, a priori дано человеческому сознанию (то есть нравственное чувство врождено человеку), поэтому люди вносят в исторический процесс идею цели и оценивают историческое движение с этих позиций – как прогресс или регресс. Он доказывал в книге, что, хотя социальный процесс закономерен и в этом смысле непреодолим, в саму эту закономерность входит активность человека, его волевые устремления. «Социальное развитие проникнуто принципом социально-психической, а не материально-механической причинности»[32], – замечал Бердяев, и это уже звучало не совсем по-марксистски. Человек для него выступал самоцелью, он пытался сочетать социальные выводы с философским идеалистическим их обоснованием: «этический идеализм» сочетался с революционно-демократическими положениями.
Сама манера ведения теоретической дискуссии в книге все еще была марксистской. Конечно, в отличие от Ленина, Бердяев не опускался до уничижительных характеристик своего оппонента и обосновывал свое несогласие с ним в тех или иных пунктах. Тем не менее, вынесение оценок «свысока» – с позиций единственно возможной объективной истины, совпадающей с интересами прогресса, с интересами пролетариата, отнесение других позиций к прошлому этапу общественной мысли, когда эта истина была недоступна, столь характерные для работ марксистов того времени, буквально сквозит в строках книги. Он признавал значение работ Михайловского для пробуждения сознания, но рассматривал их как пройденный этап. Михайловский, которому тогда не было и шестидесяти, на эту манеру обиделся и ответил: «Изо всех видов смерти самым ужасным всегда казалось мне быть заживо погребенным, умереть в гробу, в заколоченном гвоздями гробу, под толстым слоем земли, и я часто просил своих друзей каким-нибудь, хотя бы самым жестоким способом убедиться, что я действительно умер. A! Все мы там будем, в заколоченном гвоздями гробу, под толстым слоем земли, но почувствовать себя заживо погребенным и хотя бы самое короткое время тщетно биться и задыхаться, и ни для кого не слышно кричать, и с отчаянием и злобою кусать себе руки и рвать ногтями лицо – какой ужас! В такую страшную минуту не утешишься лестною мыслью о былой роли превосходного будильника мысли или предтечи таких умов, как г. Бердяев, г. Струве и другие… А г. Бердяев предоставляет мне нечто в этом роде. Правда, он полагает, что мои писания «действуют и до сих пор возбуждающим образом на мысль», но вместе с тем заживо заколачивает меня в гроб, покрытый позолотой и блестящим покровом «исторического значения». Хороша эта позолота, роскошен этот покров, завидна вся эта помпа исторического значения, гарантирующая человеку «вечную память»… когда человек действительно умер; но я согласен и на гораздо более бедные похороны… когда действительно умру. Г. Бердяев говорит обо мне в разных местах своей книги как о человеке, который не способен или не может понять то-то или то-то не по недостатку умственных способностей (их он за, мной в известной мере признает), а просто потому, что он покойник, труп, равно свободный и от понимания, и от непонимания»[33]. Надо сказать, что когда Михайловский действительно умер, Бердяев откликнулся на его смерть статьей, в которой связал с его именем и работами «целую эпоху в истории нашей интеллигенции»: думаю, в статье была признательность человека, который испытал на себе влияние идей Михайловского и, возможно, раскаивался в некоторых оценках и фразах из своей ранней книги, которые обидели заслуженного человека. Впрочем, в 1900 году Бердяев еще не видел в своей книге ничего обидного для Михайловского, в письме к отцу он писал: «Мне кажется, что моя критика Михайловского очень объективна, беспристрастна и корректна по тону»[34].
Позднее, уже в 1907 году, Лев Шестов справедливо отмечал, что, несмотря на критику взглядов Михайловского, бердяевская позиция в чем-то близка и родственна позиции мэтра либерального народничества: «Михайловский не знал немецкой философии и смешивал трансцендентное с трансцендентальным. Михайловский не любил метафизики. Это, конечно, так. Но ведь это, право, дело вкуса… И, пожалуй, слова «мы переросли его» менее всего подходят»[35]. И Михайловского, и Бердяева роднил поиск не просто истины, а правды, стремление к изменению мира, понимание идеала не как отвлеченной конструкции, а как плана действий. В этом смысле, работы Михайловского были для Бердяева отправной точкой для формулирования собственной политической позиции.
Книга Бердяева была замечена, о ней говорили, ее обсуждали. Ленину, прочитавшему ее, она чрезвычайно не понравилась. По сути, Бердяев предпринял попытку реформирования марксизма. С самого начала он чувствовал всю недостаточность материализма как философской системы, для него было очевидно теоретическое превосходство Канта и Гегеля над Фейербахом и Энгельсом и, начав с поисков для социального учения Маркса иной философской основы, он постепенно отошел от марксизма, хотя и сохранил сочувствие к марксистской социальной программе. Книга была своеобразной критикой марксизма в кантовском духе: добро, истина, красота не зависят ни от каких социальных условий, они априорны, не определяются практикой, а являются достоянием этического сознания. В то же время, Бердяев попытался обосновать идею исторического предназначения пролетариата и неизбежности социализма, опираясь именно на этические ценности. В этом смысле, данная работа Бердяева стала «памятником переходного периода»[36]. Правда, к моменту выхода книги в свет Бердяев уже начал догадываться о невозможности «исправления» марксизма, вылитого, как совершенно верно сказал Ленин, «из одного куска стали», – ни прибавить, ни убавить.
К моменту, когда книга была закончена, разбирательство дела социал-демократического комитета было завершено. Жандармский генерал сказал Бердяеву, что из изъятых при обыске бумаг следует, что юноша стремился к низвержению государства, церкви, собственности и семьи. По Высочайшему повелению Бердяев был выслан на три года в ссылку под гласный надзор полиции – в Вологодскую губернию, которую тогда часто называли «подстоличной Сибирью». Туда же было сослано большинство социал-демократов, арестованных вместе с Бердяевым. Впрочем, некоторые из них попали и в настоящую Сибирь.
3. Ссылка: «мир освобожденной индивидуальности»
Кто смолоду не был социалистом, в старости будет мерзавцем.
Ж. Клемансо«Один из старых северных русских городов, где все уже по-русскому: и речь русская старого уклада, и собор златоверхий белокаменный, и тротуары деревянные, и, хотя ты тресни, толку нигде никакого не добиться»[37], – описывал Вологду А. М. Ремизов. Небольшой городок, ровесник Москвы, славящийся своими кружевами, маслом и кремлем XVI века стал достаточно типичным местом ссылки. Кого туда только ни ссылали! Вологда даже дважды была местом ссылки Сталина. Всего там побывало около 10 тысяч ссыльных (не считая транзитных этапов на Север) до революции 1917 года, и в количественном отношении Вологодская губерния уступала только Сибири. К началу 1901 года количество ссыльных в губернии достигло 3000 человек, значительная их часть оседала в городах: в самой Вологде их было 170, в Великом Устюге и того больше – 237[38]. Ссылалась, как правило, политически неблагонадежная интеллигенция, «концентрация» которой была чрезвычайно велика для провинциального тихого городка.
Можно было бы ожидать, что в окружении других ссыльных революционеров марксизм Бердяева окрепнет. Этого не произошло. Наоборот, именно в ссылке произошел его отход от марксистского движения. Возможно, это даже было неизбежно для такого индивидуалиста, как Бердяев: ссыльные жили замкнутой группой, вопросы поведения в тех или иных ситуациях решали, как правило, сообща, – дисциплина среди них была вполне «партийная». В этой связи характерен забавный эпизод, связанный с приездом Бердяева в Вологду. Среди ссыльных возник спор о том, надо ли подавать руку при встрече полицмейстеру. Вопрос этот хотели решить коллективно, чтобы держаться общей для всех линии поведения. Бердяев, которому сам предмет спора показался довольно глупым, настоял, тем не менее, на том, что манера здороваться – это сугубо личное дело и никаким общим предписаниям он следовать не будет. Дело было не в том, что Бердяеву очень хотелось или, наоборот, не хотелось пожать руку полицмейстеру, просто он считал себя свободной личностью, не нуждающейся в опеке коллектива и способной принимать решения самостоятельно. Для российских же революционеров того времени (а возможно, – всех времен и народов) была характерна буквально военная дисциплина, за что Бердяев не раз обвинял их в «авторитарности».
9 мая 1900 года Бердяев и еще одна ссыльная семья – Павел Лукич и Вера Григорьевна Тучапские (оба были членами Киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса») – прибыли на бревенчатый вологодский вокзал. Вначале Бердяев остановился в гостинице «Золотой якорь» – лучшей в городе. Четырехэтажная гостиница сохранилась в Вологде до нашего времени, хотя сегодня отсутствие в номерах душа и туалета («удобства на этаже») вряд ли компенсируются для постояльцев исторической атмосферой. Гостиничная жизнь была по карману отнюдь не всем ссыльным, но Бердяев мог ее себе позволить. В письмах родителям он, успокаивая их, описывал свой быт, хвалил гостиничную кухню, просил прислать ему некоторые книги из домашней библиотеки. Книги ему прислали, а также и любимое кресло, чтобы Николаю было удобнее работать. Сын писал о том, что ведет спокойную, размеренную жизнь, зарабатывает переводами, пишет статьи. В одном из его писем отцу есть удивительное для современного читателя место. Уговаривая родителей не беспокоиться о нем, Николай писал: «Нервно и физически чувствую себя хорошо, так как веду очень правильный образ жизни, очень спокойный, вытираюсь каждое утро свежей водой и принимаю мышьяк»[39]. Сегодня мышьяк воспринимается, прежде всего, как токсичное вещество, он фигурирует во множестве детективных романов как орудие преступления, с ним работают только с соблюдением правил предосторожности. А в то время малые дозы этого яда часто использовали для лечения малокровия. Видимо, именно поэтому принимал мышьяк и Бердяев. Сто с лишним лет спустя трудно сказать, как это повлияло на его здоровье, но вряд ли попадание мышьяка в организм способствовало его укреплению…
Несмотря на частые успокаивающие письма, родители все рано волновались: Александр Михайлович не выдержал и приехал на несколько дней в Вологду, чтобы своими глазами увидеть новую жизнь сына. Хотя увиденное успокоило его, хлопотать о переводе сына на юг родители все же не перестали. Их старания не были напрасными: благодаря заступничеству своего крестного отца, светлейшего князя Н. П. Лопухина-Демидова, ссыльный Бердяев спустя уже пару месяцев получил разрешение перебраться в какой-либо неуниверситетский город на юге России по своему выбору. Николай отказался от заманчивого предложения: он считал для себя морально недопустимым пользоваться преимуществами своего происхождения и связями, которых не было у других ссыльных. К тому же, как он вспоминал позднее, ему даже понравилась Вологда. Были, видимо, у 26-летнего Николая и другие причины, на которые он намекал в письме отцу: «у меня есть своя личная жизнь и могут быть чисто личные основания, по которым я хочу быть теперь в Вологде, это может быть необходимо для моего личного счастья»[40].
Некоторое время спустя Бердяев переехал в дом Гусевой на улице Калашной (переименованной сейчас в улицу Гоголя). Это был красивый особняк с резными балконами на фасаде, к сожалению, сгоревший в 1993 году (хотя и имел статус памятника архитектуры республиканского значения). Его дом вскоре стал своеобразным культурным центром для других ссыльных. Большинство ссыльных довольствовались дешевыми съемными комнатами, поэтому комфортное и просторное жилье Николая, которое выгодно отличалось от их обиталищ, представлялось более удобным для совместных встреч. Вологодским губернатором был в то время дальний родственник Бердяева, что отчасти ставило его в привилегированное положение, хотя сам Бердяев не хотел пользоваться какими-либо льготами по сравнению с другими ссыльными. Те не менее, иногда это происходило даже помимо его воли. Широко известен случай, о котором вспоминал и сам Бердяев в своей автобиографии: однажды он побил палкой чиновника Губернского правления за то, что тот попробовал завести уличное знакомство с его приятельницей, причем Бердяев кричал ему при этом: «Завтра вы будете уволены!» Сам Бердяев приводил потом этот случай как комическую иллюстрацию того, как в нем может взыграть кавалергардская кровь аристократических предков. Но наказания за такой вопиющий проступок не последовало, – думаю, сказались связи бердяевской семьи с генерал-губернатором.
В ссылке Бердяев купил велосипед и часто совершал на нем прогулки – к Спасо-Прилуцкому монастырю или в деревню Фрязиново, летом катался на лодке, ловил рыбу. Он любил читать книги в городском саду, стал завсегдатаем публичной городской библиотеки, не избегал женского общества. Сам он позднее писал, что «был особенно дружен с ссыльной В. Д., очень умной и образованной женщиной, настоящим философом»[41]. За этими инициалами скрывалась Вера Дениш, народница, член организации «Народное право», которая попала в Вологду уже после ссылки в Сольвычегодске и Великом Устюге. Но главным содержанием вологодского времени для Бердяева стали, конечно, не велосипедные прогулки, а выработка нового философского миросозерцания.
Именно во время вологодской ссылки первая книга Бердяева увидела свет. Вышла и его статья «Борьба за идеализм» в журнале «Мир Божий». Эти работы вызвали немало споров среди кружка вологодских ссыльных. Бердяев показывал в них, что само по себе экономическое развитие не может привести к созданию того идеала, который наполняет человеческую жизнь смыслом. Он использовал в статье аллегорический образ башни из драмы любимого им Ибсена «Строитель Сольнес»: человеческий мир возможен лишь при наличии великой идеи построения жилищ с высокой башней наверху. Чтобы преодолеть «роковую раздвоенность» между абсолютной ценностью человеческой личности и относительной исторической обстановкой надо, по его мнению, сознательно соединить «теоретически обоснованный идеализм» с «прогрессивными социальными стремлениями»[42].
Николай Александрович несколько раз выступал перед своими товарищами «с рефератами». Среди ссыльных были обычны горячие дискуссии на философские, социологические и литературные темы, обсуждения и диспуты. «В 1900 году в Вологду хлынула большая волна ссыльных, – можно прочесть в воспоминаниях коренного вологжанина и марксиста И. Е. Ермолаева. – Началась эпоха докладов или, как это тогда чаще называлось, рефератов… Публика собиралась на эти доклады по 50-60 человек».[43] В Вологде в это время отбывали срок своей ссылки многие яркие и известные люди: А. А. Богданов – философ, экономист и врач, изобретатель «тектологии», организовавший позднее, в 1926 году, первый Институт переливания крови и погибший, проводя на себе опыт; упоминавшийся уже А. В. Луначарский; известный в будущем эсер-террорист и писатель, автор ненаписанного еще тогда «Коня бледного» Б. В. Савинков; философ, социолог и правовед Б. А. Кистяковский, приехавший в Вологду вместе с женой; писатель А. М. Ремизов, имевший в то время репутацию «наследника Ф. М. Достоевского», и – о чем сегодня мало кто помнит – активный революционер, проведший в ссылках около 6 лет своей жизни; известный в будущем советский историк и пушкинист П. Е. Щеголев; писатель и член боевой организации эсеров И. П. Каляев и другие ссыльнопоселенцы. В своих мемуарах Ремизов писал: «Все книги, выходившие в России, в первую голову посылались в Вологду, и не в книжный магазин Тарутина, а к тому же Щеголеву. И было известно все, что творится на белом свете: из Арзамаса писал Горький, из Полтавы – Короленко, из Петербурга – Д. В. Философов, он высылал «Мир искусства», А. А. Шахматов, П. Б. Струве, Д. Е. Жуковский и из Москвы – В. Я. Брюсов, Ю. К. Балтрушайтис и Леонид Андреев. Между Парижем, Цюрихом, Женевой и Вологдой был подлинно «прямой провод»[44]. Щеголев, например, который работал тогда над биографией Гоголя, нуждался в постоянном доступе к архивным документам, что было проблемой (ему нельзя было покидать Вологду). Говорят, друзья присылали ему копии архивных документов целыми тюками и ящиками, за что Щеголев заслужил прозвище «Архивный Фонд». В Вологде ссыльные устраивали не только обсуждения теоретических рефератов, но литературные и музыкальные вечера, лекции, – интеллектуальная жизнь кипела! Это дало основание А. М. Ремизову назвать Вологду «Северными Афинами». Название прижилось, оно обыгрывалось ссыльными в повседневной жизни: например, городские Веденеевские бани назывались античными термами, простыни, обернутые вокруг тел парильщиков, выполняли роль хитонов, а в перерывах между заходами в парилку велись литературно-философские дебаты. После бани обычно шли на берег реки, – там совершалось «торжественное омовение». Причем в холодную погоду купались только самые смелые – Павел Щеголев, который обладал богатырским телосложением и занимался спортом, и болезненный Николай Бердяев.
Среди ссыльных существовало и «тайное» литературно-философское общество, организованное Ремизовым. Оно было продолжением того общества, которое Алексей Михайлович организовал до Вологды в своей пензенской ссылке. В Вологде он преобразовал общество в «Ассоциацию», название которой скрывалось за неразгаданной современными исследователями аббревиатурой – С. С. А. Ассоциация эта носила шутливый характер. Например, ею выдавались «подорожия»: накануне отъезда те, чей срок ссылки истекал, устраивали прощальный вечер. Для этого вечера Ремизов заготавливал каждому напутствие, своеобразный «некролог» – «подорожие», который имел вид старинного свитка и писался с закорючками и завитушками, сопровождался рисунками и карикатурами (Ремизов прекрасно рисовал). Зачитывал свитки обычно Щеголев, обладавший артистическим даром. Позднее, в 1908 году, из С.С.А. родилась ремизовская Обезьянья Великая и Вольная Палата, просуществовавшая не одно десятилетие. Во главе Обезвелволпала стоял обезьяний царь Асыка, а сам Ремизов был при Асыке «забеглым политическим комиссаром» и «канцеляристом» и потому выдавал от лица царя своим друзьям и знакомым особые обезьяньи грамоты, титулы, ордена, разрисовывая их фантастическими закавыками и снабжая их «собственно-хвостными» подписями Асыки. Шутка, легкая мистификация со временем стала обществом единомышленников – ведь кавалером Обезвелволпала мог стать не каждый, обезьяньи грамоты вручались друзьям, родственным душам. Известный философ Иван Александрович Ильин писал, что «обезьяний миф» – это и литературный кружок, и сатира на нигилизм революционной интеллигенции, и игра взрослых людей в воображаемое и нисколько не осуществляющееся обновление мира в сторону «природы», «естественности» и «свободы»[45]. В орбиту этой игры были вовлечены в разное время десятки известных людей: Горький, Цветаева, Ахматова, Блок, Гумилев, Бунин, Зайцев, Шмелев, Шестов, Святополк-Мирский, Струве[46]. Был «кавалером обезьяньего знака» и Николай Бердяев.
Бердяев не только многое почерпнул из общения с этими неординарными людьми, он прошел во время своей ссылки настоящую школу полемической борьбы. Ленин, внимательно следивший за полемическими схватками в вологодской ссылке, писал: «Из Вологды (где сидят Бердяев и Богданов) сообщают, что ссыльные там усердно спорят о философии, и Бердяев, как наиболее «знающий», побеждает, по-видимому, их». Богданов подтверждал это в 1927 году в своем ответе на запрос Института Ленина о его вологодской ссылке: «Я приехал туда в начале 1901 года и нашел там несколько десятков ссыльных, в числе их группу киевлян с Бердяевым, как теоретиком, во главе (В. Г. Крыжановская[47], П. Л. Тучапский, Б. Э. Шен, позже Н. К. Мукалов[48] и др.). …Затем я сделал ряд докладов об историческом материализме… Бердяев обычно оппонировал; он был тогда хороший оратор (лучше нас), но по научным знаниям стоял не высоко, а в философии хорошо знал лишь неокантианские школы (лучше нас), отнюдь не позитивные (попадал в неловкое положение по поводу Авенариуса и Маха)….В 1902 году приехал Луначарский и стал сразу резко полемически выступать против Бердяева, которого уже тогда превосходил как оратор. К Бердяеву же присоединился союзник, гораздо более ученый, но мало талантливый, Богдан А. Кистяковский. Полемика перешла и в журналы…»[49] Оценка Богданова, хоть и даваемая в определенной идеологической атмосфере, а потому не совсем объективная, все же ценна тем, что подтверждает наличие различных «лагерей» среди ссыльных и горячие споры между ними.
При обсуждении «рефератов» Бердяева критиковали за отход от марксистских позиций. Особенно резко возражал Бердяеву А. В. Луначарский (он попал в Вологодскую ссылку чуть позже, в 1902 году), продолжая те страстные споры, которые начались у него с Бердяевым еще в Киеве. Луначарский спустя много лет вспоминал: «До моего приезда Николай Бердяев стал было занимать нечто вроде доминирующего положения, его рефераты пользовались большим успехом. Наша социал-демократическая публика поощряла меня выступить с рядом диспутов против Бердяева, противопоставляя его идеализму, в то время докатившемуся до признания не только христианства, но почти православия, марксистскую философию…»[50]. Похожее «задание» дал Луначарскому и Ленин в своем письме, но вот кто «победил» – судить по воспоминаниям Анатолия Васильевича вряд ли можно, он был склонен переоценивать свои достижения.
Спор велся не только между Бердяевым и Луначарским, он выходил далеко за рамки личных позиций. Происходило постепенное размежевание Бердяева с революционной интеллигенцией. Это проявлялось во всем, даже в поведении, в быту. Среди вологодских ссыльных по пристрастиям и характеру стихийно выделились две группы: «аристократия» и «демократия». К «аристократии» принадлежали Ремизов, Савинков, Щеголев, Вера Тучапская (которую Бердяев в своих парижских воспоминаниях почему-то называет только инициалами, – возможно, боясь скомпрометировать даму в глазах советских властей?) и, конечно, сам Бердяев. «Демократию» составили Луначарский, Богданов, А. Ванновский, другие. К «аристократии» примкнул и датчанин А. Маделунг. Фирма его отца экспортировала вологодское масло в Европу, и молодой человек был послан туда для прохождения коммерческой практики. Получилось иначе: Маделунг сблизился со ссыльными, заразился их литературными увлечениями и захотел стать русским писателем! (Это при том, что русский язык он знал хорошо, но не блестяще). Маделунг даже написал фантастический рассказ, который после стилистической правки Ремизова был опубликован в одном из наиболее передовых российских литературных журналов – в «Весах». Когда родители спохватились и вытребовали отпрыска домой, в Датское королевство, было уже поздно: коммерсантом Маделунг не стал, зато стал датским (но не русским, как ему рисовалось в мечтах) писателем, написавшем о своей вологодской жизни целый роман. Кстати, позднее некоторых своих вологодских знакомых (Ремизова, Савинкова) Маделунг переводил на родной язык, со многими из них переписывался.
«Аристократия» была более независима в своих суждениях от коллектива, более индивидуалистична и свободна в своей жизни, имела связи с местным обществом, главным образом земским, отчасти с театром»[51], – вспоминал позже Бердяев. По сути, условное деление проходило по той степени личной свободы, которую ощущал человек. Для Бердяева (впрочем, как и для Савинкова, например) любое внешнее ограничение его свободы было абсолютно неприемлемым. В стане же «демократии» господствовала партийная дисциплина. Возглавляли «демократию» Луначарский и Богданов. Надо сказать, что они даже время ссылки использовали для партийной работы и распространения марксизма. С их приездом местное социал-демократическое движение активизировалось: «в городе появились «первые социал-демократические ячейки среди учащейся молодежи, приказчиков, фельдшеров»[52], молодежь приглашали на собрания политических ссыльных (на одном из таких собраний, например, разбиралась работа Ленина «Что делать?»), был организован политический кружок, в рамках которого Богданов и Луначарский читали настоящие лекции. Богданов предложил выпустить для населения несколько политических брошюр. Издать их взялась редакция газеты «Искра»; Ленин от имени редакции ответил: «Мы очень рады Вашему предложению – издавать брошюры. В брошюрах именно есть известный недостаток, и издавать мы могли бы легко в любом количестве»[53]. Вот здесь и проходила граница (хотя «демократы» и «аристократы» вместе обсуждали книги и доклады, ходили друг к другу к гости, устраивали «посиделки»): одни издавали брошюры и создавали марксистские нелегальные ячейки, а другие – спорили о литературе и рассуждали о самоценности личности…
Бердяев еще оставался близок к марксизму в социальных вопросах, но он был чрезвычайно далек от партийно-организационных забот социал-демократов. Его споры с Богдановым и Луначарским во время обсуждения «рефератов» были бурными и острыми (Бердяев даже подозревал, что Луначарский не раз лично обижался на него после таких прений). Обвинения в адрес Бердяева выдвигались, прежде всего, в отходе от материализма, переходе к идеализму. Но Николай Александрович и не отрицал этого, более того, он никогда не считал себя материалистом! Для ссыльных социал-демократов, воспринимавших марксизм целиком – во всех его ипостасях – попытка соединить социальные выводы марксизма с идеалистической философией казалась невозможным кощунством или… признаком болезни. В глазах вологодской «демократии», нетерпимо реагировавшей на любые отступления от принятого революционного и материалистического кредо, Бердяев стал то ли еретиком, то ли сумасшедшим. Богданов, например, совершенно серьезно тестировал его на вменяемость, так как пристрастие к идеализму в его глазах было явным признаком психического заболевания. Искренний и добрый человек, но правоверный марксист, врач по специальности, Александр Александрович Богданов просто не мог себе представить, что нормальный человек способен интересоваться идеалистической философией, метафизикой, и считал это признаком начинающегося душевного расстройства. Бердяеву и самому давно уже было душно среди революционеров: «Были среди ссыльных хорошие, симпатичные люди, все были людьми верующими в свою идею. Но дышать было трудно в их обществе. Было страшное сужение сознания… То, что интересовало меня, не интересовало большую часть ссыльных»[54], – писал он об этом времени.
Бердяев в молодости был красив. Вот каким его увидела немного позже, в 1906 году Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал (жена Вячеслава Иванова): «красавец, кудрявый брюнет с алмазами – горящими талантом и мыслью глазами»[55]. Ей вторил Ф. А. Степун: «Он не только красив, но и на редкость декоративен. Минутами, когда его благородная голова перестает подергиваться (Бердяев страдает нервным тиком) и успокоенное лицо отходит в тишину и даль духовного созерцания, он невольно напоминает колористически страстные и все же духовно утонченные портреты Тициана. В горячих глазах Николая Александровича с золотою иронической искрой, в его темных, волнистых, почти что до плеч волосах, во всей природе его нарядности есть нечто романтическое. По внешности он скорее европейский аристократ, чем русский барин. Его предков легче представить себе рыцарями, гордо выезжающими из ворот средневекового замка, чем боярами, согбенно переступающими порог низких палат. У Бердяева прекрасные руки, он любит перчатки – быть может, в память того бранного значения, которое брошенная перчатка имела в феодальные времена»[56]. Обладая такой внешностью, Бердяев, разумеется, пользовался успехом у женщин, и в свои 26 лет даже в ссылке он переживал некоторые романтические истории (по некоторым свидетельствам, – только платонические)[57]. В частности, известно, что к нему из Петербурга приезжала молоденькая девушка – Наталья Кульженко, студентка Императорского Драматического Училища, будущая актриса. Каковы были их отношения – сказать сегодня сложно, но переписка между ними велась. В полицейских донесениях упоминается о некоей молоденькой «барыньке», с которой Бердяева видели на вокзале. Удивляет и то, что некоторых знакомых женщин (Тучапскую, Дениш) Николай Александрович не называл в своих воспоминаниях полными именами, указывал лишь инициалы, что тоже оставляет простор для интерпретации. Но никаких достоверных фактов об этой стороне вологодской жизни Бердяева, к сожалению, не сохранилось.
Тем временем Бердяеву разрешили двухнедельную поездку к родным в Киев (к ссыльному аристократу все-таки было особое отношение), – его 67-летний отец был болен, и по просьбе родственников Николаю разрешили его навестить. За то короткое время, что он провел в родном городе, Бердяев встретился с разными людьми, но о двух встречах известно достоверно. Во-первых, он нанес визит В. В. Водовозову (тому самому, что прислал ему из Германии Ницше), в квартире которого проходило довольно многочисленное конспиративное собрание. Это стало известно охранке, донесение филера о сборе «20 человек интеллигентов» попало в личное дело Николая Александровича. Поэтому последующие прошения родных Бердяева о помиловании уже не имели никакого отклика. А вторая чрезвычайно важная встреча – знакомство с Сергеем Николаевичем Булгаковым (1871-1944), близкие отношения с которым продлятся долгие годы. Заочное знакомство (через Струве) состоялось на год раньше, завязалась пусть и не активная, но переписка. В Киеве же они тогда впервые встретились лично.
Булгаков принадлежал совсем к другому кругу, чем Бердяев. У него тоже была долгая семейная история, но в совсем ином роде. Отец Булгакова – протоиерей Николай Васильевич Булгаков – был кладбищенским священником в Ливнах Орловской губернии, да и предыдущие пять поколений его предков тоже были священниками. Сергей Николаевич (который тоже станет отцом Сергием в 1918 году) унаследовал «левитскую» кровь шести поколений. Поэтому церковная вера, служение были привычной частью жизни Булгакова с самого детства. Сергей Николаевич учился сначала в Ливенском духовном училище, а в 1885-1888 годах – в Орловской духовной семинарии. Казалось, что будущий путь Булгакова предопределен. Но в семинарии юноша пережил религиозный кризис, закончившийся, по его словам, «утратой религиозной веры на долгие, долгие годы». Елецкая гимназия, юридический факультет Московского университета, изучение политэкономии, знакомство с марксистской литературой…. Путь типичный и чем-то напоминающий бердяевский. Правда, в отличие от Николая Александрович, Булгаков университетский диплом получил и даже был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию. В 1896 году он издал свою первую книгу – «О рынках при капиталистическом производстве», написанную с совершенно марксистских позиций, а через два года, находясь в научной командировке в Германии, лично познакомился с крупнейшими представителями европейской социал-демократии – К. Каутским, А. Бебелем, В. Адлером и др. Если говорить о марксистских авторитетах, с которыми общался Сергей Николаевич, то надо вспомнить и его переписку с Г. В. Плехановым – ведущим теоретиком марксизма в России.
Однако судьбу Булгакова определили встречи другого масштаба, – он лично общался с Л. Н. Толстым. Беседы с «яснополянским старцем», чтение книг Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева привели к тому, что он, как и Бердяев, перешел от марксизма к идеализму. Поэтому, когда в 1901 году Булгаков получил место в Киеве, – он читал курс политэкономии в Киевском политехническом институте, где он был избран ординарным профессором, и в Киевском университете в должности приват-доцента, – он искал уже иные, немарксистские основания для своих идеалов. В отличие от Бердяева, для Булгакова это был возврат к тому, что с детства составляло фундамент его жизни – к вере, у Бердяева же, не получившего такого воспитания в семье, путь к вере занял большее время. Сам он вспоминал киевскую встречу так: «Большую близость я чувствовал с С. Булгаковым, с которым переплетались наши пути во внешних проявлениях. У С. Булгакова тогда уже был решительный поворот к христианству и православию. Я же стоял еще на почве свободной духовности. Разговоры с С. Булгаковым в Киеве на религиозные темы имели для меня значение»[58].
Для меня несомненно, что встреча с Булгаковым оказала огромное воздействие на Бердяева. Во многом именно благодаря беседам и переписке с Сергеем Николаевичем Бердяев переходит не просто к идеализму, а к религиозному идеализму. Если сам Булгаков, переболев марксизмом, возвращался на свою «духовную родину» – к христианской вере, которая была для него понятна и естественна благодаря всему укладу жизни в детстве и юности, то у Бердяева не было такого церковного опыта. «Я не помню в своем детстве традиционных православных верований. Я не отпадал от традиционной веры и не возвращался к ней. У меня нет религиозных воспоминаний, остающихся на всю жизнь, и это имеет огромное значение для моего религиозного типа. В моем детстве отсутствовала православная религиозная среда, которая бы меня питала. Я вижу два первых двигателя в своей внутренней жизни: искание смысла и искание вечности. Искание смысла было первичнее искания Бога, искание вечности первичнее искания спасения»[59], – писал о себе Бердяев. «Искание смысла» постепенно привело Бердяева к «исканию Бога», в том числе, и благодаря общению с Булгаковым.
Вологодские диспуты с марксистами после возвращения из Киева стали еще более жаркими. Бердяев все дальше отходил от марксизма, его собственная позиция уже не могла быть описана не только как правоверный марксизма, но даже как марксизм «критический». Похожую эволюцию от марксизма к идеализму переживали не только он и Булгаков, но и некоторые другие представители революционной интеллигенции, в том числе, знакомые Бердяева – Петр Струве, например. В результате своеобразным итогом как философских споров с ортодоксами от марксизма, так и осмысления собственной позиции стал сборник «Проблемы идеализма», вышедший в 1902 году. Это был первый сборник в череде последующих коллективных изданий зарождающегося религиозно-философского течения. Самым известным «продолжением» данного сборника станут, конечно, «Вехи»; причем авторы-участники этих двух сборников будут частично совпадать (Бердяев, Булгаков, Струве, Кистяковский, Франк). Но, думаю, неверно считать «Проблемы идеализма» своего рода введением, прологом к «Вехам». Это не так. Авторы сборников, их взгляды не могли не измениться довольно серьезно за семь лет, которые разделяли эти издания.
Редактором сборника стал приват-доцент Московского университета Павел Иванович Новгородцев. Несмотря на свою относительную молодость (ему было 36 лет), он был признанным лидером школы «естественного права» в России, выдвинувшей идею возрождения «нравственного идеализма в философии права» и поворота на этой основе общественного сознания в сторону идеалистических и религиозных ценностей. Кроме того, он был известен своими либеральными взглядами. Недаром спустя несколько лет в объемистом деле, заведенном в Департаменте полиции и озаглавленном «О профессорах, придерживающихся левого направления», найдутся секретные «справки» (доносы) на Новгородцева. Среди 12 авторов сборника были как пережившие философскую эволюцию марксисты, пришедшие от марксизма к идеализму (Бердяев, Булгаков, Струве, Семен Людвигович Франк), так и либерально настроенные представители академической философии – сам Новгородцев, Лев Михайлович Лопатин, князья Евгений Николаевич и Сергей Николаевич Трубецкие, Сергей Алексеевич Аскольдов (Алексеев).
В предисловии к сборнику П. И. Новгородцев сформулировал задачу авторов, принадлежащих к различным теоретическим направлениям и разным философским поколениям: «отстоять необходимое разнообразие запросов и задач человеческого духа»[60]. По его мнению, осуществить это можно только одним путем – заменить «догматизм», свойственный позитивизму, критическим подходом идеализма. Новгородцев подчеркивал при этом «живую связь» отстаиваемого авторами сборника идеализма с русской идеалистической философской традицией, прежде всего, опирающейся на идеи умершего в 1900 году Владимира Соловьева. Почему Новгородцев писал о позитивизме, а не о марксизме? Дело в том, в позитивизме авторы видели наиболее развитую форму материализма. Более того, философскую основу ортодоксального марксизма, по мнению участников сборника, можно рассматривать как позитивистскую: с позитивизмом О. Конта марксизм роднила, прежде всего, претензия на научность философии. Например, Булгаков ясно давал такую расширительную трактовку позитивизма, под которую совершенно спокойно подходил марксизм: позитивизмом он называл «все течения мысли, отрицающие метафизику и самостоятельные права религиозной веры»[61]. Думаю, есть и еще одно объяснение, почему острие критики было направлено на позитивизм, а не напрямую – на марксизм: не все авторы сборника (в том числе, и Бердяев) полностью отошли от марксизма в социальных вопросах. Для них не пришло еще время сведения счетов со своей философской юностью.
Авторы сборника пытались показать связь освободительного движения и идеализма: они считали, что только идеализм может стать основой для выдвижения социальных идеалов. Прежде всего, это связано с признанием идеализмом свободной воли индивида, абсолютной ценности личности как конечной цели социального развития. Такой подход был невозможен для «позитивизма» (в том самом расширительном значении, которое использовали авторы). Например, Булгаков считал, что основной порок позитивизма – в стремлении рассматривать все происходящее в мире через механическую причинность; он отвергал это «безотрадное и мертвящее», «вызывающее леденящий ужас воззрение» согласно которому жизнь человека оказывается «абсолютно лишенной всякого внутреннего смысла»[62]. Ему вторил Струве: он видел источник «догматизма», свойственного как позитивизму, так и всему материализму, также в «категории причинности, к которой сводятся долженствование и свобода»[63]. Получалось, что авторы повторяли тот самый упрек, который бросил марксизму генерал Драгомиров, говоря с арестованными социал-демократами: механическая причинность подразумевает, что исторический процесс не зависит от воли человека и революционеры становятся «партией лунного затмения». Признание же свободной воли, волевого выбора личности – в том числе, в выдвижении общественных идеалов, борьбе за их осуществление – без противоречий сочеталось с идеалистической философией. По сути, авторы ставили задачу синтеза марксистского социального идеала с идеализмом. Джон Голсуорси проницательно и с юмором заметил, что идеализм возрастает прямо пропорционально расстоянию до проблемы. Возможно, этот афоризм подходит и к данному случаю: идеал справедливого общества был крайне далек от российской реальности, представление о том, что может естественным образом «вырасти», развиться из этой наличной реальности вызывало множество споров. Решение вечной философской проблемы о соотношении должного и сущего стало смещаться в сторону должного…
В вологодской ссылке Бердяев написал статью «Этическая проблема в свете философского идеализма» для данного сборника. В статье заметно дальнейшее изменение его взглядов. В ней можно найти отголоски разговоров и переписки Бердяева с Булгаковым, со Струве. Тогда же начинается и общение с Семеном Людвиговичем Франком (1877 – 1950) – человеком, духовно близким Бердяеву на протяжении многих лет. У них было много общего: Франк тоже был юристом по образованию – он закончил юридический факультет Московского университета, тоже прошел через увлечение марксизмом и был участником социал-демократических кружков, тоже начал критически осмысливать марксизм (в том числе, под влиянием общения с Новгородцевым и дружбы со Струве), тоже был арестован за организацию студенческих беспорядков в 1999 году… Правда, вместо Вологды Франк уехал в Германию: в Москве оставаться ему было нельзя, и он использовал это время для изучения философии в университетах Гейдельберга и Мюнхена. Во время пребывания в Германии вышла и его первая книжка – «Теория ценности Маркса и её значение: Критический этюд», где он критиковал марксистскую политэкономию за недостаточную обоснованность выводов и бездоказательность некоторых положений, но сохранил все же «дружественный нейтралитет» к идеалам марксизма. Такая позиция перекликалась с позицией первой книги Бердяева о Михайловском, в которой он дополнял марксизм кантианством, но не отказывался от него полностью. Кстати, сближению Николая Александровича и Семена Людвиговича помогло и увлечение работами Ницше, свойственное обоим.
Статья Бердяева для «Проблем идеализма» очень способствовала его дурной репутации у марксистов. В этой работе он показывал, что этика не может быть сведена к исследованию условий, имеющихся норм, тенденций, практической морали (то есть реально существующего – «сущего»), она всегда имеет дело с идеалом, с представлениями о добре и зле, не укорененными в действительности (то есть – с «должным»). Он рассматривал вечную философскую проблему должного и сущего с разных сторон, показывая, что этика возможна только при обращении к идеальному, должному, а сама категория должного автономна, независима от реальности. Поэтому этика не может быть позитивистски объяснена и проинтерпретирована: ведь идеал не присутствует в опыте, не может быть познан эмпирически, он – должное, он не существует реально. Бердяев понимал должное как априорный принцип, который присущ сознанию каждого человека независимо от его опыта. В этом вопросе Николай Александрович примыкал к Канту. В кантовской трактовке идеал, с одной стороны, служит эталоном, мерилом оценки поступков, с другой – остается принципиально не достижимым, трансцендентным по своей природе.
В статье Бердяев изложил и свое представление об этической позиции Ницше: он показывал, что «имморализм» Ницше не является таковым, так как отвергает не должное, а сущее, – Ницше спорит с существующими нормами, с существующей моралью, отвергает эту несимпатичную ему этическую реальность, протестует против нее во имя идеала. Поэтому этика Ницше действительно находится «по ту сторону добра и зла» (по выражению самого Ницше), но по ту сторону исторического добра и зла, а не добра и зла вообще; тем самым вполне укладывается в классическую этическую схему противопоставления должного и сущего. Таким образом, Бердяев противоречил марксизму, рассматривавшему мораль (как и всю общественную надстройку) в зависимости от экономического развития общества (его базиса). Неокантианский подход Бердяева к этике был сопряжен с его попыткой найти иные философские основания для социального идеала марксизма, – для такого человека, как он, столь сконцентрированного не проблеме социальной справедливости, это было чрезвычайно важным. Для Бердяева нравственный идеал – не от мира сего, он независим от реальности, вневременен, это «автономное законодательство нашего сознания». При такой постановке вопроса появляется возможность не только метафизического обоснования этического идеала, но и религиозного.
Надо сказать, что какое-то «скрещивание» кантианской этики и марксистской возможны. Дело в том, что марксизм, в отличие от кантианства, рассматривает все этические системы, моральные нормы, нравственные принципы как исторические, вырастающие из определенной исторической ситуации, экономической жизни («контекстуализм»). Но пролетарская мораль, с точки зрения марксистов, – иная. С одной стороны, она тоже контекстуальна, исторична, так как выражает интересы конкретного класса. С другой стороны – она универсальна, потому что пролетариат может достичь своих интересов, только освободив всех трудящихся, начав новую бесклассовую историю, поэтому в его точке зрения – абсолютная истина и правда. В этом смысле представление о добре в пролетарской этике столь же абсолютно и неизменно, как и категорический императив (априорный, автономный нравственный закон) у Канта. Но такая позиция вовсе не приветствовалась русскими марксистами, утверждавшими экономический детерминизм и «научный» подход. Бердяев встал перед выбором: отбросить контекстуальное обоснование морали, которое его не удовлетворяло (и, значит, отбросить марксистскую точку зрения!), или отказаться от своих представлений о том, что мораль опирается на «должное», на идеал, а не на действительность. Бердяев предпочел первое.
Спорил Бердяев с марксизмом и в другой части: он показывал родство марксистского понимания этики концепциям гедонизма и утилитаризма. С его точки зрения, обоснование поведения человека только стремлением к удовольствиям (как в гедонизме) не может стать основанием этики: «Мы прекрасно знаем, что удовольствие есть плюс, а страдание – минус, знаем также, что счастие – есть мечта человека, но все это имеет очень мало отношения к этике. Удовольствие может быть безобразным и безнравственным, счастие может быть постыдным, страдание же нравственно ценным и доблестным. Цель, которую ищет этика – не есть эмпирическое счастие людей, а их идеальное нравственное совершенство». Когда Януш Корчак добровольно отправился с детьми, которых он лечил, в Треблинку, зная, что и его, и их ждет газовая камера, вряд ли он руководствовался стремлением к счастью, но назвать его поступок не соотвествующим нравственным нормам невозможно. Порой как раз способность отказаться от своего счастья, удовольствия, спокойствия и есть признак человеческого достоинства, способности следовать моральным нормам вопреки собственной выгоде.
Попытка построить этику на стремлении ко всеобщему счастью тоже, по мнению Бердяева, несостоятельна: он рассматривал такой подход («общественный утилитаризм») как частный случай гедонизма. Так же думал и Булгаков, прямо отмечавший, что марксизм отстаивает «самую грубую этическую точку зрения», а потому не может «удовлетворить развитое этическое сознание»[64]. «Если на индивидуальном счастии нельзя построить этики, то всеобщее счастие является уж совершенно фиктивным понятием. Каким образом можно перейти от индивидуального счастия человека к всеобщему счастию человечества, во имя чего человека можно подчинить общему благу и рассматривать его как средство? Почему альтруистический утилитаризм ставит счастие другого человека выше моего собственного счастия, если окончательным критерием является все то же счастие, почему мои поступки квалифицируются, как нравственные, только когда я служу чужому счастию? На эти вопросы нет ответа, тут получается порочный круг. Можно показать, каким образом исторический человек приспособляется к служению общему благу, …но я спрашиваю не об этом, я спрашиваю об этическом оправдании. Для этики важно показать, почему такой-то принцип – есть должное, а не то, почему он оказывается необходимым. Нет никакого этического оправдания для перехода от счастия одного человека к счастию другого и счастию всех. Когда я служу собственному удовольствию и счастию, то это не имеет никакой нравственной цены, но служить удовольствию и счастию Петра и Ивана и даже всех Петров и Иванов на свете – тоже не имеет никакой нравственной цены, потому что мое удовольствие и счастие и удовольствие и счастие Ивана совершенно равноценны и совершенно одинаково находятся вне области этики, так как не имеют ничего общего с нравственными целями жизни»[65]. Получалось, что Бердяев отказывал в нравственном оправдании, в том числе, и многочисленным героям из революционных «святцев», которые жертвовали свои судьбы (а иногда – и жизни) «за народ», если их поступки диктовались установкой на «служение народу», а не борьбой за этически оправданный идеал (за «должное»).
Бердяев возвратился в этой статье и к проблеме прогресса. Он попытался рассмотреть его не с эволюционистских позиций (как объективно обусловленное развитие, закономерный переход от одной стадии к другой), а с точки зрения этики – как нравственное развитие, самоцелью которого является человеческая личность (при условии признания равноценности всех людей). Бердяев показывал, что нравственное противоречие между должным и сущим, между человеческим «я», стремящимся к идеальному совершенству, и эмпирической действительностью может разрешаться двумя путями: путем индивидуального и путем универсального развития (прогресса культуры). Эти два пути, в конце концов, сходятся: «индивидуальная жажда совершенства, осуществления духовного «я», что и составляет сущность нравственной проблемы, утоляется беспредельным индивидуальным развитием, упирающимся в духовное бессмертие, и беспредельным универсальным развитием, т. е. прогрессом культуры»[66]. Таким образом, общественное развитие рассматривалось Бердяевым как средство, «орудие» нравственного совершенствования человека: человеческая личность развивается в процессе взаимодействия с другими людьми, с общественной средой. «Поэтому мы требуем экономического развития и приветствуем более совершенные формы производства», – из этой констатации Бердяева вытекало, что марксистские требования не отбрасывались им, но рассматривались не как цель, а как условие прогрессивного развития. Целью же являлся человек, личность. Признав самоценность человеческой личности нельзя оправдывать эксплуатацию, несправедливость, нарушение прав человека, – революционная программа переустройства общества вполне укладывалась в бердяевский идеализм.
Все тексты сборника объединяла мысль об абсолютной ценности личности, ее «естественных и неотчуждаемых прав». В определенном смысле, такой подход означал обращение (судя по статьям Бердяева и Булгакова – вполне сознательное) к гуманистической традиции, берущей свое начало еще в эпоху Возрождения. Не только Бердяев в своей работе, но и Булгаков в статье «Основные проблемы теории прогресса», Новгородцев в «Нравственном идеализме в философии права», Франк в работе «Фр. Ницше и этика «любви к дальнему»» доказывали «этический примат личности» вплоть до отказа от привычного интеллигентского кодекса «жертвенности за народ». Сборник обосновывал идеал целостной и всесторонне развитой личности – не средства, а цели исторического прогресса.
Книга, несмотря на то, что не отличалась живостью и простотой изложения, что заметно даже из приведенных выше цитат (довольно известный философ-позитивист того времени, писавший и публицистические работы, П. С. Юшкевич, заметил, что книга написана «варварски-схоластическим языком»), стала бестселлером. Некоторые историки русской культуры называют выход сборника главным событием 1902 года[67]. Через 100 лет сборник был переиздан еще раз – с обширными комментариями, предисловиями, пояснениями[68], причем издание в таком виде было предпринято для того, чтобы аутентично – насколько это возможно – реконструировать взгляды участников сборника (многие из которых стали признанными мэтрами русской философии), понять их позицию, увидеть поворотный пункт в их духовной эволюции. Философская основа сборника была идеалистической, отчасти, – религиозно-идеалистической, но еще отнюдь не канонически христианской. Этот подход авторов статей обратил на себя внимание деятелей «нового религиозного сознания» – прежде всего, Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, сборник был положительно оценен в их журнале «Новый путь» (а Бердяев и Булгаков вскоре получили приглашение стать сотрудниками этого издания).
Статья способствовала изоляции Бердяева в кругу ссыльных марксистов. «Меня начали считать изменником марксизму, несмотря на то, что политически я мало изменился»[69], – вспоминал он позднее. Действительно, Бердяев еще не порвал с марксистской социальной теорией, – думаю, считать «Проблемы идеализма» знаком такого разрыва неправомерно. Речь шла о другом: о поиске новых философских оснований для критического пафоса марксизма. Путь «пересоздания жизни» Бердяев по-прежнему видел в коренном преобразовании общественного строя России, но считал возможным такое преобразование только в результате изменения сознания общества на путях религиозной метафизики и индивидуалистической этики. От жестких схем исторического материализма он перешел к признанию вечных, вневременных ценностей, к идее всеобщего нравственного закона, признанию человека как высшей цели. Конечно, такая позиция оказалась неприемлемой для марксистских ортодоксов. Луначарский, Богданов, другие марксисты выступили со статьями, в которых критиковали позицию авторов «Проблем идеализма».
Луначарский сделал предметом своей критики сразу несколько статей Бердяева, – не только «Этическую проблему в свете философского идеализма», но и статью «К философии трагедии. Морис Метерлинк», опубликованную Николаем Александровичем в 1902 году в сборнике «Литературное дело». В этой работе Бердяев проиллюстрировал свое понимание трагизма жизни, вечного разрыва должного и сущего примерами из пьес Метерлинка: в них идеальная любовь разрушалась от соприкосновения с грубой действительностью. Луначарский увидел в статьях последовательное проведение идеалистической позиции, так как идеал (не только совершенной любви, но и общественный, социальный) выводился не из реальных отношений, а из вечных идей, присущих человеческому сознанию. Он назвал попытку Бердяева «обвенчать» марксизм и идеализм «белой магией», его статья так и называлась – «Трагизм жизни и белая магия». Статья Луначарского была написана живо и увлекательно (в отличие от критикуемого сборника), но теоретический анализ и разбор позиций оппонентов подчас подменялся в ней хлесткими фразами и запоминающимися образами (такая манера вообще была характерна для марксистской критики). «… Бердяеву ужасно хочется в одно и то же время уверить нас в безысходном трагизме жизни и в своей вере в прогресс и способности человеческого рода к бесконечному совершенствованию»[70], – замечал Луначарский. Он рассуждал так: если признавать бесконечность поступательного развития, то надо признать, что «трагизм жизни» не вечен, – когда-нибудь царство свободы будет достигнуто. Бердяев же показывал принципиальную недостижимость идеала в истории, вечный разрыв между должным и сущим.
Некоторые исследователи эволюции русских мыслителей начала прошлого века от марксизма к идеализму пишут о родстве их позиции с позицией жившего тогда же известного деятеля германской социал-демократии Э. Бернштейна (1850-1932), чье имя в глазах многих марксистских ортодоксов стало синонимом «ревизионизма», предательства революционного духа марксизма. Позицию Бернштейна лучше всего выражает его ставшая крылатой фраза: «Движение – все, цель – ничто». То есть, по мнению Бернштейна, нет и не может быть совершенного общества, движение вперед вечно. Более того, Бернштейн предпочитал видеть такое бесконечное развитие эволюционным, а не революционным, он писал, что диктатура пролетариата – «признак низкой культуры», политический атавизм, защищал реформизм и демократические механизмы устройства общества. (Демократия, писал он, – «высшая школа компромисса. Она уничтожает господство класса, даже если она пока не в состоянии упразднить классы вообще».) Действительно, во взглядах некоторых авторов сборника и Бернштейна можно найти точки пересечения.
Луначарский, разумеется, совсем иначе видел будущее. Он писал о том, что настоящие революционеры уже сегодня строят «гранитный мост» в светлое будущее, а авторы сборника пытаются помешать «строительству», высказывая свои сомнения в том, что его можно будет довести до конца. Луначарский совершенно верно уловил пафос сборника: «Бердяеву и прочим магам хочется дискредитировать марксизм и доказать, что социальная борьба чужда понимания идеальных целей»[71], – таков был его диагноз. Интересно, что для обоснования революционно-марксистской точки зрения Луначарский обращался к тем же «авторитетам», что и Бердяев: он писал о понимании трагизма жизни в сочинениях Ницше, он сравнивал слепые силы природы, которым противодействует обладающий сознанием человек, с ибсеновским горбуном (Г. Ибсеном зачитывались не только Бердяев с Шестовым, но и Луначарский), он цитировал символистов и Метерлинка, – духовная «почва» у Бердяева и Луначарского во многом была общей, хотя плоды получились совсем разными.
Луначарский обвинял Бердяева в том, что поняв трагизм человеческого существования в несовершенном и дурно устроенном мире, он пытается облегчить страдания человека «спиритуалистическим пластырем», сам же Луначарский уповал на посюстороннюю борьбу: «Марксизм и вытекающая из него революционная деятельность не утешают, это – знамя, оружие, это – боевая музыка. Выбывших из строя надо лечить, но у нас нет лекарств для больных жизнебоязнью… Оставьте этих больных! У них есть свои лазареты, и, право, они недурно там себя чувствуют. Но если из лазарета выйдет тот или другой больной, задрапированный в мантию учителя, и начнет приглашать под его кровлю бойцов, если он станет предлагать нам под разными соусами свои больничные микстуры и выдавать побасенки своей мистико-метафизической сиделки за самую истинную истину – посмеемся над ним и отправим его обратно. Бердяев тоже принадлежит лазарету. Посмотрите, какую большую бутылку спиритуалистического бальзама притащил он с собою. Бердяев тоже один из жаждущих дурмана и грезы, и он не обманет нас тем, что тщетно старается приладить марксистское седло к тощему хребту своей идеалистической коровы»[72], – остроумно и бойко, но, тем не менее, не вступая в теоретический спор по существу, писал Луначарский.
Критика А. Богданова была не такой остроумной и яркой, как у Луначарского, но зато Богданов честно попытался рассмотреть теоретические основания своих оппонентов. Из всего сборника Богданов выбрал две статьи – Бердяева и Булгакова и именно их сделал предметом анализа в своей статье «Новое средневековье». Причем он сразу оговорился, что «объективная ложь» высказываемых идей не отрицает «субъективной правдивости», то есть искренности высказывающих ее авторов. По воспоминаниям современников, Александр Александрович Богданов (настоящая его фамилия – Малиновский) был добрым и мягким человеком, заботливо относящимся к своим друзьям, готовым всегда прийти в случае надобности на помощь, – он лично знал и Бердяева, и Булгакова и явно не хотел переносить критику «на личности». Богданов пытался показать, что соединение этики в кантовском, абсолютном понимании и революционных требований вовсе не само собой разумеется, это – субъективное желание и стремление авторов (в частности, Бердяева). Бердяев считал, что в результате осознания личностью своих естественных прав, свободы и самоценности человек уже не сможет терпеть по отношению к себе внешнего произвола и насилия. Таким образом, абсолютная мораль, по его мнению, напрямую вела к необходимости переустройства общества. Богданов возражал: Бердяев пишет не об эмпирическом, реальном человеке, а об абсолютном «я», которое «может заниматься «внутренним самоопределением» и «признанием за собою абсолютной ценности» при каком угодно «внешнем гнете»»[73]. В этом была доля правды: Бердяев, следуя за Кантом, говорил о двойственной природе человека, который принадлежит как эмпирическому – текучему и изменчивому – миру вокруг нас, где господствует необходимость (как феномен), так и абсолютному миру, где есть место свободе (как ноумен). Абсолютная мораль, опирающаяся на априорные, вечные, независимые от личного опыта принципы, действительно, при таком понимании человека присуща именно абсолютному (ноуменальному), а не эмпирическому (феноменальному) «я». То есть Богданов заметил реальный логический «скачок», необоснованность в суждениях Бердяева (в последующих работах Николая Александровича этого «скачка» уже не будет), но, к сожалению, после этого тонкого теоретического замечания сразу перешел к вполне марксистским примерам с капиталистами, рабочими, прибавочной стоимостью и т. п. Хотя, как известно, даже удачные примеры не могут доказать истинности или ложности теоретической позиции.
Не согласен был Богданов и с бердяевской трактовкой идеала как регулятивной идеи – то есть того, к чему можно бесконечно приближаться, как к линии горизонта, но никогда нельзя воплотить в действительность полностью. Он мыслил более конкретными категориями и образами, стремился к вполне (по его мнению) осуществимым в реальности идеалам, и поэтому представление о бесконечности прогресса вызвало у него нарекания. Так же, как и мысль Бердяева о существовании «духовной аристократии», которую Николай Александрович, конечно же, понимал не в социологическом плане – как какую-то социальную группу, а как выражение неравенства людей в их способностях, нравственных устремлениях, целях. Богданов же эту идею упростил, проинтерпретировал социологически и представил как «социальные категории феодального мышления»[74]: мол, товарищеское отношение к людям, коллективизм противоречат такому делению людей, хотя, конечно, способности и сила ума у всех разные. То есть в этом вопросе как раз Богданов исходил из «должного» – из своих демократических убеждений и представлений о товарищеской морали. И если реальность не совпадает с этими убеждениями и представлениями (ведь «встречаются обыкновенно люди, весьма неравные по силе ума и воли, по психическому развитию и запасу опыта, это неравенство ясно для всех как факт»[75]), – тем хуже для реальности! (Так спустя несколько десятилетий была отброшена генетика как лженаука, потому что она противоречила «должному» марксистскому пониманию человека). Богданов объяснял Бердяеву, что на самом-то деле «духовная аристократия» выражает то, что накоплено и сделано рядовыми, обыкновенными людьми, массами. Опять-таки вполне по-марксистски личность объявлялась своего рода «ярлыком» исторического события, которое подготовлялось деятельностью народа, безликих «масс».
Показательно, что «Проблемы идеализма», несмотря на трудный язык и отсутствие живости в изложении мыслей, вызвали много неравнодушных откликов. Богданов и другие представители «правоверного» марксизма из вологодской группы выпустили в ответ свой сборник – «Очерки реалистического мировоззрения»[76]. Лев Толстой как-то сказал: большею частью бывает, что споришь горячо только оттого, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник. Читая марксистскую критику «Проблем идеализма», убеждаешься в его правоте…
В результате выхода сборника Бердяев оказался в изоляции: социал-демократы относились к нему достаточно враждебно из-за «идеализма» и «метафизических исканий», либералы же сторонились, так как видели в нем представителя крайне левого течения, марксиста. Зато сборник еще больше сблизил Бердяева с Булгаковым, Струве, Франком, его имя стало известным представителям уже не социал-демократической, а совсем иной интеллигенции в Москве и Петербурге. Но внутренне с марксизмом полного разрыва у Бердяева еще не произошло.
Последний ссыльный год Бердяеву разрешили провести в Житомире. Основанием для этого стало заключение консилиума врачей о состоянии его здоровья. В деле «О бывшем студенте Киевского университета Н. А. Бердяеве» сохранилось несколько медицинских записей. Первая – от июня 1900 года: «г. Бердяев, 26 лет от роду, роста среднего, телосложением умеренным, малокровен. Жалуется на головные боли, нервные подергивания в лице и шее, бессонницу, мышечный ревматизм, особенно в нижних конечностях… за время пребывания в гор. Вологде он не заметил какого-либо ухудшения в состоянии своего здоровья… настоящее освидетельствование не дало достаточных оснований для того, чтобы признать необходимым для Бердяева переселение в более теплый климат». Но через полтора года, в феврале 1902 года, заключение врачей было иным: «…страдает хроническим суставным ревматизмом, часто обостряющимся, хроническим катарром зева и гортани. Нервная система г. Бердяева также расшатана, что сказывается в сердцебиении… Вследствие своего болезненного состояния пребывание больного в суровом северном климате вредно отражается на его здоровье, и для скорейшего выздоровления ему необходим более сухой и теплый южный климат»[77]. Действительно ли самочувствие Бердяева было столь неважным или сказались непрекращающиеся хлопоты родных – сказать сейчас, спустя сто с лишним лет, трудно, но благодаря этому освидетельствованию Бердяев оказался на Украине.
Житомир, в отличие от Вологды, был вполне современным губернским городом. В столице огромной Волынской губернии имелся водопровод, электростанция, кинотеатр, через Житомир проходили поезда, по улицам города ходили трамваи, да и население было в два с лишним раза больше, чем в Вологде – тогда там проживало около 75 тысяч человек. В то же время в Житомире чувствовалось и дыхание истории: судя по историческим свидетельствам, город впервые упоминался в летописях в 1392 году. На Замковой площади возвышался величественный католический кафедральный собор святой Софии как воспоминание о польском прошлом (собор этот сохранился до наших дней), а по соседству – уже как памятник присоединению Волыни к Российской империи после второго раздела Польши – построенный через столетие православный Свято-Преображенский кафедральный собор. Преображенский собор поражал количеством верующих, которых он мог вместить под свои купола (даже сегодня он считается самым крупным на Украине храмом) и колоколами, – говорят, что его колокольный звон по праздникам был слышен за 20 километров от города. В Житомире была хорошая публичная библиотека, один из старейших в стране театров (сцена которого помнила многих отечественных и зарубежных корифеев), гимназии, духовная семинария, но университета, конечно, не было – одним из условий ссылки было поселение в неуниверситетском городе (слово «студент» тогда воспринималось властями почти как синоним слова «революционер»). Надо сказать, у Веры Григорьевны Тучапской, с которой Бердяев довольно тесно общался в Вологде, в Житомире были знакомые, – она получала из Житомира письма (об этом, в частности, свидетельствует хранящееся в архиве письмо Ремизова, написанное ей в 1902 году)[78]. Вера Григорьевна заочно представила Бердяева своему житомирскому корреспонденту, чтобы ему было легче привыкнуть к новой среде.
Бердяев сыграл необычную для него роль «наставника» в Житомире – по отношению к 17-летнему Семену Либерману. В это время в Житомире под гласным надзором полиции отбывал ссылку один из руководителей Бунда[79] – совсем молодой человек 22-х лет Михаил Исаакович Либер (Гольдман). Бердяев, которого всегда интересовал «еврейский вопрос» (во многом благодаря брату, сделавшему борьбу с антисемитизмом делом жизни), поддерживал с Либером знакомство. Тот представил Николаю Александровичу нескладного юношу в очках, который, начитавшись Белинского и Чернышевского, будучи зараженным, по выражению Набокова, «крайними формами гражданственности», хотел прожить жизнь, не похожую на жизнь своих родителей, «порвать с затхлостью гетто» и «служить народу». Он приехал к дяде в Житомир для того, чтобы сдать экзамен на аттестат зрелости, получить образование, «выйти в люди», и тут познакомился с Либером, которого ему рекомендовали как репетитора для подготовки к экзамену по русскому языку. Под руководством Либера ученик не только писал сочинения о Некрасове и Шелгунове, но и читал нелегальные издания, напечатанные на папиросной бумаге[80]. Ученик он был способный, но идеи Бунда казались ему национально суженными, – он хотел «служить народу», а не своему народу. Поэтому, после чтения Плеханова и других книг, полученных от Либера, он начал считать себя марксистом. Вот тогда Либер и познакомил его с Бердяевым. Они встречались довольно часто, беседовали, обсуждали прочитанное. Благодаря Бердяеву Семен познакомился со статьями Струве, с «критическим» марксизмом. Встреча с Либером и Бердяевым помогли оформиться тому неопределенному еще чувству социальной несправедливости, которое уже имелось в душе Либермана. Семен Исаевич Либерман стал социал-демократом, принявшим участие в событиях 1905 года (он был тогда руководителем нелегальной ячейки РСДРП в Одессе) и в последующих революциях. Но уже тогда он склонялся к идее народоправства (став поэтому в последующем последователем Плеханова, а не Ленина, меньшевиком, а не большевиком). Либерман и Бердяев не раз встречались и после отъезда Николая Александровича из Житомира, их связывали приятельские отношения.
О житомирском периоде ссылки Николая Александровича известно немного: он обосновался в гостинице «Орион» (жизнь в отеле снимала многие бытовые проблемы), общался с другими ссыльными, ездил на побывку в Киев, – Рождество и 1903 год ему удалось встретить в кругу семьи. А в конце марта 1903 года срок его ссылки истек, он мог ехать домой, не забывая, однако, что проживание в обеих столицах в течение пяти лет ему не разрешается. Тогда же, в 1903 году, в личной жизни Бердяева произошло какое-то тяжелое событие, связанное с женщиной. Событие это стало известно родным Николая Александровича (как в свое время, четыре года назад, стало известно родителям об увлечении Николая женой брата, что, естествнно, вызвало настоящий скандал в семье). Сохранилось письмо Бердяева к матери из Житомира, в котором он объяснял свой поступок нравственной обязанностью искупить вину: «Это несчастье в моей жизни, дорогая мама, я заслужил это несчастье, должен пережить его и хочу устроить свою жизнь так, чтобы оно как можно меньше сказалось на ней… Для семейной жизни я совершенно не гожусь, по натуре я типичный холостяк, слишком занят философией и слишком люблю свободу, так что я в конце концов мало теряю»[81]. Что произошло с ним весной 1903 года – остается только гадать…
4. «Новое религиозное сознание»: мир философских исканий
Странная, с нашей теперешней точки зрения, была эта ушедшая эпоха. Она кажется далекой, как античные времена… Мы проживали время в «пиршественном» состоянии духа, в нескончаемых разговорах все об одних и тех же высочайших… материях. Место разговоров менялось…, а разговор продолжался все тот же – о судьбе мира искусства, о конечных задачах культуры…
Л. СабанеевВернувшись в Киев из вологодской ссылки, Бердяев особенно сближается с Сергеем Булгаковым. К этому времени Булгаков уже полностью изжил былой атеизм: большое значение для него имело увлечение работами великого русского философа-идеалиста Вл. Соловьева и личный опыт религиозного семейного воспитания. Поиски истины у Булгакова все более и более смещались в сторону «христианского социализма», религиозного понимания общественной жизни, христианского миросозерцания. Пережив в 1901-1906 годах глубокий духовный перелом, Булгаков вернулся к христианству уже тридцатилетним зрелым человеком. Изданный им в 1903 году сборник статей «От марксизма к идеализму» дал название тем процессам, которые происходили в духовной жизни многих интеллигентов, увлекшихся в молодости марксизмом. Одним из них был и Николай Бердяев. Недаром весной 1903 года он в кратком резюме своих философских взглядов для готовящегося к изданию словаря русских писателей и ученых написал, что окончательно переходит в своих взглядах на позиции метафизического идеализма и отвергает марксизм как цельное мировоззрение, принимая из марксизма, тем не менее, ряд «реалистических социальных идей». Для Бердяева, в детстве и юности которого практически полностью отсутствовала православная религиозная среда, знакомство с Булгаковым послужило толчком, направившим его искания в определенном направлении. Благодаря Булгакову Бердяев серьезно задумался о христианстве и христианской философии.
В то же время, метафизические искания не только не мешали, но, напротив, подчас воплощались в его активной общественной позиции. Например, в 1903 году среди 34 представителей отечественной науки, литературы и искусства Бердяев обратился с воззванием «К русскому обществу», в котором содержался протест против смертной казни. Воззвание подписали В. И. Вернадский, В. Г. Короленко, А. И. Куприн, И. Е. Репин, В. И. Немирович-Данченко и другие. В это же время Бердяев примкнул к Союзу Освобождения, – тайной политической организации, которая выдвигала требования введения всеобщего избирательного права и проведения демократической аграрной реформы (вплоть до принудительного отчуждения помещичьих земель). Внешне все выглядело вполне невинно: Бердяев вместе со своим приятелем Кистяковским отправился в летнюю поездку в германский Гейдельберг, где в это время читал лекции неокантианец Виндельбанд. Но одновременно с летним семестром в Гейдельбергском университете, Бердяев принял участие в тайных совещаниях по подготовке создания Союза, которые проходили в Швейцарии. Предполагалось, что в Союз будут входить все левые элементы российского общества, в том числе и те, кто уже принадлежал к каким-то политическим партиям, например, социал-демократов или социалистов-революционеров. Правда, если эсеры отнеслись к созданию такой организации доброжелательно, то социал-демократы с самого начала к Союзу отнеслись крайне отрицательно и постановили в него не вступать.
Организация создавалась вокруг издававшегося за границей журнала «Освобождение», активную роль в котором играл другой близкий знакомый Бердяева – Петр Струве. В ее основании приняли участие многие известные люди – крупный земский деятель и в будущем кадет Н. Н. Львов, историк русской мысли, будущий министр Временного правительства князь Д. И. Шаховской, крупнейший русский ученый XX века В. И. Вернадский, знакомые нам уже П. Б. Струве, П. И. Новгородцев, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков, Б. А. Кистяковский и другие. На съезде было решено основывать в различных населенных пунктах местные союзы Освобождения, чтобы потом их слить в одно большое общество. Спустя год Союз организовал по всей России так называемую «банкетную кампанию»: в городах устраивались под различными предлогами банкеты, на которых собиралось по несколько сот человек, произносились речи и выносились резолюции, содержащие требование конституции на основе всеобщей, прямой и тайной подачи голосов. Надо сказать, что Бердяев, поддерживая идею союза левых сил, тем не менее, постепенно отдалился от деятельности Союза Освобождения, – как он сам вспоминал, он чувствовал себя чужим в среде земских деятелей. Когда на основе Союза возникла кадетская партия, Бердяев в нее уже не вошел: он считал ее партией буржуазной (ужасное, ругательное слово для русского интеллигента!)
В сентябре 1904 году Николай Александрович принял участие во втором международном философском конгрессе в Женеве. На него произвела впечатление публичная лекция Анри Бергсона, крупнейшего французского мыслителя 20 столетия, прочитанная участникам конгресса. Он познакомился там со знаменитым русским композитором А. Н. Скрябиным, чрезвычайно интересовавшимся философией. Случилась там и «марксистская встреча»: Бердяев вспоминал о беседах, которые у него состоялись с мэтром русского марксизма – Георгием Валентиновичем Плехановым. «Я тогда встречался с Г. В. Плехановым, который был плохим философом и материалистом, но интересовался философскими вопросами. Мы ходили с ним по Женевскому бульвару и философствовали. Я пытался убедить его в том, что рационализм и особенно рационализм материалистов наивен, он основан на догматическом предположении о рациональности бытия и уж на особенно непонятном предположении о рациональности бытия материального. …Вряд ли Плеханов, по недостатку философской культуры, вполне понял то, что я говорил»[82]. Но главное Георгий Валентинович все же понял: он сказал Бердяеву, что при таких философских взглядах, как у него, невозможно быть марксистом. И был прав! Бердяева уже ждали совсем другие люди, другая среда, другой мир – тот, что в литературе часто называют русским религиозным ренессансом. Но термин этот появился позже, уже в эмиграции, тогда же, в самом начале века, говорили о «новом религиозном сознании».
Ноябрь 1901 года. Знаменитые Религиозно-философские собрания, инициаторами которых была чета Мережковских, стали местом встречи светской интеллигенции и духовенства. Тема – роль христианства в обществе, задачи христианства, религия и культура, возможность дальнейшей эволюции христианства и т. п. По афористичному определению самого Мережковского, речь шла о «единстве двух бездн» – «бездны духа» и «бездны плоти». Причем подобный синтез подразумевался не только в рамках единичного, индивидуального человеческого бытия. Организаторы собраний предельно широко трактовали противопоставление духа и плоти. Дух – Церковь, плоть – общество, дух – культура, плоть – народ, дух – религия, плоть – земная жизнь: такие «пары» легко множить и дальше. В конечном счете, участники собраний пытались осуществить модернизацию христианства. Недаром это течение получило название течения «нового религиозного сознания». Кто стоял у его истоков? Конечно, упомянутая уже мною чета Мережковских, то есть Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945) и ее муж, Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866-1841). Эти имена трудно разделить. Связав свои жизни в начале 1889 года, они не расставались ни на один день более полувека, – даже писем их друг к другу не сохранилось: они всегда были вместе, и нужды в переписке не возникало. Это был необычный брак, – духовный союз единомышленников, отвергших плотское начало как нечто, приземляющее любовь, ведущее к «быту», а не к «со-бытию». Г. В. Адамович в своей статье, посвященной Гиппиус, писал об этом так: «ей, да и ему, Мережковскому, нужен был дух в чистом виде, без плоти, без всего того, что в жизни может отяжелить дух при попытке взлета»[83].
Трудно сказать, кто в этом союзе был ведомым, а кто – лидером. С точки зрения общественного признания, ведущая роль принадлежала, без сомнения, Мережковскому, – десятки томов, многие из которых были переведены на другие европейские языки, выдвижение на Нобелевскую премию (которую, в конечном счете, вполне заслуженно получил не Мережковский, а Бунин, чей литературный талант несравнимо выше), роль одного из «духовных отцов» русского религиозного ренессанса начала века, зачинателя символизма в русской литературе. В то же время, многие, хорошо знавшие Мережковских люди, писали и говорили об огромном влиянии Зинаиды Николаевны на Мережковского. Вячеслав Иванов, например, был уверен, что «З.Н. гораздо талантливее Мережковского… Многие идеи, характерные для Мережковского, зародились в уме З.Н., Д.С. принадлежит только их развитие и разъяснение»[84]. Поэт В. А. Злобин, много лет проживший вместе с Мережковскими в качестве литературного секретаря, в своей книге воспоминаний тоже подчеркивал, что руководящая, «мужская» роль в семье принадлежала Гиппиус[85]. Так же считали Андрей Белый, Д. В. Философов, А. В. Карташев, другие. Сама Гиппиус несколько иначе оценивала свою идейную близость с мужем: «…случалось мне как бы опережать какую-нибудь идею Д.С. Я ее высказывала раньше, чем она же должна была встретиться на его пути. В большинстве случаев он ее тотчас же подхватывал (так как она, в сущности, была его же), и у него она уже делалась сразу махровее, принимала как бы тело, а моя роль вот этим высказыванием ограничивалась, я тогда следовала за ним»[86]. Так или иначе, союз этих людей стал источником оригинальной религиозно-философской концепции.
У истоков Религиозно-философских собраний стояли также Дмитрий Владимирович Философов (1872-1940), близкий друг и соратник Мережковских, сотрудничавший в журнале «Мир искусств», «Новый путь» и других; чиновник Синода и автор доклада «Русская Церковь перед великой задачей», задавшего тон собраниям, Валентин Александрович Тернавцев (1866 – 1940); Виктор Сергеевич Миролюбов (1860 – 1939) – редактор демократического журнала «Для всех». Одним из основателей течения нового религиозного сознания был и замечательный русский писатель Василий Васильевич Розанов (1822–1861) – скорее явление нежели человек, как сказала о нем Зинаида Гиппиус. Бердяев же отмечал розановский «изумительный литературный дар». Сын ветлужского священника, Розанов прошел необычный и отчасти трагический религиозный путь. Православие для него было родной стихией с детства, но на рубеже веков в его творчестве появились новые темы: вопросы пола, попытка критики исторического христианства через призму Ветхого Завета, противопоставление радостного «вифлеемского» христианства – страдальческому «голгофскому». Именно в этот период он сблизился с Мережковскими, стал высказывать модернистские религиозные идеи. Его друг, П. П. Перцов писал о Розанове: ««новаторство» доставалось ему недаром. Долгое время он боялся этой своей «судьбы»: он – такой «бытовик», человек крепкий сложившимися формами жизни, верный «дедовским» традициям; человек, любивший Страхова, славянофилов, консервативные типы жизни, а больше всего любивший ее спокойную, неизменную творческую мощь, ее глубокое русло, полное неиссякаемых сил…. Ему ли оторваться от этого русла, стать в какую-то «оппозицию», когда он так не любил все «оппозиционное», весь пошлый шаблон всяческих «протестов»?..»[87] Тем не менее, не любивший всяческие протесты монархист Розанов оказался заодно с «мистическим революционером» Мережковским, когда организовывались Религиозно-философские собрания. На одном из собраний В. В. Розанов назвал современное ему христианство каменным, неживым и противопоставил ему живое Евангелие. Хотя умер Розанов как и положено православному человеку, исповедавшись и причастившись, но это не помешало ему, выступая на собраниях, упрекать историческое христианство в том, что оно не сумело устроить земную жизнь людей и нарушало ветхозаветную заповедь – «плодитесь и размножайтесь» – своим аскетическим идеалом воздержания.
Религиозно-философские собрания «нащупали» слабое место исторического христианства: его пренебрежение земной, плотской жизнью человека. «Неразрешимое противоречие земного и небесного, плотского и духовного, Отчего и Сыновьего – таков предел христианства»[88], – утверждал Мережковский. Он даже называл христианство «религией смерти» за проповедуемый тезис о необходимости умерщвления плоти. Получалось, что мир-космос, мир-общество, человек, сотворенный во плоти, со всей своей повседневной жизнью не входили в область исторического христианства; между духом и плотью образовывалась непреодолимая пропасть, окружающий мир воспринимался как безвозвратно падший. Мыслителей «нового религиозного сознания» это не устраивало: плоть так же священна, как и дух! Пути для «освящения плоти» предлагались самые различные – вплоть до введения нового церковного таинства первой брачной ночи. Разумеется, вскоре (в апреле 1903 года) собрания были прекращены по настоянию церковной цензуры. Но Религиозно-философские собрания, проходившие в Петербурге, стали заметным явлением в жизни всего российского общества. Уже упоминавшийся выше Перцов так описывал Религиозно-философские собрания: «Да, эти заседания памятны. Обширный зал был всегда битком набит народом. «Широкая публика» уже интересовалась этими темами. Провинциалы, молодежь, дамы – все как водится. Но главный интерес собраний был, конечно, в «очной ставке» представителей церкви – не только в рясах, но и в клобуках – с представителями интеллигенции, встрече двух лагерей, не встречавшихся по крайней мере с времен Петра (а до Петра какая была у нас «интеллигенция»?). Протопресвитер и царский духовник Янышев – и поэт-философ Н. М. Минский; рьяный архимандрит Антонин, глава духовной цензуры, который сжег бы, кажется (по его речам судя), на костре всякого инакомыслящего,… – и рядом с ним рьяный «декадент», ницшеанец и «неохристианин» Д. С. Мережковский, об исключительном пророческом таланте которого не дают никакого понятия его сравнительно тусклые книги; бледный в черных своих облачениях, под черным куколем епископ Феофан – и изящно-парадоксальная в своей боттичеллиевской наружности поэтесса Гиппиус… Да, это были совсем особенные собрания и совсем особая обстановка»[89]. Многие деятели тех Собраний еще до их начала получили широкую известность в литературном и художественном мире (Мережковский, Розанов, Гиппиус, В. Я. Брюсов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, другие), среди участников было немало духовных лиц (будущий патриарх Сергий (Страгородский), обновленческий деятель Антонин (Грановский), богослов протоиерей С. А. Соллертинский, духовник императора протопресвитер И. Л. Янышев, другие). Собрания не были похожи на замкнутый кружок философов, обсуждающих отвлеченные вопросы. Многие доклады касались актуальных проблем того времени, вызывали широкий отклик. В виду интереса к собраниям, было принято решение о публикации их стенограмм. Стенограммы начали печататься (с многочисленными цензурными изъятиями) в журнале «Новый путь» – начиная с № 1 за 1903 год. Правда, немного погодя после запрещения собраний (всего их было 22) последовал и запрет печатать их протоколы. Ненадолго собрания спасло «честное слово» Янышева Николаю II, что на собраниях нет ничего преступного, но это была лишь краткая отсрочка.
Тем не менее, начало было положено: мысль о необходимости «обновления» христианства обрела многих сторонников среди светской интеллигенции. Даже в марксистской среде появились «богоискатели» и «богостроители». «Богостроительству» отдали дань и знакомые Бердяева по ссылке – Богданов и Луначарский. (Резкую отповедь богостроителям дал в своих статьях Ленин). Отец Василий Зеньковский в своем замечательном труде «История русской философии» писал: «Для русской жизни в ХХ веке характерно не только революционное движение в социально-политической области… не менее характерно революционное или реформистское движение и в религиозно-философской области. Это движение развивается под знаком „нового религиозного сознания“ и строит свою программу в сознательном противопоставлении себя историческому христианству, – оно ждет новых откровений, создает (под влиянием Вл. Соловьева) утопию «религиозной общественности»[90].
Самыми последовательными «неохристианами» были, наверное, Мережковские: они не раз писали о грядущей религии «Третьего Завета». Если Ветхий Завет был религией Отца, Новый Завет – религией Сына, то Третий Завет должен был стать, по их мнению, религией Святого духа, своеобразным синтезом «правды о земле» (язычества) и «правды о небе» (христианства). «В первом царстве Отца, Ветхом Завете, открылась власть Божья, как истина; во втором царстве Сына, Новом Завете, открывается истина, как любовь; в третьем и последнем царстве Духа, в грядущем Завете, откроется любовь, как свобода»[91], – верили Мережковские. В своей знаменитой исторической трилогии «Христос и Антихрист» Мережковский пытался обосновать именно эту идею, показывая, что в истории человеческой культуры уже предпринимались попытки синтеза «земной» и «небесной» правд, но они не были удачными в силу незрелости человеческого общества. Мережковский писал о мистическом тождестве «правды плоти», нашедшей свое полное выражение в язычестве, и «правды духа», воплотившейся в аскетически понимаемом христианстве. Именно в будущем соединении этих двух правд – «полнота религиозной истины». Мережковские и Философов даже пытались создать «ячейку» церкви Третьего Завета. Если идея «нового религиозного сознания» получила довольно широкое распространение, то к плану о создании обновленной церкви большинство знакомых Мережковских относились скептически. Андрей Белый, например, иронично относил этот план в разряд «литературных бомб», взрывающихся только на страницах журналов, но отнюдь не в реальности, а Дмитрия Сергеевича называл «протопопиком нового сознания» и «головным резонером»[92].
Розанов, которого часто называли «русским Фрейдом», добавлял в «новое религиозное сознание» свою нотку: вопросы пола. Бердяев написал о Розанове в 1907 году: «Весь Розанов есть реакция на христианскую отраву пола, есть восстановление первоначальной святости пола»[93]. Пол для Василия Васильевича был «мистической точкой» притяжения человека. Думаю, вовлеченность в эту тему объяснялась личной историей Розанова: в студенческие годы он женился на Аполлинарии Сусловой (бывшей в 60-е годы возлюбленной Ф. М. Достоевского) – женщине намного старше его, поразившей провинциального юношу своими передовыми взглядами, связями с литературным «бомондом», отблеском любви к ней великого писателя. Когда после окончания Московского университета Розанов оказался в положении провинциального школьного учителя, Суслова его, разумеется, оставила и с ним ни в Брянск, ни в Елец не поехала. Тем не менее, спустя несколько лет, когда Розанов встретил женщину своей судьбы – Варвару Дмитриевну Бутягину, вдову учителя Елецкой гимназии, женщину глубоко верующую, из семьи священника (и потому чрезвычайно серьезно относящуюся к церковному освящению брака), Суслова развод ему дать отказалась. В результате много лет Розановы жили в совершенно двусмысленном положении, а их пятеро детей по существовавшим в ту пору церковно-государственным законам считались «незаконнорожденными» и даже не имели права носить ни фамилию, ни отчество отца. Розанов поднял настоящее восстание против официальной точки зрения церкви и «общественного мнения» в защиту семьи, он искал абсолютное, то есть религиозное ее обоснование: «Я давно про себя решил, – излагал свою позицию Розанов, – что «домашний очаг», «свой дом», «своя семья» есть единственно святое место на земле, единственно чистое, безгрешное место: выше Церкви, где была инквизиция, выше храмов – ибо и в храмах проливалась кровь»[94]. Пол понимался им как сокровенное начало семейной жизни, потому в своих сочинениях он показывал связь Бога и пола в древних религиях и культурах, считая, что историческое христианство нарушило изначально заложенную Богом гармонию проповедью аскезы, воздержания, умерщвления плоти. Тема пола у Розанова просто неиссякаема, она привела его к культу плодовитости и воспроизводства, апологии фаллоса, человеческого семени: он даже православных священников любил за то, что у них много детей. Соответственно, он обвинял христианство в ослаблении человеческой сексуальности, десакрализации половой любви и считал, что будущее религии – в воспевании пола и жизни.
Эта философия пола удивительно совпадала по своей тональности с христианским модернизмом других деятелей нового религиозного сознания, среди которых было немало «декадентов». Розанов постепенно сблизился с ними, хотя сначала даже немного побаивался этого круга, считая, что на «понедельниках» у Дягилева или во время «собраний» на квартире Мережковских должно происходить что-нибудь несусветное, не вписывающееся в его простой и немного даже архаичный быт. Впервые он шел к Дягилеву с опаской, даже люстра в форме дракона показалась ему признаком «декадентства», но именно под этой люстрой он потом нашел много благодарных слушателей, поддерживающих его идеи. Розановские темы оказали колоссальное воздействие не только на индивидуальные теоретические позиции Мережковского, Гиппиус, Бакста, но на облик всего русского религиозного ренессанса начала века. Не избежал влияния розановской философии и Бердяев, – это заметно в ряде его работ. Утверждения Николая Александровича, что «религиозный вопрос ныне тесно связан с проблемой пола и любви»[95], прямо продолжают темы Розанова.
Этот же круг людей «нового религиозного сознания» заметил и ранние работы Бердяева, особенно его статью в «Проблемах идеализма». Молодым киевским автором заинтересовались в «Новом пути». «Толстый» ежемесячный журнал, возникший как продолжение Религиозно-философских собраний, был детищем Мережковских. В поэтическом разделе они часто печатали свои стихотворения (и работы других символистов – К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Блока, Ф. Сологуба), в прозаическом были опубликованы рассказы Зинаиды Гиппиус и выдержки из романа «Петр и Алексей» Мережковского (но и сочинения Ремизова, Б. Зайцева, С. Сергеева-Ценского), в философском – доклады Мережковского на Религиозно-философских собраниях (но и работы Вяч. Иванова, П. Флоренского). Свой раздел в журнале был и у Розанова, – он назывался «В своем углу», отличался исповедальной окраской: Розанов выдерживал интимную тональность в общении со своими читателями. В целом, журнальную политику определяли Мережковские. Это был своего рода диктат, из-за которого В. Я. Брюсов отказался быть секретарем журнала еще до его рождения, а П. П. Перцов, согласившийся занять этот пост, довольно быстро от него отказался. Секретарем стал Д. В. Философов, у которого расхождений с Мережковскими практически не было в силу их исключительной близости (он был одним из членов знаменитого «троебратства»: Гиппиус, Мережковский, Философов), но журнал стал испытывать трудности в финансировании. Произошло это во многом из-за запрета Победоносцева публиковать протоколы Религиозно-философских собраний, – после прекращения публикаций интерес к журналу резко упал. Необходима была новая концепция журнала, но Философов не мог ее предложить. Тогда у Мережковских и нового секретаря журнала – Георгия Ивановича Чулкова – возникла идея привлечения к сотрудничеству в «Новом пути» «идеалистов» – Булгакова, Бердяева, Новгородцева, Франка. Отчасти способствовало этому и личное знакомство Булгакова и Розанова: Булгаков был учеником Розанова в Елецкой гимназии, они переписывались. Переговоры с Булгаковым и Бердяевым вел Чулков: он тоже был в прошлом революционером, побывал в сибирской ссылке, ревниво следил за политическим направлением журнала. Для переговоров Чулков (по поручению Мережковских) выехал в Крым, в Кореиз, где в это время находился Булгаков. Переговоры шли нелегко: «В то время Бердяев и Булгаков, хотя и разочаровались в марксизме, ревниво еще отстаивали социалистические идеи. Неясность в этом отношении позиции «Нового пути» смущала их»[96], – писал потом Георгий Иванович. Тем не менее, соглашение было достигнуто. Возможно, на положительный ответ со стороны Бердяева повлиял тот факт, что ему очень понравилась замечательная книга (наверное, лучшая) Д. С. Мережковского «Толстой и Достоевский».
В результате жизнь Бердяева резко поменялась: 30 сентября 1904 года он просит власти разрешить ему переезд в Петербург (хотя после ссылки в течение пяти лет ему нельзя было проживать в обеих столицах), обосновывая это приглашением работать в журнале. Такое разрешение он получает. Заканчивается первый, «киевский» период его жизни и творчества. Марксизм остается позади, новыми идейными «союзниками» становятся представители «нового религиозного сознания». В «Самопознании» Николай Александрович так писал об этом: «Произошла встреча «идеалистов», пришедших из марксизма, с представителями «нового религиозного сознания», издававшими «Новый путь», то есть, прежде всего, с Мережковскими. План нового журнала был выработан С. Н. Булгаковым и мной. Решено было воспользоваться существующим уже журналом «Новый путь», введя в него новые элементы и преобразовав его. И в группе «Нового пути», и в группе «идеалистов» (наименование неточное) были религиозные искания, но в «Новом пути» ориентация была главным образом литературная, у нас же главным образом философская и общественная. Сильной стороной старого «Нового пути» было печатание протоколов Религиозно-философских собраний. Литературная часть обновленного журнала была дана группой старого «Нового пути», философская и политическая часть нами. Произошло соглашение людей разного прошлого и разного типа, которое оказалось непрочным»[97].
До своего отъезда в столицу Бердяев выступал несколько раз с докладами в Киеве, ездил в Петербург по делам, встречался с друзьями. Но, возможно, главная встреча в его судьбе произошла 19 февраля 1904 года. Его, Шестова и Булгакова пригласили на банкет в Литературно-артистическое общество по случаю годовщины реформы освобождения крестьян, где они выступили с небольшими речами. После выступлений Булгаков подвел к Бердяеву Лидию Юдифовну Трушеву-Рапп и ее младшую сестру, Евгению. С этого момента жизни Николая Александровича и Лидии Юдифовны были связаны друг с другом более 40 лет. Но об этом – в следующей главе.
Часть 2. «Эпоха обогащения душ»
5. Лидия Трушева – «друг жизни»
…любовь больше того, кто любит.
И. БродскийЖизнь Лидии Трушевой началась в Харькове. А вот по поводу даты ее рождения существуют некоторые разногласия. Сам день рождения не вызывает сомнения – это 20 августа. С годами все не так ясно. Если в советском паспорте Л. Ю. Бердяевой, выданном ей в 1922 году, был указан 1874 год рождения; то через два года в Германии ей выдали удостоверение личности, где значился уже 1873 год. А в ее личном деле, хранившемся в Департаменте полиции, рождение датировалось 1871 годом. Судя по всему, именно эта цифра отражала реальное положение дел, – Лидия Юдифовна была немного старше Бердяева.
В семье Трушевых был достаток, так как отец, Юдиф Степанович, был преуспевающим юристом и состоятельным человеком. Он даже имел звание почетного гражданина города Харькова. Трое детей – Лидия, ее брат Александр и младшая сестра Евгения – получили принятое тогда у состоятельных семей образование. Девочек учили иностранным языкам с самого раннего детства – сначала бонна-немка, затем француженка; потом Лидия обучалась в пансионе при 8-классной частной женской гимназии Р. Я. Григорцевича (одной из лучших в городе), которую и закончила в 1888 году. У Трушевых был свой дом в Харькове, на лето семья выезжала на дачу Бабаки в Люботине Валковского уезда Харьковской губернии. «Богатой» жизни пришел конец, когда Лидии было 17 лет, – умер отец. Собственный дом был продан, хотя Бабаки благодаря усилиям матери удалось сохранить, – это место стало потом родным и для Бердяева. Мать Лидии, Ирина Васильевна, использовала все средства, чтобы дети не почувствовали материальных лишений. Она даже смогла найти деньги на то, чтобы отправить Лидию в 1891 году в Швейцарию, где в пансионе под Лозанной ее дочь изучала французский язык.
Достаточно широко известна история письма 19-летней Лидии к Л. Н. Толстому. Сестры Трушевы находились под влиянием народнических идей служения народу, но не знали, куда они могут приложить свои силы, «по какой дороге пойти, чтобы выйти на истинный путь»[98]. Старшая, Лидия, собиралась пойти на фельдшерские курсы, но перед принятием этого решения набралась смелости и 21 сентября 1890 года написала Льву Николаевичу. Лидия, как и Бердяев, преклонялась перед гением Толстого. (Любовь к его произведениям останется с ними на всю жизнь: уже в эмиграции они будут вслух читать по вечерам друг другу «Войну и мир»). В своем письме она просила совета: «научите же меня, как жить для души, если чувствуешь ее присутствие, не дайте заглохнуть лучшим побуждениям человеческим»[99]. Как это ни удивительно, Толстой, который получал ежедневно сотни писем со всего света, ответил Лидии, – чем-то старика тронуло письмо молоденькой девушки. Он отговаривал ее поступать на фельдшерские курсы, не советовал «вообще искать средств делать добро. – Прежде всего надо искать средств перестать делать зло, которым полна наша жизнь»[100]. Великий писатель указал Лидии на христианский идеал нагорной проповеди, с которым необходимо сличать свою жизнь (и тогда работы над собой хватит навсегда!). Он невольно угадал со своими советами: Лидия представляла собой исключение в не слишком религиозной семье Трушевых, – вера всегда много значила в ее жизни. Поэтому обращение Толстого к Евангелию от Матфея сразу нашло отклик в ее душе. Она попыталась продолжить переписку, написала еще одно письмо, но на него Толстой уже не ответил. Вслед за Лидией Толстому написала и Евгения, но и на это письмо ответа не последовало.
Две сестры – Лидия и Евгения – были чрезвычайно близки. У них были общие увлечения, книги, знакомые, представления о будущей жизни. Неудивительно, что даже замуж они вышли за двух братьев Рапп: Лидия стала женой Виктора Ивановича – он был старше ее всего на год, служил в Харьковской контрольной палате и был совладельцем издательства, специализировавшегося на книгах для народа[101]. Евгения вышла за своего тезку – Евгения Ивановича, юриста, выпускника Харьковского университета. Все четверо были близкими друг другу людьми, – не только с точки зрения родственных связей, но и по духу, по революционным убеждениям. Они были вхожи в социал-демократические кружки, в частности, в Харьковский социал-демократический рабочий союз ремесленников. Результатом этого стал первый арест сестер в 1900 году. Лидия и Евгения провели в тюрьме 20 дней. В конце концов, удалось убедить следствие, что они занимались с рабочими просветительской деятельностью, никакой нелегальной литературы не распространяли, поэтому мать добилась их освобождения под залог в 2000 рублей за каждую. Муж Евгении тоже в этом же году попал в тюрьму по политическому обвинению.
Освободившись, сестры через несколько месяцев уехали в Париж, где брали уроки живописи и скульптуры и учились в Русской Высшей Школе общественных наук. История этого учебного заведения интересна: при Всемирной Парижской Выставке были учреждены национальные комитеты, которые организовывали лекции известных ученых о развитии науки, культуры, искусства в разных странах. Читали такие лекции и русские ученые: всего их было организовано 51, причем они пользовались большим интересом у публики. Особенно активны в посещении лекций были представители Русского студенческого общества, которое объединяло выходцев из России, обучавшихся во французских учебных заведениях. Члены этого общества и высказали пожелание сделать лекции постоянными. Идея получила поддержку, и в конце XIX века в крупных городах Европы (Стокгольме, Брюсселе, Милане, Лондоне и Париже) возникли так называемые «свободные» учебные заведения, где велось обучение различным общественным наукам. Эти учебные заведения существовали за счет добровольных денежных пожертвований и небольшой платы, вносимой за обучение слушателями. Прием в них был свободным – без каких-либо ограничений по возрасту, полу, социальному происхождению и без экзаменов. Высшая школа в Париже существовала в рамках французской Свободной Высшей школы общественных наук, на территории Сорбонны. На лекции иногда собиралось по 400-500 человек!
Это замечательное начинание имело и оборотную сторону: невысокая плата за обучение, отсутствие каких-либо барьеров при поступлении, возможность получить легальное разрешение на проживание во Франции привели к тому, что, во-первых, интеллектуальный уровень слушателей не всегда был высок, а во-вторых, в школе оказалось очень много политизированной молодежи. Через два года после сестер Трушевых-Рапп здесь, например, выступал Ленин, занятия посещал Лев Троцкий и т. д. Политизированная обстановка школы не могла не сказаться на сестрах: вернувшись в Россию, они вновь активно занялись революционной деятельностью.
В 1903 году сестры и их мужья сотрудничали с Харьковским комитетом РСДРП. Результатом стал второй арест в сентябре: все четверо оказались в тюрьме, и второе заключение было более продолжительным – несколько месяцев. Правда, нравы царских тюрем несколько отличались от того, что спустя несколько десятилетий ожидало «врагов народа» в советских пеницитарных заведениях. Приятельница Лидии и Евгении, Н. К. Исакович (ее муж был арестован вместе с сестрами), в одном из писем общей знакомой рассказывала, что передала Лидии и Евгении в тюрьму цветы (!), что сестры сохраняют элегантность и сделали «массу заказов, как то: кофточки, шелковые юбки и т. д.»[102] В другом письме она писала, что передала арестантам около 100 книг. Вряд ли советские политзаключенные могли даже представить себе такую жизнь в тюрьмах…
Мать арестанток хлопотала об освобождении дочерей. Когда она уже почти потеряла надежду, в 1904 году их освободили по решению прокурора Харьковской судебной палаты. Но сестры должны были покинуть Харьков и переехать в любой другой город по их выбору. Лидия и Евгения выбрали Киев (что тоже поражает: они находились под секретным надзором полиции, но смогли переехать в более крупный университетский город!) В Киеве Виктор Иванович Рапп был вновь арестован и заключен уже в Киевскую тюрьму, Лидия же встретила Бердяева…
Судя по сохранившимся фотографиям, Лидия была хороша собой («редкостный профиль и по красоте редкостные глаза», – написал потом про нее известный писатель Борис Зайцев), да и собеседницей была живой. Ее многое сближало с Бердяевым – им нравились одни книги (Толстой, Достоевский, символисты), оба они прошли через увлечение революционными идеями, оба хотели реализовать себя в духе, оба искали родства душ, не удовлетворяясь чувственным, бытовым планом бытия. Интерес друг к другу возник практически сразу, роман развивался стремительно. Практически ежедневные прогулки по вечернему Киеву, катание на лодке по Днепру, бесконечные разговоры обо всем на свете, порожденные стремлением быть понятым, принятым, оцененным… Когда летом 1904 года Бердяев отправился в Европу (в Германию, Швейцарию, где он принял участие в философском конгрессе, затем в Италию), их отношения достигли той стадии определенности, когда будущую жизнь представляют только вместе. Об их общении до свадьбы помогают узнать 21 сохранившееся письмо Николая Александровича Лидии Трушевой из-за границы и из Киева (когда она уехала на дачу Бабаки в Люботин), но главное – эти письма приоткрывают тайну внутреннего мира самого Бердяева.
Первое письмо Лидии Бердяев написал еще на вокзале, перед своим отъездом из Киева. Оно дает представление не только о глубине переживаемого им чувства (он начал скучать о ней еще не выехав из родного города!), но и о том, насколько оно было неожиданным: «Мне все еще трудно привыкнуть к тому, что в моей жизни произошел такой огромный перелом, что теперь все уже будет иначе, лучше, чище и радостнее, вне мысли я ведь для себя ничего не ждал. И вдруг Ты (с большой буквы)… Раньше я был так одинок, а теперь с тобой, мое солнце, я буду с тобой, куда бы я ни ушел»[103]. Но «быть с тобой» для Бердяева означало раскрыть перед Лидией свою душу, избавиться от возможных иллюзий с ее стороны. В этих письмах он писал ей о том, о чем трудно было сказать при личных встречах, – о своей раздражительности, нетерпимости, высокомерии, снобизме. Он не хотел иметь тайн от любимой и обнажал перед нею скрываемое в обычной жизни. «Я иногда не без горького чувства сознаю, до какой степени мне чужды демократические чувства и интересы, до какой страшной степени я аристократ не только во внутреннем, но и во внешнем смысле этого слова. Я люблю контрасты жизни, люблю яркие краски, люблю красоту во всем строе жизни, ненавижу плебейство, страдаю от грязных ногтей, от скверного запаха, от грубых манер, – признавался бывший марксист Бердяев. – Во мне часто играет моя кавалергардская аристократическая кровь и влечет меня к шампанскому, к хорошим Hotel'ям, к первому классу….Спасает меня только ненависть к духовному плебейству сословной аристократии и безмерная любовь к свободе»[104]. Он признавался Лидии даже в презрении к людям: «Я к людям и ко многому в жизни отношусь даже слишком «свысока»… это просто высокомерие и презрение, потому что люди кажутся мне дураками и плебеями, а дела их ничтожными и мелкими. Но я горю от постоянного внутреннего раздражения, и разрушительно на меня действует, что я внешне постоянно себя сдерживаю. Иногда мне кажется, что я кончу каким-нибудь уголовным преступлением, дуэлью или чем-нибудь подобным… Тебе не знакома еще моя необузданная ярость и моя способность к незаслуженному оскорблению близких. Я боюсь себя. Моя мягкость предательская, нет ничего хуже этих мягких эгоистов»[105].
Надо сказать, что знакомые Бердяева видели перед собой совсем иного человека, – интеллигентного, открытого для бесед и общения, заботливого к приятелям. Близкий друг Бердяева, Евгения Герцык, удивлялась, «насколько он умел быть терпимым, мириться с чужой правдой»[106], Андрей Белый отмечал, что «в личном общении он очень мягок, широк, понимающ»[107], что «в жизни он был терпеливый, терпимый, задумчивый, мягкий и грустно-веселый какой-то; словами вколачивал догмат, а из-под слов улыбался адогматической грустью шумящей и блекнущей зелени парков, когда, золотая, она так прощально зардеет лучами склоненного солнца»[108]. Сам Бердяев, писал позже о себе (уже для читателя, а не в исповедальных письмах), что для него нет ничего более чуждого, чем гордая манера себя держать и подчеркивать свое превосходство над «средними» людьми. Поэтому в письмах к Лидии, когда он признавался, что «самая страшная и самая глуюокая болезнь» его жизни – это гордыня[109], он действительно приоткрывал тщательно скрываемые тайники собственной души, о которых мало кто знал.
Есть в этих письмах и нотки высокомерия, которые вряд ли могли прозвучать из уст автора в разговоре с менее близким человеком: «Всегда у меня была уверенность в своих огромных, выходящих из ряда вон умственных силах и дарованиях и всегда я сознавал свое превосходство над другими людьми»[110], – писал Бердяев. Или – о том же, но другими словами: «всегда, всегда я считал себя человеком большого калибра, верил, что отмечен я перстом Божьим среди других людей, и этого сознания не могут уничтожить во мне никакие силы мира»[111]. В одном из писем, уже из Киева, Николай признавался: «У меня часто бывали припадки болезненного раздражения и неистовства, когда я поклонялся себе, как богу (все-таки с маленькой буквы), а людей никогда не мог любить, не мог никого считать равным себе»[112]. Он верил в свое «высокое предназначение в мире», в то, что многому может «научить людей», описывал интерес к себе со стороны участников философского конгресса в Женеве, и не случайно просил Лидию сохранить «для потомства» одно из своих «философских» писем. Конечно, такое самолюбование и некритическое отношение к себе можно объяснить молодостью: Бердяеву было 30 лет, а в эту пору многие склонны переоценивать свою уникальность, непохожесть на других и рисовать себе неординарную жизнь. Кто-то мечтает о Нобелевской премии, кто-то – о кругосветных путешествиях, а Бердяев мечтал о философской славе, – в этом нет ничего необычного. Но, вместе с тем, в этих строках проявилась не только завышенная самооценка молодого человека, но и некоторые черты характера, не связанные с возрастом. Читая письма Бердяева, написанные уже пожилым человеком, его автобиографии, «Самопознание», можно заметить, что Николай Аолександрович всегда был склонен несколько переоценивать, преувеличивать свою роль в тех или иных событиях, интерпретировать произошедшее с наиболее приятной для себя точки зрения. Влюбленность в себя сохранилась у него на всю жизнь.
Из писем встает и тот образ будущих отношений с любимой, которых ждал Бердяев. С одной стороны, он, как и миллионы влюбленных мужчин до и после него, просил любимую прислать ему фотографическую карточку, говорил, что хочет взять ее на руки и унести далеко-далеко, беспокоился, почему долго не приходят ответные письма, выводил: «целую твои ножки», ревновал к Виктору Раппу («В Люботине ли твой муж (идиотское слово) и какие у тебя с ним отношения?»). Но, с другой стороны, – писал ей большие философские письма, в которых объяснял свое миросозерцание, говорил о «трансцендентности всякого бытия мышлению», предлагал найти себе «желанную и до известной степени удовлетворяющую работу» вместе с ним в петербургском журнале (это желание не сбылось, – Лидия Юдифовна никогда не работала), а главное – строил модель будущих отношений, свободных от власти обыденности. «Нужно… сбросить с себя эту кошмарную власть обыденности, какими бы добродетелями она ни прикрывалась, – обращался Бердяев к Лидии. – Мы должны создать для себя необыденный мир, наше собственное царство, и я верю, что мы это сделаем… Мы победим прозу жизни и не позволим обыденности нас засосать… У нас должно быть то, чего ни у кого нет»[113].
В своих статьях того времени Бердяев вспоминал теорию Платона о двух типах любви – об «Афродите небесной» и «Афродите пошлой, простонародной». Любовь Афродиты пошлой, как писал Платон, – это как раз та любовь, которой любят люди ничтожные, они любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души. Чувство же, вызываемое Афродитой небесной, – это духовный союз, предполагающий взаимное совершенствование, когда человек сделает для возлюбленного все, что угодно, но и сам при этом станет лучше («а это прекрасней всего на свете», – замечал Платон). Платоновский миф о двух Афродитах явно оказал большое влияние на Бердяева. Для Бердяева разница между Афродитой небесной и Афродитой простонародной – это разница между любовью личной, ведущей к бессмертию индивидуальности, и любовью природной, безлично-родовой, цель которой – размножение. В его письмах к Лидии есть замечательный абзац, который помогает понять, что значило для Бердяева настигшее его чувство: «В жизни своей я любил только три вещи, – писал Бердяев из Цюриха, – любил неумело и беспредельно, философию, свободу, красоту. Теперь также люблю еще одну большую вещь, красивую, свободную и философскую, люблю тебя, хочу окружить тебя красотой, построить для тебя храм и поклоняться тебе, там самым поклоняясь и самому себе»[114]. Поклоняться любимой, – но и поклоняться самому себе: платоновский идеал взаимного совершенствования, утверждения индивидуальности, родства душ, а не тел.
Вместе с тем, телесный момент много значил для молодого Бердяева. Проблемы пола обсуждались им не только теоретически, но и применительно к будущей жизни с Лидией, ведь настоящая любовь в его представлении подразумевала гармоническое слияние духовного и плотского начал. Лидия, видимо, думала иначе, и он ей отвечал: «Я не верю в чистоту физических аскетов, аскеты обыкновенно или развратны в воображении или их добродетель есть продукт малокровия и худосочия», «аскетизм есть разврат бессилия». Сохранилось киевское письмо, написанное в октябре 1904 года, возможно, после какой-то знаменательной для двоих встречи, отношение к которой у Бердяева было двояким: «мне бесконечно грустно и больно, что я был таким вчера, но может быть лучше, чтобы ты знала, с кем имеешь дело», – писал он Лидии. В этом письме была фраза, которую можно по-разному проинтерпретировать: «надо мной тяготеет проклятие половой ненормальности и вырождения». Имел в виду Бердяев какие-то стороны семейной истории или особенности своей сексуальности – неясно, но он откровенно признавался: «с ранних лет вопрос о поле казался мне страшным и важным, одним из самых важных в жизни. С этим связано у меня очень много переживаний, тяжелых и значительных для всего существования»[115]. Бердяева беспокоило и пугало, что в сексуальных вопросах его опыт и опыт Лидии «очень различный», что они по-разному относятся к этой стороне жизни. Их отношения были, по его собственному определению, «слишком дружескими и детскими, слишком бескровными и постными». Хотя Лидия уже была замужем, отсутствие сильного чувства к Виктору Раппу, полученное провинциальное воспитание, религиозность, характер и темперамент сыграли свою роль, – Бердяев буквально испугался того, что в ней «еще дремлет пол»: «ты как будто бы еще бесполое существо, и мне страшно от мысли, что я, может быть, не разбужу в тебе его (пол – О.В.)»[116]. Для него было чрезвычайно важно, чтобы не только он испытывал желание телесной близости с Лидией, но и она сама имела такие же чувства: «Ведь дело не в том, чтобы ты согласилась жить со мной в физической близости, этого страшно мало и этого нельзя принять, если ты согласна быть моей женой для меня, а не для себя, для того, чтобы я был удовлетворен, чтобы мне не было плохо, а не потому, что хочешь иметь меня своим мужем, для себя хочешь». И дальше: «На половую жизнь нельзя смотреть со стороны, она возможна только, когда обе стороны забываются, когда каждый хочет другого, не может без другого, когда два должны слиться в одно, не могут жить иначе. Я думаю, не только человеческая плоть, но и человеческий дух имеет пол…»[117]. Очевидно, что сексуальная сторона отношений с Лидией тогда много значила для Бердяева, он страстно хотел, чтобы она не была пассивной, чтобы не только он, но и она желала их близости. Гармонии телесного и духовного не получилось, – сохранились многие свидетельства о том, что их брак был духовным союзом, – во всяком случае, спустя несколько лет это наверняка было так. Сестра Лидии утверждала, что так было с самого начала их совместной жизни, – они жили как брат с сестрой, «как первые апостолы»[118]. Лидия писала в своем парижском дневнике в 1934 году, что их общение ценно тем, что было лишено «чего бы то ни было чувственного, телесного, к которому и я, и он относимся и всегда относились с одинаковым презрением, т. к. и он, и я считаем, что подлинный брак есть брак духовный»[119]. Судя по всему, в молодости Бердяев представлял себе их жизнь совсем иначе…
Читая бердяевские письма, я невольно удивлялась тому, что в них он говорил о философии, поле, духовном родстве, обретении полноты бытия, но в них почти не было «прозы жизни»: где они будут жить вдвоем, каковы будут источники их материального благополучия (хотя финансовое положение обоих нельзя было назвать устойчивым), как должна выглядеть их совместная жизнь в бытовом плане… Думаю, дело в том, что Бердяев представлял себе их любовь как возможность совершенного бытия, где дух и пол будут слиты, где индивидуальность одного будет дополняться (но не ограничиваться!) индивидуальностью другого, а для такого совершенного бытия абсолютно не важны бытовые рамки. Конечно, мечты о таком совершенстве были утопией – многие семейные лодки разбилась о быт, но подобная установка Николая несомненно повлияла на характер его отношений с Лидией, в которых быт никогда не занимал главенствующего места. Не видел Бердяев себя и в роли отца; как отмечала Зинаида Гиппиус, – он «к детям был равнодушен». Николай Александрович даже теретическое обоснование давал такой позиции, считая, что «биология устанавливает обратную пропорциональность между рождаемостью и индивидуальностью. Если органические силы идут на продолжение рода, то они естественно убывают для создания совершенной индивидуальности»[120]. Он воспринимал любовь как встречу двух личностей, где все остальное – не слишком важный фон, не более того.
Лидия отвечала Бердяеву реже, во многих письмах он описывал, как ждет от нее весточки, но не получает ее, волновался и раздражался, почему она молчит, не пишет. Первая встреча после разлуки в Киеве тоже показалась ему натянутой и не соответствующей тому образу совершенной любви, который он себе (и ей!) нарисовал. В конце октября 1904 года он написал Лидии из Варшавы (куда поехал по семейным делам майората): «Твои письма за границу не удовлетворили меня, а наша встреча после разлуки очень ранила меня… Скажи, я для тебя то же, что ты для меня? Когда это так и мы оба это будем чувствовать каждую секунду, тогда начнется совершенно новая жизнь. У нас должно быть то, чего ни у кого нет». Страстная вера в возможность высокой любви безо всяких изъянов, в существование Афродиты небесной, пронизывала все мысли Бердяева в тот период его жизни. Думаю, он заразил этой верой и Лидию.
Всего год назад, в 1903 году, Николай писал матери, что не предназначен для семейной жизни. Но, встретив Лидию Юдифовну, он изменил свое мнение. Они решили связать свои жизни. Судя по всему, вначале их брак был гражданским: в церковных метрических книгах Киева за 1904 год записи об их бракосочетании не содержится. Брак сына родители встретили доброжелательно. В своих дневниках Лидия многие годы спустя вспоминала семью Бердяевых, членом которой она стала: «Мать Ни… была очаровательна, изящна, приветлива, любила общество, развлечения, но главное – была очень добра. В ней чувствовалась подлинная духовная аристократичность в лучшем смысле этого слова… Алина (Александра) Сергеевна обожала Ни, так же, как отец. Старики очень любили друг друга, хотя часто ссорились из-за пустяков. Мать Ни относилась ко мне как к родной дочери, ласково и нежно»[121].
В результате важных перемен в своей жизни Бердяев, получив разрешение на проживание в столице, приехал в конце 1904 года в Петербург уже не один, а с Лидией Юдифовной. Сначала они сняли квартиру неподалеку от журнала «Новый путь», но потом и вовсе переехали в помещение на Саперной улице, где размещалась редакция, последовав примеру некоторых других сотрудников. Борис Зайцев вспоминал огромную квартиру, занимаемую редакцией, «где обитал при редакции приятель мой Георгий Чулков – вроде редактора. Жил там и худенький Ремизов, в очках, уже тогда слегка горбившийся, волосы несколько взъерошенные – секретарь редакции (он появился в редакции позже Бердяева – О.В.). Издатель журнала – скромный меценат Жуковский. Главными тузами считались Булгаков… и Бердяев, только что начинавший, но сразу обративший на себя внимание»[122].
6. Петербургский Серебряный век
Хочу не только понять смысл жизни, но и реализовать его в полноте жизни.
Н. БердяевБулгаков и Бердяев мечтали о своем собственном журнале давно. Но им, скомпрометированным в глазах властей своей революционной деятельностью, получить разрешение на издание журнала было практически невозможно. Поэтому еще в Киеве они обратились к известному философу Николаю Онуфриевичу Лосскому с просьбой согласиться взять на себя номинальное звание редактора. В результате, после вручения взятки какому-то крупному чиновнику в управлении по делам печати, разрешение на журнал «Вопросы жизни» было получено.
Предложение Чулкова заставило их на время отказаться от организации нового журнала. Они рассматривали «Новый путь» как компромисс: философскую и «общественную» линию журнала они надеялись определять сами, а Мережковским оставить литературно-художественную часть издания. Надо сказать, что суверенитет литературной части журнала не всегда выдерживался «новичками»: Сергей Булгаков резко высказывался против некоторых материалов (особенно не нравились ему стихи символистов), Бердяев, в отличие от него, стихи любил, но зато очень придирчиво оценивал «общественное» направление литературных произведений. Конфликт был неизбежен, но несколько номеров журнала в такой «обновленной» версии выпустить удалось. Бердяев окунулся в водоворот дел: он писал по статье практически в каждый номер журнала, договаривался с интересными авторами, отбирал присланные материалы. Но чем активнее работали новые члены редакции, чем сильнее влияли они на направленность журнала, тем меньше журнального простора оставалось у Мережковских (а ведь раньше в «Новом пути» был их «диктат»!). Зинаида Николаевна описывала это позднее так: «В редакции «Нового пути»… повеяло иным воздухом, сказать по правде – как бы чужим, да и люди, которых привели с собой главные «идеалисты»… тоже казались нам чужими. Розанов совсем скис и в редакцию почти не приходил. А раньше – отовсюду забегал, хоть на минутку. Д.С. …тоже перестал понимать проводимую в «Новом пути» реформу и очень охладел к журналу… Мы все, как новички, скромно отдалились тогда от журнала в его «общественной» части. Нам была предоставлена область литературы и литературной критики. Но скоро и тут начались трения… Такие трения все умножались, и мы стали подумывать просто передать им журнал. У нас, кстати, уже назревали другие планы. И с «идеалистами» – видно было – нам пока что не по пути»[123].
Конечно, спустя годы Зинаида Николаевна описывала этот конфликт мудро и спокойно. Не думаю, что так же отстраненно она подходила к происходящему в начале 1905 года. К тому же, поводом для разрыва стала как раз ее собственная статья: ее отказались печатать (!) как слишком политизированную и реакционную. Чулков, Булгаков, Бердяев заняли в этом вопросе общую позицию, то есть, с точки зрения Мережковских, редакция окончательно вышла из повиновения. По сути, это был бунт против «литературных генералов»[124]. Тогда Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич демонстративно вышли из состава редакции и потребовали закрытия журнала. В конце концов, было принято решение, что «Новый путь» станет «Вопросами жизни» – именно на такое издание удалось получить разрешение Бердяеву с Булгаковым еще в Киеве. Деньги на новый журнал великодушно и бескорыстно дал Д. Е. Жуковский, который издавал философские книги, – многие за свой счет. Политический и философский отделы были в руках Булгакова и Бердяева, отдел беллетристики, поэзии и критики возглавил Г. И. Чулков. Георгий Иванович, который стал своего рода «соединителем» двух журналов, так оценил произошедшие перемены: ««Вопросы жизни» не были тем боевым, своеобразным и нарушавшим все интеллигентские традиции журналом, каким был «Новый путь», но зато новый журнал был солиднее, умнее, убедительнее, внушительнее своего неосторожного предшественника»[125]. Сам Чулков солиднее не стал: А. Белый с улыбкой вспоминал, что Георгий Иванович «бросался на все точки зрения; и – через них перемахивал; но от этих спортивных занятий прихрамывал он то на правую, то на левую ногу»[126]. Он так описывал Чулкова времен «Вопросов жизни»: «…дверь распахнулась – влетел Чулков с дыбом взбитыми волосами, – худой, впалогрудый и бледный, поднявши сквозняк; резолюции, протоколы, бумажки, взвитые, уносятся в вентилятор; …«несется» он с пачкой листков, иль размноженного протеста, торчащего из его фалды с платком носовым;… Георгий Иванович басит трубно: в нос; а клок волос пляшет… Он всегда оголтелый: и это – от всех преодоленных позиций; недоуменье в его широко открытых глазах; рот – полуоткрыт: через что перемахивать, когда все уже вымахано?»[127] Андрей Белый с симпатией описывал героическую попытку Георгия Ивановича «вздуть пламя из еле тлеющего пепелища «Вопросов жизни»[128], да и другие авторы и сотрудники журнала отмечали, что энергия и энтузиазм Чулкова были немаловажной причиной возникновения нового журнала.
Поскольку Чулков получил «повышение», став редактором литературно-художественного раздела, то секретарем пригласили недавно приехавшего из вологодской ссылки A. M. Ремизова. Поселился в редакционной квартире Ремизов вместе с женой, С. П. Ремизовой-Довгелло, полной и большой дамой, ставшей вскоре известной в литературных кругах благодаря исключительной прямоте своих суждений, а также из-за «почтительного восхищения», которым всегда окружал ее муж. Николай Александрович очень радовался приезду Ремизова, считая, что это сделает их с Лидией петербургскую жизнь гораздо интереснее. Это сбылось лишь отчасти: понимания и приязни между Лидией и женой Ремизова не возникло. Бердяев вспоминал людей, с которыми сотрудничал в то время, хотя и несколько преувеличивал роль «своего» журнала: «Журнал «Вопросы жизни» был местом встречи всех новых течений. Сотрудниками были люди, пришедшие из разных миров и потом разошедшиеся по разным мирам. Кроме редакторов, С. Булгакова и меня, в журнале участвовали: Д. Мережковский, В. Розанов, А. Карташев, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, А. Ремизов, Г. Чулков, Л. Шестов, М. Гершензон, С. Франк, П. Струве, князь Е. Трубецкой, П. Новгородцев, Ф. Зелинский, Б. Кистяковский, Волжский, В. Эрн; из политиков – радикалы-освобожденцы и некоторые более свободомыслящие социал-демократы»[129].
Надо сказать, что разрыв с Мережковскими у Бердяева не носил окончательного характера. Они не только продолжали общаться, но и сотрудничали: Мережковские планировали издать сборник «Царь и революция» и предложили Бердяеву написать для него статью, да и в «Вопросах жизни» они публиковались. Зинаида Николаевна писала в мемуарах: «… с Н. Бердяевым мы лично очень подружились. Особенно я. Случалось, наши с ним разговоры затягивались «далеко за полночь». Разговоры больше метафизические, так как от всякой мистики и религии он был еще на порядочном расстоянии»[130].
Наверное, замечанию Зинаиды Николаевны можно поверить, – не только потому, что человеком она была наблюдательным и близко знала Бердяев, но и потому, что похожее впечатление складывалось и у других людей, общавшихся с Николаем Александровичем в то время. Например, Чулков считал, что именно в петербургский период происходил очередной перелом во взглядах философа: «В это время и Булгаков, и Бердяев переживали второй духовный кризис. Когда-то ревнители «диалектического материализма» – они, вкусив чашу с кантианским ядом, не могли уже вернуться в стан своих недавних единомышленников. Но теперь они были на пороге нового миросозерцания. Кантианский идеализм их не удовлетворял. …Оба они склонялись все более и более к «положительной религии».[131] Именно в петербургский период своей жизни Николай Александрович перешел от «неоидеализма» к религиозной философии.
В эти же петербургские годы Бердяев впервые тесно соприкоснулся с литературно-художественным миром. Первыми его проводниками в этот мир стали, конечно, Мережковские. Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич были близки с кружком С. П. Дягилева, выразителем взглядов которого был журнал «Мир искусства». Организованные ими Религиозно-философские собрания имели самый широкий отклик в среде художественной интеллигенции. Их «Новый путь» активно участвовал в жизни столицы, оппонируя другому течению символистов, опиравшихся на московское издательство «Скорпион» и возглавляемых Брюсовым. Очевидно, что Мережковские занимали одно из самых видных мест в культурной жизни северной столицы. Да и сама их квартира, где Бердяев очень часто бывал, была чем-то вроде литературного салона. А. Белый говорил, что у Мережковских «воистину творили культуру». Особую роль в создании такого «культурного оазиса», конечно, играла Зинаида Николаевна – «Зинаида прекрасная», «декадентская мадонна», «мэтрисса» символизма. Ее рисовал Л. С. Бакст, ей посвящали стихи Брюсов и Белый, с ней спорили на философские темы Розанов и Бердяев… Упоминавшийся уже П. П. Перцов писал о З. Н. Гиппиус: «Высокая, стройная блондинка с длинными золотистыми волосами и изумрудными глазами русалки, в очень шедшем к ней голубом платье, она бросалась в глаза своей наружностью. Эту наружность несколько лет спустя я назвал бы «боттичеллиевской»… Весь Петербург ее знал, благодаря этой внешности и благодаря частым ее выступлениям на литературных вечерах, где она читала свои столь преступные стихи с явной бравадой»[132]. «Соблазнительная, нарядная, особенная»[133], – вторила Перцову в своих воспоминаниях Б. Погорелова. «Она была очень красивая, – соглашалась и другая знакомая. – Высокая, тонкая, как юноша, гибкая… Ей очень хотелось поражать, притягивать, очаровывать, покорять»[134]. Зинаида Николаевна и Бердяева покорила, – он с нею особенно сблизился, спустя годы называл их отношения «настоящей дружбой» и писал: «Я считаю 3.Н. очень замечательным человеком, но и очень мучительным. Меня всегда поражала ее змеиная холодность. В ней отсутствовала человеческая теплота. Явно была перемешанность женской природы с мужской, и трудно было определить, что сильнее. Было подлинное страдание. 3.Н. по природе несчастный человек. Я очень ценил ее поэзию. Но она не была поэтическим существом, была даже существом антипоэтическим, как и многие поэты той эпохи. На меня всегда мучительно действовало отсутствие поэтичности в атмосфере русского ренессанса, хотя это была эпоха расцвета поэзии…. С самим Мережковским у меня не было личного общения, да и вряд ли оно возможно. Он никого не слушал и не замечал людей»[135]. Несмотря на полный разрыв отношений, последовавший спустя несколько лет, несомненно влияние Мережковских на Бердяева в петербургский период его жизни как в личностном плане – благодаря Мережковским Бердяев вошел в абсолютно для него новую среду, познакомился со многими интересными людьми, так и в теоретическом – в его творчество вошла проблематика «нового религиозного сознания». Известный историк русской культуры В. Вейдле отмечал, что время рубежа веков было временем не просто соприкосновения, но постоянного «обмена веществ» между философией – религиозной философией – и поэзией, литературой, живописью, музыкой, а через нее и всей духовной жизнью страны[136].
Петербургская жизнь тогда имела свои точки культурного притяжения: собрания в салоне Мережковских, «понедельники» у Дягилева, розановские воскресенья, «башенные среды»… Бердяев стал завсегдаем многих таких вечеров. Благодаря «Новому пути» Бердяев лично познакомился с Василием Василевичем Розановым. Читая в Киеве розановские публикации, Бердяев заочно решил, что с их автором ему не по пути. Питерская же жизнь распорядилась иначе: несмотря на теоретические и политические разногласия, общение с Розановым продолжалось и вне редакции. По воскресеньям у Василия Васильевича часто собирались самые разные люди: А. Белый и Мережковские, Ф. Сологуб и Л. С. Бакст, Д. В. Философов и С. П. Дягилев. Бывал на «воскресеньях» и Бердяев, иногда с женой. Зинаида Гиппиус описывала внешнюю обстановку розановских «воскресений»: «Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение»[137]. Зато беседы в этой бедной обстановке за чаем с пирогами велись удивительные: про место церкви в российской истории, про образование, про религиозные истины и, конечно же, про значение пола в жизни человека. Позднее в своей философской автобиографии Бердяев так писал о Розанове: «В. В. Розанов один из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни встречать. Это настоящий уникум. В нем были типические русские черты, и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского и что в нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего гениальным писателем. По внешности, удивительной внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил пришептывая и приплевывая. Самые поразительные мысли он иногда говорил вам на ухо, приплевывая. …Читал я Розанова с наслаждением. Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе. Это настоящая магия слова. Мысли его очень теряли, когда вы их излагали своими словами. Ко мне лично Розанов относился очень хорошо, я думаю, что он меня любил. Он часто называл меня Адонисом, а иногда называл барином, при этом говорил мне «ты»»[138]. В то же время, Бердяев отмечал, что его собственное миросозерцание и розановское «принадлежали к полярно противоположным типам». С этим можно было бы согласиться, если бы не аргументация, которую он приводил. «В остром столкновении Розанова с христианством я был на стороне христианства, потому что это значило для меня быть на стороне личности против рода, свободы духа против объективированной магии плоти, в которой тонет образ человека», – писал Николай Александрович. Действительно, зрелому Бердяеву философия плоти была чужда (хотя в своем раннем творчестве он отдал дань этой теме, – прежде всего, под влиянием Розанова), темы и стиль их философского творчества совсем не походили друг на друга. Но считать Розанова безоговорочно «сталкивающимся с христианством» вряд ли возможно: отношения с церковью у Василия Васильевича были намного сложнее, – в его творчестве можно расслышать не только критику исторического христианства, но и несвойственную деятелям Серебряного века любовь к Церкви и Христу. Думаю, Розанов был гораздо ближе к Церкви, чем Бердяев, в творчестве которого громко звучали нотки религиозного модернизма. Гиппиус назвала Розанова «усердным еретиком», имея в виду, с одной стороны, его внешнее «безбожие», а с другой – погруженность Розанова в веру, его «религиозный вкус к миру». В книгах Розанова рассыпаны многочисленные признания в том, что религиозная вера определяет человека и его жизнь, что духовенство ему «всех сословий милее», а в «Уединенном» (одной из самых пронзительных розановских книг) он просто писал о себе: «Иду в Церковь! Иду! Иду!». Бердяев, только переживавший в петербургский период своей жизни поворот от неоидеализма к религиозной философии, вряд ли мог оппонировать Розанову «со стороны христианства».
Еще одним новым знакомым Бердяева из литературной среды стал «мистагог» русского символизма Вячеслав Иванович Иванов, вернувшийся весной 1905 года в Россию после многолетнего пребывания в Италии, Швейцарии и Греции. Поэт, философ, переводчик, тонкий знаток древней истории, Вячеслав Иванов и его жена, поэтесса Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал, сразу заняли заметное место в жизни столицы. Поселились Ивановы на последнем этаже здания напротив Таврического сада, где был угловой выступ, похожий на башню с куполом. Пространство выступа перегородили стенами, и получилась просторная квартира, в которой и жил со своей семьей Иванов. В летописи русской культуры начала прошлого века его квартира осталась под названием «башня». В своем письме Лидия Дмитриевна описывала свои первые впечатления от этой квартиры так: «Единственная квартира во всем Петербурге. Что-то дико фантастическое и прекрасное. 6-й этаж, из кухни ход на крышу и прогулка по крышам самого высокого дома города с видом на все четыре стороны города и боров в синих далях. Сама квартира: огромная передняя. Прямо вход в огромную, глубокую комнату, к концу ее обращающейся в свод и с единственным суживающимся кнаружи окном. Что-то готическое. Из нее вход в большую, составляющей круглый угол дома (Тверской и Таврической). Она разделена перегородками (стенками внутренними) на три комнаты, и они представляют странную форму благодаря башне»[139]. Именно здесь, начиная с осени 1905 года, проходили знаменитые ивановские «среды», на которых за несколько лет перебывали самые видные деятели культуры того времени: Александр Блок, Анна Ахматова, Михаил Кузмин, Борис Зайцев, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Федор Сологуб, Константин Сомов, Лев Бакст, Василий Розанов, Поликсена Соловьева (сестра философа Владимира Соловьева, писавшая стихи под псевдонимом Allegro), Мстислав Добужинский, Максимилиан Волошин с Маргаритой Сабашниковой… «Кто только не сиживал у нас за столом! Крупные писатели, поэты, философы, художники, актеры, музыканты, профессора, студенты, начинающие поэты, оккультисты; люди полусумасшедшие на самом деле и другие, выкидывающие что-то для оригинальности; декаденты, экзальтированные дамы»[140], – вспоминала дочь Иванова Лидия. «Обыкновенно в «башне» читались самые свежие, еще не напечатанные стихи, и, разумеется, читались как было принято тогда, торжественно и нараспев, – рассказывал Добужинский. – После же чая кроме стихов часто читались доклады на одну из животрепещущих символических тем, и тогда возникалм нередко весьма горячие прения»[141]. Завсегдатаем «сред» стал и Бердяев. Он высоко отзывался о хозяине «башни»: «Вячеслав Иванов один из самых замечательных людей той, богатой талантами, эпохи. Было что-то неожиданное в том, что человек такой необыкновенной утонченности, такой универсальной культуры народился в России… В. Иванов – лучший русский эллинист. Он – человек универсальный: поэт, ученый филолог, специалист по греческой религии, мыслитель, теолог и теософ, публицист, вмешивающийся в политику. С каждым он мог говорить по его специальности»[142].
Надо сказать, что, как и в салоне Мережковских, душой и музой собраний стала женщина – жена Иванова, «многоцветная» (по определению Б. Зайцева) Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал, приходившаяся родственницей Пушкину. Посетители «башни» нередко называли ее «Диотимой» – по имени мудрой героини платоновского диалога «Пир». Лидия Дмитриевна была красива, чрезвычайно умна, свободолюбива, эксцентрична, обладала уникальным даром притяжения. Маргарита Сабашникова описывала ее оклееную оранжевыми обоями комнату, при входе в которую стоял странной формы пестро-окрашенный сосуд, – в нем Лидия Дмитриевна хранила свои произведения, свернутые в виде свитков. При этом, несмотря на свой литературный талант, она вела все хозяйство «башни» – у нее не было кухарки или служанки, она все делала сама, несмотря на огромное количество гостей, бывавших на «башне» еженевно. Вместе с Вячеславом Ивановым она пыталась создать новый, «незамкнутый», тип семьи, которая могла бы стать началом нового человеческого общежития. Роль «третьего» в супружеском союзе Ивановых попеременно играли то поэт Сергей Городецкий, то художница Маргарита Сабашникова (жена Максимилиана Волошина, с которой он расстался – в том числе, и из-за этой истории). Но семейный «эксперимент» вряд ли можно было считать удавшимся, потому что тройственный союз каждый раз оказывался непрочным. Маргарита Сабашникова написала великолепный портрет Лидии Дмитриевны, где она была похожа на Сивиллу. Недаром в одном из своих стихотворений, посвященных жене, Иванов писал:
Пришелец, на башне притон я обрел С моею царицей – Сивиллой, Над городом-мороком – смурый орел С орлицей ширококрылой.«Башенные среды» у Вячеслава Великолепного (так часто называли Иванова) начались с осени 1905 года. Гостей встречала Лидия Дмитриевна в красном или белом античном хитоне (такую одежду она носила и в повседневной жизни). Царила богемная обстановка: стены салона были задрапированы оранжевыми коврами, горели в канделябрах свечи, гости сидели не только в креслах, но и на полу. Сама «Диотима» предпочитала сидеть на подушках, брошенных на пол посередине комнаты. Обычно зачитывались доклады на самые разные темы – религиозные, литературные, политические, оккультные. Поэты и писатели читали свои произведения. Гости на «средах» иногда оставались до самого утра. Частенько председателем «сред» был Николай Бердяев. В своих воспоминаниях о «башне» Бердяев писал, что не помнит, пропустил ли он хотя бы одно заседание за три года своей петербургской жизни и называет себя «несменяемым председателем на всех происходивших собеседованиях». Судя по архиву Вячеслава Иванова, это не соответствует действительности полностью, Николай Александрович несколько преувеличил свое значение на «башне»: на первых нескольких «средах» Бердяева не было вовсе, председательствовал сам Иванов, да и на последующих заседаниях Бердяев не всегда присутствовал[143], хотя и старался их не пропускать.
Как проходили эти собрания? Наиболее часто в исследовательской литературе описывается вечер 7 декабря 1905 года. Присутствовавшие на этой «среде» говорили о любви, явно вдохновленные сюжетом знаменитого диалога «Пир» Платона, где персонажи, отослав флейтисток и арфисток (чтобы не отвлекали от серьезного вопроса), стали рассуждать о боге Эроте, занялись выяснением природы любви. Бердяев присутствовал на этом «башенном заседании» вместе с женой. «Вспоминаю беседу об Эросе, одну из центральных тем «сред», – писал Бердяев уже пожилым человеком. – Образовался настоящий симпозион, и речи о любви произносили столь различные люди, как сам хозяин Вячеслав Иванов, приехавший из Москвы Андрей Белый и изящный проф. Ф. Ф. Зелинский, и А. Луначарский, видевший в современном пролетариате перевоплощение античного Эроса, и один материалист, который ничего не признавал, кроме физиологических процессов. Но господствовали символисты и философы религиозного направления»[144]. Андрей Белый вспоминал, что Лидия Юдифовна, отвечая в этот вечер на вопрос: «Что есть любовь?», томно поведала:
– Есть розы черные страсти!
Думаю, этот ответ запомнился Белому своей манерностью и искусственностью. Разумеется, символистские собрания не могли не быть манерными, трудно назвать их и естественными, но хороший вкус – в мере. Кроме того, для большинства «декадентов» того времени был характерен иронический взгляд на самих себя: ведь чтобы прочувствовать трансгрессию, выход за пределы нормы, необходимо твердо помнить, где пролегает нарушаемая граница нормального. Фраза же Лидии Юдифовны звучит не просто надуманно, но и напыщенно, в передаче Белого в ней совсем нет ироничного оттенка. Эту же «среду» вспоминала и Зиновьева-Аннибал в своем дневнике: «Закончила диспут Mme Бердяева красивой сказочкой, ею придуманной (мне не нравится). Божество бросило на землю четыре розы: белую, розовую, алую и черную. Люди подбирали, и каждый подобравший любил сообразно с цветом своей розы. Счастлив, подобравший себе весь букет! (буро-серый)»[145].
Надо сказать, что провинциальной Лидии Юдифовне было непросто войти в круг «литературных дам», представители «художественного бомонда» над ней иногда подсмеивались. Некоторым новым петербургским знакомым Бердяевых она искренне нравилась – Розанову, Зайцеву. Другие – Гиппиус, Брюсов, Мережковский относились к ней свысока. Например, А. М. Ремизов писал жене С. П. Ремизовой-Довгелло о вечере у Чулкова в апреле 1905 года: «Были, конечно, Бердяевы. Лидия Юдифовна спорила с Вяч. Ивановым. Чудно было слушать: один по Моммзену – историческая энциклопедия! другой от себя, Харьковской губ. Любопытно». В довольно ехидной характеристике этого разговора, конечно, была доля правды: Вячеслав Иванов поражал современников своими познаниями в истории, литературе, философии, древних религиях. Теодор Моммзен, у которого Вяч. Иванов учился в Берлине, стал лауреатом Нобелевской премии 1902 года по литературе за труд «Римская история», да и работа самого Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога» произвела фурор. Не получившая регулярного образования Лидия Юдифовна вряд ли могла стать достойной собеседницей Вячеслава Великолепного. В то же время, свойственная большинству молодых и привлекательных женщин уверенность в себе, думаю, не всегда подсказывала ей верный стиль поведения. Впрочем, были и положительные моменты произошедших в ее жизни изменений: под влиянием атмосферы, в которой она оказалась, Лидия Юдифовна вскоре стала писать стихи, – некоторые были опубликованы (под псевднимом «Лидия Лита») и заслужили положительные отзывы знаменитых знакомых.
Кроме «сред», слухи о которых разнеслись по всему Петербургу, Ивановы весной 1906 года организовали «Гафиз» – более интимный и строго ограниченный литературно-философский кружок, составленный из наиболее интересных и близких по духу людей. На «Гафизе» «все были на «ты», как в маскараде, и у всех были имена» (вспоминал Кузмин в 1934 году), вместо программы докладов (как по средам) – вольная беседа. Иванов надеялся, что «Гафиз» будет «вполне искусством»: обсуждения различных вопросов планировалось прерывать «нумерами» – танцами, песнями, стихами, сказками, некоторыми совместными действиями «гафизитов», поэтому для встреч было принято переодеваться. Античные хитоны, римские туники – недаром Л. Сабанеев назвал хозяина «башни» «воскреснувшим ритором древности»[146] – и за прихотливую внешность с золотом курчавой бородки, и за виртуозность беседы. Каждый из участников имел прозвище, которым его называли в этом кружке. Иванов именовался Гиперион или Эль-Руми, Зиновьева-Аннибал – Диотимой, Бердяев – Соломоном, Кузмин – Антиноем или Хариклом, Сомов – Аладдином и т. д. Участники были изображены в стихотворении Иванова «Друзьям Гафиза»:
Ты, Антиной-Харикл, и ты, о Диотима, И ты, утонченник скучающего Рима – Петроний, иль Корсар, и ты, Ассаргадон, Иль мудрых демонов начальник – Соломон, И ты, мой Аладин, – со мной, Гиперионом, Дервишем Эль-Руми, – почтишь гостей поклоном! ………………………………………………………………… Друзья-избранники, внемлите: пусть измена Ничья не омрачит священных сих трапез! Храните тайну их! – Ты, Муза-Мельпомена, Ты, кравчий Ганимед, стремительный Гермес, И ты, кто кистию свободной и широкой Умеешь приманить – художник быстроокий – К обманным гроздиям пернатых, – Апеллес!Сама идея костюмированного общения была не просто игрой, а отражением свойственной символизму идеи «жизнетворчества», преображения реальности, отношения к человеческой жизни как к произведению искусства. Иванов хотел вернуться к «веселому ремеслу», к «умному веселию» Ницше. В. Ф. Ходасевич объяснял театральность, ориентированность на действо у художественной интеллигенции начала века особенностями поэтики символизма, его нежеланием и неспособностью «воплотиться в одни лишь словесные формы»[147]. Для творцов культурного ренессанса начала прошлого века были характерны идеи создания эстетизированного жизненного пространства, в котором человек под воздействием импульсов внешней красоты должен обрести и специфические духовные качества. Ивановы рассчитывали, что непривычные костюм, обстановка, имена изменят сам стиль общения «гафизитов», будут располагать к свободе слова, чувств, действий. Так и произошло, но каких-либо весомых результатов эти встречи, к сожалению, не дали (не считая нескольких стихотворений и записей в дневниках участников). Тем не менее, введение «масок», игрового контекста общения, «театра» чрезвычайно важно для понимания установки участников на «жизнетворчество» – когда создается «биографический текст», сама жизнь конструируется как роман или стихотворение.
Первоначально на «Гафиз» была приглашена чета Бердяевых, но спустя несколько заседаний Лидию Юдифовну из «Гафиза» исключили за то, что она стесняла своим присутствием участников (в том числе, по мнению других «гафизитов», – самого Бердяева). Наверное, она действительно была инородным включением в этой богемной среде (да еще и с гомоэротическим привкусом). В своих дневниках Михаил Кузмин бегло описывал происходившее на Гафизе, – как Городецкий притворялся спящим, чтобы присутствовавшие «будили» его поцелуями, как после стихов и «мудрости» участники плясали, а тот же Городецкий из своего хитона устраивал «палатки» над разбросанными по полу тюфяками, где присутствовавшие обнимались и вели беседы о любви. Думаю, как ни храбрилась Лидия Юдифовна, происходившее было ей чуждо, и это почувствовали другие участники. Бердяев посещения «Гафиза» продолжил – уже без жены. Лидия Юдифовна очень переживала по этому поводу. Михаил Кузмин записал в своем дневнике 29 мая 1906 года, не преминув попутно посмеяться над поэтическим даром Бердяевой: «Лидия Юдиф<овна> очень стремится опять в Гафиз и только боится Кузмина и хочет писать челобитную в стихах, где Кузмин рифм<уется> с «жасмин», «властелин» и т. д.»[148]
«Гафиз» просуществовал недолго, – собрания продолжались более или менее регулярно около года, состоялось около десятка заседаний. Кузмин довольно подробно описал в дневнике одну такую встречу «гафизитов» (в том числе, и исключенной к тому моменту Л. Ю. Бердяевой), Ремизовых, Б. Лемана и знакомого Николая Александровича по Вологде датчанина О. Маделунга с дамой. Эта запись помогает понять атмосферу «башни»: «Бердяев председательствовал, лежа на полу между свечей, со звонком, привязанным к ноге, и потом отлично говорил. С тем, что говорил Вяч<еслав> Ив<анович>, я не был согласен ни с чем. Ремизов ехидно и коварно шутовался, все говорили враз и потом долго отдельными группами с жаром и с интересом. Датчанка смотрела, будто готовая сойти с ума. Говорил и Городецкий, постепенно как-то по-новому освещающийся для меня. Потом остались одни гафисты и долго еще беседовали о поцелуе, было очень много словесности и мережковщины, и я был очень рад, когда Сомов сказал, что скорее всего согласен с моим мнением, которое было найдено циничным»[149]. Бердяев со звонком на ноге – образ, свободный от хрестоматийного глянца, подтверждающий, что чувствовал себя Николай Александрович в «Башне» свободно, «среди своих». Так оно и было, хотя, описывая уже в преклонном возрасте «башенные» встречи, Бердяев, по-моему, видел отношение участников «сред» друг к другу в несколько розовом свете. Потому ли что с возрастом мелкие размолвки действительно стали казаться ему незначительными, потому ли, что и тогда, в 1905-06 годах, он не замечал постепенно появившегося отчуждения со стороны некоторых участников собраний – в том числе, к собственной персоне.
Двусмысленная репутация «башни», самой личности Вячеслава Иванова, символистских собраний, эпатажа по отношению к буржуазной публике и морали, – все это иногда мешает увидеть главную тему «башенных сред». Таким «главным» стала идея объединения искусств – философии, литературы, театра, музыки и, конечно же, живописи (ведь завсегдатаями салона были художники-мирискусники). На «башне» была создана, по словам Бердяева, «утонченная культурная лаборатория». Идея объединения искусств имела два взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, многие «башенные» завсегдатаи (и сам Иванов – в их числе) были неоплатониками: существует вечное и неизменное совершенство, существует вечная красота. Это совершенство и эта красота дробятся, проявляются во множестве отдельных частей, осколков, моментов, некоторые из которых, ввиду своей оторванности от целого, являются некрасивыми и даже уродливыми. Поэтому преображение жизни, обращение к вечной красоте возможно лишь при воссоединении различных подходов. С другой, – теоретики символизма видели в музыке, театре и, прежде всего, в живописи способ выражения их теоретической позиции. Как в средние века живописные полотна заменяли неграмотным людям книги, так и на рубеже веков Вячеслав Иванов отводил живописи роль «пропагандиста» новых идей. План такого «цельного знания» носился в воздухе: выразителями идеи слияния искусств были композитор Скрябин, художник и музыкант Микалоюс Чюрленис, живописец, философ и театральный художник Николай Рерих, другие.
К сожалению, постепенно достигнутое было на «башне» единство, «союз искусств» быстро начал распадаться. Судя по записям Зиновьевой-Аннибал и воспоминаниям других участников, в заседаниях постепенно выделились два крыла – художественное и философское, и общий язык находился не всегда. Разумеется, Бердяев ассоциировался именно с «философским» крылом, его выступления и председательство поэтому не всегда одобрительно встречались «художниками». Представление об этом дают выдержки из дневника хозяйки «башни». Ивановы тогда часто и тесно общались с Бердяевыми, но иногда в строках Лидии Дмитриевны прорывалось раздражение против философствующего Николая Александровича (сама Зиновьева-Аннибал, конечно, принадлежала к «художественному крылу» собраний): «И еще после концерта будет собрание «святош» у Бердяева. Это я называю так сей мало талантливый или выдохшийся талантами кружок Мережко-Бердяево-Булгаково-Волжско-Розановский. Там же будут показаны знаменитости: Петр Струве, Франк и С… Я их называю «серыми дьяволами серединности». Это кадеты, соцьалисты… Но на земле, как я и сказала Булгакову, может быть только крайнее, только оно делает, остальное квасится»[150]. Она же отмечала позднее, что ее и Вячеслава Иванова «относит от мелей Мережко-Бугае-Бердяе-Булгако– и пр. плоскословенства в свой изначальный океан». Тональность этих записей с очевидностью показывает, что художественное действие стало противопоставляться рассуждениям о нем даже вдохновительницей «башни». Программа «цельного знания» не удалась, но попытка стала одной из самых ярких страниц отечественной культуры начала ХХ века.
В формировании личности Бердяева «башенный» опыт сыграл важную роль: его миросозерцание не могло не измениться. Общение с художниками, поэтами, писателями не только приоткрыло для него новый мир, но и сказалось на характере, поведении. Культурную атмосферу начала прошлого века уже современники оценивали по-разному: и как декаданс, упадок, разложение (достаточно посмотреть на статьи известного публициста того времени М. О. Меньшикова), и как возрождение, ренессанс, расцвет. Чаще всего критики ставили в вину «декадентам» воспевание «цветов зла», отрицание общепринятой морали, культ эротизма. Слухи и сплетни о «декаденстких сборищах» имели мало общего с реальностью. Теоретизирования об Эросе и поле, конечно, не были синонимичны инфернальному разврату (как зачастую представляли себе ситуацию законопослушные буржуа), но символизм, модернизм начала 20 века, как уже отмечалось, выражался не только в произведениях, но и в стиле поведения их творцов. Как писал в одном из своих стихотворений Д. С. Мережковский:
Мы для новой красоты Нарушаем все законы, Преступаем все черты.Андрей Белый вспоминал, что по Петербургу ходили слухи о том, что в «башне» у Иванова «совершается обобществление жен и снятие фиговых листиков»[151]. Конечно, это не соответствовало действительности, но повод к таким суждениям подавала вся атмосфера салонов того времени – идея «любовных мистерий» Вяч. Иванова, проповедь «трын-травизма», нескрываемая гомосексуальность некоторых представителей деятелей культурного ренессанса, – «и «башня» Иванова, в передаче сплетников, сходила в уличное хулиганство»[152].
Николай Александрович, попав в непривычную для него среду, несомненно «раскрепостился». Впоследствии он даже стеснялся и не любил вспоминать некоторых своих поступков, поскольку они были не свойственны его обычному стилю поведения. В частности, он пытался объяснить в своей автобиографии десятилетия спустя случай, получивший не только широкую огласку, но и самые немыслимые интерпретации, – обыватели говорили чуть ли ни о «черной мессе». На квартире литератора Н. М. Минского (с которым Бердяев познакомился во время поездки в Европу) была устроена дионисическая мистерия. В ней участвовали, кроме Бердяева, Ф. Сологуб, В. Розанов, Вяч. Иванов, другие. Присутствовавшие, одетые в хитоны, пили вино, водили хороводы, пели песни, их лбы были украшены венками… Театральность действа не заключала в себе ничего безнравственного, тем не менее, Бердяев с неприятным чувством вспоминал этот эпизод из своей жизни не только потому, что слухи об «оргии» проникли в правую печать, но и потому что вождение хороводов, звонок, привязанный к ноге, античные хитоны не вписывались в обычный, вполне размеренный бердяевский стиль жизни до и после тех петербургских лет.
Поражает то, что время хороводов и хитонов было временем первой русской революции 1905-07 годов. Конечно, революционные волнения, потрясавшие Россию в то время, частично затрагивали и обитателей «башни», хотя споры, протекавшие там, носили характер абстрактно-теоретический. Однажды во время собрания, полиция по каким-то причинам устроила на «башне» обыск, по словам Н. Бердяева, «произведший сенсацию»[153]. Об этом случае вспоминал и Добужинский: «Однажды…, когда в «башне» было одно из самых многолюдных собраний и был в самом разгаре «чай», внезапно открылись двери передней… и театральнейшим образом… появился полицейский офицер с целым отрядом городовых. Всем было велено оставаться на своих местах, и немедленно у всех дверей были поставлены часовые. Забавно, что никакого переполоха не произошло и чаепитие продолжалось как ни в чем не бывало. Однако по очереди все должны были удаляться в одну из комнат, где после краткого допроса, к всеобщему уже возмущению, началась чрезвычайно оскорбительная операция личного обыска. Сначала допрашиваемые старались шутить и дерзить, но, когда руки городовых стали шарить в карманах, сделалось уже не до шуток»[154]. В участок, в результате, забрали совершенно безобидную пожилую даму, мать Максимилиана Волошина, приехавшую из Парижа, – полиции, видимо, не понравилась ее внешность: стриженая, в коротких шароварах она показалась им подозрительной… Утром ее освободили, и происшествие на этом закончилось.
Но в целом, – «культурная элита была на «башне» изолирована»[155], революция бушевала где-то внизу, у основания, до «башенных» обитателей доносились лишь слабые ее отзвуки и подземный гул. Это тем более удивительно, что некоторые из участников символистских собраний и «дионисических мистерий», «сред» и «воскресений», кружков и заседаний прошли через увлечение революционными идеями, марксизмом и народничеством. Даже Бердяев, в котором, по его собственному признанию, всегда был силен «социальный инстинкт», жил в эти годы в определенной изоляции от общественных процессов, происходивших в России. Он публиковал статьи на социальные темы («Социализм как религия», «Революция и культура» – о М. Горьком, «Русская Жиронда» – о партии кадетов, «К истории и психологии русского марксизма», «О путях политики» и др.), в которых виден был его отклик на происходившее, но отклик этот имел несколько отстраненный характер.
На «башне» и на улице говорили на разных языках. В зрелом возрасте Бердяев в этом увидел одно из объяснений будущей российской катастрофы: «Несчастье культурного ренессанса начала XX века было в том, что в нем культурная элита была изолирована в небольшом круге и оторвана от широких социальных течений того времени… Русские люди того времени жили в разных этажах и даже в разных веках. Культурный ренессанс не имел сколько-нибудь широкого социального излучения… Многие сторонники и выразители культурного ренессанса оставались левыми, сочувствовали революции, но было охлаждение к социальным вопросам, была поглощенность новыми проблемами философского, эстетического, религиозного, мистического характера, которые оставались чуждыми людям, активно участвовавшим в социальном движении… Творческие идеи начала XX века, которые связаны были с самыми даровитыми людьми того времени, не увлекали не только народные массы, но и более широкий круг интеллигенции. Революция нарастала под знаком миросозерцания, которое справедливо представлялось нам философски устаревшим и элементарным и которое привело к торжеству большевизма»[156]. Вывод Бердяева о «разрыве между высшим культурным слоем и низшим интеллигентским и народным слоем» вполне соответствовал действительности. Осмысление Бердяевым природы той революционной стихии, которая разыгралась в России в самом начале прошлого столетия, произошло несколькими годами позже.
9 января 1905 года, вошедшее в российскую историю под названием «Кровавого воскресенья», потрясло Бердяева и большинство его петербургских знакомых, разбудило их. Расстрел массового шествия рабочих к Зимнему дворцу никого не оставил равнодушным. Г. И. Чулков вспоминал о том, как всю ночь с 8 на 9 января он просидел в редакции «Сына отечества» вместе с Д. С. Мережковским, ожидая известий о посланной к Витте делегации (в состав ее входили М. Горький, публицист А. В. Пошехонов, историк В. А. Мякотин и другие). Все знали о петиции рабочих к царю, о готовящемся мирном шествии, о том, что в рабочих собираются стрелять, и пытались предотвратить кровопролитие. Этого сделать не удалось. Убийства мирных демонстрантов стали катализатором последующих революционных событий. Они потрясли людей даже далеких от политики. Тот же Чулков описывает, как днем 9 января оказался в Тенишевском училище, где с утра собрались петербуржцы, главным образом, – литераторы, ожидая событий. Он писал, что узнав о расстреле шествия, некоторые присутствовавшие рыдали.
Бердяев тяжело пережил Кровавое воскресенье, это событие стало отрезвляющим напоминанием о реальной жизни. «Вопросы жизни» сразу и однозначно заняли позицию против насильственного подавления народных выступлений. Наступила «эпоха забастовок и союзов» (так охарактеризовал это время Чулков), в журнале стали печатать списки произошедших стачек и демонстраций. «Вопросы жизни» в первый же день отмены цензуры сообщили своим читателям, что с № 10-11 выходят без дозволения цензора. Отмена предварительной цензуры поставила перед редакцией вопрос о формулировании некоторой политической (не только культурной) платформы. И в ноябре 1905 года редакция заявила, что журнал, преследующий общекультурные и религиозно-философские цели, предпочитает сохранить независимое, внепартийное положение, хотя, конечно, всецело присоединяется к общему освободительному и социалистическому движению во имя анархического идеала в его религиозном понимании. Но многие авторы и сотрудники «Вопросов жизни», объединяясь вокруг «общекультурных и религиозно-философских целей», были не согласны с такой формулировкой политических симпатий журнала. К тому же, редакция столкнулась с финансовыми трудностями. Журнал умирал. Последний номер «Вопросов жизни» вышел совсем тоненьким: выпустили его лишь в связи с обязательствами перед авторами закончить печатание ряда статей.
Бердяев попытался вновь объединиться с Мережковскими для выпуска нового журнала – «Меч». Объявление о выходе нового журнала даже появилось в печати. Но этим планам не суждено было осуществиться. 14 марта 1906 года Мережковские вместе с Философовым отправились в длительную поездку по Европе. Мало кто знал об их отъезде, поэтому поздним вечером на петербургском вокзале их поезд на Париж провожали самые близкие – сестры Зинаиды Николаевны, Андрей Белый, А. В. Карташев (историк и богослов, участник Религиозно-философских собраний) и Бердяев. Уже через две недели после отъезда Гиппиус Бердяев послал ей очень теплое письмо, начинавшееся словами: «Дорогая, милая моя Зинаида Николаевна! Не писал Вам до сих пор не потому, что не помнил о Вас все время и не имел, чего сказать, а потому только, что слишком многое хотелось разом сказать и трудно это»[157]. С этого момента между Бердяевым и Гиппиус завязалась интенсивная переписка, причем бердяевские письма говорят о явном восхищении Зинаидой Николаевной, нежелании обидеть ее каким-либо неосторожным словом или замечанием. Бердяев был подчас исповедально откровенен в этой переписке, он писал близкому другу.
Из первого же письма Бердяева Зинаиде Николаевне видно, что Мережковские рассматривали Николая Александровича как потенциального члена их «новой церкви» – церкви «Третьего Завета». С самого начала среди сторонников «нового религиозного сознания» не было единства: они сходились в необходимости реформации церкви, но направление реформ видели совершенно по-разному. А. В. Карташев выступал за возврат к традициям «Святой Руси», В. В. Розанов обращался к ветхозаветным началам (и поэтому столь много внимания уделял иудаизму), Мережковские же пытались создать новую религию, соединявшую истины христианства и язычества. Бердяева эти попытки Мережковских отталкивали, хотя он и ощущал «мистическую связь» с Зинаидой Николаевной (по его словам). «Почему я не соединяюсь с Вами окончательно, не вхожу в Вашу общину, не живу с Вами общей религиозной жизнью…? – пытался объяснить свою позицию Бердяев. – Думаю, что причина тут не только в раздвоении моей стихии и слабостях и недостатках моих, моем индивидуализме, антицерковности, боязни потерять свободу или разочароваться в соединенной жизни, не только в сомнениях моих, какому Богу поклоняться…. Я, кажется, расхожусь с Вами в понимании церкви и не думаю, чтобы Вы уже знали, что такое церковь… Боюсь, что у Вас есть тенденция образовать секту, маленькую интимную религию, очень интересную, глубокую, завлекательную, но не вселенскую»[158]. Даже из этого отрывка очевидно, что, с одной стороны, до лета 1906 года религиозность Бердяева еще носила смутный и неопределенный характер (поэтому и с Розановым он не мог спорить тогда как более последовательный христианин, чем Василий Васильевич!), а с другой – не менее ясно, что попытки кружка Мережковских «дополнить» и модернизировать христианство воспринимались им отрицательно. Такая разница позиций привела, в конце концов, к полному разрыву между Бердяевым и Мережковскими-Философовым в начале 1908 года, ведь «Мережковские всегда претендовали говорить от некоего «мы» и хотели вовлечь в это «мы» людей, которые с ними близко соприкасались»[159]. В своих письмах Зинаида Николаевна укоряла Бердяева в бездействии, на что он резонно ей возражал: «Но ради Христа скажите мне прямо и открыто, что делаете Вы, что реализуете, как преображаете жизнь? Я не признаю права ни за Вами, ни за каким бы то ни было человеком на свете ответить так: соединитесь окончательно с нами, тогда узнаете, что и как мы делаем, что и как вам реализовать… И не говорите, что нам нужно соединиться, это бессодержательно, мне нужно знать, в чем реализуется наше соединение, знать теперь же. По глубокому моему убеждению историческая христианская церковь была человеческой выдумкой, само христианство в истории в значительной степени человеческая выдумка и потому не имеет для меня никакого авторитета. И я не хотел бы новых человеческих изобретений, претендующих на авторитет»[160].
Несмотря на неприятие идеи Мережковских о создании новой церкви, Бердяев был близок с Зинаидой Гиппиус в то время. Он обсуждал с ней в письмах не только важные вопросы своих убеждений и верований, но и другие глубоко личные вещи. В одном из писем он писал о своей нежной любви к Лидии Юдифовне, закончив эту мысль фразой о том, что «роковая проблема пола» не разрешается браком. Означало ли это, что Николай Александрович осознал невозможность идеального и гармоничного любовного союза на грешной земле (а именно о таком совершенном союзе он мечтал перед приездом в Петербург), отразилась ли в письме мимолетно промелькнувшее и вскоре забытое разочарование из-за каких-то конкретных событий семейной жизни, или ему так и не удалось «разбудить пол» в своей жене, как он мечтал когда-то – установить сегодня уже трудно. Но сама тональность бердяевских писем определенно свидетельствует, что Зинаида Николаевна чрезвычайно много значила для Бердяева в ту пору.
7. Религиозный переворот
Жизнь – бесконечное познанье… Возьми свой посох и иди! – И я иду… и впереди Пустыня… ночь… и звезд мерцанье. М. ВолошинВ начале 1906 года Бердяев подготовил к изданию свою вторую книгу – «Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные, литературные 1900-1906». Увидела свет она уже в 1907 году. Названием книги, куда вошло 23 статьи Бердяева за несколько лет, стало латинское изречение – «с точки зрения вечности». На непросвещенный взгляд, название не слишком скромное (впрочем, скромностью по отношению к своему творчеству Николай Александрович никогда не отличался). Но для читателя искушенного речь шла о высказывании Спинозы: в своей «Этике» голландский мыслитель писал, что разуму свойственно постигать окружающие нас вещи не как нечто текучее и изменчивое, а с точки зрения вечности. Выражение стало крылатым. Позднее Бердяев оценивал этот свой сборник как неровный и незрелый. Действительно, статьи, включенные в него, относились к разным годам его духовной эволюции, к разным этапам, но именно благодаря этому можно было увидеть те изменения, которые произошли с автором. Сборник также помогал понять, благодаря чьим влияниям складывалась собственная позиция Бердяева: в нем содержалась статья о замечательном мыслителе 19 века Константине Николаевиче Леонтьеве, которого Бердяев заново открыл для читающей публики; в другой статье – «О новом религиозном сознании» – автор вел речь о Мережковском, причем не скрывал, что многим ему обязан, в статье «Трагедия и обыденность» Николай Александрович писал о Шестове, чьи взгляды тоже были значимы для его собственного духовного становления и т. д.
Послесловие к сборнику своих статей Бердяев писал уже не в Петербурге, а в деревне – он и Лидия Юдифовна еще весной 1906 года уехали в Бабаки, планируя вернуться в Петербург только в сентябре. Правда, в деревне его настигла весть о том, что отец при смерти. Бердяев тут же отправился в Киев. Судя по всему, Александр Михайлович перенес инсульт, сопровождавшийся частичной парализацией левой стороны тела и ухудшением мозговой деятельности. Родные не надеялись на его выздоровление. Приехав в киевскую квартиру, Бердяев застал больного старика, не всегда узнающего даже самых близких и заговаривающегося, беспомощно суетящуюся мать, брата в тяжелом депрессивном состоянии, но все-таки беспокоящемся о том, чтобы ему досталось какое-то наследство… Вопрос о наследстве был скорее риторическим: финансовые дела семьи находились в полном расстройстве («наши денежные дела ужасны», – написал Николай Александрович из Киева жене), денег не было даже для самого ближайшего будущего. К счастью, мрачные ожидания не оправдались – Александр Михайлович поправился, но финансовые проблемы не исчезли. Старший сын, Сергей, настаивал, тем не менее, чтобы завещание было составлено в его пользу (у семьи еще оставалась какая-то недвижимость). Николай Александрович повел себя в этом вопросе благородно: он тоже попросил отца составить завещание в пользу брата, так как понимал, что Сергей никогда не сможет зарабатывать систематически (в силу своего нервного нездоровья) и обеспечивать себя и жену. Бердяеву пришлось еще раз приехать из деревни в Киев в августе, – чтобы решить вопрос с польским майоратом. Дело в том, что в имении Бердяевых обнаружили железную руду, что сулило материальное процветание и благополучное разрешение всех финансовых затруднений. Увы! Достаточно скоро стало ясно, что запасы руды незначительно, для промышленной разработки ее недостаточно, и призрачные миллионы Бердяевым не грозят…
Из Киева Бердяев вернулся в Бабаки, которые полюбил всей душой («жизнь в Бабаках представляется мне раем, о каждой минуте жизни в милых Бабаках вспоминаю как о счастье, живу мечтой о возвращении к тебе»[161], – писал он Лидии Юдифовне). Но он не только отдыхал там от киевских семейных волнений и «двоящейся» петербургской жизни, но и много работал. В своих письмах к Философову он рассказывал, как ему хорошо пишется в деревне. Некоторые части книги, подгтовленной им в Бабаках, он посылал Мережковским для предварительного прочтения. Продолжалась и его переписка с Гиппиус.
Выход бердяевского «Sub specie aeternitatis» приветствовал Сергей Николаевич Булгаков, хотя он и счел название сборника «слишком ответственным». Булгаков увидел в собранных автором статьях за 6 с лишним лет очевидную эволюцию – «духовное освобождение от философии позитивизма (в ее марксистской разновидности) и от религии социализма чрез философский идеализм… к религиозной философии, устанавливающей идеал христианской общественности»[162]. Причем Булгаков не скрывал, что его собственная духовная эволюция шла тем же путем, параллельно. Как уже говорилось, такова была логика развития и некоторых других творцов культурного ренессанса. Поэтому, как отмечал Булгаков, книга Бердяева была «ценным «человеческим документом» начала XX века». Интересно, что Булгаков подметил и слабые стороны сборника, которые, по его мнению, были связаны с «небрежностью мысли» и невниманием к философской традиции. (Как писал Булгаков: «Несколько зашнуроваться в корсет школьной философии для широкой натуры автора, в интересах его читателей и строгости его мысли, было бы полезно»). Думаю, эти черты действительно присущи многим работам Бердяева, хотя оценивать их можно по-разному: кто-то видит в этом, как Булгаков, пренебрежение логикой и «школьной философией», а кто-то – оригинальный стиль философствования, когда автор не выводит свою философскую позицию с помощью рациональных схем и методов, а буквально «проживает» ее. Краткая рецензия Булгакова была опубликована в журнале «Книга».
Откликнулся на книгу и другой приятель Бердяева по Киеву – Лев Шестов. Он тоже отметил, что философские взгляды Бердяева изменились, и сборник статей показывает эти изменения, более того, он прямо сопоставил эти изменения с духовной эволюцией Булгакова. С одной стороны, Шестов начал свою рецензию с утверждения, что идейные изменения – нормальный процесс для любого мыслящего человека, поэтому эволюция, пережитая Бердяевым, объяснима и естественна. С другой – Шестов довольно критично оценил ход и скорость этой эволюции, не аккумулирующей различные периоды развития, а отрицающей все пройденное: «обращу внимание читателя на другую особенность идейного развития Бердяева (то же и Булгакова). Как только он покидает какой-либо строй идей ради нового, он уже в своем прежнем идейном богатстве не находит ничего достойного внимания. Все – старье, ветошь, ни к чему не нужное. Например, экономический материализм. Когда-то (в своей первой книге) Бердяев восторгался им, правда, не в его чистом виде, а в соединении с кантианством, и считал, что в нем все истины. Теперь он уже в нем не видит ни одной истины. Я и ставлю вопрос: разрешается ли философу такая безумная расточительность? Ведь, того и гляди, у материалистов были хоть крупицы истины?! Неужели пренебрегать ими? Или впоследствии, когда пришлось снова сниматься с места и покидать старика Канта, Бердяев все бросил, ничего не подобрал, словно бы его тяготила всякая поклажа, и налегке помчался к метафизике, заранее уверенный, что он найдет у нее и тучные стада, и огромные поля, – словом, все, что нужно человеку для пропитания. Потом бросил метафизику и ринулся в глубину религиозных откровений»[163]. Для Шестова, мучительно и трудно вырабатывавшего свою философскую позицию, углублявшего ее в течение всей жизни, довольно странным был быстрый переход Бердяева и Булгакова к новой философской вере, он подсмеивался над его скоростью: «Я даже не вижу никаких оснований для человека, который хорошо знает несколько философских систем, непременно эволюционировать от одной к другой. Дозволительно, смотря по обстоятельствам, верить то в одну, то в другую. Даже в течение дня переменить две-три. Утром быть убежденным гегелианцем, днем держаться прочно Платона, а вечером… бывают такие вечера, что и в Спинозу уверуешь: такой неизменной покажется наша natura naturata»[164].
Шестов отметил, что и религиозная философия Бердяева еще не может считаться таковой; скорее это интенция, стремление автора, чем свершившийся факт. Лев Исаакиевич едко писал о Бердяеве, что «он стал христианином, прежде чем выучился четко выговаривать все слова Символа веры», поэтому в статьях, посвященных религиозному сознанию, богочеловечеству, христианской общественности и т. п., он попадал «в чуждую и незнакомую ему область, где приходится двигаться наугад и ощупью»[165]. Возможно, Шестов был здесь не совсем прав: весной 1907 года Бердяев писал Философову, что летом прошлого года он пережил духовный перелом[166]. Суть его Бердяев выразил так: «я поверил окончательно и абсолютно в Христа, внутренне освободился от демонизма, полюбил Бога, ко мне вернулся тот внутренний религиозный пафос, который был у меня некогда, а потом затерялся. Переворот произошел не в моих «идеях», а в «жизни», в опыте, в клетках моего существа, связан с фактами, выстрадан мною. С того времени я сделался благочестивым человеком, я каждый день молюсь Богу, крещусь и соединяю себя внутренне с Христом во всех важных случаях жизни и во имя Его пытаюсь делать все значительное, что способен, и прежде всего писать»[167]. В этом же письме Николай Александрович признавался, что, хотя его религиозная жизнь и после свершившегося перелома еще «бедна и элементарна», он уже отошел от того «двоящегося» сознания, которое было ему присуще один-два года назад. Бердяев был убежден, что религиозный перелом произошел с ним во многом благодаря Лидии, он не раз повторял, что она – человек гораздо более религиозный, чем он сам. И хотя религиозность Бердяева еще не была по-настоящему глубока (недаром он сам подчеркивал свою религиозную «бедность»), тем не менее, он действительно изменился. Выразилось это, в том числе, в его отношении к своему недавнему кругу общения и тем идеям, что были в нем приняты: он обвинял Зиновьеву-Аннибал, Белого, Кузмина в «литературщине» и «декадентстве», высказывал недоверие к искусственным, механическим, вымученным религиозным схемам (имя в виду Мережковских?), противопоставлял им опыт православной Церкви (которую все-таки еще называл «старой»).
Душевное отталкивание от «декадентства» привело к тому, что Бердяев не раз называл Петербург «отравленным». Уехав из него в деревню, он в этот город уже не вернулся. В том числе, – из соображений экономии (жизнь в деревне была дешевле, поэтому Бердяев с Лидией Юдифовной решили задержаться здесь до октября). Сэкономленные деньги Бердяев предложил потратить на поездку в Париж, – похоже, что это предложение было вызвано и его желанием выяснить спорные вопросы с Мережковскими-Философовым, поговорить с Зинаидой Николаевной, наметить планы дальнейшего совместного сотрудничества. Поездка состоялась. Правда, результаты ее оказались иными.
До отъезда в Париж увидела свет и следующая книга Бердяева – «Новое религиозное сознание и общественность», подготовленная в Бабаках. Книгу Бердяев посвятил Лидии Юдифовне. Надо сказать, что в этой, третьей по счету, книге Бердяев отметил в предисловии, какое большое значение имело для него общение с Мережковским, Гиппиус, Философовым и Карташевым. В тексте он рассматривал отношения между мистикой и религией, анализировал «Легенду о Великом Инквизиторе» Достоевского, говорил об отношении исторического христианства к государству, впервые посмотрел на социализм как своего рода религию, поставил вопросы пола и любви в связи с задачами религиозного обновления – в общем, книга затронула многие проблемы, но оказалась более цельной, чем предшествующая. В ней Бердяев рассуждал с позиций представителя нового релиозного сознания, критикуя не только атеистический марксизм («позитивизм») и «хаотическую мистику», но и «старую, омертвевшую церковь, старое, остановившееся религиозное сознание и освященную им государственность»[168]. Таким образом, Бердяев, несмотря на пережитый религиозный переворот, по-прежнему был далек от церковной жизни, а называя существующую церковь – старой, он, по сути, ставил задачу модернизации христианства, примыкая здесь к Мережковским, Розанову и другим деятелям «нового релиозного сознания». Бердяев был убежден, что «ни одна из исторических форм христианства не была Вселенской Церковью, ни в одном из исторических вероисповеданий подлинное православие не завершилось, не исполнились обетования и пророчества»[169], тем не менее, он явно изменился: религиозные вопросы стали много значить для него, он рассматривал исторический процесс именно через призму веры, подчеркивал, что внерелигиозное развитие человечества не может разрешить стоящих перед людьми задач, что будущее – в теократии (когда церковь заменит государство). Бердяев, пройдя через увлечение марксизмом, постепенно двигался в сторону православия, Церкви.
Наверное, самым важным для Бердяева в то время стал отклик на его книгу Зинаиды Гиппиус. Гиппиус встала на сторону Николая Александровича в его споре с одним из критиков (Эллисом), назвала Бердяева «серьезным писателем», отметила у него наличие «мыслей» и позиции. Но, вместе с тем, назревающий между Мережковскими и Бердяевым разрыв не мог не отразиться в отзыве. Упрекая автора за «неосторожное обращение со словами», Зинаида Николаевна, по сути, упрекала его за то, что он придерживается иной, чем она и ее кружок, позиции. Ведь «слова», которые не удовлетворили Гиппиус, были слишком важны: она не была согласна с бердяевским пониманием «мистики», «мистического сознания», «теократии», то есть речь шла о разности их религиозных позиций. Правда, Гиппиус еще рассматривала Бердяева как потенциального члена их «церкви», поэтому говорила лишь о «тактических ошибках» автора, но принципиальной сути разногласий это не меняло.
На книги Бердяева откликнулся М. М. Тареев – философ, богослов, профессор Московской духовной академии. Он проследил эволюцию бердяевской позиции, начиная еще с его первой, посвященной Михайловскому, книги и показал, что движение мысли Бердяева – это «путь от марксизма к христианству». С точки зрения Тареева, Бердяев еще не выступал в этих своих работах как самостоятельный и оригинальный мыслитель (сам Николай Александрович думал, конечно, иначе), но он проницательно проанализировал различные философские подходы, системы и точки зрения, поэтому, по мнению Тареева, его книги заслуживают пристального рассмотрения. Тареев был согласен с Бердяевым в критике социализма, но его попытки по-новому проинтерпретировать христианство такого понимания у профессора богословия не встретили. Бердяев писал о разрыве старого религиозного сознания и исторических судеб человечества, их разделенности. Тареев мог согласиться с этим, если бы речь шла о необходимости преодоления этого разрыва – об освящении политики, семьи, труда христианством. Но, как проницательно заметил Тареев, Бердяев имел в виду совсем иное: он писал о том, что христианский путь – путь ухода от общественности, семейных отношений, быта; он же предлагал новое прочтение учения Христа, писал о «мистическом влечении», открывавшем религиозное значение пола, о новой «сверхприродной» любви… С таким пониманием христианства Тареев был принципиально не согласен. Он писал, что христианство, с одной стороны, дает путь монашеского воздержания, аскезы, но с другой – освящает естественную государственность, естественную любовь, бердяевская же «сверхприродная любовь нерождающих» – «непроницаемое туманное пятно»[170]. (От признания важности пола в человеческой жизни и стремлении к гармонии телесного и духовного Бердяев за несколько лет пришел к отрицанию пола. Видимо, в этом сказался и опыт его собственной семейной жизни.) Думаю, с Тареевым можно согласиться: третья по счету книжка Бердяева была сильнее в своей критической части, чем в позитивной.
8 апреля 1907 года под председательством С. Булгакова состоялось учредительное собрание Петербургского Религиозно-философского общество. Одним из инициаторов его создания стал и Бердяев. Подобное общество уже существовало в Москве, Бердяев даже ездил туда читать свой реферат. Петербургское РФО стало наследником Религиозно-философских собраний 1901-03 гг., но и приняло эстафету РФО в Москве. Многие участники собраний выступали в обоих РФО, участвовали в обсуждениях, а темы заседаний и Московского, и Петербургского обществ явно продолжали начатую собраниями традицию, хотя обстановка в обществе сильно изменилась за прошедшие несколько лет: только что потерпела поражение первая российская революция. РФО просуществовало более 10 лет, и Бердяев не раз выступал на его заседаниях с докладами. В своей автобиографии Бердяев писал: «Когда по моей инициативе было основано в Петербурге Религиозно-философское общество, то на первом собрании я прочел доклад «Христос и мир», направленный против замечательной статьи Розанова «Об Иисусе Сладчайшем и о горьких плодах мира». Это не нарушило наших добрых отношений»[171]. Николай Александрович опять ошибся (и неволько преувеличил свою роль): его доклад был зачитан только 12 декабря 1907 года, на пятом заседании РФО. На первом, учредительном, заседании Розанов предложил прочесть его доклад «Отчего падает христианство» (сам он доклады не читал, а просил кого-нибудь озвучить написанный им текст). На следующем заседании 3 октбяря С. А. Аскольдов выступил с докладом «О старом и новом религиозном сознании», в котором он спорил с тезисом Мережковского о необходимости «освятить плоть»: «никакие откровения не сделают зараженную грехом плоть… святой»[172], – утверждал докладчик. Через пару недель, 15 октября, вновь обсуждался доклад Розанова «О нужде и неизбежности нового религиозного сознания», в котором Василий Васильевич, опираясь на Ветхий Завет, резко возражал против мнения Аскольдова и утверждал необходимость обновления христианства. 8 ноября на заседании РФО выступил Д. С. Мережковский – он тоже спорил с Аскольдовым, нарисовав картину грядущей Церкви Третьего Завета. И только 21 ноября был прочитан очередной доклад Розанова «О сладчайшем Ииисусе и горьких плодах мира», в спор с которым вступил Бердяев, прислав в РФО свой доклад, который и был зачитан на заседании 12 декабря.
Розанов в своем докладе противопоставил «пепельную грусть» христианства радостям жизни, «цветку бытия человеческого», то есть, по сути, продолжил темы Религиозно-философских собраний 1901-1903 годов. С точки зрения Розанова, у Бога есть дитя – Христос и дитя – мир, причем приходится выбирать между этими двумя детьми Божьими: для кого сладок Иисус, для того мир – с его плотскими радостями, наукой, семьей, искусством, театром, вареньем к чаю – прогорк. Василий Васильевич же пытался показать, что и мир имеет сладкие плоды, что и мир – божественен и достоин любви. Бердяев построил свой доклад как ответ Розанову. Причем он не стал, как некоторые священники и близкие к церкви участники РФО, доказывать, что можно совмещать любовь к Иисусу и влюбленность в мир. Он построил свои рассуждения на совсем ином основании. Да, Христос противоположен миру. Но какому миру? Какое содержание можно вложить в слово «мир»? С одной стороны, мир вокруг нас – это мир, в котором присутствует тление, нужда, болезни, смерть (ведь «мир во зле лежит»), и этому миру Христос противоположен. Но в мире есть и подлинное, духовное бытие, не только сладость варенья, но и сладость величайших произведений искусства. Розанов («гениальный обыватель» по словам Бердяева) говорил о сладости варенья, о семье, о радости бытовой жизни, считая, что именно это и есть «мир». Бердяев был не согласен с ним. По его мнению, в мире перемешано вечное и тленное, и Христос – спаситель подлинного бытия, духа, личности: «Христос должен был прийти, потому что ветхий мир, мир грешный, отпавший от Бога, умирал, гнил, тление подкосило все основы мира», Он «пришел спасти от смерти, а не мир умертвить»[173]. Если многодетный Розанов решал для себя проблему смерти, разворачивая перед миром детскую пеленку с зеленым и желтым («было два человека, а родилось у них восемь детей, двое умирают, а в восьми торжествует и умножается жизнь»[174]), то Бердяев, всю свою жизнь ориентированный на отталкивание от такой «родовой» реальности и не имевший склонности к обзаведению потомством, противополагал смерти не бесконечность рождений, а спасение, личное воскресенье, обещанное христианством, ведь нельзя сводить «человеководство» к «скотоводству», к простому физиологическому дроблению каждого существа на множественность частей!
Бердяев показывал, что мир не так уж хорош и божественен, как это утверждал Розанов, в этом материальном мире есть смерть, «в нем все отравлено трупным ядом». Христос побеждает смерть, отвергая безличную родовую природу («человеководство» и «скотоводство»), спасая личность. Таким образом, «оправдать религиозно историю, культуру, плоть мира не значит оправдывать семью, родовой быт и «варенье», а значит оправдать трансцендентную жажду по иному миру, воплощающуюся в мировой культуре, утверждать в этом мире жажду вселенского исхода из естественного порядка прирды, злого и испорченного»,[175] – считал Бердяев. Розановской влюбленности в быт, в материальный мир Бердяев противопоставил культ личности, индивидуальности, духа. Более того, он показал, что «официально-казенное христианство» как раз опиралось на быт, освящало его, новое же религиозное сознание должно обращаться к Христу, который «есть новый мир, противоположный всякому быту»[176].
Как только отзвучали заключительные слова доклада, председатель РФО С. А. Аскольдов объявил прения, которые сам и открыл. Потом взял слово богослов-эрудит В. А. Тернавцев. Его речь, в сочетании с яркой внешностью («высокий, плотный, чернокудрый, красивый красотою южанина (мать была итальянкой); говоря на очень по-народному русском языке, не без славянизмов и церковного «о», он убеждал густым задушевным голосом и непосредственностью жеста»[177], – описывал его С. К. Маковский) привлекла внимание собравшихся.
– Христианство есть не религия смерти, как это утверждает Розанов в своих арлекинадах, а религия воскресения, всеобщего восстания из мертвых, – убеждал Тернавцев, соглашаясь в этом вопросе с Бердяевым. Но, будучи не только глубоко верующим, но и воцерковленным человеком (он был чиновником особых поручений при обер-прокуроре Святейшего Синода), Тернавцев не мог согласиться с бердяевским противопоставлением Христа историческому христианству, Церкви:
– Христианство побеждало и побеждает радостью своей… Где пути к восприятию этой силы Христовой? Отвечаю прямо то, что считаю истиной: это Таинства Церкви. В них Богодейство, а не обряды. Вечный Завет с Богом, а не обветшалый ритуал.
В прениях выступили многие – М. В. Морозов, Б. Г. Столпнер (его переводами с немецкого работ Гегеля, Э. Кассирера и других философов мы пользуемся до сих пор), протоиерей С. А. Соллертинский, другие. Конечно, собравшиеся не пришли к единой точке зрения, но дискуссия между Бердяевым и Розановым была значима для молодого еще РФО, так как поставила перед участниками сложную и важную проблему – о соотношении личности и рода в христианстве.
Бердяев был уверен, что его доклад не повлиял на хорошие отношения с Розановым. Наверное, это так: отношения не изменились. Но насколько хорошими они были еще до доклада? С одной стороны, Розанов не ответил Бердяеву (хотя ответ напрашивался: можно любить жизнь, божественный мир и не желать бессмертия, видеть свое продолжение в тех самых пеленках), а с другой – нам известна критическая архивная заметка «На чтениях Бердяева», принадлежащая перу Розанова[178], есть свидетельства самого Бердяева, что Розанов при встречах называл его «барином» и «Адонисом» (явно – с иронией, которую можно по-разному проинтерпретировать). Когда я читала документы, письма, воспоминания той поры, мне бросилось в глаза, что Бердяев был склонен переоценивать те добрые и дружеские чувства, которые испытывали к нему люди и не замечать критического отношения к себе. Так было с Зиновьевой-Аннибал, с Гиппиус, со свояком – Евгением Раппом, возможно, и с Розановым. Во всяком случае, очевидно, что Розанов был далек от того, чтобы считать Николая Александровича близким себе человеком или прислушиваться к его идеям, они не оставили никакого следа в его миросозерцании.
Интересно описание Розановым бердяевской манеры публичного выступления, – он указывал и на положительные, и на отрицательные моменты поведения лектора, в его оценке не было тенденциозности, поэтому я склонна ей доверять. Во-первых, Розанов отмечал, что везде, где выступал Бердяев, залы были переполнены. «Лектор читает хорошо, но не отлично. Каждое слово бывает сложно, но нет разрисовки речи настоящего врожденного или многоопытного оратора», – замечал Василий Васильевич. Он сравнивал манеру чтения лекций Бердяева и Булгакова: «чтения Бердяева одухотвореннее, умственно разработаннее, тоньше. Видно, что его натура более пассивная и размышляющая, нежели натура Булгакова, более стремительная, и даже стремительная до удара кулаком по столу (жест, к которому он не раз прибегал). Я все соединяю этих чтецов, так как литературный их путь «от марксизма к идеализму», в сущности, один, и только они двое так определенно и выпукло идут по нему. Зато менее культурный ум Булгакова более прям и честен: ударить-то он ударит по столу, напугает, но поведет прямо, прямою улицею, без переулочков, без «путания» и уклончивостей. Пассивная, одухотворенная, эстетическая натура Бердяева, напротив, знает уклонения, путаности, «подпольный мир» философии, морали и, может быть, политики. Бердяев привлекательнее, Булгакову можно более довериться. Чтения Булгакова слушать не хочется, а когда он кончил, хочется ему пожать руку, сказав: «Хорошо, брат». Бердяева, напротив, дремля или опустив голову, слушаешь, заслушиваешься; мелькают около «средних мыслей» или «обыкновенных мыслей» глубокомысленные афоризмы, интригующие намеки, и вся вообще умственная ткань его узорна, тонка, изящна: а когда он кончил – учтиво поблагодарить его за удовольствие и проститься, сказав: «Вам, Иван Иваныч – направо, а мне – налево»[179].
Зиму 1907-1908 годов Бердяевы провели в Париже. Там в это время находилась сестра Лидии, Евгения Рапп, со своим мужем. Они помогли Николаю Александровичу и Лидии Юдифовне обустроиться: были сняты две маленькие комнатки на rue Leopold-Robert. Это было время тесного общения Бердяева с Мережковскими и Философовым. Николай Александрович очень часто бывал в их салоне на rue Theophile Gautie. В салоне этом собирались самые разные люди – левые французские политики, один из руководителей эсеров-боевиков Б. Савинков (знакомый Бердяева по Вологде), известный художник А. И. Бенуа, живший тогда в Париже, И. И. Фондаминский – не раз побывавший в тюрьмах эсер, он станет впоследствии видным деятелем полсеоктябрьской эмиграции, погибнет в гитлеровском концлагере и будет канонизирован как святой мученик в 2004 году. Причудливое сочетание неординарных и непохожих друг на друга людей, да еще замешанное на литературных «дрожжах», создавало атмосферу интеллектуальную и экзальтированную одновременно. Николай Александрович бывал на улице Теофиля Готье часто, и один, и «с Юдифовнами» (так написала острая на язычок Гиппиус в своем дневнике, – она явно недолюбливала сестер). Непрекращающаяся полемика по метафизическим вопросам соединялась с беседами глубоко личными, – в том числе, о Лидии. Гиппиус считала, что Лидия Юдифовна дурно влияет на Бердяева. Зинаиду Николаевну раздражали присущий Лидии мистицизм, стремление во всем видеть «знаки» («бабья чепуха!» – с присущей ей прямотой поставила она диагноз), частые обмороки, нервозность, отсутвие собственных мыслей («она бердяевскими словами начинена»)… Но Бердяев жену искренно любил и разговоров о ней в негативном ключе никогда не поддерживал. Поэтому Зинаида Николаевна жалела его скрытно, неоднократно называла в своем дневнике «бедным», писала, что его «жалко», что «мучается о Бердяеве»[180].
Мережковские и Философов по-прежнему надеялись, что Бердяев станет еще одним членом их религиозной «ячейки», Бердяев же, напротив, испытывал отторжение от их «сектантских» планов. В присутствиии «троебратства» (Мережковский-Гиппиус-Философов) он становился даже более близким к официальной церкви, чем на самом деле, – отталкивание от «Церкви Третьего Завета» вело его к православным кругам сильнее, чем проповеди священников («иногда мне кажется, что вы стремитесь к новой религии, я же стремлючь к… полноте Православия»[181], – написал он Философову). Между «троебратством» и Бердяевым нарастали противоречия и недопонимание, поэтому разрыв не заставил себя ждать: 14 марта произошло столкновение Бердяева с Философовым, причем в присутствии других завсегдатаев салона. Философов при поддержке Дмитрия Сергеевича Мережковского бросил Бердяеву обвинение в лицемерии и нелюбви к людям, он даже крикнул, что Бердяев «предает Христа». На следующий день Бердяев написал Философову очень длинное письмо, где обвинял своего корреспондента в грубости, неуважении к личности, публичном сведении счетов и разглашении глубоко личной информации в процессе спора. Письмо Бердяева производит двойственное впечатление: с одной стороны, это разрыв, а с другой – какой-то не окончательный, оставляющий лазейку примирения (иначе и письмо-то зачем такое длинное писать?) Николай Александрович был глубоко уязвлен произошедшим, но мужества для полного разрыва в своей душе не нашел. Так и появилось это письмо, начинающееся словами: «Вчерашний вечер оставил в моей душе неизгладимо тяжелое впечатление и почти решил вопрос о наших отношениях, не с Вами только лично, а с вашим коллективом»[182]. Вопрос об отношениех почти решен, но поверить, что их пути разошлись окончательно, Бердяеву еще трудно. Что-то надломилось, но Николай Александрович надеялся, что это не скажется на его дружбе с Зинаидой Николаевной: «То, что произошло в этот вечер, не имеет никакого отношения к З.Н. К ней лично я отношусь так же любовно, как относился всегда»[183], – писал Бердяев и просил показать это письмо Мережковскому и Гиппиус. Спустя пять дней, 19 марта Бердяев все-таки пришел к Мережковским. Состоялось его объяснение с Дмитрием Сергеевичем. После этого он опять стал бывать на «четвергах» Зинаиды Николаевны, заезжать к Мережковским, но прежней теплоты в отношениях уже никогда не было.
Интересно, что в Париже Бердяев не только писал (для «Вопросов философии и антропологии», «Русской мысли», «Критического обозрения»), но и выступал с докладами и лекциями. На его выступления иногда приходили и Мережковские. Кстати, Зинаида Николаевна считала, что читал лекции Бердяев «скверно», но, возможно, она не была здесь справедлива, да и позицию Бердяева она знала слишком хорошо, чтобы с интересом следить за развитием его мысли. (Правда, Е. К. Герцык, которая тоже очень хорошо представляла себе, над чем работает Бердяев, не была так категорична; в одном из своих писем она описывала одно из выступлений Николая Александровича уже в Москве, в 1909 году: «То, что читал Бердяев, интересно, но читать он не умеет – как будто от книги глаз не отрывает, и возражал равнодушно своим оппонентам»[184]). Сохранились и другие свидетельства о парижских выступлениях Бердяева: например, письмо известного социал-демократа Ю. О. Мартова (Цедерба́ума) не менее известной революционерке Вере Засулич. Мартов отмечал «громадное стечение публики» на чтении Бердяевым реферата «Религия и государство» (одна из тем, затронутых Николаем Александровичем в последней его книжке). Бердяев говорил о теократии (религиозном правлении, когда государственные институты заменяются церковью), что, разумеется, не могло встретить понимания у марксиста Мартова. Он описывал лекцию Бердяева с возмущением, как пример «первобытного христианства». Досталось и манере выступления: «Читал по тетрадке замогильным голосом, гнусавя по-дьячковски; словом, создавалось столь цельное впечатление…, что я не выдерживал и несколько раз мальчишествовал, громко вздыхая и повторяя: «господи, помилуй, господи, помилуй». Говорил – или вещал – цитатами из Библии, пророков и апостолов. Слушали. Потом началась дискуссия»[185].
Это свидетельство ценно тем, что показывает: Николай Александрович становился все ближе и ближе к православию. Период «нового религиозного сознания», религиозного модернизма подходил к концу. Не случайно после возвращения в Россию (Мережковские уехали из Парижа в Биарриц, вскоре вслед за ними покинули Париж и Бердяевы, прожив лето в Бабаках) Николай Александрович не только переехал в Москву из Петербурга, но и сблизился с кругом православных философов, объединенных вокруг книгоиздательства «Путь». (Своеобразным посредником в таком изменении круга общения для Николая Александровича стал С. Н. Булгаков.) Эти же люди были «пружиной» деятельности Московского Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, в жизни которого Бердяев тоже начал активно участвовать. «Но и тут, как и всегда и везде, я не почувствовал себя вполне дома, – вспоминал позже Бердяев. – Я проходил странником через московские религиозно-философские и православные круги. В этой среде я был наиболее «левым» и «модернистом», наиболее представлявшим «новое религиозное сознание», несмотря на мое искреннее желание приобщиться к тайне Православной церкви»[186].
8. Сборник «Вехи»: интеллигенты о русской интеллигенции
«Вехи» и сегодня кажутся нам как бы присланными из будущего. И только то радует, что через 60 лет, кажется, утолщается в России слой, способный эту книгу поддержать…
А. СолженицынВ первых числах января 1909 года Бердяев и Лидия Юдифовна перебрались в Москву, где и оставались вплоть до эмиграции. Переезжали с места на место, а потом осели на Арбате. В этот период своей жизни Бердяев обратился к Церкви, православию. С одной стороны, он активно участвовал в работе Московского религиозно-философского общества, тесно связанного с тенденциями религиозного модернизма. С другой – посещал некоторое время так называемый новоселовский кружок, гораздо более ортодоксальный, «строгий». Вокруг бывшего толстовца М. А. Новоселова, издававшего православную библиотеку, собирались люди воцерковленные, связанные с монастырями и пустынями, со старцами, да и сам Новоселов, по словам Бердяева, «производил впечатление монаха в тайном постриге». В православном кружке Новоселова Бердяев встречался с В. А. Кожевниковым (ближайшим учеником и последователем космиста Н. Ф. Федорова), епископом Волоколамским Феодором (ректором Московской духовной академии), П. А. Флоренским (известным религиозным мыслителем и математиком, в 1910 году рукоположенным в сан священника), другими глубоко верующими людьми. Это был чрезвычайно важный для Бердяева период знакомства не с книжным уже, а с реальным православием. Николай Александрович тогда особенно искал сближения с жизнью Церкви. С Новоселовым и Булгаковым Бердяев съездил в этом же году в Зосимову пустынь для встреч со старцем Германом, но, как он потом вспоминал, – этот опыт был мучителен для него. Бердяев постепенно от новоселовского кружка отошел, – он был верующим человеком, но не признавал авторитетов и слишком ценил свободу мысли и творчества, чтобы сверять ее с принятыми исторической церковью канонами и правилами. Гораздо ближе был ему тип романтика-богоискателя (себя он называл «верующим вольнодумцем»).
На квартире Бердяевых собирались многие замечательные люди, хотя они никаких формальных «кружков» не организовывали. Здесь бывал Г. А. Рачинский – переводчик, председатель Московского религиозно-философского общества памяти В. С. Соловьева, сюда захаживал Розанов, частым гостем был Булгаков, навещал Бердяева живущий по соседству Гершензон, приходили Л. П. Карсавин, Франк. К этому периоду относится и тесное общение Бердяева с А. Белым (Борисом Бугаевым). Белый писал потом, что воспринимал Бердяева как оригинального философа (хотя и склонного к догматизму в отстаивании своей позиции), но отмечал и обаяние самой личности Николая Александровича: «…Мне импонировал в нем и большой человек, преисполненный рыцарства… Мне нравилась в нем прямота, откровенность позиции мысли и мне нравилась добрая улыбка «из-под догматизма» сентенций и грустный всегда взгляд сверкающих глаз»[187]. Московская жизнь Николая Александровича была чрезвычайно насыщенной. Но, видимо, главным событием этого года стало участие Николая Александровича в сборнике «Вехи».
Ленин назвал сборник «энциклопедией либерального ренегатства», С. Левицкий – «духовным возбудителем», В. Зеньковский – «замечательным сборником», М. Горький (в письме к Е. П. Пешковой) – «мерзейшей книжицей за всю историю русской литературы». Было много и других отзывов, как восторженных, так и критических; эпиграммы, посвящения, комментарии появились как грибы после дождя. Вокруг «Вех» разгорелась настоящая полемика в газетах и журналах, семерых авторов сборника называли и «слепыми вождями слепых» (кн. Д. Шаховской), и «обличителями интеллигенции» (П. Боборыкин), и мужественными людьми, «предпринявшими подвиг» (архиепископ Антонин). Очевидно, что «Вехи» стали заметным явлением культуры российского общества начала века, к ним обращались и обращаются до сих пор, полемизируют, цитируют, опровергают. Сборник, составителем и одним из авторов которого был Михаил Гершензон, вышел тиражом три тысячи экземпляров. За год он был переиздан четыре (!) раза, причем общий тираж достиг беспрецедентной для того времени цифры в 16 тысяч экземпляров. В газетах и журналах появилось более двух сотен откликов на него, еще больше было прочитано лекций и проведено собраний по поводу этого сборника. Через год были изданы и анти-«Вехи» – сборник под редакцией П. Милюкова «Интеллигенция в России» и эсеровский сборник «Вехи» как знамение времени». Как написал А. Белый – «книга попала в цель».
«Вехи» явились своего рода самокритикой русской интеллигенции, опытом ее самопознания и самобичевания. Авторы сборника, с большинством из которых Бердяев тесно общался, – С. Булгаков, М. Гершензон, А. Изгоев, Б. Кистяковский, П. Струве и С. Франк – объединились в своей критике радикальной революционной интеллигенции. По сути, сборник был не только своего рода подведением итогов первой русской революции и роли в ней интеллигенции, но и открытым разрывом с прежней традицией. Авторы сборника писали: интеллигенция начинает с благодушнейших идей, она чистосердечно хочет облагодетельствовать, просветить, освободить горячо любимый ею народ. Но все эти кружковые мечтания обращаются, по словам С. Франка, «ересью утопизма». Русская интеллигенция оказалась обречённой на замкнутость и кружковщину, ибо любовь её к народу была в высшей степени платонической и невзаимной; а для власти слова «студент», «интеллигент» были синонимами слова «революционер»; государство давило инакомыслящих своим прессом, лучший способ выбраться из-под которого они видели в том, чтобы вдребезги взорвать государственную махину. Революционное насилие рассматривалось как естественный ответ на сложившуюся социальную ситуацию.
Инициатором и редактором «Вех» стал литературовед, философ и историк Михаил Осипович Гершензон. Благодаря своей работе в журналах «Научное слово», «Вестник Европы» и других, Михаил Осипович был хорошо знаком со многими выдающими людьми своего времени – Вяч. Ивановым, В. Брюсовым, Л. Шестовым, К. Бальмонтом, С. Булгаковым, М. Цветаевой, В. Ходасевичем. История русской интеллигенции занимала его давно: используя подаренный Н. А. Огаревой-Тучковой архив, содержавший письма Н. П. Огарева, А. И. Герцена, Н. А. Некрасова, а также материалы, переданные ему правнучкой знаменитого генерала Н. Н. Раевского, он написал несколько замечательных книг – о П. Я. Чаадаеве, В. С. Печерине, грибоедовской Москве, А. С. Пушкине, славянофилах, приобретя заслуженную славу летописца российской интеллигенции. Да и сам дом Гершензона стал местом встречи интеллигенции того времени: эти встречи, по аналогии с его книгой, стали называть «Гершензоновской Москвой». Бывали у Гершензона и Николай Александрович с Лидией Юдифовной. Любопытно, что договариваясь с авторами, Гершензон просил их не знакомиться с другими статьями будущего сборника. Тем не менее, когда сборник был «собран», оказалось, что статьи не только перекликаются, но и взаимно дополняют друг друга, что свидетельствовало о том, что «диагноз», поставленный авторами русской интеллигенции, не случаен и отражает реальные процессы, происходящие в обществе. «Вехи» стали центральным звеном в традиции – им предшествовали «Проблемы идеализма», а за ними последовал сборник «Из глубины».
«Вехи» стали реакцией (хотя и несколько запоздалой) на революцию 1905 года. «Кровавое воскресенье» с попом Гапоном, резня на Кавказе между армянами и азербайджанцами, забастовки и демонстрации, в которых, по оценкам историков, участвовало более двух миллионов человек, восстание на броненосце «Потемкин», Октябрьская стачка, получившая всероссийский размах, Декабрьские вооруженные восстания – в Москве, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Сормово, Екатеринославле и других городах, столкновения рабочих с войсками, политические убийства (широко известно убийство московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, которого разорвало «адской машиной» Ивана Каляева, но были и многие другие)… Крови было пролито много – и с той, и с другой стороны. Насилие, террор, карательные экспедиции, казни. Говорят, во время уличных боев на Красной Пресне в Москве мостовая была буквально залита кровью, – дворники потом смывали ее водой. Но даже после поражения в вооруженном противостоянии, революционеры не сдались – революция медленно отступала еще полтора года. И в 1906, и в 1907 годах страну лихорадило от многочисленных стачек и забастовок, а в Литве, Грузии и на Урале возникло своеобразное партизанское движение (речь шла о нападении на полицейские участки и тюрьмы с целью освобождения политзаключённых, захвате оружия, экспроприации денежных средств на нужды революции), имели место и восстания в армии (в Кронштадте, Свеаборге). Революция походила не на «праздник угнетенных и эксплуатируемых» (вспоминая слова Маркса), а на жестокое испытание. Каков же был объективный результат этой «малой» революции, что удалось «купить» ценой пролитой крови?
С одной стороны, – благодаря революции появился Манифест 17 октября, провозгласивший многие гражданские свободы. Этим Высочайшим Манифестом стране были дарованы такие «незыблемые основы гражданской свободы» как неприкосновенность личности, свобода совести, слова, печати, собраний и союзов, законодательная Государственная дума. Была проведена амнистия политическим заключенным, расширены избирательные права, начата Столыпинская аграрная реформа, восстановлена автономия Финляндии, отменена цензура и достигнута относительная свобода печати. С другой стороны, – многие из этих свобод были вскоре отобраны, 2-я Государственная Дума разогнана, а по стране прокатилась волна репрессий. Показательным стало введение военно-полевых судов: за первые полгода их существования были приговорены к смертной казни около тысячи человек. Именно тогда Лев Толстой написал свое знаменитое обращение к власти и обществу – «Не могу молчать!» Там есть горькие строки, помогающие лучше понять, что происходило тогда в России: «О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как раньше шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса».
Перед интеллигенцией встал вечный вопрос, вопрос «по Достоевскому» – стоят ли вырванные у власти поблажки «слезинки ребенка», пролитой крови? Многие, вполне революционно рассуждавшие и мыслящие до произошедших в стране событий, буквально ужаснулись, увидев не книжный, а реальный лик революции. «Вехи» стали своеобразным способом сведения счетов со своей собственной совестью для авторов сборника – совестью русских интеллигентов, мечтавших о свободе и новой жизни. Почти все авторы «Вех» прошли в своей жизни через увлечение революционным движением, некоторые (не только Бердяев, но и Струве, Булгаков, Кистяковский) имели в своем «послужном списке» аресты, ссылки. У них было моральное право выносить свои оценки революционной интеллигенции, – они сами недавно было ее частью. Уже в конце своей жизни Бердяев так писал о своем восприятии тех событий: «Малую революцию 1905 года я пережил мучительно. Я считал революцию неизбежной и приветствовал ее. Но характер, который она приняла, и ее моральные последствия меня оттолкнули и вызвали во мне духовную реакцию… Мне трудно вполне принять какую-либо политическую революцию потому, что я глубоко убежден в подлинной революционности личности, а не массы, и не могу согласиться на ту отмену свобод во имя свободы, которая совершается во всех революциях»[188]. Кроме того, революция стала явным сигналом неустойчивости существующего социального порядка, его несостоятельности. Для художников и мыслителей начала века и до событий 1905-07 годов были свойственны апокалипсические настроения, после же революции они стали гораздо сильнее. Если раньше деятелей религиозного ренессанса объединяло ощущение конца одной культурной эпохи и начала новой, иной («мы – над бездною ступени,// дети мрака – солнца ждем,// свет увидим – и как тени// все в лучах его умрем», – писал Брюсов), то теперь речь шла уже не о культуре, а о самом «основании» социальной жизни – о строе, о стране, о Европе. Видимо, лучше опять дать слово самому Бердяеву: «Пророчества о близящемся конце мира, может быть, реально означали не приближение конца мира, а приближение конца старой, императорской России. Наш культурный ренессанс произошел в предреволюционную эпоху, в атмосфере надвигающейся огромной войны и огромной революции. Ничего устойчивого более не было. Исторические тела расплавились. Не только Россия, но и весь мир переходил в жидкое состояние»[189], – так он описывал мироощущение того времени.
Открывала сборник статья Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда». Статья содержала горький упрек в адрес русской интеллигенции: автор обвинял ее в грехе «народопоклонства». Ощущение неоплатного «долга перед народом» было характерно для российского интеллигента. Известный народник П. Л. Лавров образно «обосновал» это чувство: он сравнил интеллигенцию с цветком, выросшим из грязи народной жизни. Ценой цветения были темнота и забитость народа, его подневольный и безрадостный труд, ограниченность сознания. Вывод напрашивался сам собой: долг платежом красен. Интеллигенция должна отдать свой долг народу, вырвать его из темноты и грязи, бороться за свободный труд и новую жизнь. Разумеется, подобный подход увлекал своим нравственным романтизмом не одно поколение русских интеллигентов. Жизнь, творчество, искания воспринимались лишь через призму задачи «освобождения народа»: если та или иная теория, философская система, изобретение носили отвлеченный характер, не могли быть проинтерпретированы или использованы в «общем деле», – они отбрасывались, как ненужная и бесполезная вещь. В упрощенно-явном варианте это прозвучало в вопросе, который революционер-радикал Д. И. Писарев задал читателям в одной из своих статей – что полезнее для общества: строить заводы и фабрики или ваять Венеру Милосскую? Чем нравственнее заниматься – естествознанием или философией? Для Писарева и тысяч его единомышленников ответ был очевиден: Венера Милосская и философия могут и подождать, а сейчас надо дело делать, облегчать жизнь народа социальными преобразованиями, развивать промышленность, распространять научные знания и т. п. Десятилетия такой утилитаризм был чрезвычайно характерен для российской интеллигенции: заниматься чем-либо, не приложимым к делу «освобождения народа», считалось постыдным, пресловутый «долг перед народом», как горб у верблюда, всегда присутствовал в мироощущении интеллигента, и осознание этого долга считалось морально обязательным и непременным.
Бердяев поставил безжалостный диагноз: «исключительное, деспотическое господство утилитарно-морального критерия, столь же исключительное, давящее господство народолюбия и пролетаролюбия, поклонение «народу», его пользе и интересам»[190], когда любая философская система, любое событие в культурной жизни оценивается лишь с точки зрения «полезности» освободительному движению, – все это привело к тому, что «любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине»[191]. Бердяев с горечью говорил, что русская интеллигенция никогда по-настоящему философии не знала и не понимала, потому что руководствовалась принципом: да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься. Конечно, суждение Бердяева можно признать слишком резким, но доля правды в таком диагнозе была. Утилитарно-прагматический подход к культуре, философии, подчинение их интересам политики, партий, направлений и кружков привели к тому, что русская интеллигенция увлекалась лишь теми философскими концепциями и системами, которые, по ее мнению, можно проинтерпретировать как идеологию освободительного движения. В то же время, многие гениальные философские идеи не нашли никакого отклика в среде русских интеллигентов именно потому, что были индифферентны по отношению к идее «служения народу». Отсюда – увлечение позитивизмом и материализмом, вражда к религиозной философии. Бердяев с иронией отмечал, что русская интеллигенция «начала даже Канта читать потому только, что критический марксизм обещал на Канте обосновать социалистический идеал»[192]. В результате философские учения усваивались искаженно, понимались превратно, воспринимались неверно. Не избежал этой участи и экономический материализм, то есть марксизм. Бердяев, который не только хорошо знал марксистское учение, но сохранил до конца своей жизни убежденность в гениальности Карла Маркса, впервые обратил внимание на то, что русская версия марксизма сильно отличалась от западноевропейской: объективно-научная сторона марксизма отошла в сторону, а на первый план выступила субъективно-классовая его сторона; акцент делался не на экономическом производстве и организации производительных сил, а на распределении и классовой точке зрения. «Русскими марксистами овладела исключительная любовь к равенству и исключительная вера в близость социалистического конца и возможность достигнуть этого конца в России чуть не раньше, чем на Западе…, – отмечал Бердяев. – В России философия экономического материализма превратилась исключительно в «классовый субъективизм», даже в классовую пролетарскую мистику. В свете подобной философии сознание не могло быть обращено на объективные условия развития России…»[193]. Отказ от истины ради проектируемого счастья народа оборачивается на деле подменой философской истины «интеллигентской правдой», своеобразным социальным идолопоклонством.
Своей статьей Бердяев пытался показать, что интеллигентское сознание требует радикальной реформы. Без любви к истине самой по себе, независимо от того, «на руку» она сиюминутным политическим требованиям дня или нет, без поисков этой истины невозможно культурное и философское творчество. Слова Бердяева – «Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства»[194] – стали своего рода камертоном сборника. Бердяев, вполне в духе собственных философских взглядов, призывал к синтезу знания и веры, который, по его мнению, сможет удовлетворить потребность русской интеллигенции в синтезе теории и практики, «правды-истины» и «правды-справедливости». Для него такой синтез являлся необходимым условием культурного возрождения России. Таким образом, совершенно верно поставив диагноз болезни интеллигентского сознания, рецепт излечения Бердяев предложил вполне в духе течения «нового религиозного сознания».
Несколько позже Бердяев подготовил собственную книгу на данную тему, поместив в нее и свою веховскую статью. Книжка получила название «Духовный кризис интеллигенции» и вышла в 1910 году.
Иной аспект проблемы интеллигенции затронул С. Н. Булгаков, – человек не просто близкий Бердяеву, но и оказавший большое влияние на формирование у него религиозного мировоззрения. Они так тесно и часто общались друг с другом в петербургский и московский периоды жизни Бердяева, что общие знакомые называли их «братьями Диоскурами». В своей статье «Героизм и подвижничество» Булгаков, констатируя глубокий политический, духовный, гражданственный кризис России, последовавший вслед за революционными потрясениями, утверждал, что «русская революция была интеллигентской». Значит, продолжал Булгаков, «революция есть духовное детище интеллигенции, а, следовательно, ее история есть исторический суд над этой интеллигенцией»[195]. Он отметил такие характерные черты русской интеллигенции как известную «неотмирность», стремление к царству правды (своего рода мечта о Граде Божьем), антибуржуазность, аскетизм, максимализм, изолированность от народа, подчеркивая, что все это оказало влияние на выработку героической сущности интеллигентского мировоззрения. Правительственные преследования создали в интеллигенции «самочувствие мученичества», которое сочеталось (из-за отказа от религии) с самообожествлением, когда интеллигенция освобождала себя во имя «высшей» цели от уз обычной человеческой морали, давала себе право не только на имущество (экспроприация), но и на жизнь и смерть других людей (террор). Таким образом, Булгаков показал, что в русской интеллигенции наряду с высокими идеалами чувствуется антихристово начало, а черты страдальческой «духовной красоты» сочетаются с отсутствием духовного подвижничества, в основе которого, по его мнению, всегда лежит смирение перед высшими ценностями. Тем не менее, Булгаков писал и о таких чертах русской интеллигенции, которые позволяют не умереть надежде на ее будущее возрождение: в бескорыстии и чистоте помыслов интеллигенции он видел сходство с религиозным чувством. Значит, возвращение к религии еще возможно, – в этом для Булгакова заключался смысл возрождения.
Эстафету Булгакова подхватил М. О. Гершензон. В его статье «Творческое самосознание» тоже содержался призыв обратиться к духовным ценностям, к вере. Автор убеждал, что только таким образом можно перестать быть душевными «калеками» и найти точку соприкосновения с народом, ссылками на благо которого не раз оправдывались те или иные интеллигентские теории. В народе сохранилась Божья искра, а в атеистической и нигилистической интеллигенции этой искры нет: «И оттого народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас. Мы даже не догадывались об этом. Мы были твердо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности и что, если бы не препятствия, которые ставит власть, мы бы давно уже перелили в него наше знание и стали бы единой плотью с ним. Что народная душа качественно другая – это нам и на ум не приходило»[196]. Здесь была явно видна перекличка как с выводом бердяевской статьи, так и с мыслями Булгакова. Гершензон, так же, как Бердяев и Булгаков, обвинял интеллигенцию – прежде всего, в том, что она безоглядно сосредоточилась на проблемах политической борьбы. Так же, как Бердяев и Булгаков, он сохранял надежду на духовное и религиозное возрождение русской интеллигенции.
Видимо, здесь стоит сказать несколько слов о дальнейшей судьбе Михаила Осиповича Гершензона. В отличие от многих своих знакомых и друзей, он остался в советской России после Октябрьской революции, причем вполне сознательно выступил с защитой власти большевиков. В 1917 году он написал, что «только большевикам суждено вывести Россию на исторически правильный путь». Такая оценка происходящего привела к разрыву между Гершензоном и Бердяевым, они перестали общаться. Бердяев позднее несколько смягчился, но все же признавал, что подобная позиция всегда была для него неприемлемой: «В это время слишком многие писатели ездили в Кремль, постоянно встречались с покровителем искусств Луначарским, участвовали в литературном и театральном отделе. Я относился к этому враждебно, не хотел встречаться с товарищем моей молодости Луначарским. Я порвал отношения с моими старыми друзьями В. Ивановым и М. Гершензоном, так как видел в их поведении приспособление и соглашательство. Думаю сейчас, что я был не вполне справедлив, особенно относительно М. Гершензона. Советский строй в то время не был еще вполне выработанным и организованным, его нельзя было еще назвать тоталитарным, и в нем было много противоречий»[197]. Надо сказать, что Михаил Осипович застал и время «созревания» советского тоталитаризма (он умер в Москве в 1925 году), но осуждения советского строя публично никогда не высказывал. Впрочем, судить о том, что на самом деле творилось в его душе, нельзя, а осуждать за внешнюю лояльность к власти, которая жестоко карала любые сомнения в своей легитимности, трудно.
Жизнь другого участника «Вех» – Арона Соломоновича Ланде, писавшего под псевдонимом Александр Изгоев (1872–1935) – напоминала судьбы его соавторов. Он тоже эволюционировал от марксизма к либерализму. В отличие от Гершензона, Арон Соломонович не принял октябрьского переворота: после Октябрьской революции издавал газету «Борьба», в которой призывал к вооруженному сопротивлению большевикам. Призывы эти закончились плачевно: он был заключен большевиками в лагерь, сослан на окопные работы, а в 1922 году выслан из страны. Статья Изгоева «Об интеллигентной молодежи (Заметки об ее быте и настроениях)» рассказывала о духовной незрелости российского студенчества, его зависимости от внешних мнений, следовании ложному идеалу жертвенности. Имея опыт учебы в европейских университетах (он учился не только в Одессе и Киеве, но и в Германии), работая профессором в отечественных университетах, Изгоев мог сравнить российских студентов с их зарубежными коллегами. Сравнение было не в пользу первых. Будущая российская интеллигенция училась гораздо менее напряженно, чем студенты в Европе, гораздо более поддавалась политическим влияниям: «напряженная, взвинченная студенческая жизнь, создавая видимость какого-то грандиозного общественного дела, поглощая в ущерб занятиям много времени, мешает студентам заглядывать себе в душу и давать себе точный и честный отчета своих поступках и мыслях. А без этого нет и не может быть нравственного совершенствования. Но нравственное самосовершенствование вообще не пользуется кредитом в среде передовой молодежи, почему-то убежденной, что это – «реакционная выдумка». И хотя в идеале нравственное самосовершенствование заменяется постоянной готовностью положить душу за други своя…, но у огромного большинства – увы! – средних людей оно заменяется только выкрикиванием громких слов и принятием на сходках радикальных резолюций»[198], – с горечью констатировал автор. И добавлял: «Отношения полов, брак, заботы, о детях, о прочных знаниях, приобретаемых только многими годами упорной работы, любимое дело, плоды которого видишь сам, красота существующей жизни – какая обо всем этом может быть речь, если идеалом интеллигентного человека является профессиональный революционер, года два живущий тревожной, боевой жизнью и затем погибающий на эшафоте?»
Еще одна статья в «Вехах» принадлежала перу юриста, философа права Б. Кистяковского. С Богданом Александровичем Кистяковским тесно общался Гершензон (сохранилась весьма любопытная их переписка). Но и с Бердяевым Кистяковского связывало многое: не только киевские воспоминания (Кистяковский был киевлянином, учился в Киевском университете), но и вологодская ссылка, марксистская молодость, сменившаяся разочарованием в марксизме, поездка в Европу, совместная работа в журнале «Вопросы жизни». Идеи Богдана Александровича перекликались с мыслями Бердяева: обоих интересовала проблема соотношения человека, личности и общества (первая книга Кистяковского, с которой Бердяев был хорошо знаком, даже называлась «Общество и индивид»). Бердяев всю свою жизнь писал о приоритете личности над обществом, он считал, что в личности выражается одна из главных особенностей духа. Не в толпе, не в сумме, а в личности. А в 1902 году Кистяковский вместе с Бердяевым участвовал в другом, менее известном, но не менее зна́ковом для истории русской мысли сборнике – «Проблемы идеализма». Тот сборник стал симптомом типичного для ряда представителей русской интеллигенции того времени духовного движения – от «отрицательной правды» марксизма к идеализму и религии. Неслучайно, некоторые имена авторов повторялись на титульных листах обоих книг.
В своей статье «В защиту права» Кистяковский писал о существующем в России презрении и пренебрежении к формальному праву, о слабости правового сознания русской интеллигенции. Тем не менее, убеждал автор, внутренняя личная духовная свобода возможна лишь при наличии свободы внешней, которая и составляет содержание права. Если рассматривать право таким образом, то «результаты крайне неутешительные, – писал Кистявский. – Русская интеллигенция состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы. И это находится в связи с тем, что русская интеллигенция никогда не уважала права, не видела в нем ценности»[199]. Подлинной же задачей интеллигенции должно стать ее участие в правовой реорганизации общества, в «претворении государственной власти из власти силы во власть права»[200], в построении того, что мы сегодня привычно называем «правовым обществом». Статьи Кистяковского и Изгоева, при всем внешнем несходстве их тем, объединяла идея отсутствия у большинства российских интеллигентов внутренней детерминации поведения; они зависели от внешних правил, принятых в их среде: члену определенной группы дозволяются не все действия, рациональные для достижения поставленной цели, но только те, которые считались ценностно значимыми с точки зрения других.
Продолжила тему статья «Интеллигенция и революция» Петра Бернгардовича Струве – человека, с которым Бердяев общался не только в России, но и позднее, в своей эмигрантской жизни, хотя общение это и закончилось полным разрывом из-за идейных расхождений. Его взгляды тоже сильно менялись в процессе жизни, какие-то изменения совпадали с пережитыми Бердяевым этапами духовной эволюции. Один из известных западных славистов, специалист по истории русской мысли, Ричард Пайпс, обозначил изменения во взглядах Струве так: сначала – левый либерал (даже будучи марксистом Струве проповедовал его либеральную версию – «легальный марксизм»), затем – правый либерал. Хорошо знавший Струве С. Л. Франк писал о нем: «Уже на простой общий вопрос: Кто такой П. Б. Струве – ученый? писатель? политик? – единственно правильный ответ будет: все вместе в нераздельном единстве личности. Очарование его личности состояло именно в том, что он был, прежде всего, яркой индивидуальностью, личностью вообще»[201].
Еще в 1905 году Струве предупреждал своих читателей: «В атмосфере русской жизни висит диктатура: диктатура тех, кого именуют «черной сотней», и тех, кто себя именует революционным пролетариатом». Мы скажем и тем, и другим, что стране не нужна и противна всякая диктатура, что она нуждается, что она жаждет только права, свободы и хозяйственного возрождения»[202]. Петр Бенгардович признавал первую русскую революцию трагической ошибкой. В своей веховской статье он подверг критике навязчивую идею устройства революции, господствующую в сознании русского интеллигента. Струве был сторонником постепенной эволюции, а не революции, поэтому он призывал направить свои усилия не на организацию насильственного революционного переворота, а на конструктивную созидательную работу. Струве стоял в оппозиции к существующему государственному строю, но считал, что революции не способствуют прогрессу. Более того, будучи верующим человеком, он был уверен, что любые социальные идеалы нуждаются в религиозном обосновании.
Критику интеллигенции продолжил Семен Людвигович Франк. Их можно было бы назвать с Бердяевым друзьями, но, как в конце жизни писал сам Бердяев, это слово не совсем подходило к его кругу общения: Бердяев всегда держал некоторую дистанцию по отношению к тем, с кем его сталкивала жизнь. Если у него и были друзья, то это были женщины, а не мужчины (Вера Дениш, Зинаида Гиппиус, Евгения Рапп, Евгения Герцык, другие) – возможно, в силу их большей эмоциональности (которая была присуща и Бердяеву). Тем не менее, именно Франк и Булгаков были людьми, с которыми связаны многие события в жизни Бердяева. Семен Людвигович тоже эволюционировал от марксизма к либерализму и православию, тоже прошел через преследования как царских властей, так и большевиков. Эмигрантская судьба Франка началась с «философского парохода», на котором они оказались вместе с Бердяевым. Не только в России, но и в эмиграции их жизни шли рядом, они общались, переписывались, иногда остро и непримиримо спорили. В последней размолвке – когда Бердяев в конце второй мировой войны поверил, что советская власть изменилась, поддержал движение за возвращение эмигрантов домой, а Франк твердил, что тирания в России жива – Франк был прав… В «Вехах» эти две яркие фигуры русской культуры прошлого века были рядом.
Как будто развивая мысль Булгакова, в своей статье «Этика нигилизма» Франк показал противоречие между религиозно-абсолютистским характером интеллигентской веры и общепринятым в интеллигентской среде нигилизмом и атеизмом. «Символ веры русского интеллигента есть благо народа, удовлетворение нужд «большинства». Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того – то от лукавого. Именно потому, – утверждал Франк, – он не только просто отрицает или не приемлет иных ценностей – он даже прямо боится и ненавидит их»[203]. Отсюда, как показал Франк, вытекало отрицание абсолютной морали и подчинение нравственности безнравственной идее «коллективной пользы». Очевидно, что от этой идеи – всего один шаг к принесению в жертву «коллективу» личной свободы и независимости. Вывод этой статьи звучал в унисон с выводами других авторов: надо заменить «нигилистический морализм» религиозным гуманизмом. Статья Франка не случайно была последней в сборнике: она как будто подводила его итог. Семен Людвигович дал обобщенную формулу интеллигента, определив его как «воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия». Именно поэтому историческую миссию русской интеллигенции он сформулировал как построение новой системы духовных ценностей.
Таким образом, авторы сборника были едины в том, что корень многих бед русской интеллигенции – в ее отрыве от религии и замене абсолютных моральных ценностей культом абстрактного «народа-страдальца». Они выступали против радикалистского революционизма интеллигенции, а вместе с тем, и против всей старой традиционной системы ее ценностей. Совпадение тональности статей, их выводов (без предварительного знакомства с текстами друг друга!) можно считать явным доказательством того, что позиция авторов выражала определенное течение в русской мысли того времени. Подтверждал это и сенсационный успех сборника. Веховцы предложили новую модель политической культуры российской интеллигенции, при которой собственно политика отодвигалась на второе место, а важнейшей миссией интеллигенции становилось творческое созидание, духовное развитие человека.
Вместе с тем, как уже говорилось выше, «Вехи» вызвали волну острой критики, что означало отсутствие единомыслия в интеллигентской среде. Сборник критиковали не только явные противники, которые могли узнать свой портрет в веховских статьях, но и «соратники»: резким критиком сборника стал, например, Дмитрий Сергеевич Мережковский. Отчуждение между Бердяевым и четой Мережковских становилось все более явным. Показателем вектора развития их отношений является тот факт, что живя в эмиграции в одном городе – Париже – Мережковские и Бердяевы вообще не общались. Николай Александрович писал: «После сравнительно короткого периода очень интенсивного общения, а с З. Н. Гиппиус и настоящей дружбы, мы большую часть жизни враждовали и, в конце концов, потеряли возможность встречаться и разговаривать. Это печально»[204].
Мережковский обвинял авторов «Вех» в анти-революционности. В годы революции 1905 года позиция Мережковских (в отличие от позиции того же Бердяева) была достаточно радикальной. Этим объяснялось и присутствие в их салоне эсеров и «неонародников», – они считали, что революция не только не противоречит христианству и религиозным взглядам, но, напротив, вытекает из них. С точки зрения Гиппиус и Мережковского, существует два основных подхода к интерпретации исторических событий – эволюционный (научный), когда утверждается бесконечность и непрерывность развития, ненарушимость закона причинности, и революционный (прерывистый), когда налицо преодоление внешнего закона причинности внутреннею свободою, а история предстает как цепь катастроф и потрясений[205]. Библия, по их мнению, дает именно катастрофическую картину человеческой истории (изгнание из Эдема, великий потоп, разрушение вавилонской башни, апокалипсис и т. д.) Значит, делали они вывод, религия и революция – неразделимые понятия. Здесь их позиция принципиально отличалась от позиции авторов «Вех». Мережковский был за революцию, а не против нее. Более того, он пытался доказать, что революция и религия – понятия чуть ли не синонимичные, что нельзя быть верующим человеком и не мечтать о революционном изменении мира. Правда, здесь надо сделать одну чрезвычайно важную оговорку: речь шла о революции духовной, но не политической. Разница огромная! Получалось, что Мережковский и «веховцы» говорили о разных вещах, – «революционер» Мережковский мечтал о религиозной революции, о духовном перевороте, а авторы сборника отмежевывались от политического насилия.
21 апреля 1909 года в Петербургском Религиозно-философском обществе состоялось специальное заседание, посвященное обсуждению сборника. Заседание прошло при полном аншлаге: «Небольшой зал был, конечно, переполнен, стояли в проходах, сгрудились на эстраде, толпились во всех соседних комнатах. На эстраде до того тесно, что Петр Струве и свящ. Аггеев, держась друг за друга, сидят на одном стуле»[206]. Доклад «Опять об интеллигенции и народе» делал Мережковский. Он обвинил авторов сборника в ненависти к русской интеллигенции, сам же безоговорочно встал на защиту и ее революционных чаяний.
– Тяжело говорить горькую правду о близких людях. Между участниками «Вех» есть люди мне близкие, – так он начал свое выступление. Закончил же вполне в духе публичных митингов:
– Да здравствует русская интеллигенция, да здравствует русское освобождение!
Прения были жаркими. Позицию веховцев защищали Струве и Франк. Струве спорил с Мережковским, находил противоречия в его построениях, обвинял в том, что идея «Вех» была понята им превратно, но главным завершением его выступления стало признание того факта, что отнюдь не презрением и ненавистью к интеллигенции был продиктован сборник, наоборот, искреннее уважение к этому явлению российской жизни заставило авторов выступить с критикой, не скрывать и не прятать своих взглядов. Франк тоже довольно резко возражал Мережковскому. Он попытался показать (и, думаю, его замечания были вполне справедливы), что взгляды Мережковского и взгляды «веховцев» имеют много общего, – прежде всего, речь шла о необходимости отказа от «ходячего атеистического мировоззрения». Показательно, что Мережковский не захотел увидеть того, что объединяло его с авторами сборника, но встал на позицию наиболее резкого их критика. Думаю, свою роль здесь сыграл и разрыв в отношениях с Бердяевым.
Большинство участников заседания РФО 21 апреля не поддержали авторов «Вех». Тем не менее, сборник и сегодня читается, комментируется, интерпретируется. Думаю, можно говорить по меньшей мере о двух моментах, обусловливающих вековую популярность «Вех». Во-первых, предупреждения «Вех» гораздо понятнее для нас сегодняшних, чем для живших в предзакатной императорской России. Пережившее ХХ век человечество уже не понаслышке знает о многочисленных социальных «экспериментах» по воплощению утопических идей и их страшных результатах. Тогда же, накануне потрясений и изменений, революционный романтизм был чем-то самим собою разумеющимся. Поэтому позиция авторов сборника требовала не только пророческого дара, но и интеллектуального мужества – противостоять общепринятой в интеллигентской среде позиции было тяжело. Впрочем, не менее важно для сегодняшнего дня то, что в «Вехах» изменилась сама направленность критики. Мы до сих пор в своих общественных взглядах привычным образом отталкиваемся от критики наличной социальной действительности. «Вехи» – редкий пример того, как критика «среды» в России перестала быть ведущим настроением, но стала самокритикой. «Вехи» пытались показать, что интеллигентское сознание требует радикальной реформы. Без критического отношения к своим идеям и поступкам, без любви к истине самой по себе, независимо от того, «на руку» она сиюминутным политическим требованиям дня или нет, без поисков этой истины невозможно культурное творчество.
Во-вторых, в «Вехах» самоанализ интеллигенции стал политической философией. Сборник – не только самокритика, но и наброски позитивной программы. Программа эта имеет имя: либеральный консерватизм, причем она до сих пор не реализована в России.
Само словосочетание «либеральный консерватизм» многим кажется оксюмороном – чем-то вроде «горячего льда». Разумеется, исторически консерватизм и либерализм развивались как очень разные типы идеологии, но с течением времени они эволюционировали. Взаимодополнительность консерватизма и либерализма объясняется не столько заимствованиями, «подправлением» нетипичного для русского общества либерализма традиционным консерватизмом, сколько природой этих политических и интеллектуальных явлений. Пафос дистанции между либерализмом и консерватизмом с ходом истории постепенно теряется прежде всего потому, что сам консерватизм меняется: в связи с тем, что в развитых странах господствует индивидуализм (вполне соответствующий рыночным отношениям), происходит своеобразное приспособление консерватизма к либеральным принципам. «Охранительный» консерватизм status qvo, представленный в 18 веке Гегелем, Берком, Новалисом, в 19 и, тем более, в 20 и 21 столетиях не может не впитать в себя определенные либеральные принципы, если он выполняет функции консервации существующих общественных форм. К таким принципам можно отнести примат правовых средств над насильственными для решения социальных вопросов, признание неотъемлемых прав личности и т. п. Неоконсерватизм – не только критик, но и наследник классического либерализма. На смену консерватизму сегодня пришел неоконсерватизм, на смену классическому (прежде всего, экономическому) либерализму – неолиберализм социальной направленности, разница между ними уже не столь очевидна, и либеральный консерватизм стал одним из мостов между ними.
После распада СССР интеллигенция на постсоветском пространстве увлеклась радикальным либерализмом. В России, где инерционное по своей природе массовое сознание отнюдь не стало в одночасье либеральным, это привело к повторению ситуации интеллигентской замкнутости, о которой говорилось еще в «Вехах». В таких условиях, сочетающих верхушечный либерализм элит и мощнейшие архаичные консервативные почвенные пласты, общество решилось на радикальный революционный прорыв 90-х годов, обернувшийся, как известно, вовсе не тем, о чем мечтали либералы. В результате, либерализм оказался дискредитированным в глазах общества. (Впрочем, в России слово консерватор всегда звучало более благородно и почтенно). Поэтому либеральный консерватизм, как соответствующий нелиберальности, консерватизму широких слоев, но ослабленный, смягченный либеральными элементами, – наверное, единственный тип массовой либеральной идеологии, который по-прежнему стоит на повестке дня в России 21 века.
Часть 3. Твори, не то погибнешь!
9. «Верующий вольнодумец»
Философ неверующий есть существо с очень суженным опытом и горизонтом, сознание его закрыто для целых миров.
Н. БердяевВ московскую жизнь Бердяева прочно вошла Евгения Казимировна Герцык (1878 – 1944). Сестры Герцык оставили свой след в эпохе духовного ренессанса рубежа веков. И речь идет не только о публикации их переводов (обе сестры, в частности, переводили работы Ницше) и статей, о стихах Аделаиды Казимировны, о дружбе со многими выдающими людьми того времени (одно перечисление их имен впечатляет!) – Львом Шестовым, Сергеем Булгаковым, Вячеславом Ивановым, Лидией Зиновьевой-Аннибал, Максимилианом Волошиным, Маргаритой Сабашниковой, Константином Бальмонтом, Мариной Цветаевой, Валерием Брюсовым, Софьей Парнок, Михаилом Гершензоном, Иваном Ильиным, Алексеем Ремизовым, Федором Степуном, многими другими, но и о книге воспоминаний, оставленной Евгенией Герцык, где она нарисовала живые портреты близких ей людей, об их многочисленных письмах, публикация которых помогла по-новому понять атмосферу начала прошлого века. Старшая из сестер, Аделаида, вышла в 1909 году замуж за издателя Дмитрия Евгеньевича Жуковского, – того самого, который издавал журнал «Вопросы жизни», поэтому Бердяев с этой семьей был связан несколькими «ниточками», а сестер знал еще по своей петербургской жизни.
Евгения Герцык стала частым гостем сначала в снятых Бердяевыми меблированных комнатах, затем – в квартире в Арбатских переулках. Она вспоминала Бердяева в то время: «…Всегда острое безденежье – но убогость обстановки не заслоняла врожденной ему барственности. Всегда элегантный, в ладно сидящем костюме, гордая посадка головы, пышная черная шевелюра, вокруг – тонкий дух сигары. Красивая, ленивая в движениях Лидия Юдифовна в помятых бархатах величаво встречала гостей. И за чайным столом острая, сверкающая умом беседа хозяина»[207]. Совсем иначе описывал обстановку в московской квартире Бердяева Андрей Белый: «У себя на дому он (Бердяев – О.В.) всегда отступал перед собраньем возбужденных и экстатических дам, предводительствуемых двумя особами, совершенно несносными; супруга, Лидия Юдифовна, черная и востроносая, с бестактным нахрапом кричавшая и ваш вопрос, обращенный к Бердяеву, перехватывавшая; Лидия Юдифовна порой не позволяла вымолвить ни слова: «Подожди, Ни, я отвечу!» Если вам удавалось избежать одной фурии, вы попадали к другой, цепко-несносной (у Бердяевых жила и сестра Лидии, Евгения Юдифовна Рапп – О.В.): «Подождите же, Ни! Дело в том, Ни, что ему следует рассказать…» – и начинались потоки дотошных словечек, напоминаших падение дождевых капелек: «Т-т-т-т-т-т»; оставалось вздохнуть, схватить шляпу и – прочь из этого суматошного, дотошного, переполненного дамским экстазом дома, потому что вслед за двумя неудобными хозяйками поднималась толпа их подруг, родственниц, чтительниц…, благотворительниц, патронесс…; Бердяев же… с грустной улыбкой томно отмахивался, подергивая головою и пальцами, пытаясь что-то противопоставить свое: «Ну, это вы слишком… В сущности, это совсем и не так…» – и беспомощно он помахивал лишь рукою»[208]. Есть и другое свидетельство Белого, тональность которого такая же, но Лидия Юдифона и Евгения Юдифовна названы уже не «несносными», а «интересными» и «талантливыми» (попробуй тут разберись, какими они были на самом деле!): «грустно-приветливый и очень хлебосольный, являлся воссиживать милым каким-то сатрапом на красное кресло из тихого кабинета, где только что быстро скрипевшим пером он (Бердяев – О.В.) прокалывал Д. Мережковского в бойком своем фельетоне, – для «Утра России»; после боя чернильного с нами он ужинал, тихий, усталый, предоставляя всегда интересным, словоохотливым и талантливым Л. Ю. Бердяевой и сестре ее всю монополию мира идей; и внимал нам с сигарой во рту.
В его доме было много народу; особенно много стекалось сюда громких дам, возбужденных до крайности миром воззрений Бердяева, спорящих с ним и всегда отрезающих гостя от разговора с хозяином; скажешь словечко ему; ждешь ответа его; но уж мчится стремительно громкая стая словесности дамской, раскрамсывая все слова, не давая возможности Н. А. Бердяеву планомерно ответить; да, да: было много идейных вакханок вокруг «бердяизма»; ты, скажешь, бывало, – то, это: «бердяинки» же поднимают ужаснейший гвалт:
– Что сказали Вы?
– Да!
– Нет!
– То – это!
– Неправда же: это есть то.
И – прикусишь язык; и Бердяев прикусит язык; и останется: встать и уйти. Так слова разбивались словами «бердяинок»; тело живой сочной мысли, кроваво разъятое оргией мысли, рубилось на мелкие части; и далее: приготовлялись «котлеты» бердяевских мнений; и дамы кормились «котлетами» этими, потчуя всех посетителей ими; от этих «котлет» уходил; и бывали периоды даже, когда я подолгу не шел на квартиру Бердяева, зная беспрокость общения с ним»[209]. Белый писал, что сам Бердяев ему был симпатичен, но «бердяинки» раздражали.
В Москве Николай Александрович переживал период церковного «обращения»: «Совсем недавний христианин, в Москве Бердяев искал сближения с… подлинной и народной жизнью Церкви, – вспоминала Герцык. – Помню его в долгие великопостные службы в какой-то церкви в Зарядье, где умный и суровый священник сумел привлечь необычных прихожан – фабричных рабочих. Но как отличался Бердяев от других новобращенных, готовых отречься и от разума, и от человеческой гордости. Стоя крепко на том, что умаление в чем бы то ни было не может быть истиной, быть во славу Божию, он утверждает мощь и бытийственность мысли, борется за нее… Душно, лампадно с ним никогда не было»[210].
Действительно, «лампадно» быть не могло, – христианство Бердяева было трагично и мучительно. («Моя внутренняя религиозная жизнь складывалась мучительно, и моменты незамутненной радости были сравнительно редки. Не только оставался непреодоленным трагический элемент, но трагическое я переживал как религиозный феномен по преимуществу»[211]). Он остро ощущал свою греховность, не раз задавал себе непростые вопросы о человеческой (значит, и своей) судьбе до и после смерти. В одном из писем начала 1924 года Шестову он писал: «…Напрасно вы думаете, что состояние верующего не трагично, а трагично лишь состояние неверующего. Как раз наоборот. Верующий большим рискует. Верующий рискует проиграть вечную жизнь, а неверующий рискует только проиграть несколько десятилетий, что не так уж трагично и страшно»[212]. Его душа порой была «истерзана… религиозной жизнью»[213], хотя в печатных работах Бердяев редко обнаруживал противоречия своего личного опыта.
К тому же, Бердяев так и не смог слиться с православным кругом, полностью «воцерковиться». Он и сам это признавал, – поэтому попытки сделать из него проповедника православия, которые встречаются подчас в «бердяеведении», вряд ли оправданы. Отдать свою волю под чье бы то ни было руководство, водительство было для него невозможным. Сам он писал: «Я вполне готов каяться в своих многочисленных грехах и в этом согласен был смириться. Но я не мог смирить своих исканий нового духа, своего познания, своего свободолюбия. Одно время я довольно много читал аскетических духовных книг типа «Добротолюбия». В них можно найти, конечно, некоторые элементарные и бесспорные истины. Но у меня всегда оставалось чувство унижения человека, отрицания всякого творческого порыва и подъема»[214]. Как раньше Бердяеву было «душно» в среде революционеров, сузивших свои жизни до одной цели и подчиняющихся строгой партийной дисциплине, так и сейчас его движение в сторону православных кругов было недолгим, через несколько лет сменилось отталкиванием, – Бердяеву стало «душно». В конце жизни он писал о себе: «я не верю в существование единой, целостной ортодоксии, в которую можно было бы обратиться. Я не богослов, моя постановка проблем, мое решение этих проблем совсем не богословские. Я представитель свободной религиозной философии»[215]. Уже в 1909 году Евгения Герцык в одном из своих писем Вяч. Иванову писала о сложностях Бердяева: «Он говорил и о своих колебаниях, о безысходности, к которой подходит, и с болью признавался, что не знает, не видит иного пути, как маленькая церковь в большой церкви, мистическое братство, общение, и только умильно как бы просил подождать, дать ему «побыть некоторое время «просто хорошим христианином». Ему очень нелегко это признание при его инстинктивной ненависти ко всему, что может иметь уклон к сектантству, и при его жажде вселенскости»[216]. Идея «маленькой церкви», возмущавшая Бердяева у Мережковских, все же засела у него в голове… «Братства» тоже еще встретятся в его жизни, – он, Булгаков, другие попробуют воплотить такое «братство» в своей эмигрантской жизни, хотя и без особого успеха.
В феврале 2009 года Бердяев вместе с Лидией Юдифовной приехали в Петербург. Остановились в квартире Вячеслава Иванова – на «башне». Зима была холодной, Николай Александрович простыл, чувствовал себя неважно, но все же прочел очередной доклад в Петербургском РФО 24 февраля. Свое выступление он озаглавил: «Опыт философского оправдания христианства». На эту же тему он уже выступал в конце 2008 года в Киевском РФО, повторное выступление свидетельствовало о том, что доклад в Киеве имел успех (зал долго аплодировал земляку) и что тему он считал важной. Доклад был посвящен антропологии В. И. Несмелова, русского богослова, философа, профессора Казанской духовной академии. В работах Несмелова Бердяев увидел «новый способ обнаружения бытия Бога – психологический, или, вернее, антропологический»[217]. Рациональные доказательства бытия Бога многие века занимали людей, не менее долго их критиковали, искали в них логические ошибки. Бердяев нашел убедительное для себя обоснование тезиса о существовании Бога в человеческой природе, – это было вполне в соотвествии с его философскими взглядами: личность для него всегда имела абсолютное значение. Поэтому доклад, который он сделал в РФО, стал закономерной вехой в его религиозном развитии. Показателен и выбор текста: религиозная академическая философия, богословский трактат соответствовали его тогдашнему стремлению сблизиться с православной средой, «прилепиться» к Церкви.
Незадолго до этого доклада Бердяева Петерургское РФО пережило своеобразный кризис: в результате разногласий с Мережковским и большинством членов общества, из Совета РФО вышел В. В. Розанов. Он заявил, что РФО превращаеся в литературное объединение «без всякого общественного значения». Василий Васильевич связал эти перемены с усиливающимся влиянием Мережковского, назвав его – «вещь, постоянно говорящая». Среди людей, не согласных с новым направлением общества, считавших, что РФО должно основное внимание уделять рассмотрению религиозных вопросов, Розанов назвал и Бердяева. Действительно, начало московского периода жизни было связано у Николая Александровича стремлением принять Церковь в свое сердце, ощутить себя по-настоящему православным человеком. Под стать были и знакомства этого времени.
В 1910 году было создано издательство «Путь». Вокруг издательства сложился определенный круг философов, которых объединяла православная ориентация. К этому кругу принадлежали С. Н. Булгаков, князь Е. Н. Трубецкой, В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский, Г. А. Рачинский и другие. «Главные силы религиозно-философской мысли были сосредоточены вокруг издательства «Путь»,[218] – вспоминал позже Бердяев. Почти сразу развернулась идейное противостояние между «путейцами» и философами, группировавшимися вокруг журнала «Логос». Спор велся между «религиозной» и «научной» философией, он касался нескольких фундаментальных тем, одной из которых являлся вопрос о соотношении знания и веры. «Путейцы» упрекали «логосовцев» в том, что они, ориентируясь главным образом на немецкую философию, резко отделяют «знание» от «веры». Бердяев, естественно, примыкал к позиции «Пути», считая, что вера и знание не исключают, а взаимно ополняют друг друга, но его позиция не было крайней, его зачастую относили к «колеблющимся». «Путейцы» стали «пружиной» деятельности Московского РФО памяти Владимира Соловьева, в жизни которого Бердяев тоже активно участвовал после переезда в Москву. Финансирование общества и издательства взяла на себя миллионерша Маргарита Кирилловна Морозова, вдова «ситцевого короля» Михаила Морозова, которая не была чужда философии. Это обстоятельство поставило московское общество в более выгодное положение по сравнению с подобными же петербургским и киевским объединениями.
В московском РФО и в философском кружке в салоне Морозовой часто бывал Андрей Белый, которому «философские шахматы» (так он называл разгоравшиеся между участниками споры) помогали пережить трудности и боль его непростой влюбленности в Любовь Менделееву. Белый часто бывал у Бердяевых («ел, пил и даже иногда спал у нас», – писал Николай Александрович), они были близки в это время. Бердяев позднее характеризовал Белого как человека чрезвычайно одаренного и талантливого, с проблесками гениальности, но обладающего «тяжелобольной душой», одинокого, со «склонностью к предательству» по отношению к своим знакомым[219]. Наверное, эти качества натуры сказывались в тех подчас злых характеристиках, которые Белый давал знакомым людям. В то же время, его свидетельства очень интересны как раз в силу их субъективности, «неприглаженности».
Андрей Белый вспоминал, что в то политизированное время даже среди философов выделились «партии» в соотвествии с их пристрастиями: роль «китов» старшего поколения и «правого крыла философского фронта» играли Евгений Николаевич Трубецкой («он был удивительно косолап и внутренно добр»), Лев Михайлович Лопатин (сосед Бердяева по арбатским переулкам, профессор Московского университета, спиритуалист) и Вениамин Михайлович Хвостов (специалист в философии права, тоже университетский профессор). «Е. Н. Трубецкой, метафизик, был очень отсталым философом; но он был человечен в сношеньях с людьми, гарантируя возможность обмена мнений»,[220] – такова была оценка «передового» Андрея Белого. К Трубецкому благоволила хозяйка дома, где чаще всего проходили заседания московского РФО, Маргарита Кирилловна, о красоте которой дают некоторое представление ее портреты кисти В. А. Серова. Трубецкой и Лопатин пытались на собраниях противостоять модному тогда неокантианству и символизму, и потому рассматривались более молодыми философами как «обломки доисторической эры». Самым «передовым» и «левым» среди философов Белому казался Густав Густавич Шпет, недавно приехавший в Москву из Киева, лекции которого на Педагогических женских курсах пользовались тогда огромной популярностью. Надо сказать, что Густав Шпет недолюбливал Бердяева и Булгакова. Позицию первого он называл «ницшеанизированным православием» и даже ввел в оборот колкий термин «белибердяевщина», а второго упрекал в смешении «поповского духа» и «воспоминаний о маркизме». Появился на философских собраниях и приехавший из Германии Сергей Иосифович Гессен, рефераты которого были написаны в духе и с использованием сложной терминологии фрайбургской школы неокантианства, что не раз ставило в тупик «китов», слыхом не слыхивавших о таких новомодных философских штучках. Хвостов привел в РФО гегельянца – «молодого, одержимого, бледного, как скелет, Ивана Александровича Ильина»[221], – известного в последующем философа, написавшего не одну книгу о России и русском патриотизме. На заседания захаживали и соавторы Бердяева по «Вехам» – Кистяковский, Гершензон, Булгаков. Бердяев был завсегдатаем РФО, не раз выступал в нем с докладами, участововал в обсуждениях. Религиозная проблематика постоянно присутствовала на этих собраниях, что совпадало со склонностью Николая Александровича в то время.
Интерес к православной жизни привел Бердяева на Покровку (несколько раз его сопровождала и жена с Евгенией Герцык), где в трактире «Яма» по воскресеньям устраивались религиозные народные собеседования – собирались баптисты, раскольники, сектанты разного толка, толстовцы, были и представители официальной церкви, миссионеры. За столиками стояли пузатые чайники, – водку открыто пить не разрешалось, но запрет обходили, наливая ее в один из таких чайников. Вот в этой обстановке велись разговоры и споры удивительные, «по Достоевскому»: о смерти, об аде (где он – реален или в человеческой душе?), о грехе… «Та же страсть к игре мысли у этих трактирных, малограмотных, что и у философов, заседающих в круглом зале университета, а может быть, и более подлинная»[222], – писала Герцык. Ей вторил и Бердяев: «…беседа стояла на довольно высоком уровне, была мистическая напряженность, сложная и углубленная религиозная мысль, было страстное искание правды»[223]. Николай Александрович засиживался в трактире допоздна, он любил эти беседы, они не только помогали ему понять страну, в которой он жил (он не хотел оставаться «барином»), но и приоткрывали что-то в собственной душе. Особенно его заинтересовала секта «бессмертников»: они проповедовали буквальное эмпирическое бессмертие уверовавшего человека. Если «бессмертник» умирал, – то только потому, что терял веру.
Однажды один из участников споров в Яме, Никита Пустосвят из левого раскола, подошел к Бердяеву и сказал:
– Если хочешь знать истину, то пригласи меня к себе.
Бердяеву стало любопытно, он привел его домой, в арбатскую квартиру. Там Никита сел посередине комнаты и развил перед слушателями целую гностическую систему, поразившую слушателей своей сложностью. Но ни на какие вопросы и возражения Никита отвечать не хотел, – он вещал, как абсолютно уверенный в своей правоте человек, мнения остальных его нисколько не интересовали. Это был монолог, а не диалог. Именна эта сторона сектантства неприятно поразила Бердяева: сам он был человеком открытым для новых мыслей и идей, и такая полная замкнутость и отношение ко всему, что не совпадает с собственной позицией, как ко лжи, ему претила. Вскоре эти народные собеседования были запрещены властями, о чем Бердяев очень сожалел.
Впрочем, летом, которое Бердяевы по обыкновению провели в Бабаках (Евгения Герцык приезжала к ним в гости), тема народного богоискательства была неожиданным образом продолжена. Владелец соседней усадьбы, Вл. Шеерман, оказался толстовцем по своим убеждениям, он организовал у себя коммуну, общину. Там были не только толстовцы, но и другие искатели праведной жизни по Божьему закону, были и странники, которые останавливались у Шеермана по дороге на Кавказ (Кавказ воспринимался как место, где можно стать ближе к Богу, зажить духовной жизнью, туда отправлялись многие богоискатели). Бердяев познакомился и с самим Шеерманом, и со многими членами коммуны, некоторые приходили к нему для «духовных бесед». Позже он вспоминал эти беседы как одни из самых интересных в его жизни, говорил, что встретился с замечательными по своим душевным качествам людьми. Любопытно, что, по мнению Бердяева, многие «народные философы» излагали системы и взгляды, которые были родственны системам германских средневековых мистиков – Якоба Беме и Мейстера Экхарта. Правда, не исключено, что такое впечатление у Николая Александровича сложилось, потому что и он сам, и некоторые его знакомые увлекались в то время их творчеством. Маргарита Сабашникова сделала перевод «Духовных проповедей и рассуждений» Мейстера Экхарта; немецких мистиков для издательства «Путь» переводила Евгения Герцык, – это была интеллектуальная мода начала века, а Бердяев бессознательно всегда следовал интеллектуальной моде (искреннее веря и уверяя, что он всегда одинок и непохож на других в своих исканиях).
В конце лета Николай Александрович съездил в Крым. Дело в том, что Евгения Герцык уехала туда из Москвы, причем в плохом расположении духа: «Встречи, разговоры, сборища у тех, у других и вдруг, разом все для меня поблекло, обезвкусилось. Издавна знакомое чувство отвращения ко всему, и прежде всего к себе самой… Почти неприязнь к Бердяеву. Уезжаю в Судак»[224]. У Герцыков был свой дом в Судаке, куда съезжались летом их знакомые – Иванов, Парнок, Гершензон, Булгаков, И. Ильин, другие. Конечно, тягаться в популярности с домом Волошина в Коктебеле Герцыкам было трудно, но и их дом был гостеприимным и уютным, а к Волошиным сестры ездили в гости и принимали их у себя. В лихие годы гражданской войны эти крымские убежища многим помогли выжить.
В мрачном настроении Евгения не отвечала на письма Бердяева. Тогда он решил приехать к ней. Такое решение свидетельствует об особых отношениях Герцык и Бердяева, которые сохранялись, судя по письмам, долгие годы. Об этих особых отношениях знали многие (Шестов, Иванов, Эрн, сестра Евгении – Аделаида), но в них есть загадка. Евгения в это время переживала мучительный роман с Вячеславом Ивановым, Бердяев трепетно относился к жене… Более того, сохранилась переписка Евгении Герцык и Лидии Бердяевой, из которой очевидно, что они были настоящими друзьями, – во всяком случае, после 1912 года. В то же время, сестра Евгении, Адя, писала ей из весной 1909 года из Цюриха: «Дорогая, какая безумная и страшная (для меня) твоя дружба с Бердяевым! Как небывало и удивительно все у Вас. И неужели жена согласна на это?»[225]. Что было тут небывалого и удивительного, не вмещавшегося в привычные рамки отношений, на что обычно жены не соглашаются?
На мой взгляд, возможны три варианта истолкования событий. Первая интерпретация: речь идет о платоническом чувстве, если и о любви, – то об Афродите небесной, а не простонародной, о родстве душ. Поэтому та же Адя называет это дружбой, хотя в других письмах, говоря о Вячеславе Иванове, пишет сестре о ее любви. Второй вариант (по-моему, самый вероятный): родство душ предполагало интимную близость не как самоцель, а как средство для достижения духовного единства, слиянности мыслей. Ведь для некоторых знакомых Бердяева по Петербургу любовь была главным способом реализации идеала единства душ и целостности как постепенного соединения людей не только в духовном, но и в телесном общении. Бердяев не был сторонником таких взглядов, но они могли оказать на него некоторое воздействие. В «Смысле творчества» у него есть слова о том, что «вся сексуальная жизнь человека есть лишь мучительное и напряженное искание утерянного андрогинизма, воссоединение мужского и женского в целостное существо».[226] А в «Метафизике пола и любви» он говорил: «История Эроса в мире мало имеет точек соприкосновения с историей семьи»[227], – видимо, опираясь на собственный семейный опыт…
К тому же, отношения Евгении с Вячеславом Ивановым ее сестра Аделаида неслучайно в одном из писем назвала «духовным браком», – как раз там не было места для плотской любви. Основания для раздумий дают и сведения о том, что Лидия Бердяева решила ограничить свой брак чисто духовным общением[228]. Это не было исключительным событием в той среде, – таким же образом многие интерпретировали брак Мережковских, например. Экзальтированность эпохи, тяга к оккультизму[229], религиозные искания приводили порой к удивительным ситуациям. Косвенным доказательством моего предположения о том, что Евгения, в отличие от Лидии, попробовала решить для Бердяева «роковую проблему пола», может служить ее письмо к подруге, Вере Гриневич, в котором Евгения рассказывала о приезде Николая Александровича в Судак: «Когда я с первых же дней увидела темную бурю в нем, узнала, до каких болезненных состояний доходил он летом (причина – отчасти пол, но безобъективный) и как это его ожесточило, я прежде всего разрушила тон, установившийся между нами и неверный для него теперь, и вообще вычеркнула «дружбу», чтобы у него не было чувства, что все говорившиеся им слова «обязывают» его. Я ему сказала…, что в той атмосфере, в кот<орой> и он, и я живем, вянут все романтические, нежные отношения – наша дружба, что только страсти и Эроса не может спалить вера, кот<оторая> все выжигает. И установились отношения, в кот<орых> мы друг для друга не существовали… И после одной ночи, в кот<орую> в нем совершился перелом, освободивший его от кошмара целых месяцев, новую ценность мы почувствовали друг в друге»[230].
Очевидно, что, каковы бы ни были отношения Николая Александровича и Евгении, Лидия Юдифовна о них знала, – Бердяев был не способен лгать и прятаться, для него действительно на первом месте всегда стояло духовное общение, поэтому он нежно и благодарно относился к своей жене, считая ее самым близким человеком. Лидия, при всех ее недостатках, обладала огромным достоинством, о котором говорили многие знавшие ее люди: она старалась не стеснять свободы близких ни в чем. Разумеется, надо помнить и об особенностях среды, о которой я рассказываю: ревность здесь если и встречалась, то не демонстрировалась. Та же Евгения Герцык, любя Вячеслава Иванова всей душой, с большой теплотой общалась с Маргаритой Сабашниковой, которую связывали с Ивановым и его покойной женой, Зиновьевой-Аннибал, близкие отношения, дружила с Верой – второй женой Иванова. Идея «открытого брака», свободной любви была распространена в начале 20 века среди столичной интеллигенции. Но можно, конечно, допустить и третий вариант – и с Лидией, и с Евгенией отношения носили лишь платонический характер… Так или иначе, но Бердяев переживал за Евгению, у него была потребность поделиться с нею тем, что происходило в его жизни, Лидия Юдифовна с ним не поехала, – он отправился в Крым один. Не забывая регулярно писать жене письма из своей поездки…
В Судаке Николай Александрович был тогда впервые, он понравился ему больше «кокоточной» Ялты строгостью и аскетизмом степной крымской природы. Евгения встретила его с радостью: «И вдруг он сам приезжает – и с первой же встречи опять как близок!»[231] Правда, это получилось не совсем «вдруг»: пароход Николая Александровича, на котором он плыл из Ялты, опоздал на 4 часа, прибыл в Судак в 6 утра вместо 2 часов ночи, и Евгении пришлось провести бессоную ночь в ожидании Бердяева. Зато вечером она повела его на свое любимое место – на плоскую, поросшую полынью и ковылем гору, подымающуюся сразу за домом. Отсюда любили сестры смотреть на закат, на прибрежные горы, отсюда Евгения предложила и Бердяеву полюбоваться столь любимым ею Крымом. «Здесь очень хорошо, гораздо лучше, чем в Ялте, дом Герцыков очень уютный, сама она очень милая и гостеприимная. Очень жалеет, что ты не приехала, даже хотела тебе телеграмму посылать»[232], – писала Бердяев своему «Дусыку» (так он называл Лидию). Вдвоем Бердяевы приехали к сестрам Герцык в Судак на следующий год, что было для Лидии Юдифовны, наверное, не слишком легко – какой бы вариант развития отношений между ее мужем и Евгенией ни считать самым вероятным. Впрочем, гостили они в Судаке долго, значит, первоначальная неловкость быстро рассеялась.
В этот же раз Николай Александрович был один: море, генуэзская крепость, сочный, очень понравившийся Бердяеву виноград, оплетавший веранду дома Герцыков, – и многочасовые разговоры о «последних вопросах человека». Евгения писала в сентябре своей подруге, что Бердяев пробыл в Судаке целую неделю, «причем все время вдвоем: днем, ночью, почти не расставаясь, не умолкая…»[233]. Евгения в это время тоже пыталась отойти от символистского мировоззрения, найти устойчивость и душевную опору в православии (при поддержке своих друзей – Булгакова, Рачинского, отца Евгения Синадского – она перешла из лютеранства в православие в апреле 1911 года). Но, как и Бердяев, она не смогла полностью раствориться в новой церковной среде, новом образе жизни. Николай Александрович уже тогда, в разговорах с Евгенией, рассазывал ей о тех противоречиях и расхождениях, которые возникали у него с «московскими православными». Но теплыми крымскими вечерами, во время ежевечерних прогулок еще казалось, что это недоразумение, которое быстро пройдет… Бердяев всю свою жизнь был одинок, трудно сходился с людьми, возникавшие в его жизни дружбы болезненно разрывались, он везде чувствовал себя чужим. Видимо, виноваты в этом были не только окружающие. Наследственная нервозность, тик, кошмары по ночам, отчужденность от других, берущая свое начало в отторжении от «мира сего», причиняли Бердяеву огромные страдания. Тем ценнее стало для него обретение Евгении.
Религиозные искания отражались и в статьях Бердяева. Он регулярно печатался в журнале «Вопросы философии и психологии». Одну из статей, под названием «Вера и знание», можно считать принципиально важной для понимания его взглядов в тот период. Бердяев вновь возродил проблему, несколько веков стоявшую в центре философских дискуссий, – о соотношении веры и знания. Казалось бы, в новейшей философии эта проблема должна рассматриваться как анахронизм: уже философская мысль Нового времени отдала венок победителя знанию. Тем не менее, Бердяев оспаривал это решение. Он считал, что в начале ХХ века картина изменилась: эпоха стояла под знаком богоискательства. Поэтому спор веры и знания вновь обострился, требовался пересмотр результатов прошедшего ранее поединка. Бердяев рассмотрел три основных подхода к решению давней проблемы: признание разума и отрицание веры, признание веры и отрицание разума и дуализм веры и знания. Его позиция не умещалась ни в один из этих типичных ответов на вопрос о том, каковы взаимоотношения веры и знания. Главной ошибкой всех вариантов прежнего решения проблемы, по его мнению, было противопоставление веры и знания. Бердяев рассмотрел в своей статье несколько принципиальных различий веры и знания, но он, тем не менее, был решительно против их противополагания. С его точки зрения, любое рациональное знание всегда опирается на первоначальную веру: «знание предполагает веру, оказывается формой веры, но веры элементарной и неполной, веры в низшую действительность»[234].
Критика разума у Бердяева совпадала с критикой рационализма и дискурсивного мышления: любое мышление есть мышление логическое, выводное. Но откуда выводить? Первоосновы, начала такого выводного дискурса не могут быть даны самим рациональным мышлением. По Бердяеву, они даются верой. Само существование мира вокруг нас не может быть доказано путем вывода одного знания из другого. Значит, делал заключение Бердяев, «все исходное в знании недоказуемо, исходное непосредственно дано, в него верится»[235]. Тогда – знание предполагает веру, между знанием и верой не существует пропасти. «Мы утверждаем беспредельность знания, беспредельность веры и полное отсутствие взаимного их ограничения… окончательная истина веры не упраздняет истины знания и долг познавать. Научное знание, как и вера, есть проникновение в реальную действительность, но частную, ограниченную… Утверждения научного знания – истинны, но ложны его отрицания»[236], – таков был вывод Бердяева.
В этой статье можно заметить перекличку с темами Льва Шестова, которые тот развивал в своих работах еще до этой бердяевской публикации. Прежде всего, это касается мысли Бердяева о насильственном, обязательном, принудительном характере знания. Шестов тоже искал освобождения от порабощающей власти необходимости, закрепленной и подтвержденной разумом, общепринятыми истинами. Философия Льва Исаакиевича отвергала рациональные поиски истины, обращалась к потенциальной «чудесности» мира, мистике. «Через слезы, взывающие к Творцу, а не через разум, допрашивающий «данное», идет путь к началам, истокам, к корням жизни»[237], – утверждал он. Шестов был буквально потрясен столкновением свободного изнутри человека с миром, следующим своим собственным законам, с миром необходимости, где дважды два – всегда четыре, яблоко, независимо от нашего настроения, неизменно падает на землю, а человек не может летать, как птица. Страшным оказалось для него открытие, что необходимость осаждает человека и изнутри: власть необходимости закрепляется в сознании индивидуума в виде неких бесспорных истин науки. Порабощение человека становится полным и окончательным. Шестов убеждал: наука несет в себе источник рабства. Люди хотят «естественно объяснить природу и с упорством, достойным лучшей участи, из поколения в поколение приучают себя думать, что «естественно» – это принцип, к которому сводится все существующее. Когда нельзя иначе, они уродуют и без того бедную логику, чтобы при помощи ее слабосильных заклинаний изгнать из жизни все, что есть в ней наиболее заманчивого и привлекательного»[238]. Недаром Бог запретил человеку есть плоды с дерева познания добра и зла, – нарушив запрет, человек сделал себя несчастным. Вечный искус разложить все по полочкам, построить некое «всеобщее исчисление» бытия, фаустовская страсть познания отнимает у человека радость непосредственного существования, прелесть жизни. В стремлении все рационально понять, человек разделяет и рассекает мир, убивая его живую целостность, попадая под власть «всемства» – то есть всеми признанных истин, уродующих самобытное и неповторимое сознание индивида. Сам факт познавательной ситуации становится трагедией субъекта познания. «Знание закрепостило нас, отдало на «поток и разграбление» вечным истинам»[239], – с горечью утверждал Шестов. Мыслитель сравнивал человека, руководящегося в своей жизни разумом, с заживо погребенным, – он чувствует, что жив, но знает, что не в силах ничего сделать для своего спасения; он интуитивно чувствует свою свободу, но начинает воспринимать ее в спинозовском духе как познанную необходимость, которая он него не зависит. «Разумный» человек в один прекрасный день обнаруживает, что «какая-то неведомая сила похитила у него самое драгоценное его сокровище – его свободу»[240], причем «для того, кто руководим одним разумом, раз утраченная свобода утрачена навсегда, и все, что у него осталось, – это научить себя и других видеть в неизбежном – лучшее»[241].
Бердяев был не столь категоричен, как Шестов. Он не отрицал науку и рациональное познание вообще, он лишь показывал их ограниченность, зависимость от веры. Тем не менее, перекличка тем очевидна, особенно в противопоставлении рационального познания и свободы: Бердяев тоже считал, что рациональное знание устанавливает для нас границы (мы не можем сделать этого и того, потому что это противоречит законам, фактам, мнению ученых, школьным учебникам), хотя результаты самого рационального познания не являются окончательными, наша научная картина мира постоянно меняется. Тема несовместимости свободы и рациональности звучала во многих работах у Бердяева. «Свобода не терпит ни определяемости бытием, ни определяемости разумом»[242], – замечал он. Истина может лежать и за пределами каких бы то ни было научных констатаций, слепое следование которым приводит к нивелировке и ограничению человеческой личности. Бердяев не раз вспоминал в своих работах Канта, показавшего ограниченность человеческого разума. Человеческое мышление, превосходно справляющееся с частными задачами, начинает «буксовать» при постановке самых важных вопросов – о душе, о Боге, о мире самих по себе, вне зависимости от наших утилитарных задач. Вместо четких однозначных ответов разум приходит к антиномиям – неразрешимым противоречиям, которым Кант отводил роль «пограничных столбов»: территория рационального знания кончается. Поставив перед собой подобные вопросы, разум вступил не на свою территорию, надо остановиться. На эти вопросы может ответить только вера.
В 1910 году Московское РФО не могло не провести вечера, посвященного 10-й годовщине со дня смерти В. С. Соловьева, особенно если учесть, что самые активные члены РФО были связаны с Соловьевым не только духовно, но и лично – Л. Лопатин дружил с Соловьевым в детстве и юности, Е. Трубецкой был его последователем и другом, на многих участников РФО оказала воздействие соловьевская философия. Арендовали зал, выпустили объявления о вечере. Доклады о Соловьеве должны были делать Бердяев, Вячеслав Иванов, Владимир Эрн и Александр Блок (который сам доклада не читал, только прислал его текст). Доклад Бердяева был длинноват (полтора часа), не раз прерывался тиком (Т. А. Рачинская вспоминала: он «так страшно высовывал язык»[243]), но затронул важный вопрос об отношениях православия и католичества (поводом стали симпатии Соловьева к католической церкви). Доклады затем были опубликованы издательством «Путь». Тогда же издательство поставило перед собой задачу: выпустить книги и о других самобытных русских мыслителях – Григории Сковороде, Петре Чаадаеве, Алексее Хомякове, Константине Леонтьеве. Бердяев взялся за написание книги о Хомякове. (Позднее появилась мысль написать и о Николае Федорове, но этот бердяевский замысел никогда не воплотился.)
Влияние славянофильства, которое невозможно представить без могучей фигуры Алексея Степановича Хомякова (недаром А. Герцен назвал его «Ильей-Муромцем славянофильства, а Бердяев считал «самым сильным религиозным мыслителем славянофильского лагеря»), на религиозное направление русской культуры в целом и на формирование философской позиции Бердяева трудно переоценить. Именно славянофилам принадлежала заслуга постановки проблемы единства веры и разума в отечественной мысли, критики рационализма, именно они первые задались вопросом о свободе в церкви, личности и соборности, не говоря уже об их попытке осмыслить роль России в христианской культуре и цивилизации. Недаром даже их идейный оппонент, западник А. Герцен отмечал, что западничество только тогда получит место и значение общественной силы, когда овладеет темами и вопросами, пущенными в обращение славянофилами.
Почему Бердяев заинтересовался Хомяковым? Первое объяснение – на поверхности, его дал сам Бердяев: «Славянофильство – первая попытка нашего самосознания, первая самостоятельная у нас идеология. Тысячелетие продолжалось русское бытие, но русское самосознание начинается с того лишь времени, когда Иван Киреевский и Алексей Хомяков с дерзновением поставили вопрос о том, что такое Россия, в чем ее сущность, ее призвание и место в мире»[244]. В это время Николай Александрович искренне пытался нащупать глубинные истоки православной духовной традиции – читал книги по аскетике, мистике, антропологии Восточной церкви, изучал сочинения русских религиозных философов, среди которых место Хомякова очевидно. Кроме того, Бердяев должен был ощущать духовное родство со славянофильским направлением. А. Хомяков, называвший Западную Европу «страной святых чудес», или И. Киреевский, участвовавший в издании журнала «Европеец», не отрицали Запад, а относились к нему как к прошлому, пусть великому, но уже оставшемуся позади. Расхожее мнение о славянофилах как антизападниках не соответствует действительности: вернее отмечать не антизападническую, а внезападническую ориентацию «старших» славянофилов. Позиция этих мыслителей никогда не была идеологией узколобого национализма. Националистическим идеям противоречил сам христианский характер религиозной славянофильской философии: ведь для христианства «нет ни эллина, нет ни иудея», ему претит противопоставление людей по национальному признаку. Отсюда и осознание целостного характера человеческой истории у «старших славянофилов», чувство родства с Западом (это тоже христианский мир, европейцы – наши братья во Христе). Такое чувство импонировало Бердяеву. Николай Александрович отмечал в письме к Гершензону в августе 1910 года, что работа над книгой о Хомякове имеет для него формирующее значение в мировоззренческом плане, помогая уяснить собственное самосознание[245]. К тому же, темы славянофилов обрели «второе дыхание» в предгрозовой России, которая стояла на пороге первой мировой войны. Судьба России, отличия российской и европейской культур, историческое предназначение России – все это вновь стало интересно читающей публике, нашло перекличку с происходящими в мире процессами. Отчасти ситуация повторялась: «славянский вопрос», осознанный русской интеллигенцией как сложная социально-философская, политическая и культурная проблема, будоражил умы современников Хомякова в связи с русско-турецкими войнами, Сан-Стефанским миром, недружественной позицией Германии по отношению к России. Он привлекал внимание самых разных людей – от революционера и анархиста М. Бакунина до членов кирилло-мефодиевского общества. Реакция на недооценку в мире русского национального (и шире – славянского) гения помогла оформиться славянофильству в мощное идейное течение, темы которого долгое время влияли на духовную жизнь общества. В воздухе носилась идея всеславянской федерации, всерьез обсуждался вопрос о завоевании («возвращении») Царьграда – Константинополя (Стамбула), об объединении всех славян. Во время жизни Бердяева, нануне первой мировой войны «славянский» вопрос вновь стал востребован: чрезвычайной популярностью стали пользовать рассуждения на тему особенностей национального характера, а в господствующей в обществе идеологии усилилось критическое отношение к политике западных стран.
Главной темой творчества Хомякова стало осмысление истории человеческого общества и выяснение в ней судьбы России, ее исторической миссии. Представление мыслителя об истории человечества принципиально отличалось от европоцентристских моделей развития (гегелевской, прежде всего) тем, что история рассматривалась Хомяковым как борьба двух полярных начал, лишенных постоянного культурного, географического или этнического центра, благодаря чему история действительно приобретала в его концепции всеобщий характер, переставала быть историей отдельных народов. Алексей Степанович идиллически представлял себе первобытную жизнь, так как, по его мнению, этой жизни присуща была общность, единство людей. Это проявлялось, прежде всего, в «тождестве религий, обрядов и символов с одного края земли до другого»[246]. Но, расселяясь по земле, люди постепенно утрачивали единство и общность, происходило разъединение людей друг от друга, раскол их на два основных характерных типа: иранские племена и кушитские. Первоначально принадлежность к тому или другому типу была связана с этнической принадлежностью (о чем говорит само их название), но позднее «иранство» или «кушитство» перестало быть связано с каким-то определенным географическим ареалом, они стали символическими обозначениями различных духовных начал культуры. «Иранство» – это символ свободы, а значит, и миролюбия. Тот же тип культуры, в котором господствует подчиненность материальной необходимости, – «кушитский». Фактически это два типа мировосприятия, один из которых ориентирован на духовные ценности, другой – на преобладание вещественной необходимости. Оба типа переплетаются в истории отдельных народов, ведь «история уже не знает чистых племен. История не знает также чистых религий». Но всегда можно заметить преобладающее влияние того или иного типа в конкретной культурной целостности.
Хомяков прослеживал историческое движение человечества, раскрывая его через призму борьбы этих двух начал. И хотя его порой можно упрекнуть в некоторой тенденциозности, в концепции Хомякова привлекает образ мировой истории как своеобразной драмы, в которой участвуют все племена и народы. В конечном счете, противостояние «иранства» и «кушитства» в современную ему эпоху Хомяков раскрывал как противостояние европейской культуры (которую «сгубило» римское наследие – агрессивность, аристократизм, государственность, основанная на насилии, и т. п.) и культуры славянской. В чем же суть различия исторических путей Европы и славянского мира, естественным лидером которого является Россия? Ответ Хомякова – единственно возможный ответ религиозного философа и глубоко верующего человека: все различия коренятся в неодинаковости духовных начал, то есть в неодинаковости религиозных оснований общественной жизни. Европа – это католико-протестантский мир, которому противостоит мир православно-славянский[247]. Православие, по мнению глубоко верующего Хомякова, является высшей формой «иранской» идеи о примате нравственной свободы. Кроме того, эта религиозная идея попала в славянском мире на превосходную почву: национальными чертами характера славян, по мнению Хомякова, являются миролюбие, восприимчивость к чужому, способность к изменениям. Именно поэтому Россия как лидер славянского мира, после изменений, после «очищения», должна сыграть всемирно-историческую роль в духовном объединении человечества. Хомяков писал:
О, Русь моя! Как муж разумный, Сурово совесть допросив, С душою светлой, многодумной, Идет на божеский призыв, Так, исцелив болезнь порока Сознаньем, скорбью и стыдом, Пред миром станешь ты высоко В сиянье новом и святом!Хомяков несомненно «заразил» Бердяева идеей предназначения России: «Я верю в Россию и в исключительное призвание русского народа в мире», – писал Бердяев. Вместе с тем, хотя Бердяев и продолжал некоторые идеи славянофильства, он относился уже к иному времени и иному типу философствования. Многие моменты разделяли его и того же Хомякова. Славянофилам в силу их противопоставленности католицизму было чуждо ощущение христианства как единого учения вне его деления на конфессии, для них, как для представителей «старого религиозного сознания», было характерно растворение личности в церкви, отрицание индивидуализма, чего уже не было в работах Бердяева. Не типична была для них и постановка эсхатологической проблемы, центральной в бердяевском творчестве. Несмотря на родство, между славянофилами и мыслителями «нового религиозного сознания», символистами, неокантианцами – теми, кто окружал Бердяева, с кем он был близок, – была бездна. Тот же Хомяков, гордившийся тем, что не пропустил ни одной обедни и соблюдал все посты, вероятно, с негодованием отверг бы богоискательские построения не только Мережковского, но и Бердяева.
Но Бердяев становился чересчур «модернистским» и для своих православных современников из «Пути»: трещина между ними все увеличивалась. Уже случился обмен холодными письмами с враждебной интонацией… Бердяев спешил закончить свою биографию Хомякова, – деньги – и значительные – за нее были уже получены и истрачены, а отношения с представителями «Пути» ухудшались. Книга вышла в 1812 году в серии «Русские мыслители». Но еще до выхода книги в свет, в 1911 году, Бердяев отошел от книгоиздательства «Путь». Поводом стал конфликт по поводу перевода книжки Гелло «Портреты святых»: после того как перевод был уже сделан свояченицей Бердяева, Евгенией Юдифовной (при помощи Лидии), книгу решили изъять из плана издательства. Обосновывалось это решение тем, что перевод был сделан, по мнению редакции, недостаточно качественно (переводившие плохо ориентировались в данной теме и недостаточно точно передали смысл важных терминов), кроме того, сама книжка была признана не заслуживающей особого внимания. Кроме того, Бердяеву вернули на доредактирование другой перевод сестер – книгу Э. Леруа «Догмат и критика». Николай Александрович с таким мнением был решительно несогласен: он считал переводы хорошими и был обижен за близких ему людей. Но настоящие причины лежали глубже: Сергей Николаевич Булгаков, судя по его письмам той поры, воспринимал философскую позицию Бердяева как уход в «мережковщину», видел в ней налет дилентантизма и отсутствие собственной оригинальной, творческой позиции. Кроме того, Бердяевы собрались поехать в Италию, Булгаков же этим планом возмутился: в издательстве скопилось чрезвычайно много работы, Булгаков чувствовал себя от этого «загнанной клячей», поэтому отъезд Бердяева и его «отдых» были восприняты Сергеем Николаевичем крайне отрицательно.
Бердяев был обижен невниманием к своему творчеству, нежеланием серьезно отнестись к его позиции. Истоком нараставшего непонимания был конфликт различных религиозных мироощущений: Булгаков и остальные активные члены редакции не приняли идеи Бердяева о религиозном смысле творчества. Описывая В. Эрну в мае 1912 года сложившуюся ситуацию, Бердяев объяснял: «Прежде всего хочу написать Вам, что было в Москве. Мне, по-видимому, удалось откровенно и по душам поговорить с Сергеем Николаевичем (Булгаковым – О.В.), Григорием Алексеевичем (Рачинским – О.В.) и Маргаритой Кирилловной (Морозовой – О.В.). Сначала Сергей Николаевич был духовно глух к тому, что я говорил, но потом все-таки услышал меня. Из редакционного состава «Пути» я ушел, и все, кажется, поняли, что ухожу я не из-за личных историй по поводу Гелло и т. п…..а по глубоко осознанной внутренней потребности. Ничего враждебного и демонстративного в моем выходе нет, я остаюсь сотрудником «Пути» и сохраняю дружеские отношения с его участниками. Но выход из «Пути» для меня морально неизбежен, тут я повинуюсь своему внутреннему голосу…. Я даже думаю, что мне не следовало вступать в состав редакции «Пути». Я не чувствую себя принадлежащим к его духовному организму и это не могло не сказаться. Меня разделяют с Сергеем Николаевичем не разные мысли, идеи, как Вы склонны думать, а разные чувства жизни, разные религиозные оценки»[248]. Эта страница бердяевской биографии была уже почти перевернута.
10. Свобода и творчество
«Мир – это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображение».
У. ТеккерейРазрыв с редакцией «Пути» был очень болезненным для Николая Александровича, но своеобразной душевной «анастезией» стала мечта поехать всей семьей в Италию. Оливы, яркое южное солнце, музеи, ренессансная архитектура, искусство, возможность окунуться в другую, такую не похожую на российскую жизнь, – все это манило и привлекало. Евгения Герцык вспоминала: «строит планы отъезда на зиму за границу, с женою и ее сестрой, на родину творчества, в Италию, добывает деньги, закабаляет себя в другом издательстве, где просто толстая мошна коммерции, где не станут залезать в его совесть… В письмах делится со мною, зовет присоединиться к ним… В гневном письме Бердяев восклицает: «Я не допущу, чтобы мы разошлись, я хочу быть с вами, хочу, чтобы вы были со мной, хочу быть вместе на веки веков». Помню, как над этим письмом у меня буквально… брызнули слезы: душа растопилась. Конечно, с ними в Италию! Но поехать мне удалось только в феврале»[249].
До отъезда в Италию в жизни Бердяева произошло много событий. У всей его киевской семьи ухудшилось здоровье: Алина Сергеевна поехала на свою вторую родину, во Францию, – «на воды», лечить печень (Николаю Александровичу пришлось потом сопровождать ее из Парижа домой, в Киев), Александру Михайловичу тоже стало хуже, а брат Сергей находился в лечебнице, за которую нужно было платить. Денег же не было вовсе! Бердяев занял некоторую сумму у знакомых, расплатился по счетам, но это не было полным решением проблемы. Над любимыми Бабаками тоже нависла угроза продажи. Финансовые тиски сжимались, а мечты об Италии не оставляли. Бердяев делал невероятные усилия, чобы раздобыть денег. Но, как всегда у Бердяева, «быт» не заслонял главного – духа. Главным событием года стала новая книга – «Философия свободы».
Маркс и Ницше были окончательно «пережиты» Бердяевым к этому времени. Преобладающее влияние на формирование взглядов зрелого уже Бердяева, кроме современников, оказал Достоевский. Бердяев не раз признавался, что Достоевский имел решающее значение в его духовной жизни. «Прививка от Достоевского» во многом определила строй мысли Николая Александровича, профетический пафос его философствования, его экзистенциональный характер. И еще одно имя следует назвать, отыскивая истоки зрелой бердяевской философии, – немецкого протестантского философа, мистика и каббалиста XVI-XVII веков Якоба Беме. (Недаром Г. Флоровский писал, что Бердяев «весь в видениях немецкой мистики».) Современному российскому читателю лучше всего известна книга Беме «Аврора, или Утренняя заря в восхождении», расказывающая о его собственном опыте мистических озарений. Но в конце 19 – начале 20 веков читатели были знакомы и с другими его работами (прежде всего, с «Христософией»). Влияние Беме прослеживается в творчестве В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, С. Л. Фанка, Вяч. Иванова, но прежде всего, конечно, – Н. А. Бердяева.
Одна из особенностей философии Беме – понимание Бога как становящегося единства. Беме писал об «безосновании» (Ungrund), первичной свободе, бездне, из которой реализуется Бог. В Боге потенциально пребывает все, в том числе и противоположности, поэтому Бог не может быть неподвижным началом, Его силы рождают мир. Мир уже имеет основание, он основан на божественной свободе. Таким образом, у Беме можно найти идею «становящегося Бога», его развития: Бог «вводит» себя в мир, саморазделяется, открывает себя в творении. По сути, речь идет о своеобразной божественной диалектике, о самораскрытии Бога в природе и мире. Таким образом, по Беме, мир вокруг нас – результат Его саморазделения.
Учение об Ungrund оказало большое воздействие на Бердяева. Под влиянием этой идеи в философии Бердяева все более четко формулируется мысль о существовании первичной, добытийственной свободы, очень напоминающей Ungrund Беме. Тем не менее, имеется и различие: для «тевтонского философа» место Ungrund – в Боге, это темная природа, одна из сторон Бога, а для Бердяева – первичная свобода существовала вне Бога (до Бога?). В одном из писем к Шестову Бердяев позднее писал по этому поводу: «…Для меня свобода находится вне Бога. В этом смысле я скорее дуалист, чем монист, хотя все эти слова неудачны»[250]. Свобода добытийственна, светлые стороны свободы реализуются в Боге. Все достоинство творения, все совершенство его по идее Творца – в присущей ему свободе. Свобода есть основной внутренний признак каждого существа, сотворенного по образу и подобию Божьему. Такая трактовка соотношения Бога и свободы стала основанием своеобразной теодицеи[251] Бердяева: «в центре моего религиозного интереса всегда стояла проблема теодицеи. В этом я сын Достоевского. Единственным серьезным аргументом атеизма является трудность примирить существование всемогущего и всеблагого Бога со злом и страданиями мира»[252]. Так как свобода не создается Богом, она коренится в Ничто, в Ungrund, то Бог-Творец не может отвечать за свободу, породившую зло. Более того, люди всегда свободны, они делают свой выбор, – так можно проинтерпретировать грехопадение. Бог же не может и не хочет принудить человека к добру, ограничить его свободу. «В плане творения нет насилия ни над одним существом, каждому дано осуществить свою личность, идею, заложенную в Боге, или загубить, осуществить карикатуру, подделку», – писал Бердяев. Эта мысль встречалась у него не раз и позднее: «Моя вера, спасающая меня от атеизма, вот какова: Бог открывает Себя миру, Он открывает Себя в пророках, в Сыне, в Духе, в духовной высоте человека, но Бог не управляет этим миром, который есть отпадение во внешнюю тьму»[253].
Мир, творение, человек в силу присущей ему свободы избрания пути, отпали от Творца, – началась трагическая история мира. Для Бердяева (как и для К. Леонтьева, Ф. Достоевского, В. Розанова) не было характерно благостное, светлое христианство. Религиозность Бердяева была трагичной и не вполне ортодоксальной. «Основная жизненная интуиция Бердяева – острое ощущение царящего в мире зла», – верно заметил Г. Федотов. Отсюда – сама постановка проблемы теодицеи, попытка понять причины допущения зла в мир. Если первый этап духовной эволюции мыслителя можно считать марксистским, второй – идеалистическим, то с постановки именно этой проблемы (около 1909 года) начался третий, христианский период его духовного развития[254].
В этой книге вышел на первый план основной лейтмотив всех философских построений Бердяева – тема свободы, определившая в дальнейшем «голос» бердяевской философии. Возвращение к одной и той же проблеме, за что сам Бердяев упрекал Мережковского, многие находили и в его собственном творчестве. Например, Ф. Степун даже назвал Бердяева философом «одной темы», а французский исследователь его творчества Эжен Порре сравнивал Николая Александровича с музыкантом, который всегда разыгрывает одну и ту же мелодию, с тем чтобы обогатить ее все новыми и новыми вариациями. «Вариации» тема свободы в данной работе были, конечно, религиозными: книга подвела итог пережитому Бердяевым периоду обращения к православию и церкви.
В ноябре 1911 года Бердяев, Лидия Юдифовна и ее сетра, Евгения Юдифовна, отправились во Флоренцию, где прожили до Рождества, а затем переехали в Рим, куда к ним в феврале приехала Евгения Герцык. Именно в это время Евгения Герцык и Лидия Бердяева по-настоящему подружились. Бердяевы жили в дешевом пансионе, но не это было главным в поездке: Бердяев очень интересовался Возрождением (хотя и считал его «великой неудачей», – хотели переделать весь мир, а остались лишь фрески, фронтоны и барельефы). Этот его интерес разделяли и Лидия с сестрой, и Евгения Герцык. Герцык уже бывала в Италии, и во второй поездке для нее главным было – увидеть эту страну глазами Бердяева. Она вспоминала: «Праздника наслаждения Италией с Бердяевым нет. Я опоздала. Два-три месяца он переживал, впитывал ее с ему одному свойственной стремительностью, потом щелкнул внутренний затвор, отбрасывая впечатления извне, рука потянулась к перу – писать, писать…»[255] Но Бердяев все-таки хотел поделиться увиденным Римом с Евгенией, поэтому часто они вдвоем («не ждем медленных сестер», – писала Герцык) любовались мозаиками в старых базиликах, слушали пение братьев-доминиканцев… Но гораздо большее впечатление на Николая Александровича произвела все же Флоренция, ставшая его любимым городом. Он и Евгения решили съездить туда вдвоем на поезде: «он хочет мне ее показать так, как увидел сам»[256], – вспоминала Герцык. Конечно, ноги их сами привели в галерею Уффици. Боттичеллиевская «Весна», «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи… Но Бердяев, минуя залы и картины, подвел Евгению к полотнам Пьетро Полайола, отмеченным им ранее, еще в первое посещение. «Оглядываюсь на Бердяева, – рассказывала Герцык. – Впился пальцами в портсигар, давая исход молчаливому волнению. Как же властно над ним искусство! Флоренция мне ключ к нему. Он – к Флоренции»[257].
День получился долгим, Герцык уже изнемогала от усталости и взмолилась:
– Поедем домой!
– Еще десять минут, – упрашивающе ответил Николай Александрович и повлек ее прочь от Уффици узкими средневековыми улочками, где каждый дом был похож на крепость. Привел в церковь Бадии, – смотреть фреску Филиппино Липпи, ученика Боттичелли, с изображением Богоматери… Герцык вспоминала, что Бердяев обратил ее внимание на изображение руки – почти бесплотной: «рука эта уж один дух, уже не плоть». Заметив восторг в его глазах, она объяснила его так: «восторг в глазах Бердяева выдает мне его тайну – ненависть к плоти, надежду, что она рассыплется вся»[258].
Отношение Бердяева к плоти и полу действительно стало другим. Если вспомнить его письма периода влюбленности в Лидию, когда он убеждал ее в важности телесной любви, или работы, где его строчки перекликались с розановскими темами, то изменения покажутся особенно заметными: к концу «московско-православного» периода Бердяев буквально противополагал дух плоти, христианство воспринимал как противопоставление природному миру, а половую любовь – не как необходимую часть гармонического слияния личностей, а как власть природного, безличного, родового начала над людьми. Конечно, в таких изменениях сказалось и влияние православного окружения, и принятый в нем культ христианской аскезы, но, видимо, имел значение и личный опыт, – том числе, семейной жизни…
В конце своего земного пути Николай Александрович так писал о себе и своем отношении к телсности, к материальному миру: «Если бы меня спросили, отчего я более всего страдаю не в исключительные минуты, а во все минуты жизни и с чем более всего принужден бороться, то я бы ответил – с моей брезгливостью, душевной и физической, брезгливостью патологической и всеобъемлющей. Иногда я с горечью говорю себе, что у меня есть брезгливость вообще к жизни и миру. Это очень тяжело. Я борюсь с этим. Борюсь творческой мыслью и это более всего, борюсь чтением, писанием, борюсь жалостью. И опять возвращаюсь к брезгливости и содрогаюсь от нее. Она направлена и на меня самого. Я часто закрываю глаза, уши, нос. Мир наполнен для меня запахами. Я так страстно люблю дух, потому что он не вызывает брезгливости»[259].
В Риме почта приносила Николаю Александровичу тревожные письма из Киева: его мать была опять больна, денежные дела становились все более тяжелыми и запутанными, родители слали «Коле» телеграммы с просьбой срочно приехать и помочь. Бердяев очень нервничал, переживал, плохо спал, кричал во сне. Лидия Юдифовна была против возвращения: «слезы жены, возмущенной эгоизмом стариков: нарушить так трудно давшуюся ему передышку»[260], – вспоминала Герцык. Кстати, Герцык узнала о тяжелой семейной ситуации не сразу, а только спустя несколько дней после приезда в Рим: Бердяев не хотел рассказывать ей о болезни брата, об остром безденежье, но по настоянию жены Евгению Казимировну посвятили в непростые семейные проблемы. Скоро Бердяевы вынуждены были покинуть Италию, они уехали в Россию. Герцык же осталась в Европе еще на некоторое время. Она писала из Лозанны Вячеславу Иванову: «Теперь о Николае Александровиче. Он переживает очень тяжелое время. О болезнях в семье, о преследовании со стороны родственников, о буквальной нищете их Вам, верно, рассказала Мария Михайловна. Под влиянием же глухого постоянного осуждения и непризнания со стороны Булгакова, Эрна, Рачинского он переживал этой зимой угнетающие сомнения. Эта оскорбительная, потому что всегда замалчиваемая, вражда против него была мне тяжела в Москве, и я понимаю, что виною этого только их разность… Теперь, когда они открыто высказали свою рознь, разность своих путей, стало уж легче»[261].
Действительно, позицию Бердяева не принимали его бывшие единомышленники по «Пути»: его книга о Хомякове была встречена прохладно. Ф. А. Степун, например, указал на субъективизм в трактовке Хомякова – Бердяев рассмотрел лишь те моменты наследия Хомякова, которые ему импонировали, оставив в тени многие важные моменты хомяковской философии, упомянув о них вскользь и мимолетно[262]. Булгаков согласился со Степуном, сказав про книжку, что это не столько Хомяков, сколько Бердяев о Хомякове (но разве бывает иначе?). «Философия свободы» тоже не нашла поддержки в «Пути». Евгений Николаевич Трубецкой сделал доклад в РФО с критикой позиции Бердяева. Булгаков сказал общим знакомым, что с Николаем Александровичем было трудно работать в издательстве, и эту оценку тут же довели до сведения Бердяева… Бердяев очень переживал этот период непонимания и расхождения с людьми, которых недавно считал единомышленниками. С В. Эрном, противоречия с которым тоже были достаточно болезненны, Бердяев встретился в Италии, – и часть проблем была снята после беседы. Булгакову он написал резкое письмо (которое скорее усугубило ситуацию, чем помогло ее разрешить). Окончательный разрыв с «православными кругами» был неминуем: Бердяев был слишком индивидуалистом, чтобы сковывать себя догматическими цепями. Но разрыв с «Путем» тяжело ему дался – и морально, и финансово (издательство было не коммерческим, цели получить прибыль перед собой не ставило, и Морозова платила за тексты авторам большие деньги, замену такому заработку было найти трудно).
В конце мая 1912 года Николай Александрович поехал к родным, в Киев. Приехал вовремя: успел застать Алину Сергеевну живой, попрощаться с ней, так как в июне она умерла. Бердяев сильно переживал эту потерю, – он был привязан к матери. После устройства похорон, оплаты самых необходимых счетов – за лечение брата и отца – Николай Александрович уехал в Бабаки, где провел с Лидией остаток лета. А в сентябре отправился в Судак – к сестрам Герцык. С погодой ему не повезло: в Крыму было ветрено и холодно, в море не купались, любимый виноград в том году не уродился, прогулкам мешал ветер… Зато Бердяев много работал, – он писал книгу о творчестве, многие идеи для которой почерпнул в совей итальянской поездке.
В конце сентября Николай Александрович вернулся в Бабаки, много работал и там, но через месяц вынужден был поехать в Польшу – разбираться с запутанными делами отцовского майората. Александр Михайлович привел майорат в полное разорение, что имело особенно болезненные последствия, так как майорат был последним и единственным источником дохода и для самого Александра Михайловича, и для его старшего сына. Бердяев попытался поправить сложившееся положение, но не думаю, что он был слишком в этом успешен, – Николай Александрович начисто был лишен деловой жилки. Даже в этой поездке Бердяев продолжал писать, – книга его захватила и не отпускала. Вернувшись в Бабаки в конце ноября, он смог полностью уйти в работу. Книга была вчерне готова, когда перед самым Рождеством Бердяевы вернулись в Москву. Жизнь в Бабаках, конечно, была гораздо дешевле, но Бердяева ждали в столице разные «литературные дела».
Место для обитания в Москве им нашла Евгения Герцык, – она поселила Бердяевых вместе с сестрой Лидии Юдифовны недалеко от Остоженки, в гимназии у своей подруги, Веры Степановны Гриневич. Бердяевы были знакомы с Гриневич и раньше. Для них ее гостеприимство стало неоценимой находкой: денег на то, чтобы снять свою квартиру, у них не было. Они прожили в доме Гриневич несколько месяцев – до мая, до самого отъезда в Бабаки. Вера Степановна была дочерью коменданта Судакской крепости, с детства была дружна с сестрами Лубны-Герцык и – через сестер – со многими выдающими людьми своего времени (Мариной Цветаевой и Софьей Парнок, Максимиллианом Волошиным и Вячеславом Ивановым, Сергеем Булгаковым и Владимиром Эрном). Поэтесса, переводчица, Вера Степановна в 1907-1908 годах организовала в Петербурге издательство, а позднее, перебравшись в Москву, пыталась организовать гимназию имени В. С. Соловьева. По ее замыслу это должно было быть учебное заведение для детей, «пронизанное евангельским духом любви и братства, истиной народной»[263]. Проект не удался, хотя Гриневич пробовала привлечь к нему талантливых и известных людей. В частности, она приглашала в гимназию Александра Викторовича Ельчанинова (ставшего в 20-х годах отцом Александром), известного православного философа, писателя, педагога, некоторое время исполнявшего обязанности секретаря Московского РФО, близкого друга отца Павла Флоренского.
Сохранилось письмо Ельчанинова Флоренскому, где есть упоминание о гимназии Гриневич: «недавно я получил письмо от незнакомой мне дамы Гриневич, которая, по рекомендации Эрна, Новоселова, Бердяева и Аггеева, предлагает мне стать во главе основываемой ею школы (в Крыму или под Москвой); школа должна быть христианской по духу. Я согласился бы на это, если бы не последнее условие: у меня, конечно, не хватит наглости быть основателем христианской педагогики (ибо таковой еще нет, если не считать монастыри)»[264]. В ответе Павла Флоренского содержалась не очень лестная характеристика Веры Степановны и ее проекта: «Дорогой Саша! Пишу тебе наскоро, т. к. весьма занят. Прежде всего относительно M-me Гриневич. Ее несколько знает М. А. Новоселов и он рекомендовал тебя ей, но не особенно рекомендует ее тебе. Il pense, que cette dame est une seconde Madame la comtesse Bobrinsky, ou simplement une femme avec vexations et caprices. Elle ne veut pas construire une cole religieuse ortodoxe, elle ne veut pas avoir affaire avec Eglise, mais ses vues – c’est une cole[265] «вообще-христианская». Она предполагает иметь дело с аристократическими или, по меньшей мере, богатыми детьми и все прочее. Главное же – она вовсе не намерена видеть в тебе руководителя, а лишь исполнителя своих предначертаний. Нет сомнения, что ты с ней не споешься и она «прогонит»…»[266]
Даже Евгения Герцык скептически оценивала данный проект подруги. В неопубликованной главе воспоминаний «Вера» она писала: «Старинный особняк на Остоженке. Уют старого барства. Школа им. Вл. Соловьева. К идейному участию привлечены эпигоны славянофильства: памятные москвичам фигуры из дворянских переулочков. Менее всего заметны в школе дети… Перебои в уроках… Химера – эта школа на Остоженке, как и многое, что возникло в те обреченные годы»[267]. Евгения тоже жила в это время у подруги вместе с Бердяевыми. Пустые классы приютили небольшую коммуну. В особняке Гриневич Бердяев смог оборудовать себе даже подобие кабинета, перевезти сюда часть своей библиотеки, – он продолжал работать над одной из самых «главных» своих книг – «Смысл творчества» («лучшее его сочинение» скажет о книге А. Белый). Он «весь жил ею»[268], проводил большую часть времени за столом.
Спустя некоторое время «коммуна» уменьшилась: в марте 1913 года Евгения Герцык неожиданно решила поехать в Европу. О приезде в Германию ее попросил брат: его жена заболела, за ней нужен был уход, который он сам в связи с работой и учебой обеспечить не мог. Евгения, перед Германией, решила заехать в Рим, где находился в то время Вячеслав Иванов. В письме, где она предупреждала Иванова о своем приезде, Евгения написала: «Так чудесен и нежданен для меня этот путь в Рим… Бердяевы с грустью и завистью, и радостью за меня (о Вас и о Риме) – провожают. Мы доживаем нашу очень странную и дружную жизнь здесь, в которой смех и многолюдно близко, близко сплетены с самым одиноким и печальным»[269]. А в мае Лидия с сестрой уехали на дачу в Бабаки, Бердяев же отправился на неделю в Петербург и Гельсинфорс – послушать лекции Рудольфа Штайнера.
Австрийский мыслитель в это время как раз вышел из Теософского общества, членом и главой которого он был много лет, и отправился с лекциями по Европе. Штайнер создал новое – Антропософское общество, российское отделение которого сложилось в 1913 году. Основной идеей Штайнера была мысль о том, что мистическое, сверхчувственное познание мира возможно лишь через самопознание человека как космического существа. Кстати, когда Штайнер создал модель здания для Антропософского общества – Гетеанума, в строительстве его участвовали люди разных национальностей, в том числе – русские (Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Маргарита Сабашникова и др.) Ученицей Штайнера была Анна Рудольфовна Минцлова («оккультистка и ясновидящая»[270], – писала о ней А. Тургенева). Минцлова близко общалась с Ивановыми, М. Волошиным, другими бердяевскими знакомыми. Знала она и Бердяевых, – даже на дачу в Бабаки к ним приезжала, да и на страницах «Самопознания» Николай Александрович о ней упомнянул. Имела эта ученица Штайнера в свое время влияние и на сестер Герцык: Михаил Кузмин в дневнике вспоминал, что Минцлова иногда в тесном кругу пыталась играть Бетховена. По мнению музыкального Кузмина, играла она чрезвычайно плохо и «хлипко», но сестры Герцык часто слушали эту игру, стоя на коленях[271]! Большое влияние Минцлова оказала на Белого. Он вообще был страстным поклонником Штайнера: было время (в 1912-13 годах), когда он около полутора лет следовал за Штайнером по Европе из города в город, слушая его лекции.
Неудивительно, что Бердяеву было интересно услышать лекции Штайнера самому. Разрешение присутствовать на гельсигфорском цикле лекций раздобыл для Бердяева Андрей Белый. «Впечатление более слабое, чем я ожидал»[272], – такова была реакция Николая Александровича после первой лекции. Но он прослушал все. Бердяев отметил ораторский талант и гипнотические способности Штайнера, заставлявшего впадать часть аудитории в транс. (Бердяев говорил, что сильнее всего из всех его знакомых это свойство Штайнера действовало на Андрея Белого). Причем, как показалось Николаю Александровичу, гипнотизировал Штайнер не только слушателей, но самого себя. В целом, Бердяев не нашел в лекциях ничего нового, чего раньше не читал бы в теософских книгах. Но одна из антропософок, знавшая Николая Александровича и присутствовавшая вместе с ним на этом цикле, немного иначе описывает реакцию Бердяева: «После лекций он долго еще бегал белыми ночами по взморью. В его взволнованнызх спорах в то время не было слышно ноты презрения, которая проскальзывает в его воспоминаниях»[273]. Впрочем, скорее всего автор этих строк не была объективной: сама-то она отдала антропософии не один год своей жизни. Бердяев же на лекциях почувствовал, что штайнерианство его не увлекает. Поэтому когда Евгения Герцык осенью этого года сообщила ему при встрече после 6-месячной разлуки, что примкнула в Мюнхене к антропософскому обществу, Бердяев горячо отговаривал ее от этого шага, пытался убедить, что антропософия – это «чужое». Встретились Бердяевы с Герцык в имении Веры Гриневич в Полтавской губернии, где Бердяевы гостили, а Евгения Казимировна специально заехала туда по дороге в Судак после своего долгого европейского отсутствия.
Герцык ответила Бердяеву на его уговоры:
– Я все знаю, что можно сказать против Штейнера и сама не в упоении ничуть. Но для меня на этом пути истина… Безрадостная, правда, но ведь и младенцу, отнятому от груди, сперва станет безрадостно, сухо…
– Но это ложь, истина может быть только невестой, желанной, любимой! – почти закричал Бердяев. – А ты мне о младенце… Имей же мужество лучше сказать, что ты просто ничего не знаешь, все потеряла, отбрось все до конца, останься одна, но не хватайся за чужое…
«Вечером, усталая, смывая с себя вагонную пыль, отжимая мокрые волосы, я после многих дней вздохнула легко: «И где это я читала, что имя Николай значит витязь, защитник? Смешной – как Персей, ринулся на выручку Андромеды…», – вспоминала Герцык[274].
Летом 1913 года в Бабаках Бердяев написал статью «Гасители духа» для газеты «Русская молва». Дело было в том, что в начале ХХ столетия среди православных монахов Афона появилось движение имяславия, последователи которого утверждали, что Имя Божие есть Сам Бог. Обоснованием являлась Иисусова молитва («Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго» или, в самом коротком варианте, – «Господи, помилуй») как универсальное и простое обращение к Богу за помощью. Имяславцы, опираясь на этот пример, доказывали, что само имя Божие может творить чудеса, значит, оно есть Бог. Святейшим Синодом Российской Церкви учение было объявлено ересью, а поскольку устав Святой Горы строго запрещает еретикам нахождение на ней, то имяславцев (более 600 человек) силой выдворили с Афона. Для этого туда прибыл российский корабль с солдатами на борту, он должен был доставить непокорных монахов в Одессу. По приказу начальников солдаты применили силу, они поливали монахов водой, избивали прикладами винтовок. Несколько монахов было убито, около пятидесяти ранено.
Произошедшее на Афоне всколыхнуло религиозную общественность. Не смог промолчать и Бердяев, – он резко осудил церковную политику в данном вопросе, обвинил Православную церковь в косности. Разумеется, он имел в виду церковь, как традиционный социальный институт, которая оказалась сильнее, чем церковь как мистический организм. По сути, он обвинил церковь в социальном догматизме: приспосабливая результаты осмысления Бога к социальной среде, церковь консервировала их содержание, становилась невосприимчивой к новому опыту, к новым исканиям. Номер газеты был конфискован, а Бердяева отдали под суд по статье о богохульстве, которая карала вечным поселением в Сибири. Не произошло этого лишь по причине медленной работы российской бюрократической машины, – сначала не могли допросить всех свидетелей по делу, потом дело откладывалось из-за отсуствия каких-то бумаг, а потом и вовсе не до него стало – война началась… Эта статья Бердяева не была поддержана его знакомыми из «Пути» – из-за резкой тональности критики. Например, Сергей Булгаков, который сам склонялся к имяславию (недаром самый фундаментальный его труд, изданный уже в эмиграции, в Париже, носил название «Философия имени») счел критику Бердяева легкомысленной и вредной для церкви.
В октябре семейство опять вернулось в Москву, в особняк Гриневич на Остоженке. Бердяевы, несмотря на напряженную работу Николая Александровича, и здесь жили открыто, принимали гостей. Лидия Иванова, дочь Вячеслава Иванова и близкая подруга Лидии Юдифовны, вспоминала: «Бердяевы – Николай Александрович, его жена Лидия Юдифовна и ее сестра Евгения Юдифовна Рапп – жили в центре города, где-то в переулках между Арбатом и Остоженкой, в старом барском особняке. У них был чудный двусветный большой зал прекрасной архитектуры. Они любили время от времени собирать изрядное количество друзей у себя в зале и в шутку называли эти вечера «балами». Но на святках 1913/14 они пригласили друзей действительно на бал, и даже костюмированный. Было чрезвычайно весело, и мы танцевали. Но тут словно бы мимоходом прошла какая-то туча, которую, однако, не все заметили. В том году появился в Москве Бог знает откуда какой-то мистик, высокий старик-швед с пышной бородой, длинными волосами, как-то странно одетый. Он был принят у многих наших друзей. На этот раз он оказался на балу у Бердяевых. Я была слишком увлечена танцами в кружке молодежи, чтобы подходить к нему и его слушать, но знаю, о чем он говорил, со слов Лидии Юдифовны: «Вот, вы все радуетесь, встречаете Новый год. Слепые! Наступает ужасная пора. Кровавый 1914 год открывает катаклизм, целый мир рушится…» И прочее в этом духе»[275]. О шведском докторе Любеке вспоминали и Бердяев, и его свояченница, Евгения Рапп. По их свидетельствам, Любек сделал еще несколько исполнившихся предсказаний – о мировой войне, в которой Россия потерпит поражение и потеряет часть своих территорий; о болезни Веры Шварсалон, тогдашней жены Вячеслава Иванова (после смерти Лидии Зиновьевой-Аннибал он женился на своей падчерице Вере, объясняя это, в том числе, тем, что Зиновьева-Аннибал явилась ему в мистическом видении и передала Веру ему в руки); о том, что Бердяев (так и не получивший университетского диплома, не имевший докторской степени) станет профессором Московского университета… Возможно, были и другие, несбывшиеся предсказания, – присутствовашие, как это обычно бывает, запомнили не их, а только те, что исполнились. Присущий мне скептицизм не дает поверить, что доктор Любек помнил себя еще рыцарем в средневековом замке (так он рассказывал Евгении Рапп после ее «мистического озарения» – она увидела его с мечом в руке), хотя я вполне допускаю, что мой рациональный подход может быть ограниченным. Как я уже отмечала, мистические настроения были очень распространены в то время, Бердяев и его окружение не были исключением. Особенно легко и часто мистическим настроениям поддавались Лидия Юдифовна и ее сестра. Сестры Герцык, гораздо более скептично настроенные, чем «Юдифовны», вспоминали то увлечение стариком-финном, который пророчил всяческие потрясения, то рассказы о «священниках-прозорливцах, непохожих на обычных батюшек», ходившие среди знакомых дам.
Бердяев в своей московской жизни много общался с людьми искусства, – возможно, его занимала тема художественного творчества в связи с написанием очередной книги. Он часто посещал вечера в доме А. Н. Скрябина, с которым познакомился когда-то на философском конгрессе в Женеве. На вечерах читались доклады, хозяин исполнял свои новые произведения («он целует звуки пальцами» – сказал о скрябинской игре К. Бальмонт), обсуждалась возможность синтеза всех искусств (идея, которая буквально захватила гениального музыканта). Николай Александрович размышлял о супрематизме К. Малевича, полотна которого видел на его выставке в 1915 года (есть косвенные свидетельства, что они знали друг друга даже лично)[276]. К тому же времени относится увлечение Бердяева Пикассо, о творчестве которого он даже написал статью для журнала «София». Пикассо (картины кубического периода которого выставлялись в галерее Щукина) воспринимался Бердяевым как «гениальный выразитель разложения, распластования, распыления физического, телесного, воплощенного мира». Так как самому Бердяеву были присущи отталкивание, нелюбовь к плоти, телесности, то картины Пикассо оказали на него сильное эмоциональное воздействие. В небольшой статье он приподнял покров над своим собственным мироощущением в этот период, поэтому она представляется очень интересной.
Бердяев ощущал современное ему состояние культуры как «зиму» – холодно, сумрачно, трагично: «Зимний космический ветер сорвал покров за покровом, спали все цветы, все листья, содрана кожа вещей, спали все одяния, вся плоть, явленная в образах нетленной красоты»[277]. Пропала радость жизни. В живописи Врубеля, Чурлениса, Пикассо уже нет «кристаллизации» плоти, происходит переход в другой план бытия, пишутся уже астральные, эфирные тела, дух. Конечно, и прежняя живопись была духовна, но дух в ней воплощался, в искусстве же начала 20 века Николай Александрович увидел дематериализацию плоти. То же – в поэзии: распыление кристаллов оформленного слова. Архитектура – «уже погибла безвозвратно». В мире телесности и материальной воплощенности что-то надломилось, – даже сама природа, ее ритм и круговорот изменились: «нет уже и не может быть такой прекрасной весны, такого солнечного лета, нет кристальности, чистоты, ясности ни в весне, ни в лете. Времена года смешиваются. Не радуют уже так восходы и закаты солнца… Солнце уже не так светит. В самой природе… совершается таинственный процесс аналитического расслоения и распластования… О жизни человеческой… и говорить нечего… Наша жизнь есть сплошная декристаллизация, развоплощение»[278]. Наряду с чуткостью и даже чувствительностью в восприятии живописи, которая, без сомнения, была присуща Бердяеву, эти строки говорят нам о трагическом ощущении бытия. Причем не концептуально-трагическом, не в теории, а тут, в живом человеке, в Николае Александровиче Бердяеве, который в этот период жизни (а может, – всегда?) видел материальную жизнь умирающей и безрадостной. В статье есть строки: «Тяжело, печально, жутко жить в такое время человеку, который исключительно любит солнце, ясность, Италию, латинский гений, воплощенность и кристалличность». Эти строки – о себе. Бердяев действительно очень любил Италию, воспоминание об итальянской поездке было драгоценным и светлым моментом в его памяти, который согревал душу. С одной стороны, Бердяев был как будто вне быта, вне материи, он тяготился действительностью, но при этом мир, красоту, солнечную Италию с оливами он безумно любил, потому страдал от «декристализации» и «развоплощения». В одном из писем 1918 года он писал о себе: «Во мне есть природное эстетство, которое всегда доставляло мне не только радости, но и страдание. В мире и людях я всегда видел более уродства, чем красоты. Вообще у меня есть некоторый уклон к пессимизму, заложенный в моем чувстве жизни»[279].
Для пессимизма были не только метафизические, но и вполне ощутимые основания. Бытовая, ежедневная жизнь Бердяева была трудной. Денег по-прежнему было крайне мало, Бердяевы буквально сводили концы с концами. Брат Сергей был плох, требовал лечения (за которое надо было платить!), – склеротические изменения мозга привели к его частичной парализации. Отец тоже был стар и слаб. Лидия Юдифовна не работала, страдала головными болями и обмороками на нервной почве. С ними уже несколько лет жила и сестра Лидии, Евгения Юдифовна, муж которой, Евгений Иванович Рапп, с 1906 года находился в Париже. Бердяев был единственным «добытчиком» в семье, поэтому при всей его нелюбви к быту и финансовой наивности, ему надо было содержать большое семейство…
Весной 1914 года Бердяев закончил написание своей книги о творчестве. Она увидела свет позже, в 1916 году, но не случайно предисловие к ней помечено февралем 1914 года, – к этому моменту книга была практически готова, хотя Бердяев еще вносил в нее некоторые добавления. Книга вызвала чрезвычайно неоднозначную реакцию: резкую критику В. Розанова, Д. Мережковского и А. Карташова, восторженные отзывы Л. Шестова и В. Зеньковского, а С. Левицкий назвал ее позднее «первым шедевром» Бердяева.
Две книги – «Философия свободы» и «Смысл творчества» – были как бы продолжением друг друга, в них содержалось достаточно полное изложение того, как понимал мир Бердяев. В «Философии свободы» Бердяев предпринял попытку построения своеобразной христианской онтологии (учения о бытии). Первичным, ни из чего не выводимым началом философ объявлял свободу (как и Якоб Беме), которая является и свободой выбора между добром и злом. Свобода не может быть ограничена никаким чуждым ей бытием, в том числе и Божьим. Бог выражает лишь светлую сторону этой свободы, и созданный им мир тоже мог бы быть светел и добр. Но Бог не может принудить мир к добру, а свободный выбор человека не всегда в пользу добра: библейский миф о грехопадении говорит, что «человек становится частью природного мира, одним из явлений природы, подчиненным природной необходимости. «Мир сей», мир природной необходимости пал от падения человека»[280], – так возник греховный мир вокруг нас, мир, в котором есть место злу. (Теодицея Бердяева, как я уже говорила, была тесно связана с его пониманием свободы.) Человеку трудно понять, почему Бог не создал безгрешного мира, где нет места болезням, детским слезам, страданиям. Ответ прост: в таком мире не было бы свободы, которая лежит в основе мироздания и ограничить которую Бог не хочет (и не может?). Мир должен пройти искушение свободой, чтобы его выбор в пользу добра был не внешним принуждением, но внутренним свободным выбором.
Построения теодицеи Бердяева просты и красивы. Но остается ощущение, что проблема не так нравственно проста, как она излагается автором. Общие убедительные слова по поводу объяснения существования зла в мире произносились много веков (перед каждым верующим человеком встает проблема теодицеи), но все замечательно-логичные построения разбивались и разбиваются о реальную жизнь. Абсолютно гениально это почувствовал Достоевский (недаром он написал в своем дневнике, что его «всю жизнь Бог мучил»), вложив в уста Ивана Карамазова рассказ о реальных «фактиках» мучительства и истязания «невинных деток» и поставив вопрос о том, чем можно объяснить и оправдать «слезинку хотя бы одного замученного ребенка». Перед лицом детских мук вся диалектика свободы рассыпается. Это заметил еще Шестов, написав, что в бердяевской философии, «если мы хотим «оправдать Бога» – у нас есть один лишь выход: все свои умственные и нравственные силы сосредоточить на том, чтобы доказать невозможность вмешательства для Бога»[281]. Судя по некоторым записям Бердяева и по его переписке с С. Франком, в конце жизни у него возникли такие мысли. В душе человека всегда происходит борьба между добром и злом, и нет никаких гарантий конечной победы светлого начала над темным. Миф о грехопадении говорит, по Бердяеву, о бессилии Бога предотвратить зло, исходящее из несотворенной им свободы. Но христианство всегда учило не только о падении и слабости человека, о греховности и немощи человеческой природы. Христианская антропология признает и абсолютное и царственное значение человека, так как учит о вочеловечении Бога и обожествлении человека, о взаимопроникновении природы божественной и природы человеческой. «Факт явления Христа – основной факт антропологии»[282], – писал Бердяев, он дает человеку надежду победить необходимость, стать частью «богочеловеческого творчества».
Итак, мир вышел из свободы, он должен пройти «испытание свободой», и судьба мира, в конечном счете, совпадает с судьбой свободы в мире. Мир, в котором мы живем, – падший именно потому, что в нем господствует не свобода, а необходимость. В окружающей нас реальности все закономерно, предсказуемо, несвободно. Но «человек – точка пересечения двух миров»[283], он сознает и свое величие, и свою ничтожность, и свою свободу, и свою рабскую зависимость, он – «странное существо», двоящееся и двусмысленное. «Человек не только от мира сего, но и от мира иного, не только от необходимости, но и от свободы, не только от природы, но и от Бога», причем осознание своей свободной природы у человека первично. Мир противостоит свободному человеку, порабощает его. (В этом пункте особенно видна общность позиции Бердяева и западных экзистенциалистов, прежде всего, Мартина Хайдеггера, который тоже писал о человеке, существующем в чуждом ему мире объектов, куда он «вброшен» не по своей воле.) Разум, рациональное познание не могут помочь человеку освободиться от навязанной извне необходимости. Тема несовместимости свободы и рациональности всегда звучала у Н. Бердяева очень остро. «Свобода не терпит ни определяемости бытием, ни определяемости разумом»[284], – замечал он позднее. Бердяев восстал против свободы, заключенной в границы рационально познанной необходимости. Философ страстно доказывал вторичность разума, отражающегося в нем «естественного» порядка вещей, науки перед человеческой свободой и наиболее ярким ее проявлением – творчеством. «Свободу нужно противопоставить бытию, творчество – объективному порядку… Дух может опрокидывать и изменять «естественный» порядок»[285], – был убежден он, в чем-то продолжая темы Шестова.
Человек в своей самореализации должен вести непрекращающуюся борьбу с порабощающим его объективированным миром, подчиняющимся закону, «порядку». Личность всегда есть исключение из цепи закономерностей, и утверждает она себя избранием свободы, «переделкой» мира, творчеством. Существование личности с ее уникальной судьбой, волей, бесконечными стремлениями есть парадокс в объективированном мире природы. Поэтому познание личности не может быть познанием рациональным, «это познание страстное и для него раскрывается не объект, а субъект»[286]. Рационализм для Бердяева – иллюзия сознания, порожденная социальным приспособлением. Таким образом, и Бердяев, как Шестов и Хайдеггер, осуществлял экзистенциалистскую критику рационализма; они противополагали рациональное познание свободе, которая, в свою очередь, интерпретировалась ими как главное свойство, атрибут личности. Разумные истины закрепощают человека, надевают смирительную рубашку на его волю, страсти, индивидуальность.
Действительно, рационализм ориентирован (и в этом трудно спорить с Бердяевым) на «нормального», усредненного познающего субъекта, «изгнавшего» из себя страсти, эмоции, симпатии и антипатии, бессознательные мотивы. Познание всегда стремится к всеобщности и необходимости. Поэтому рациональное познание не может помочь человеку сохранить свободу, – если мы думаем рационально, мы думаем «как все», мы подчиняемся общепринятым истинам. Единственным проявлением человеческой свободы остается творчество. Оно не может быть навязанным извне, подчиненным необходимости и «чуждому миру объектов». Именно в творчестве человек осуществляет прорыв из царства необходимости в царство свободы, проявляет свой дух, доказывает, что он – образ и подобие Божие (ведь и Бог – Творец). И здесь опять явная перекличка тем с западным вариантом экзистенциализма, на этот раз с Карлом Ясперсом: Ясперс даже дал своего рода «доказательство бытия Божьего», исходя из свободы. Суждение «Я – свободен» предшествует у человека всякому опыту, оно дано непосредственно, очевидно, хотя опыт нас, как правило, учит совсем другому – зависимости, подчинению необходимости. Значит, ощущение свободы дается человеку не миром и не в мире, где господствуют закономерности. Свобода может быть лишь добытийственной, изначальной.
Бердяевской картине мира было присуще противопоставление свободы, духа и несвободы, необходимости, материального «мира объектов». Для него это – два рода реальности, взаимодействующих друг с другом. Трагизм ситуации в том, что свободный человек попадает в мир, где властвует необходимость. Естественно, человек стремится вырваться из власти низшей реальности, где все закономерно и необходимо, но может сделать это лишь через творчество, которое всегда есть свободное выражение своего «я». В творческом акте человек вновь ощущает себя богоподобным существом, не связанным законами материального мира. Человек призван к творчеству, к продолжению миротворения, – ведь мир принципиально незавершен. Правда, Бердяев сам отмечал, что «в Евангелии нет ни одного слова о творчестве, и никакими софизмами не могут быть выведены из Евангелия творческие призывы и императивы»[287]. Почему? Да потому, что наставления в творчестве – абсурд, нонсенс! Творчество – свободно, не может слушаться указаний и наставлений! «В деле творчества человек как бы предоставлен самому себе, оставлен с собой, не имеет прямой помощи свыше. И в этом сказалась великая премудрость Божья»[288], – был убежден Бердяев, ведь в творчестве должно раскрыться божественное начало в человеке не принудительно, а через саморазвитие.
Тьма, бездна, непознаваемая первичная меоническая свобода, Ungrund лежат для Бердяева в основе бытия, и, хотя они преодолеваются божественным творением мира и человека, они не уничтожаются. Эта тьма, бездна грозят поглотить людей в каждый миг их существования, поэтому творчество необходимо и для спасения человека. Некоторые исследователи творчества Бердяева считают, что символ изначальной темной бездны связан с личными переживаниями Бердяева, всю жизнь чутко чувствовавшего «угрозу стихии ночи», которая ужасала и влекла его одновременно. Ему часто снились кошмары, в которых он падал в пропасть, у него не раз встречался образ Бога, который распялся над первичным хаосом и тьмой. Сам он вырывался из этой бездны благодаря своему творчеству, осмысливанию, борьбе со своей природой. Возможно, бессознательно он переводил на язык философии свои внутренние переживания, показывая, что творчество – единственный путь к спасению. Е. Герцык в своих воспоминаниях сформулировала пафос «Смысла творчества» (книги, не написанной, а буквально «выкрикнутой» автором) так: «Твори, не то погибнешь!»[289]. Жизнь – это борьба с тьмой небытия, в этом ее мука и счастье, и только в результате этой борьбы возможно рождение духа, света, личности. Примат свободы над бытием определяет и смысл человеческой жизни: «цель человека не спасение, а творчество», «культ святости должен быть дополнен культом гениальности», «творчество обращено ни к старому, ни к новому, а к вечному», «творческий акт есть самоценность, не знающая над собой внешнего суда», – «отливал» Бердяев чеканные афоризмы. Философия свободы и творчества Бердяева – философия возвышения человека, когда он становится нравственно однородным Богу существом: Бог и человек – творцы, поэтому смысл человеческой жизни – в творчестве, творческом порыве к свободе.
В книге опять появилась и тема эсхатологии, «конца света». Смыслом творчества Бердяев объявил не накопление культурных ценностей, не развитие человечества, а приближение конца этого падшего мира. Любое творчество – это выпадение из причинно-следственной цепочки, поэтому каждый творческий акт «расшатывает» устои мировой необходимости. Бердяев убеждал читателя, что гибель мира необходимости будет означать преображение мира, восхождение его на более высокую ступень, освобождение из плена, победу свободы. Он писал о трех эпохах истории, каждой из которых соответствует своя мораль. Бердяев использовал в своей работе историософскую триаду Иоахима Флорского, создавшего учение о трех стадиях божественного Откровения, трех мировых эпохах – Отца, Сына и Святого Духа, представляющих собой моменты диалектического развития божества. «Мир проходит через три эпохи божественного откровения, – писал и Бердяев, – откровение закона (Отца), откровение искупления (Сына), откровение творчества (Духа)… Три эпохи божественного откровения в мире – три эпохи откровения о человеке. В первую эпоху изобличается законом грех человека и открывается природная божественная мощь; во вторую эпоху усыновляется человек Богу и открывается избавление от греха; в третью эпоху окончательно открывается божественность творческой человеческой природы и мощь божественная становится мощью человеческой»[290]. Первой эпохе соотвествует мораль послушания, второй – мораль любви, третьей – мораль творчества (эта мысль еще получит развитие в более поздних работах Бердяева). Причем эти эпохи господства различных систем нравственных ценностей трактовались им не только (и не столько) хронологически сменяющими друг друга, сколько сосуществующими. Этика послушания, этика закона – нормативная этика запретов, типичным примером такой этики является ветхозаветная система нравственных норм, основанная на боязни греха и послушании. Не убий, не укради, – иначе ты будешь наказан. Для этики закона характерна идея отвлеченного добра. Крайним примером проявления такой этики может служить фарисейство.
Новый Завет дает уже совсем другую систему нравственных требований, это – этика искупления или этика любви. Хотя Иисус Христос и говорил, что он пришел не нарушить закон, а исполнить его (Матф., 5:17) – речь идет, конечно, о ветхозаветном законе, – на деле он то и дело букву этого закона нарушал: не побил камнями блудницу, ел и пил с мытарями и грешниками, не постился, не соблюдал субботу… Почему? Потому что законническая этика проходит мимо личности, следует лишь букве закона, зачастую порождая «кошмар злого добра» (название одной из будущих статей Бердяева). Этика искупления и любви не просто формулирует правила поведения, но дает высший принцип жизни – любовь к Богу и к ближнему, ради которой можно переступить и через какие-то правила. Это этика сострадания, прощения, соучастия. Этика искупления не знает резкого деления на «добрых» и «злых». В ее основе лежит отношение не к отвлеченной идее добра, а к живому человеческому существу, в ней на первый план выходит личность и личное отношение человека к Богу и ближнему, а не следование общепринятым нормам. Бердяев даже поставил вопрос, впервые заданный Оригеном: возможно ли индивидуальное спасение человека? Может ли спастись человек, если его ближний погибает? Сам он склонялся к мысли о том, что спасение возможно лишь как всеобщее спасение (в терминах богословия – «апокатастазис»). Поэтому существовавшие долгое время представление об аде, об ужасных и безнадежных вечных муках, которые ждут нераскаявшихся грешников, – садистская ложь. Христианство – религия любви, поэтому невозможно представить себе христианина, блаженствующего в то время, как хотя бы один другой человек страдает. Бердяева всегда очень отталкивали «мстительная эсхатология, резкое разделение людей на добрых и злых и жестокая расправа над злыми и неверными»[291]. У него есть запоминающийся образ: мораль начинается с вопроса Бога к Каину об убитом им брате: «Каин, где твой брат Авель?» Но нравственное развитие человечества, считал Бердяев, должно закончиться вопросом к Авелю: «Авель, где твой брат Каин?», то есть и Авель ответственен за то, что не уберег своего брата-убийцу от греха, дал ему нравственно погибнуть.
Встречается и еще одна система нравственных ценностей – этика творчества. Мораль есть не простое исполнение правил и требований, это творческий индивидуальный акт создания и преумножения добра в мире. Творец забывает о себе и заинтересован в самом акте творения, он бескорыстен: он любит свое творение, как Бог любит человека и мир. Нравственное значение имеет всякое творчество. В творчестве воплощается божественное начало человека, в нем он побеждает похоть, материальные интересы, злые страсти и всю свою энергию направляет на творческий акт. Происходит своеобразная сублимация[292] страстей человека. Таким образом, этика творчества – еще более высокий этап нравственного развития человека, чем этика искупления.
Разумеется, Бердяев не призывал отменить этику закона или общепринятые формы общения людей. В этом смысле, его «перечеканка монет» (лозунг, провозглашенный античным философом-киником Диогеном Синопским и означавший отказ от сложившихся норм и правил) не есть отрицание сложившихся норм человеческого поведения. Бердяев лишь показал, что существуют более высокие стадии нравственности, чем следование этике закона. Причем эти более высокие стадии не могут быть достигнуты принудительно, они предполагают свободу человека – его свободную любовь к Богу и ближнему, его свободное творчество. Здесь философия Бердяева как бы возвращается к своим истокам, к учению о свободе как источнике всего существующего. Философия свободы становится «философией свободных». Бердяев приводил яркий пример Серафима Саровского и Пушкина – величие святости и величие гениальности, показывая, что гениальность Пушкина не имеет в глазах «отцов и учителей религиозного искупления» ценности, потому что «для дела искупления не нужно творчества, не нужно гениальности». Бердяев же считал, что в творчестве гения тоже есть святость, это лишь другой путь релиозного делания.
Если ветхозаветная мораль послушания пригодна для детства человечества (как мы не всегда можем объяснить истинную причину тех или иных запретов детям, но требуем от них, тем не менее, послушания), то затем, на смену ей, приходит более осмысленная новозаветная мораль любви к Богу и ближнему, а в грядущем – предвидел Бердяев – «откроется человеку тайна, скрываемая от младенцев в эпоху опеки, – тайна о том, что послушание не есть последнее в религиозном опыте, а лишь временный метод, что в дерзновенном и жертвенном почине должна быть преодолена младенческая безопасность, что грех будет окончательно побежден подвигом творчества»[293]. Богочеловеческое творчество выполнит все задачи, стоящие перед человеческой историей, исчерпает ее смысл: «с третьей творческой религиозной эпохой связано чувство конца, эсхатологическая перспектива жизни. В третью эпоху, эпоху религиозного творчества, должны выявиться все концы и пределы мировой жизни и культуры. Творчество этой эпохи по существу направлено на последнее, а не на предпоследнее, все ее достижения должны уже быть не символическими, а реалистическими, не культурными только, а бытийственными»[294], – убеждал читателя Бердяев.
Очевидно, что предложенная Бердяевым концепция «богочеловеческого творчества» и третьего откровения была с настороженностью воспринята многими его современниками. Булгаков, Розанов, В. В. Зеньковский и даже Вяч. Иванов увидели в позиции Бердяева нехристианский дуализм «духа» и «мира», плохо скрытый учением о богочеловечестве.
Розанов написал 6 рецензий на книгу! (Хотя все-таки меньше, чем ему приписывал Бердяев, который говорил о 14 отликах). Рецензии подчас были довольно едкие, хотя не всегда убедительные. Василий Васильевич указал на несоотвествие учения Берядева христианству, на то, что Бердяев «додумывает» христианство, несмотря на бесповоротно ясное слово Христа. Но переиначить христианство нельзя: «И это как ввиду определенности слова, так и еще по практическо-исторической причине: уже так верили люди две тысячи лет и, именно этому поклонившись, приняли венцы мученичества. И решительно не ради какого Якова Беме и не ради какого Бердяева ни Церковь или все человечество не скажет: «Эти венцы они не заслужили, ибо ошиблись, не так совсем поняв Христово учение». Нет, таких шуточек в истории нельзя говорить. Кровь – это всегда слишком серьезно»[295]. Розанов спорил с бердяевским примером сопоставления Серафима Саровского и Пушкина (с этим примером вообще мало кто из рецензентов согласился), показывая, что в истории церкви было место творчеству, что противопоставление Бердяева – надуманное и узкое: «О чем говорит автор? Хочет говорить о христианстве, которому девятнадцать веков, а говорит на самом деле об одном XIX веке. Примеры Пушкина и св. Серафима сперли ему горло, у него образовался «зоб», и покрасневшими глазами он ничего не видит и вместе с тем и не умеет дышать. А историческая деятельность и великие слова Иоанна Златоуста? – на Западе Амвросия Миланского и св. Франциска тоже дела и слова? – а словесный и умственный подвиг блаженного Августина и Оригена? Наконец, ведь «канонизирован» боговидец и пророк Моисей, и его изображения есть в наших Церквях, а история его проходится во 2-м классе гимназий…? Что если взять «подвиг и избранничество Пушкина» с его mademoiselle Гончаровой и mademoiselle Керн – и придвинуть эти подвиги к изводу из Египта целого народа, в рабстве находившегося? А псалмопевец Давид, тоже «канонизированный»? Бердяев совершенно не знает, вернее, не помнит «канона», который весьма широк, ибо обнимает океан-Церковь с ее совершенно бесконечным и совершенно всесторонним творчеством. Он взял кусок синодального периода русской Церкви – специально-чиновнического ее устроения, когда Церковь была отодвинута от жизни и соучастия, ей спасаться можно было только в лесах, в пещерах… Он взял век кургузых пиджаков, когда и великий поэт – с силою творить как Данте – погряз и грешно погряз в волокитство, в «картишки» и в мундир камер-юнкера… Эпоха вицмундира и кургузости во всем, во всем… И на этом-то узеньком поле Бердяев судит мировые вопросы, под освещение, идущее от этого жалкого века – жалкого из жалких, он подводит центральные вопросы христианства!.. Пустой век – религиозно-ничтожный век – и он пахнул своей пустотой на гений и Пушкина»[296]. Розанов считал, что рамках церковного идеала святости выразимо всякое историческое творчество, потому что «взирание на Небо» не сковывает никакого человеческого творчества, наоборот, всякому творчеству оно придает прочный фундамент.
Известный богослов, историк философии, ставший затем священником, В. В. Зеньковский, отзываясь о книге Бердяева, сказал о ней много хвалебных слов. Но, с его точки зрения, «главная ошибка Бердяева, много повредившая его книге, заключается в том, что всю полноту творческих замыслов, всю силу творчества он отрывает от современности и относит ее к будущей религиозной эпохе»[297]. Творческая мораль не нова («ради Бога, что же нового?» – восклицал Зеньковский), а автор не видит этого, потому что для него характерно глубокое убеждение, что новозаветная эпоха должна смениться новой религиозной эпохой. «Это убеждение – чисто априорное», – писал Зеньковский, оно приводит Бердяева к преувеличениям, неточностям и противоречиям. Указывал Зеньковский и на постоянное смешение автором евангельской правды с традиционным христианским учением (то есть с теми формами этого учения, в которых искажалось Евангелие), – он считал, что на этом смешении основана книга. «Пафос книги Бердяева мне понятен, но нельзя иначе как с глубокой грустью относиться к тому, что в себе он не осознал родства с подлинным христианским сознанием, что то, что в его душе было подсказано вечной правдой Евангелия, он противопоставляет Евангелию как «новое откровение»[298]. Наверное, Зеньковский был здесь прав: Бердяеву, даже в период наибольшего сближения с «православными кругами», не было присуще чувство кровного родства с церковью, о чем он и сам не раз говорил. «У меня всегда оставалась антиклерикальная закваска»[299], – писал он в конце жизни. Не был согласен Зеньковский и с противопоставлением святости и гениальности: «Противопоставлять св. Серафима Пушкину значит считать святость однородной художественному дарованию; гениальность противополагается поэтому Бердяевым святости как особый путь. Но разве можно противопоставлять часть целому? Святость охватывает всю духовную жизнь, т. е. прежде всего моральную, а затем и иную; поэтому святость означает лишь уровень духовной жизни, а не ее содержание»[300], – замечал Зеньковский.
Вячеслав Иванов увидел нечто общее в позиции Бердяева и церкви, – Бердяев требовал от человека творчества. «Но разве оправдывается кто-либо тем, что может и должен, однако еще не успел совершить? Бердяев хотел оправдать человека, но вместо «ты оправдан» объявил ему «оправдайся!» – т. е. условно как бы уже и обвинил наперед, хотя и высказал, отпуская ответчика, личную твердую уверенность, что он исполнит требуемое для оправдания. Церковь также грозит людям и требует своего от людей; но вот уже девятнадцать веков торжественно возвещает благую весть об оправдании человека как такового – об оправдании совершившемся, окончательном и преизбыточном»[301].
Когда книга вышла в свет, 17 октября 1916 года состоялось ее обсуждение в Петербургском РФО. А. А. Мейер, Мережковский, Гиппиус, Карташев тоже выступили с резкой критикой работы Бердяева. Были и другие отлики, – и восторженные, и критические. Некоторые замечания были серьезными (как рассмотренные выше отлики Розанова и Зеньковского) и указывали, по сути, на разность позиций, на другое отношение к христианству; иные замечания можно было бы назвать «ловлей блох», – они касались частностей, но не сердцевины концепции Бердяева, многие – относились скорее к манере изложения мыслей. Бердяев творил увлеченно, не ограничивая себя рамками схем, доказательств, безудержно следуя за своей интуицией. Постепенно создавался особый «бердяевский» стиль философии, который Розанов метко назвал стилем «высказывания», а не «доказывания». Это действительно так, но истина не всегда «доказуется», иногда она и «показуется». Такая манера изложения вообще присуща экзистенциальному типу философствования, Бердяев тут не был исключением. Все произведения философа были его личным духовным опытом, переложенный на бумагу.
11. Война и судьба России
«Россия вздулась пузырем – вообще стала в войну, как пузырь, надувается и вот-вот лопнет»
М. Пришвин.28 июня 1914 года в Сараево девятнадцатилетним сербским студентом Гаврилой Принципом был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга. Еще через месяц Австро-Венгрия, заручившись поддержкой Германии, объявила войну Сербии. Сербия обратилась за поддержкой к России. Начался один из самых страшных конфликтов, пережитых человечеством, – Первая мировая война. В ее орбиту были вовлечены десятки стран (даже Бразилия и Куба!), ее итогом стала гибель 10 миллионов человек, ликвидация четырех империй, возникновение новых государств, революции… Говорят, что первая мировая война стоила человечеству больше жертв, чем все бесконечные войны целого тысячелетия от Карла Великого до фельдмаршала Мольтке.
Россия вступила в войну 1 августа 1914 года, после вручения германским послом министру иностранных дел Сазонову ноты с объявлением войны, рассчитывая (как и большинство участников!) на быструю и победоносную военную кампанию. На следующее утро царь издал указ о начале военных действий. Солнечным ярким днем император и императрица вышли к народу на Дворцовой площади, – Николай был одет в парадный мундир пехотного полка, Александра Федоровна – в белое платье. Люди на площади, увидев их, запели «Боже, царя храни», мужчины и женщины падали на колени. Николай и Александра заплакали… «И так было по всей империи: взрыв воодушевления, толпы народа на улицах, смех, слезы, пение, возгласы, поцелуи. Волна патриотизма захлестнула Россию. Рабочие оставляли красные революционные флаги и брали в руки иконы, портреты царя. Студенты покидали университеты и добровольно уходили в армию. Офицеров, встречавшихся на улицах, восторженно качали на руках»[302]. П. Н. Милюков тоже вспоминал, что вначале война была чрезвычайно «популярна», внутренние проблемы отошли на время на задний план, стачки и забастовки прекратились. Ему вторят другие авторы. Уже 2 августа русские войска вторглись в Восточную Пруссию, а 4 августа там началось широкомасштабное наступление, первоначально успешное. 5 августа русские войка вошли в Галицию, и к 21 августа генерал Брусилов занял Львов. Затем наступление приостановилось, но военная машина работала, перемалывала своими жерновами миллионы жизней…
Российская интеллигенция отнеслась к факту войны по-разному. Часть ее (бо́льшая) присоединилась к патриотическому подъему, меньшая часть (прежде всего, социал-демократы и другие левые партии) – критиковала правильство за вступление России в войну. И тут наши соотечественники не были одиноки: похожие процессы происходили в других странах – Франции, Англии, Германии. Знаменитый английский логик и философ Бертран Рассел, который смог отчасти предвидеть и понять, что ждет Европу, занял пацифистскую позицию, но он писал, что девяносто процентов населения, в том числе, его коллеги, «с радостью предвкушали кровавую бойню». Патриотический энтузиазм заглушил вначале голос разума у многих, даже вполне рассудительных, людей и у нас в стране. Россия казалась непобедимым гигантом. Первые победы над австрийцами (воевавшими на стороне Германии) подкрепили недальновидную уверенность в том, что война будет короткой и принесет легкую победу.
Бердяев тоже стоял «за войну до победного конца». Сегодня, с высоты прошедшего столетия, зная итоги войны, его позицию легко критиковать. Но, во-первых, Бердяев никогда не был певцом насилия, – он относился к войне как «внутренней болезни человечества», во-вторых, он увидел в грядущей войне росток будущего единства: «великий раздор войны должен привести к великому соединению Востока и Запада»[303]. В-третьих, он мечтал о том, что в результате этого соединения «творческий дух России займет, наконец, великодержавное положение в духовном мировом концерте»[304]. Поэтому его точка зрения была наивна, но вряд ли заслуживала строгого осуждения. Зато продолжение бердяевской фразы о «войне до победного конца» неприятно задевает читателя: «И никакие жертвы не пугали меня»[305]. Так сказать, возможно, имел право Павел Флоренский, который, оставив дома маленьких детей с женой, добровольно отправился на фронт в качестве полкового священника и санитара (совмещая эти ипостаси на санитарном поезде Черниговского дворянства)[306]… Впрочем, он-то так сказать как раз и не мог: видел живых, а не абстрактных раненых, исповедывал их, выслушивал невеселые рассказы об их жизни, слышал стоны и хрипы. Бердяев же был человеком, наблюдавшим эту войну на газетных страницах, поэтому морального права писать так легко о жертвах, конечно, не имел. «Любовь к России как вино ударила ему в голову»[307], – писала Герцык. Видимо, она была права. Некоторых людей из близкого окружения Николая Александровича война задела и лично: в 1917 году погиб сын Льва Шестова – Сережа, потеряла сына и Вера Гриневич…
Впрочем, многие окружавшие Бердяева замечательные люди заняли похожую позицию. Для С. Н. Булгаков начало первой мировой войны тоже было отмечено славянофильскими статьями, полными веры во всемирное призвание и великое будущее державы. Так, в статье «Русские думы» он писал: «Родина грянет на бранный пир, венчанная высоким избранием, как защитница правды и свободы. Она защищает Европу от Европы, в союзе с её народами она спасёт её от… германской опасности, она подъемлет знамя свободы народов…»[308]. С. Л. Франк написал работу «О поисках смысла войны», в которой высказывал убеждение, что «…эта война необходимое, страшно важное и бесспорное по своей правомерности дело»[309]. В. Ф. Эрн, Е. Н. Трубецкой, многие члены Московского и Петербургского РФО считали, что благодаря войне Россия сможет наконец-то сыграть решающую роль в истории человечества. На заседаниях РФО начали обсуждать социальную роль войны, национализм и патриотизм, зазвучали и темы мессианизма. Зато резко против милитаризма и национализма выступил Мережковский, обвинив в «зоологическом патриотизме» Булгакова, Эрна, Бердяева, да и Флоренского заодно. Мейер прочел доклад о религиозном смысле мессианизма, предостерегая от греха национального самоутверждения. Гиппиус тоже не воспринимала войну как «правое дело», но пыталась принять посильное участие в судьбе солдат, в ней участвовавших. Большой общественный резонанс имели стилизованные под лубок «простонародные» женские письма, которые писала Гиппиус солдатам на фронт, иногда вкладывая их в кисеты: «Лети, лети, подарочек // На дальнюю сторонушку» и т. п.
Бердяева война застала в Бабаках. Он приехал в Москву и предпринял попытку найти источники дохода, которые дали бы ему возможность перевезти сюда семью. Его ждала неудача, и Бердяевым пришлось остаться на даче. (Но и над Бабаками нависла угроза продажи.) Возбужденный военными событиями, Николай Александрович начал много писать для периодических изданий – «Утро России», «Биржевые новости». Он написал целый ряд статей о русском мессианизме, о роли России в мировой истории. По сути, он пытался дать современную интерпретацию объединявшей все про-славянофильские течения мысли о всемирно-историческом предназначении России. В первые месяцы войны он написал работу «Душа России» для издательства И. Сытина, выпускавшего книжки для массового читателя большими тиражами. Издательство издавало тогда серию брошюр «Война и культура», причем авторы должны были представить свои взгляды не только в виде текстов, но и на публичной лекции. Лекция Бердяева была запланирована на декабрь, и он договорился с Аделаидой Герцык, что остановится у нее. Дело в том, что первую военную зиму Евгения жила у сестры. Так они оказались втроем в Кречетниковском переулке на квартире Ади. Еще до своего запланированного приезда в Москву, Бердяев получил горестное известие: 1 ноября в Киеве умер его старший брат. Хлопоты, связанные с похоронами, горестные мысли: Бердяев воспринимал жизнь Сергея Александровича как несчастную и страдальческую. Да так оно и было…
Но в декабре Бердяев уже в Москве, чтобы прочитать запланированную лекцию. План выполнен не был: его лекцию запретил градоначальник по неизвестным причинам. Николай Александрович негодовал, но поделать ничего не мог. Горечи прибавлял и тот факт, что раз лекция не состоялась, его приезд не будет оплачен… Финансовая ситуация у Бердяевых была просто катастрофической: иногда они не знали, на что будут жить через несколько дней. Еще в августе Вера Гриневич написала об их тяжелом положении Герцык, – тут же Адя Герцык предложила передать ему 500 рублей, а Евгения обратилась за займом к знакомым и друзьям. Главная трудность, о которой она советовалась с подругой (Гриневич), – как предложить Николаю Александровичу денег так, чтобы его городость не была уязвлена. Решили: «строго в виде долга». В то же время, Евгения была против того, чтобы Вера обратилась к М. К. Морозовой: «я решительно и определенно знаю, что мы не имеем права обращаться, что быть обязанным ей или «путейцам» для него хуже нужды»[310].
В следующий раз в Москву Бердяев приехал из Бабаков уже в январе 1915 года и с женой. Они опять остановились у сестер Герцык. Лекция состоялась, публики собралось много, сборы от лекции пошли в пользу раненых. Бердяев имел успех. Он даже хотел проехать с этой лекций по ряду городов России – прочитать ее в Ярославле, Туле, Новгороде. К несчастью, когда он возвращался домой, то поскользнулся и сломал ногу. Два месяца лежания в лубках, – нога срасталась плохо. Бердяева навещали друзья, он знакомился и с теми, с кем общались сестры (у Герцык Николай Александрович встретил, например, Марину Цветаеву), круг людей вокруг него расширялся. Тихая жизнь Евгении и Аделаиды («жили мы тихо, притаясь, оглушенные совершавшимся») была прервана: «хлынули люди, закипели споры… телефонные звонки, уходы, приходы, все обостряющиеся споры между ним и Булгаковым, Вяч. Ивановым, которых захватил шовинистический угар»[311]. В это время первый порыв патриотического единения в стране уже прошел: убитые, раненые, поражения на фронтах сделали свое дело. Бердяев, как и другие, тоже стал более критичен к происходящему, начал выступать против «крайностей» патриотизма, но в брошюре и лекции он еще был полон надежд на победу и возрождение России.
«Душа России» вошла в 1918 году в сборник бердяевских статей «Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности». Вечная проблема отечественной мысли – проблема взаимоотношения Востока и Запада и места России в мире (которая не вписывается ни в западную, ни в восточную схемы исторического развития) по-новому зазвучала во время первой мировой войны. Николай Александрович считал, что война удивительно остро поставила вопросы о русском национальном самосознании, о задаче России во всемирной истории, о будущем страны. Он отмечал, что «России все еще не знает мир, искаженно воспринимает ее образ и ложно и поверхностно о нем судит. Духовные силы России не стали еще имманентны культурной жизни европейского человечества. Для западного культурного человечества Россия все еще остается… каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, то отталкивающим своим варварством»[312]. Бердяев верил, что одним из результатов войны станет изменение такого положения дел: мировая война явила собой небывалое прежде «историческое соприкосновение и сплетение восточного и западного человечества», значит Россия, которую мыслитель понимал как Востоко-Запад, сможет, наконец, занять подобающее ей положение в истории. «То, что совершалось в недрах русского духа, перестанет уже быть провинциальным, отдельным и замкнутым, станет мировым и общечеловеческим, не восточным только, но и западным»[313]. Бердяев здесь опирался на идеи Владимира Соловьева, который тоже говорил о том, что грядущие войны можно рассматривать как результат столкновения именно культур – Запада и Востока, причем итогом такого столкновения станет их сближение.
Предвидя великую миссию России, Бердяев на страницах этой работы попытался дать характеристику «души России», указав главную ее черту – антиномичность, противоречивость («Россия – самая бесгосударственная и самая анархическая страна в мире», но «Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире, все в России превращается в орудие политики»[314]; «Россия – самая не шовинистическая страна в мире. Национализм у нас всегда производит впечатление чего-то нерусского, наносного, какой-то неметчены», но и «Россия – самая националистическая страны в мире, страна эксцессов национализма, угнетения подвластных национальностей русификацией, страна национального бахвальства, страна, в которой все национализировано вплоть до вселенской церкви Христовой, страна, почитающая себя единственной призванной и отвергающая всю Европу, как гниль и исчадие дьявола, обреченное на гибель»[315] и т. д.) Главный вывод работы содержался в мысли, что «Россия призвана сказать свое новое слово миру, как сказал его уже мир латинский и мир германский»[316].
Когда нога срослась, Бердяевы вернулись в Бабаки. Они надеялись прожить здесь до августа (хотя понимали, что Бабаки могут описать за долги в любой момент), а затем перебраться в Москву и искать там место для жилья. Им нужна была постоянная квартира с большим количество комнат. Семья разрослась: из Киева в Бабаки приехал отец Бердяева, – он остался там после смерти жены и старшего сына совсем один, и Николай Александрович забрал его к себе. В результате упорных поисков и помощи друзей такая квартира в конце концов нашлась – в Большом Власьевском переулке, 14, квартира 3, между Сивцевым Вражком и Арбатом. Состояла она из гостиной, кабинета, столовой и трех спален (отца Бердяева, Лидии Юдифовны и Евгении Юдифовны). Сам Бердяев спал на диване в своем кабинете.
Большой Власьевский переулок название свое получил от церкви св. Власия, который издавна почитался на Руси как покровитель домашних животных. В этом было какое-то удивительное совпадение – все знакомые Бердяева вспоминали, что он самозабвенно любил животных (Николай Алексанлдрович и мясо поэтому перестал есть), что у него в доме жили кошки, собаки, и иногда, в шутку, близкие даже просили его относится к ним так же хорошо, как к «знакомым» собакам. Бердяев и в книгах своих писал, что собака может стать «ты» для «Я», то есть другом способно быть не только другое человеческое существо, но и животное. В Москве в бердяевской квартире тоже жил пес по имени Шу-шу, подобранный на улице. В общении с людьми Бердяев не редко бывал сух, ему было трудно выразить свое расположение даже к близким, но свою потребность любить он реализовывал через отношение к животным. Забота о многочисленных питомцах, которые сопровождали его всю жизнь, видимо, была обратной стороной его ощущения собственного одиночества.
Интересно, что за 80 лет до приезда Бердяевых, здесь, в Большом Власьевском, жила семья Герцена: отец Александра Ивановича решил в 1823 году купить собственную усадьбу в Москве. Через 10 лет Герцены переехали в другой дом, поблизости, где сейчас находится музей А. И. Герцена. В арбатских переулках особенно остро чувствовался «московский дух», московская история, непохожая на официально-державную атмсоферу Петербурга, что нравилось Бердяеву. Иван Бунин, отмечавший неповторимое обаяние Арбата, писал:
Здесь, в старых переулках за Арбатом, Совсем особый город…Недалеко от Бердяевых, в старинном деревянном особняке жили Лопатины – образованная московская семья, глава которой был юристом, а один из сыновей, Лев Михайлович, – известным философом и психологом, с которым Бердяев был хорошо знаком по РФО, хотя их и разделяло почти 20 лет разницы в возрасте. Рядом жил и композитор С. И. Танеев, с которым Бердяев встречался на вечерах в доме Скрябина. Рукой подать, в Никольском (ныне – Плотниковом) переулке, жил и приятель Бердяева – М. О. Гершензон.
Эту московскую квартиру Евгения Герцык так описывала в своих воспоминаниях: «Вечер. Знакомыми арбатскими переулочками – к Бердяеву. Квадратная комната с красного дерева мебелью. Зеркало в старинной овальной раме, над диваном. Сумерничают две женщины: красивые и привлекательные – жена Бердяева и сестра ее. Его нет дома, но привычным шагом иду в его кабинет. Присаживаюсь к большому письменному столу: творческого беспорядка никакого, все убрано в стол, только справа-слева стопки книг. Сколько их! Ближе – читаемые, заложенные, дальше – припасенные вперед. Разнообразие: Каббала, Гуссерль и Коген, Симеон Новый Богослов, труды по физике; стопочка французских католиков, а поодаль непременно – роман на ночь, что-нибудь выисканное у букиниста… Прохаживаюсь по комнате: над широким диваном, где на ночь стелется ему постель, распятие черного дерева и слоновой кости… Дальше на стене – акварель – благоговейной рукой изображена келья старца. Рисовала бабка Бердяева: родовитая киевлянка»[317]. Висел на стене и потрет самой бабушки Николая Александровича в монашеском одеянии, и предки Бердяева с Георгиевскими крестами на груди.
В квартире и особенно в комнате Николая Александровича всегда был строгий порядок, недаром он писал о себе: «В обстановке комнат я люблю строгий порядок и аккуратность. Малейший беспорядок приводит меня в дурное настроение и мешает мне работать. В моем характере есть педантизм. Я живу по часам, работаю по часам и размеренно. Во мне самом есть хаотическое начало, но я всегда дисциплинирую и оформляю хаос и не выношу торжества хаоса в складе жизни»[318]. Эту черту его характера отмечали все близкие ему люди, бывавшие у него дома: нервный, душевно ранимый Бердяев, автор экзистенциалистской философии свободы, в обыденной жизни был педантичен и до маниакальности аккуратен. Квартира во Власьевской переулке стала пристанищем Бердяевых вплоть до их отъезда из России, хотя отец Николая Александровича прожил с ними не долго: весной 1916 года он скончался от инсульта. Именно здесь Бердяев получил авторские экземпляры «Смысла творчества» в 1916 году.
В военные годы Бердяевы часто бывали в Кречетниковском переулке у сестер Герцык и на Плющихе – у Льва Шестова, который тоже поселился в Москве с 1914 года. «В военные годы теснее сблизился в Москве маленький кружок друзей – Вяч. Иванов, Бердяев, Булгаков, Гершензон и некоторые другие»[319], – вспоминала Евгения Герцык. Внутри кружка кипели споры и страсти, одномыслия не было, но эти люди ценили друг друга, возможность интеллектуальных «турниров» сплачивала их. Лев Шестов часто «амортизировал» полемику: «эти люди, порой спорившие друг с другом до остервенения, все сходились на симпатии к Шестову, на какой-то особой бережности к нему»[320], – писала Евгения. Обязательным антрибутом «дружественных сборищ» и у Герцык, и в доме Шестова, и у Бердяевых был вместительный самовар: за чашкой чая оттачивалась мысль, возводились и рушились под огнем критики присутствующих целые философские концепции. Но главной темой была все-таки война («в близком нам кружке писателей и философов со страстью обсуждались все повороты военной судьбы»[321]). Друзья ценили возможность разговора и с живыми свидетелями военных событий. Так, в один из дней все собрались у Герцык, чтобы встретиться с Алексеем Толстым, который только что вернулся с турецкого фронта.
К 1916 году в «дружественном кружке» обозначилось двоякое отношение к событиям в России: «одни старались оптимистически сгладить все выступавшие противоречия, другие сознательно обострили их, как бы торопя катастрофу»[322]. Однажды среди друзей состоялся такой шуточный разговор:
– Ну где вам в ваших переулках, закоулках преодолеть интеллигентский индивидуализм и слиться с душой народа! – ворчливо бросил Вячеслав Иванов.
– А вы думаете, душа народа обитает на бульварах? – парировал Бердяев.
И тут обнаружилось, что все «оптимисты» (Иванов, Булгаков, Эрн) и вправду проживают на широких бульварах, а катастрофически мыслящие пессимисты (Шестов, Бердяев, Гершензон) – в кривых московских переулочках. Это стало темой для шуток и острот, а немного погодя друзья даже затеяли рукописный журнал «Бульвары и Переулки», которым особенно усердно занимались Лидия Юдифовна и жена Гершензона – Мария Борисовна. В журнале были пародии, шуточные характеристики общих знакомых, эпиграммы. Читали журнал на квартире у Герцыков, так как она объединяла в себе быт бульваров и переулков: вход в нее был с переулка, а окнами она глядела на Новинский бульвар.
В это же время Николай Александрович стал членом «Клуба писателей». Клуб был замкнутой организацией, стать его членом можно было только при единогласном голосовании, на заседания и встречи не приглашали ни жен, ни друзей, а собирались на квартирах – то у А. Р. Крандиевской (где подавался чай с печеньем), то у Алексея Толстого (тут уже всех ждали пельмени с подливкой), то еще у кого-то. Именно из этого Клуба после революций возник Всероссийский союз писателей, связь с которым Бердяев не потеряд до самого отъезда в эмиграцию.
В последние два года перед революцией московская жизнь приобрела лихорадочный характер, – страну знобило, если пользоваться словами Ахматовой. Всюду проходили собрания и заседания, на них говорили о проблемах российской политики, отношении к Распутину, к военным неудачам 1915 года, к Антанте, к экономическому положению внутри страны… Бердяев выступал на многих таких мероприятиях. Сражение у Вердена, Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв – все это широко обсуждалось, было у всех на устах. Начались перебои с продовольствием (сестры Герцык, возвращаясь в ноябре в Москву из Судака, везли с собой крупу, хотя и в Крыму стало непросто: «мы терпим нужду в насущных вещах: нет мяса, кур, круп, сахару, освещения – волей-неволей в 9 часов все уже ложатся, чтобы не тратить больше одной свечи в вечер»[323], – писала Аделаида Михаилу Гершензону в октябре из Судака). Резко упал курс рубля, не было топлива, по стране шла волна забастовок, нарастал политический кризис. В ноябре 1916 года П. Милюков выступил в Государственной Думе с речью, в которой, говоря о распутинщине, прямо поставил вопрос: «Глупость или измена?» Депутат В. Пуришкевич тоже произнес страстную речь о том, что темный мужик Григорий Распутин не должен больше править Росией. Дума потребовала создания ответственного перед ней правительства. В результате председатель правительства Штюрмер был отправлен в отставку, а его пост занял генерал Трепов – убежденный монархист, который пробыл на этом посту меньше месяца. Дума по-прежнему не успокаивалась, и 16 декабря Николай II отправил ее на рождественские каникулы. На следующий день ночью Григорий Распутин был зверски убит. В заговоре участвовали депутат Думы В. Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович, князь Ф. Юсупов, другие.
Бердяевы, обретя в Москве свое жилье, устраивали у себя дома еженедельные «журфиксы». Иногда темой обсуждения становилась не литература и философские абстракции, а вполне реальные политические события. Так случилось и после убийства Распутина: М. Гершензон, В. Ходасевич, С. Булгаков вспоминали, как во время спора об этом взбудоражившем публику событии Бердяев высказывал резкую антимонархическую позицию. В столицах стали все чаще говорить о необходимости смены власти («шофера надо поменять» – эту метафору применяли даже в газетных статьях). Но самые левые, революционные силы переворота еще не готовили, еще его не чувствовали. Николай Александрович вспоминал: «приблизительно за месяц до февральской революции у нас в доме сидели один меньшевик и один большевик, старые знакомые, и мы беседовали о том, когда возможна в России революция и свержение самодержавной монархии. Меньшевик сказал, что это возможно, вероятно, не раньше, чем через 25 лет, а большевик сказал, что не раньше, чем через 50 лет. Большевики не столько непосредственно подготовили революционный переворот, сколько им воспользовались»[324], – оценил произошедшее Бердяев.
Смерть Распутина, немотря на надежды заговорщиков, ничего не изменила. Волнения, стачки, демонстрации… Забастовал Путиловский завод в северной столице. Результатом забастовки стало его закрытие 21 февраля, – тысячи рабочих оказались на улице без куска хлеба и без брони от армии. В их поддержку начались забастовки на других заводах и фабриках. К ним присоединились студенты университета. Антивоенные митинги на Невском проспекте и в рабочих районах Петрограда (город был переименован, – прежнее название казалось непатриотичным в военное время) стали перерастать в большие демонстрации под лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!» А 23 февраля (8 марта), в Международный женский день, произошли и первые стычки демонстрантов с войсками и полицией, которые еще пытались навести в городе порядок. 25 февраля началась всеобщая забастовка, в которой приняло участие около четверти миллиона человек. Петроград был объявлен на осадном положении. Но когда 26 февраля колонны демонстрантов начали двигаться к центру столицы, солдаты отказались в них стрелять. На следующий день восстание началось в самом Петроградском гарнизоне. 27 февраля командующий столичным военным округом генерал Сергей Хабалов вынужден был сообщить государю о том, что его приказ о восстановлении порядка в столице выполнить невозможно. Начался захват правительственных зданий восставшими, они арестовывали министров. Государственная Дума оказалась в трудном положении: было очевидно, что если она не присоединится к восставшим, она все равно не сможет спасти существующий строй. В этой ситуации Дума, с одной стороны, подчинилась указу государя о своем роспуске, но с другой, – создала Временный комитет во главе с М. Родзянко, в который вошли по два представителя от каждой фракции. В ночь на 28 февраля этот комитет объявил о том, что берет власть в свои руки. Одновременно был создан и Совет рабочих и солдатских депутатов. В стране начало устанавливаться двоевластие. Еще через два дня Николай II отрекся от престола. Революция стала свершившимся фактом.
Разумеется, Москва тоже не осталась в стороне. Бюллетени о петроградских событих расклеивались на столбах и, хотя официально демонстрации и митинги были запрещены, а на улицы второй столицы вывели войска, остановить революцию было уже невозможно. Демонстранты с красными бантами в петлицах запрудили переулки и улицы, они двигались к центру города, полицейские заслоны на Каменном и Яузском мостах были смяты… Бердяевы тоже вышли на улицу и направились к Манежу. Некоторое время спустя Лидия Юдифовна и ее сестра потеряли из виду Николая Александровича, – оказалось, он смог пробиться сквозь толпу к одному из офицеров, командовавшему войсками на Манежной площади, и стал убеждать его не стрелять в демонстрантов. К счастью, Бердяев не пострадал, да и войска стрелять не стали: 1-2 марта московский гарнизон тоже перешел на сторону революции. В Москве за время этих революционных событий погибло всего 8 человек, – власть перешла в руки Временного правительства практически бескровно.
Спустя время Бердяев писал, что чувствовал одиночество в февральской революции, – он действительно не принадлежал ни к каким партиям, и его отталкивал тот факт, что некоторые его знакомые готовы были занять какие-то посты в новой власти, «превращались в сановников». Разумеется, революция отрицательным образом сказалась на состоянии русских войск, – началось бегство солдат с фронта. На Бердяева и это оказало очень тяжелое впечатление: «Вероятно, тут вспыхнули во мне традиционные чувства, связанные с тем, что я принадлежу к военной семье, что мои предки были георгиевские кавалеры», – вспоминал он. Но, думаю, нотка горечи появилась позже, да и в воспоминаниях своих он реконструировал произошедшее, уже зная, чем все закончится… Судя по всему, сначала Бердяев (как большинство российской интеллигенции) встретил Февральскую революцию с радостью, как важный шаг страны к свободе. Об этом свидетельствует и письмо Аделаиды Герцык А. М. Ремизову от 16 марта 1917 года: «Мы все, и друзья наши (Гершенз<он>, Шестов, Бердяев) живем в это время, опьяненные совершающимися чудесами»[325]. Но состояние такого опьянения продержалось недолго. Позиция Бердяева по отношению к революции стала меняться уже через месяц-два, причем изменения эти стали реакцией на окружавшую его анархию, отсутствие внятной экономической и военной политики, поражения на фронтах. Он стал чувствовать «раздвоенную душу» февральской революции…
В марте в Московском художественном театре состоялось собрание московской интеллигенции, на котором присутсововали А. Белый, И. Бунин, В. Брюсов, В. Вересаев, другие. Конечно же, были и хозяева вечера, – К. Станиславский и В. Немирович-Данченко. Выступал на этом собрании и Бердяев. В своей речи он призывал к войне до победного конца. Но уже летом мысль о военном поражении России стала занимать его меньше, чем предчувствие, что революция из-за беспомощности новой власти на этом не остановится, а будет развиваться дальше. Если многие его знакомые (Андрей Белый, например) видели в А. Керенском «нового человека», а февральскую революцию считали прологом свободной жизни, то Бердяев был гораздо пессимистичнее: в Керенском он не видел лидера, который мог бы остановить процесс разложения России, а за февралем ждал периода грядущего насилия. Подобное тревожное чувство можно ощутить и в стихотворении М. Цветаевой, написанном ею 26 мая:
Из строгого, стройного храма Ты вышла на визг площадей… – Свобода! – Прекрасная Дама Маркизов и русских князей. Свершается страшная спевка, – Обедня еще впереди! – Свобода! – Гулящая девка На шалой солдатской груди!Пассивное ожидание «что будет дальше?» было абсолютно не свойственно Бердяеву. Он по натуре был человеком деятельным и активным, всегда стрался повлиять в меру сил на происходящее. И в эти месяцы между революциями он сделал немало: в еженедельниках «Народоправство» и «Русская Свобода» появились его статьи, были напечатаны брошюры «Народ и класы в русской революции» и «Возможна ли социальная революция?», он стал одним из учредителей (совместно с М. В. Родзянко, П. Б. Струве и другими) созданной в Петрограде Лиги русской культуры (существовало ее московское отделение) и даже на непродолжительное время стал членом Временного Совета Российской республики[326], – он работал там в комиссии по национальным вопросам. Да и Шестов говорил знакомым, что Бердяев «утонул» в политике… Со всей своей энергией Николай Александрович выступал против крайне левых партий (эсеров, большевиков), доказывал, что предсказания «Вех» сбываются – русская интеллигенция ведет Россию в пропасть, ругался и ссорился со своими знакомыми (М. Гершензоном, В. Ходасевичем), подозревая их в «полевении» (а Ходасевич, отвечая, упрекал его в союзе с черносотенцами!). За 10 дней до падения Временного правительства Бердяев написал в «Русской свободе»: «Традиционная история русской интеллигенции кончена… она побывала у власти, и на земле воцарился ад. Поистине русская революция имеет какую-то большую миссию, но миссию не творческую, отрицательную – она должна изобличить ложь и пустоту какой-то идеи, которой была одержима русская интеллигенция и которой она отравила русский народ»[327]. «Государственник» в душе Николая Александровича победил социалиста и певца свободы в это время.
В мае-июне Николай Александрович написал статью «Духи русской революции». Текст был написан «по горячим следам». Опубликована статья была в 1918 году в сборнике «Из глубины» (в Советской России книга была запрещено и увидела свет только в 1990 году). Сборник был задуман Струве еще весной как продолжение «Вех», название сборника шло от начальных слов первой строки 129 псалма Давида: Из глубины воззвах к Тебе, Господи! (De profundis clamavi ad te, Domine!), – его предложил Франк. Сборник готовился к печати в московской конторе журнала «Русская Мысль» на Сивцевом Вражке, и печатался в типографии Кушнерева и К. В августе 1918 года тираж был готов, но в продажу уже не поступил. Тираж пролежал на складе до 1921 года, когда о его распространении уже в совестской России и думать было нечего. К счастью, Бедяеву удалось вывезти экземпляр сборника за границу, где его переиздали, – так книга впервые стала доступна читателям.
Задачу сборника Петр Струве сформулировал в предисловии: «Сборник «Вехи», вышедший в 1909 г., был призывом и предостережением. Это предостережение, несмотря на всю вызванную им, подчас весьма яростную, реакцию и полемику, явилось на самом деле лишь робким диагнозом пороков России и слабым предчувствием той моральной и политической катастрофы, которая грозно обозначилась еще в 1905–1907 гг. и разразилась в 1917 г. Историк отметит, что русское образованное общество в своем большинстве не вняло обращенному к нему предостережению, не сознавая великой опасности, надвигавшейся на культуру и государство»[328]. В сборнике приняли участие С. А. Аскольдов, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. И. Иванов, А. С. Изгоев, С. А. Котляревский, В. Н. Муравьев, П. И. Новгородцев, И.А… Покровский, П. Б. Струве, С. Л. Франк. Как видите, если сравнить сборники «От марксизма к идеализму», «Вехи» и этот, – часть авторов участвовала в двух, а то и во всех трех изданиях. Своей статье Бердяев предпослал яркий эпиграф из Пушкина:
Сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам.Уже эпиграф подталкивал читателя к мысли, что революция – это не цель, к которой стоит стремиться, напротив, это потеря верного направления развития.
Революции, по мнению Бердяева, – вечное явление в истории человеческого общества. Они были во все времена, их нельзя «отменить». Революции никогда не бывают такими, какими должны быть, ибо «нет должной революции»[329]. Он видел в революциях прежде всего разрушение, отрицание, падение старой жизни, а не победу нового. Революции принадлежат прошлому, а не будущему. Они – итог разложения, продукт и логическое завершение прошедшей, минувшей жизни, а не заря новой. «Революции, происходящие на поверхности жизни, ничего существенного никогда не меняют и не открывают, они лишь обнаруживают болезни, таившиеся внутри народного организма, по-новому переставляют все те же элементы и являют старые образы в новых одеяниях. Революция всегда есть в значительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, знакомые лица. Новые души рождаются позже, после глубокого перерождения и осмысливания опыта революции»[330].
Такая позиция резко отличала Бердяева от многих других представителей культуры серебряного века, как принявших, так и отторгнувших революцию. Почти все они видели в революции не только крушение старого, но и зарождение нового общества – чаемого или проклинаемого, но принципиально нового. Характерен в этом смысле подход одного из самых видных теоретиков и писателей той эпохи – Андрея Белого: «Акт революции двойственен; – писал он, – он – насильственен; он – свободен; он есть смерть старых форм; он – рождение новых; но эти два проявленья – две ветки единого корня…»[331]. Похожим образом воспринимали революцию многие художники начала века (прежде всего, представители русского авангарда): этому способствовало романтическое представление о революции как о творчестве, материалом которого является не полотно, слово или звук, а сама социальная действительность. Чрезвычайно ярко это выразил В. Маяковский:
Граждане! Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде». Сегодня пересматривается миров основа. Сегодня До последней пуговицы в одежде Жизнь переделаем снова.Надо сказать, что подобное ощущение было свойственно не только футуристам, но и представителям других течений, для которых слова «художник» и «революционер» были синонимичны, так как в обоих случаях речь шла о творчестве нового. Недаром Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Минский, Ф. Сологуб, другие писатели и художники, сформировавшие облик культуры начала века, тоже причисляли себя к «революционерам», хотя и «мистическим». (После Октября их резко отрицательное, даже непримиримое, отношение к советской власти причудливым образом сочеталось с мечтой о «настоящей», «чистой», «истинной» революции, которая положит начало новому миру). Бердяев рассуждал принципиально иначе: революция – это закатная судорога старого мира, она не создает ничего нового, лишь изживание революции выводит за пределы прошлого.
В то же время, все революции не похожи, они всегда несут на себе национальный отпечаток: «Долгий исторический путь ведет к революциям, и в них открываются национальные особенности даже тогда, когда они наносят тяжелый удар национальной мощи и национальному достоинству. Каждый народ имеет свой стиль революционный, как имеет и свой стиль консервативный…. Каждый народ делает революцию с тем духовным багажом, который накопил в своем прошлом, он вносит в революцию свои грехи и пороки, но также и свою способность к жертве и к энтузиазму. Русская революция антинациональна по своему характеру, она превратила Россию в бездыханный труп. Но и в этом антинациональном ее характере отразились национальные особенности русского народа и стиль нашей несчастливой и губительной революции – русский стиль»[332]. Но разве кто-то лучше великих писателей знает народную душу? Именно в их творчестве она отразилась полне всего. Хотя эпиграф был взят из Пушкина, тем не менее, Бердяев довольно явно отсылал читателя к Достоевскому, а именно к его знаменитому роману «Бесы». Бердяев обратился к этому и другим романам писателя, потому что прозрения Достоевского имели в его глазах абсолютную ценность для понимания происходящего в России. Бердяев был уверен, что Достоевский «пророчески раскрыл все духовные основы и движущиеся пружины русской революции»[333]. Впрочем, Бердяев показал, что и в других великих произведениях литературы были раскрыты тайны русской души, а значит, и русской революции. Поэтому, чтобы понять русскую революцию, Бердяев предложил посмотреть на Россию Гоголя, Достоевского и Толстого.
Статья Бердяева содержит в себе не только интересный подход к пониманию русского характера, но может быть оценена и с литературоведческой точки зрения: в ней есть глубокие мысли о творчестве трех гигантов русской литературы. Он, например, обнаружил связь между Гоголем и живописью ХХ века, – увидел в книгах Гоголя то же расчленение живого бытия, как и в живописи Пикассо, когда вместо людей читатель видит «клочья людей», «морды и рожи». «Поистине есть в нем что-то жуткое, – писал Бердяев. – Гоголь – единственный русский писатель, в котором было чувство магизма, – он художественно передает действие темных, злых магических сил»[334]. Для Бердяева было важным, что гоголевские герои, привычно отождествляемые со старой Россией, на деле – живы и после революции, потому что «в революции раскрылась все та же старая, вечно-гоголевская Россия, нечеловеческая, полузвериная Россия харь и морд»[335]. Революционная реальность показала, что все романтические надежды и мечты о том, что после падения самодержавия «личность человеческая поднимется во весь рост» и гоголевские уродливые «клочья людей» отойдут в прошлое, оказались иллюзией. «Для Хлестаковых и Чичиковых ныне еще больший простор, чем во времена самодержавия», – констатировал с горечью Бердяев.
Достоевского же Бердяев прямо называл «пророком русской революции». Он был согласен с Достоевским, когда тот рассматривал русский социализм как явление, вытекающее из религиозного по существу вопроса – есть ли Бог или нет. Для русского человека вопрос об осуществимости социализма – не экономический и не политический, а религиозный вопрос, логическое следствие нигилизма и атеизма. Если Бога нет, то социализм мыслился как царство Божие на земле, как решение вопроса о судьбах человечества. Бердяеву была близка такая интерпретация русского социализма, она перекликалась и с его диагнозом болезни революционной интеллигенции, поставленным в «Вехах», и с его анализом русского коммунизма как объекта веры в более поздней книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Бердяева и Достоевского объединяло рассмотрение социализма как религии, противоположной христианству: «Религия социализма вслед за Великим Инквизитором принимает все три искушения, отвергнутые Христом в пустыне во имя свободы человеческого духа. Религия социализма принимает соблазн превращения камней в хлеб, соблазн социального чуда, соблазн царства этого мира»[336], – писал Бердяев и предостергал от торжества шигалевщины и смердяковщины.
Иначе он увидел роль идей Толстого в революции. Бердяев считал, что Толстой не мог предвидеть революционного пожара, он не был пророком, Бердяев называл Толстого (вслед за Мережковским) певцом кристаллизованного прошлого, ставшего. Тем не менее, Николай Александрович был уверен, что в русской революции нашлось место если не для художественных прозрений Толстого, то для его моральных оценок. Более того, он считал, что в разразившейся катастрофе реально воплотились многие идеи яснополянского старца. Бердяев был поклонником Толстого-писателя, но не был сторонником толстовства. Он писал про учение Толстого: «Жизнь личности не представляется ему истинной, божественной жизнью, это – ложная жизнь этого мира… Только полное уничтожение всякого личного и разнокачественного бытия в безликой и бескачественной всеобщности представляется Толстому выполнением закона Хозяина жизни… Толстой был максималистом… Это толстовский максимализм осуществляется в русской революции – она движется истребляющей моралью максимализма»[337]. Разумеется, Бердяев понимал, что Толстой, сторонник непротивления злу силою, вряд ли бы одобрил происходящее в революционной России. Но толстовство выразило типические черты морали значительной части революционной интеллигенции (и отчасти сформировало эту мораль): презрение к культуре, веру в безличные силы, творящие историю («роевая жизнь»), отрицание роли личности, анархизм, идеализация простого народа и т. п. Бердяев сравнивал влияние Толстого на русскую революцию с влиянием Руссо на революцию французскую: Руссо тоже вряд ли бы одобрил жестокости Робеспьера, но, тем не менее, идеологически он был одним из тех, кто сделал эти жестокости возможными. Конечно, Бердяев счел нужным подчеркнуть, что Толстого (как и Руссо) нельзя обвинять в таком воплощении их идей. Бердяев искал не виноватых, он искал истоки, те чистые ключи и родники, из которых потом образовались мутные реки насилия и уравнительности.
В творчестве трех гениальных российских писателей нашли своеобразное отражение разрушительные революционные процессы, которые, казалось, трудно было предвидеть заранее. Тем не менее, Бердяев был уверен, что в революции проявились те типичные черты национального характера, которые были загодя замечены русской литературой. В революции отразились глубины русского духа. Вывод Бердяева был достаточно важен, поскольку именно тогда среди многих публицистов, не принявших перемен, начало зарождаться существовавшее долгие годы мнение, что революция – случайность, что она не была связана с прошлым развитием России, что в ней проявились чуждые русскому народу черты, что она не укоренена в национальном характере и истории. Бердяев же был убежден, что существует внутренняя неизбежность для России пройти через опыт революционных потрясений. Но надежда на то, этот опыт – не надолго, у Николая Александровича еще была: «русский народ низко пал, но в нем скрыты великие возможности и ему могут раскрыться великие дали»[338], причем дали эти были связаны для него с христианским сознанием.
В семейной жизни Бердяева тоже произошли значительные перемены: 7 июня 1917 года Лидия перешла в католичество. Конечно, такой духовный переворот зрел в ней довольно долго, но поводом послужила тяжелая болезнь (Лидия Юдифовна заболела воспалением легких): она рассказывала о мистическом видении св. Терезы, которая указала ей религиозный путь. Лежа в постели с температурой, не высыпаясь по ночам из-за сильного кашля, она стала читать книгу св. Терезы – причем с большим трудом, так как издана она была на старофранзуцком языке. Эта книга ее потрясла. После ее прочтения, следуя просьбе жены, Бердяев познакомил Лидию с отцом Владимиром Абрикосовым – католическим священником, с которым он не раз встречался у знакомых. Немного поправившись, Лидия Юдифовна отправилась на обедню в католический храм отца Владимира на Пречистенском бульваре. Впечатление от этого посещения были огромны: эмоциональная Лидия сравнивала дух молившихся там с духом первохристиан. Убеждение стать католичкой после этого только окрепло. Бердяев не стал препятствовать жене: в их отношениях всегда царил дух свободы, они не навязывали друг другу своих точек зрения, позиций, интересов, мнений. Не думаю, что Бердяев привествовал переход жены в другую конфессию, но в своем письме Э. Голлербаху как будто уговаривал сам себя не расстраиваться из-за произошедшей перемены, писал: «Мне дорого в католичестве то, что оно дисциплинирует душу, превращает ее в крепость. Вообще у меня ведь есть очень глубокие и природные католические симпатии. Это имейте в виду. Я всегда горевал, что в России не было рыцарства. Рыцарство же родилось на католической духовной почве. Вся моя эстетика – латинская. И по складу моей природы в моей эстетике преобладает элемент живописно-пластический над музыкальным»[339]. Не думаю, что «эстетика» у Николая Александровича на самом деле была «латинской» – слишком уж он был эмоционален и не рассудочен в своих сочинениях, слишком личностен и не логичен, но тогда ему явно хотелось найти ниточки, связывающие его с новой жизнью жены…
После своего обращения Лидия Юдифовна пережила период яростного католического фанатизма, совсем не близкого Николаю Александровичу. Б. Зайцев вспоминал фразу, брошенную Лидией однажды ему и его жене: «Я за догмат непорочного зачатия на смерть пойду!» Но со временем ревность неофитки стала ослабевать. Впрочем, сильная религиозность и миссионерский запал в ней остались навсегда. В быту Лидия стала придерживаться строгих правил доминиканских монахинь. С этого момента платонический характер ее брака с Бердяевым уже не вызывает никаких сомнений. Сохранилось свидетельство Евгении Герцык об отношении Бердяева к католичеству жены: «Пламенный в споре, воинствующий, Бердяев не давил чужой свободы… Насколько он умел быть терпимым, мириться с чужой правдой, показывает то, как он принял… переход жены в католичество, – и не это одно, а вступление ее в Доминиканский орден с подчинением всей жизни строжайшему уставу. Глубоко расходясь с идеологией и практикой католичества…, Бердяев по-настоящему уважал верования жены, не отдалялся от нее и терпеливо сносил все домашние неудобства, все нарушения часов вставания, обеда и т. д. Он писал мне: «У Лили свой особый путь. Католичество ей много дало. Но у меня очень ухудшилось отношение к католичеству, более близкое знакомство с ним меня очень оттолкнуло»[340].
До нас дошли письма этого времени (1817-1918 годы), написанные Бердяевым Эриху Федоровичу Голлербаху – искусствоведу, поэту, философу. Они интересны тем, что Бердяев сообщает в них сведения о себе, – Голлербах собирался писать о Бердяеве. Вот что Бердяев говорил о своей духовной эволюции: «Моя внутренняя, духовная биография характеризуется несколькими кризисами. Первый кризис я пережил, когда мне было около 16 лет. Я начал искать смысл жизни. Я очень рано начал читать философские книги и вообще был раннего развития. Основное влияние на мою жизнь оказал Достоевский и он же навсегда остался моим любимым писателем. Из западных писателей большое значение для меня имели Шопенгауер, Гете и Карлейль. Следующий кризис пережил я, когда мне было около 25 лет. Я вернулся от социальных учений, которыми одно время увлекся, на свою духовную родину, к философии, религии, искусству. В это время для меня имели большое значение Ницше и Ибсен. Самым серьезным кризисом своей жизни я считаю кризис 1905 г., когда я окончательно сделался христианином. В 1908 г. я с особой остротой пережил жизнь Церкви. Наконец, последним кризисом был кризис 1912 г., после которого я написал «Смысл творчества»[341]. Конечно, человек, который рассказывает о себе, не может быть объективен; неточности, ошибки, тенденционзность всегда неизбежны. Обращение к христианству, судя по всему, произошло у Бердяева позже, чем он упомянул в письме; он не указал среди мыслителей, оказавших на него несомненное воздействие, Канта и Беме; здесь не идет речь и о влиянии его современников – Л. Шестова, Д. Мережковского, С. Булгакова, которое тоже было очень значительным. Но рефлексия по поводу собственного творчества все равно чрезвычайно интересна, еще и потому, что Бердяев написал о своих работах – только что написанных и планируемых: «За последние годы мной кончены книга «Философия неравенства. Письма к недругам» и монография «К. Н. Леонтьев», но еще не напечатаны. Сейчас задумано мной две книги – по философии истории и о Я. Беме»[342]. Книга о Беме так и не была им написана, но показательно намерение, – оно свидетельствует о серьезном воздействии Беме на творчество самого Бердяева.
12. Жизнь в стране советов
С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.
– Представление окончилось.
Публика встала.
– Пора одевать шубы и возвращаться домой.
Оглянулись.
Но ни шуб, ни домов не оказалось.
В. РозановБердяев предсказывал продолжение революции, поэтому, когда так и произошло, он воспринял происходящее спокойно. Он уже успел обдумать случившееся, уже пережил потрясение, осмыслил его. Поэтому во время октябрьских событий он не ходил с демонстрациями по городу, – да и ходить было нельзя: в Москве стреляли не только из винтовок и маузеров, но и из пушек. Один из снарядов разорвался во дворе дома, где жили Бердяевы, а Евгения Рапп описывала случай, когда в кабинет Бердяева залетела граната, которую затем извлекли из-под его дивана неразорвавшейся. К счастью, никто не пострадал. Но в Москве происходили страшные вещи.
25 октября (7 ноября) в Петрограде было свергнуто Временное правительство, и к власти пришло правительство, сформированное II Съездом Советов, большинство в котором незадолго до революции получила партия большевиков. Как только об этом узнали большевики в Москве, они тоже начали действовать: уже вечером 25 октября пленум Московских советов рабочих и солдатских депутатов, заседавший в Политехническом музее, избрал Военно-революционный комитет (ВРК) для руководства восстанием в Москве. Но, в отличие от Петрограда, в Москве события приняли гораздо более затяжной и кровавый характер. Прежде всего, это было связано с тем, что в Москве находилось достаточно много военных, поддерживавших власть: юнкера Александровского и Алексеевского военных училищ и шести школ прапорщиков, силы штаба округа и другие. Их было в полтора раза меньше, чем подчинявшихся ВРК сил, но они были гораздо лучше обучены и вооружены, поэтому бои в Москве приняли позиционный характер: строились баррикады, на улицах рылись окопы, использовалась артиллерия. Вооружение восставших происходило главным образом путем захвата оружия у городовых и в полицейских участках; военные арсеналы и склады охранялись и оставались в течение нескольких дней нетронутыми. Правда, большевики, заранее готовясь к востанию, организовали производство ручных гранат и бомб на заводе Михельсона.
Главной целью восставших был Кремль. В ночь на 26 октября ВРК стянул к Кремлю перешедших на их сторону солдат, туда же утром подъехали грузовики с плохо вооруженными рабочими. План был таков: вывезти из кремлевских арсеналов оружие и раздать его рабочим. Вывезти удалось совсем немного, – Кремль собиралась защищать и другая сторона, поэтому в это же самое время юнкера заняли Манеж и кольцом окружили кремлевские стены. Получилось что-то вроде слоеного пирога: в Кремле были «красные», сразу за ним – «белые», наружную сторону круга пытались выстроить опять «красные», а с фронта к Москве двигались «белые» войска. Профессиональные опыт и знания, а также отсутствие связи у находившихся в Кремле большевиков с внешним миром, помогли «белым» войти в Кремль и разоружить находившихся там рабочих и солдат. Командующий ротой 6-й школы прапорщиков потребовал от засевших в Кремле солдат 56-го полка сдать оружие, и они сначала подчинились. Но когда солдаты увидели, что в Кремль вошли всего две роты юнкеров, они сделали попытку снова овладеть оружием. Им это не удалось, и часть солдат, подчиняющихся ВРК, покинула кремлевские стены, – ин не арестовывали, не задерживали, просто отпустили. Удерживая в руках центр города, «белые» предъявили ультиматум об упразднении ВРК, немедленном выводе из Кремля оставшихся там «красных» и возврате всего «реквизированного» оружия. Срок ультиматума – 15 минут! Ультиматум не был принят ВРК, и началась настоящая война. Первые столкновения произошли прямо на Красной площади…
Верные правительству войска смогли создать в центре города несколько опорных точек, чтобы держать оборону против восставших: Кремль, Александровское училище на Знаменке (ныне – одно из зданий Министерства обороны; мощные стены этого здания оказались практически неприступными для большевиков), гостиницы «Националь» и «Метрополь», здание городской управы и другие. Юнкера смогли занять Арбат, Поварскую и Тверскую улицы, часть Мясницкой. Ожесточенные бои шли на Остоженке и Пречистенке, в Лефортово, у Никитских ворот. Вот тогда и появились окопы и баррикады, а большевики стали обстреливать здания, занятые «белыми», из пушек. Апофеозом была установка орудий на Швивой горке и в Китай-городе для обстрела Кремля – символического сердца страны. Орудия, установленные на Никольской улице, вели огонь прямой наводкой по Никольским воротам Кремля… Городской голова (бывший эсер) обратился в ВРК с просьбой прекратить обстрел, «белые» были готовы покинуть Кремль, чтобы не подвергать его разрушению. Вечером 2 ноября договор о капитуляции был подписан, но приказ о прекращении огня ВРК отдал только спустя пять часов, а фактически боевые действия продолжались всю ночь. На рассвете 3 ноября революционные части вошли в Кремль, и в Москве установилась новая власть.
Бердяев, конечно, не мог остаться равнодушным к разрушениям Кремля, к кровопролитию на улицах, но он почти не выходил из дому и пытался работать. Такое поведение объяснялось, думаю, резким неприятием происходящего: эскалация насилия, которую он сам предсказывал несколько месяцев назад, его отвращала. Сначала Николай Александрович (как и многие его современники) надеялся, что власть большевиков – не прочна, является временной, что такие крайние формы российская революция все же не примет. Достаточно скоро он понял, что ошибался, и тогда занял позицию принципиального неучастия в политической жизни. Новая власть вызывала у него отталкивание и неприятие («изначально я воспринял моральное уродство большевиков. Для меня их образ был неприемлем и эстетически, и этически»[343]), впрочем, как и борьба против нее с помощью тех же средств, что использовались побеживашей стороной. Николай Александрович предпочел уйти в головой в работу.
Такую позицию большинство людей его круга не разделяли. А. Белый и А. Блок, например, готовы были поверить, что после октябрьского переворота Россия и весь мир стоят на пороге вселенских перемен. Оба поэта восприняли произошедшее как «скифскую» стихию, сметающую прогнившую и обветшавшую цивилизацию мещанско-буржуазного Запада, сотворение новой России, совершающееся согласно Божьей воле. Этому посвящены поэмы, написанные почти одновременно в 1918 году – «Двенадцать» Блока и «Христос Воскрес» Белого. (Впрочем, Блок очень скоро избавился от иллюзий, написав, что «вошь победила весь свет»,[344] – он ощутил болезненный разрыв своих идеалов с реальным ходом событий). Чета Мережковских, напротив, была активна и удивительно последовательна в своем неприятии коммунизма и большевизма, они вопринимали октябрьский переворот как предательство февральского шага к свободе. Соответственно, Мережковские считали, что все средства хороши для того, чтобы повернуть историю вспять (позднее они поддерживали идею иностранной интервенции в Россию для свержения власти большевиков). У З. Гиппиус есть строки, чрезвычайно точно передающие их ощущение случившегося:
Блевотина войны – октябрьское веселье! От этого зловонного вина Как было омерзительно твое похмелье О бедная, о грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду, Каким кошмарным обуянный сном, Народ, безумствуя, убил свою свободу, И даже не убил – засек кнутом? Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, Смеются пушки, разевая рты… И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, Народ, не уважающий святынь![345]Бердяев тоже понимал, что революция в России выросла из войны. Ее не готовили ни большевики, ни эсеры, она явилась как результат саморазложения монархии. Но выросла она и из тех идей и течений российского общества, которым он сам когда-то отдал дань. Отношение Бердяева к революции было очень своеобразным: «Я пережил русскую революцию как момент моей собственной судьбы, а не как что-то извне мне навязанное. Эта революция произошла со мной, хотя бы я относился к ней очень критически и негодовал против ее злых проявлений. Мне глубоко антипатична точка зрения…, согласно которой большевистская революция сделана какими-то злодейскими силами… Ответственны за революцию все, и более всего ответственны реакционные силы старого режима. Я давно считал революцию в России неизбежной и справедливой. Но… я давно предвидел, что в революции будет истреблена свобода и что победят в ней экстремистские и враждебные культуре и духу элементы»[346].
Сознательная отстраненность Бердяева от политики после октябрьских событий представляла собой резкий контраст с его активностью в этой сфере после свободолюбивого февраля. Это была позиция, которой Николай Александрович сознательно придерживался. Поэтому он разорвал отношения с теми из своих знакомых, кто «пошел во власть». Революция, конечно, не лишена была романтизма для тех, кто ее делал, но очень скоро под лозунгами справедливого социального устройства началось не только анархическое разложение экономики и общества, но и передел власти. Из гонимых и преследумых некоторые бывшие революционеры превратились в высокопоставленных чиновников, от которых зависела жизнь людей. Бердяев писал, что в результате революции появился новый «антропологический тип» – жесткий, наступательно активный, абсолютно уверенный в своей правоте. От былой «расплывчатости» русских интеллигентов не осталось и следа… Бердяев с изумлением наблюдал за такими превращениями и, к его чести, никогда не обращался к новым сановникам ни с какими личными просьбами, хотя многие из них были знакомы ему еще с революционной юности (Луначарский, Коллонтай, Каменев). Он даже прекратил личное общение с М. Гершензоном и Вяч. Ивановым. Дело в том, что Гершензон стал одним из руководителей театрального и литературного отделов Наркомпроса, а Иванов растерялся и на некоторое время взял очень левый камертон, «принимал» революцию и даже утверждал, что он левее большевиков, так как стоит за «революцию Духа». В 1918 году Иванов стал председателем Бюро историко-теоретической секции Театрального отдела Наркомпроса. Впрочем, он рано понял, что лучше не дожидаться этой самой «революции Духа» в России, и стал хлопотать об официальном разрешении на выезд (даже сонет посвятил какой-то ответственной работнице Нарокмпроса, от которой зависело это разрешение). Такое поведение для Бердяева было неприемлемо. Впрочем, о разрыве с Гершензоном он позднее сожалел, а в то время, увидев в поведении знакомых соглашательство и приспособление к новым условиям, общения с ними избегал.
Но и не принимая власть, надо было жить. Ненавистный Бердяеву быт давал о себе знать. Хотя квартира во Власьевском стала для него островком независимости в бурном море военного коммунизма, тем не менее, ежедневно перед ним вставала проблема хлеба насущного. «Одно время жизнь была полуголодная, но всякая еда казалась более вкусной, чем в годы обилия. Я оставался жить в нашей квартире с фамильной мебелью, с портретами на стенах моих предков, генералов в лентах, в звездах, с георгиевскими крестами. Мой кабинет и моя библиотека оставались нетронутыми, что имело для меня огромное значение. Хотя я относился довольно непримиримо к советской власти и не хотел с ней иметь никакого дела, но я имел охранные грамоты, охранявшие нашу квартиру и мою библиотеку. В коммунистической стране разного рода бумажки имели священное значение…»[347]. В 1919 году Советской властью было принято решение о выдаче пайка наиболее выдающимся деятелям культуры, и Бердяев попал в их число. До конца жизни он так и не узнал, благодаря кому или чему его фамилия оказалась в списке, но это не только дало возможность не ездить в теплушках за продуктами в деревню, но и спасло от «уплотнения» – к Бердяевым никого не подселили. Раз в месяц ученые, писатели, философы, юристы, члены их семей, зимой – с санками, приходили на Воздвиженку, томительно стояли в длинной очереди, а затем везли домой выданные сокровища – крупу, сахар, селедку, спички, муку, чтобы растянуть это богатство до следующей выдачи пайка. В остальном – он жил такой же жизнью, как и тысячи московских «буржуев»: чистил снег на улицах в виде обязательной трудовой повинности, ездил за город для «физических работ» (к которым был совсем не приспособлен), выменивал дрова и еду на немногие оставшиеся фамильные ценности. Писатель Михаил Осоргин, вспоминая это голодное время, писал: «…мы, жители столицы, видели в неспокойных снах, будто горстями едим сахар и ломтями малороссийское сало; проснувшись, заедали горячий настой брусничного листа черным хлебом с привкусом пыли и плесени»[348]. В квартире Бердяевых появилась «буржуйка», поскольку работавшая ранее кафельная печь была слишком не экономна, – но и «буржуйку» иногда приходилось топить мебелью, так как дрова были очень дороги, «чай» пили из березовой коры, пирожки пекли из моркови, но Бердяев продолжал не только много работать, но и принимать гостей.
Зимой возобновились встречи по вторникам в квартире Бердяева во Власьевском переулке. Они стали продолжением традиции религиозно-философских обществ. За чайным столом собирались люди, для которых возможность свободно говорить, обсуждать интересующие их философские вопросы была едва ли не важнейшим условием существования. Федор Степун, часто бывший у Бердяевых, писал, что для приходивших во Власьевский людей свобода мысли была такой же неотъемлемой потребностью как сон и еда. Собиралось по 20-25 человек! Евгения Рапп, которая практически вела дом (Лидия Юдифовна всегда была неприспособлена к хозяйственным хлопотам), вспоминала, как люди сидели за столом с керосиновой лампой, в полушубках, пальто и валенках, так как в квартире было очень холодно, а печка не столько топила, сколько дымила. Традицией было обязательное «чаепитие» (хотя чаем, после анализа входящих в него ингридиентов, подаваемый напиток назвать было трудно) со знаменитым «тортом». «Торт» сначала делался из ржаной муки, потом из моркови, картошки, а затем уже и из картофельной шелухи… «Торт из ничего» окрестил это произведение кулинарного искусства Евгении Юдифовны Бердяев.
Именно из этих камерных встреч выросла затем Вольная академия духовной культуры (ВАДК), председателем которой стал ее основатель – Бердяев. Официально она была зарегистирирована в Московском Совете 6 сентября 1919 года. Предоставленный для регистрации Устав ВАДК так определял цели объединения: «Общество под названием «Вольная академия духовной культуры» имеет целью изучение духовной культуры во всех ее проявлениях и формах в области научного, философского, этического, художественного и религиозного творчества и мысли». Для осуществления этой цели Устав ВАДК предусматривал организацию лекций и собраний, библиотек, читален и других вспомогательных учреждений, издание книг, брошюр и периодических изданий. Не все перечисленное в уставе воплотилось в реальности, но ВАДК стала заметным явлениям культурной жизни тех лет, ее знали, о ней говорили, на ее заседания собиралась иногда не одна сотня слушателей и участников. В деятельности ВАДК принимали активное участие А. Белый, Вяч. Иванов, С. Франк, Б. Вышеславцев, Ф. Степун, другие знакомые и коллеги Николая Александровича.
Удивительно, но в это время замершая было интеллектуальная жизнь стала набирать обороты. В 1918 году ожило Психологическое общество при Московском университете под председательством неолейбницианца Л. М. Лопатина. В Петрограде возникла Вольная философская ассоциация (Вольфила), созданная в 1919 году по инициативе Р. В. Иванова-Разумника, А. Белого и других членов редколлегии сборников «Скифы»[349]. Среди членов-учредителей были А. Блок, В. Э. Мейерхольд, Н. О. Лосский, Л. П. Карсавин и другие выдающиеся деятели культуры; Вольфила объединяла писателей, поэтов, художников, философов самых разных направлений – от марксизма до антропософии. Тогда же в Петрограде возродилось Социологическое общество под руководством Н. И. Кареева и при активном сотрудничестве П. А. Сорокина. Там же, в северной столице, открылся удивляющий до сих подбором преподавателей (Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, С. М. Бонди, Н. С. Гумилев, другие) Институт живого слова. Сегодня трудно понять: как это могло произойти? Можно отчасти объяснить, почему власть разрешила деятельность Вольфилы, – среди интеллигенции «скифы» оказались в числе немногих, принявших Октябрьскую революцию и настроенных на первых порах лояльно по отношению к взятому большевиками курсу. Но все остальные организации и объединения явно не были созданы для идеологической поддержки большевиков. Такая активность в годы большевистской диктатуры кажется удивительной и парадоксальной. Объяснение здесь возможно лишь одно: советская власть сталкивалась в те годы с другими и гораздо более серьезными проблемами – экономическими, политическими, военными (Добровольческая армия подступала к Москве), благодаря чему вопросы идеологической борьбы на некоторое время отошли на второй план. Сыграла свою роль и дореволюционная традиция напряженной духовной жизни в относительно свободном обществе, где присутствовали обмен идеями, диалог, плюрализм мнений. По инерции такое положение дел существовало несколько лет после революции: в Петербурге и Москве функционировали десятки небольших издательств, даже начинающие авторы с легкостью могли издать книгу за свой счет, минуя не только государственную цензуру, но и редакторскую. Но постепенно ситуация менялась: государство стало осуществлять чрезвычайно жесткий контроль за печатной продукцией, частные издательства были ликвидированы, для опубликования любой работы требовалось одобрение цензурного комитета. Параллельно этому усиливался контроль за высшими учебными заведениями, хотя здесь остатки былой свободы сохранялись дольше. (Согласно вековой российской традиции университеты всегда были рассадниками оппозиционного свободомыслия, и хотя после революции «политическая грамотность» требовалась от каждого студента и преподавателя, здесь чаще, чем где-либо, встречались оригинально мыслящие профессора и свободно думающие студенты).
Поэтому создание ВАДК удивительно, но объяснимо. Академия просуществовала вплоть до высылки Бердяева в 1922 году. После регистрации ВАДК вышла на «широкий простор» – устраивались публичные лекции, проводились семинары. Со слушателей собирались небольшие взносы на аренду помещений. В ВАДК читали курсы лекций А. Белый («Философия духовной культуры»), П. Муратов («Искусство Ренессанса»), С. Франк («Введение в философию»), Ф. Степун («Жизнь и творчество»), В. Вышеславцев («Этика»), священник В. Абрикосов («Этапы мистического пути»), В. Иванов («Греческая религия») и, разумеется, сам Бердяев («Философия религии» и «Философия культуры»). Как правило, чтение докладов устраивали в помещении Высших женских курсов, лекции же и семинары проводились в разных местах, – однажды бердяевская лекция состоялась в помещении Центроспирта! Кроме лекций, Бердяев вел семинар о Достоевском. С 1920 года кроме курсов лекций, два раза в месяц устраивались доклады с публичными прениями. Иногда аудитория, рассчитанная на 300 человек, не могла вместить всех желающих, люди стояли в проходах, и это при том, что объявления в газетах не давались! Некоторые доклады приходилось повторять дважды. Кстати, выступали с докладами в ВАДК и известный философ А. Ф. Лосев, и литературовед Ю. И. Айхенвальд. Несколько раз Академия устраивала публичные лекции в Политехническом музее, – там уже присутствовало более тысячи человек, в том числе, много рабочих, красноармейцев, матросов. Такие многолюдные лекции прочитали в рамках ВАДК Айхенвальд, Бердяев, Белый, Гершензон, Степун. Бердяев вспоминал, как читал в Политехническом музее лекцию на тему «Наука и религия». После лекции публика попросила открыть прения. Бердяев, понимавший, что в зале находятся доносчики и чекисты, сказал:
– Лекция разрешена властями без прений.
Тогда стоявший за его спиной «субъект не очень приятного вида» объявил аудитории:
– От Всероссийской чрезвычайной комиссии объявляю прения открытыми!
Наверняка о позиции Бердяева на таких выступлениях докладывали «куда полагается», – ведь Бердяев откровенно излагал свои взгляды, которые вряд ли могли удовлетворить тех слушателей, что пришли, чтобы услышать, как опровергают «доказательства против веры в Бога» (так заявил Бердяеву один из слушателей его лекции о цели своего прихода). Но неприятности с властями еще были впереди, тогда же Бердяев радовался, что у слушателей, даже при довольно низком интеллектуальном уровне, имелся огромный интерес к философским вопросам. ВАДК стала немарксистким духовным центром, она продолжала традиции серебряного века русской культуры. Никакой политики не было, речь шла о философии истории, этике, религии и философии культуры. Заинтересованность слушателей была так высока, что в 1922 году, по их просьбе, для более систематического обучения при Академии был организован философско-гуманитарный факультет, деканом которого стал С. Франк. К сожалению, это случилось уже непосредственно перед закрытием ВАДК…
В это же время Бердяев написал еще одну работу, чрезвычайно важную для понимания его отношения к социализму, – «Философия неравенства. Письма к недругам о социальной философии» (написана летом 1918 года, издана в Берлине в 1923 году). Сам Бердяев в конце жизни не очень любил эту книгу, считал ее «совершенно эмоциональной», видел в ней лишь бурную реакцию против революционных преобразований. Тем не менее, «Философия неравенства» была в своем роде знаковой работой. Эта книга стала философским обоснованием права на неравенство: «Всякое творческое движение есть возникновение неравенства, возвышение, выделение качеств из бескачественной массы. Само богорождение есть извечное неравенство. От неравенства родился и мир, космос. От неравенства родился и человек… Насильственное требование уравнения… есть посягательство на разрушение космического иерархического строя»[350]. Книга была резкой критикой уравнительного социализма.
Бердяев был убежден, что без иерархизма, без аристократического начала невозможна духовная жизнь. «Бытие личности предполагает различия и дистанции, формы и границы»[351], значит, попытки революции уничтожить все дистанции и различия глубоко враждебны личности. Бердяев не сомневался, что аристократия, как управление и господство лучших, является высшим принципом общественной жизни, «единственной достойной человека утопией»[352]. Разумеется, философ имел в виду не наследственную аристократию, а духовную. В этом смысле, даже демократия, требования которой стали общепринятыми в наш век, может рассматриваться как первый шаг, условие для качественного отбора и выделения аристократии. Таким образом, написав эту книгу, Бердяев не только как бы «проговорил» свою позицию по отношению к практике революционных преобразований в России, но и предложил свою версию «теории элит».
Энергии Бердяева в эти годы можно позавидовать. Он много работал и в правлении Всероссийского Союза писателей, около года исполняя обязанности его председателя. Официально постоянного председателя решили не выбирать «из политических соображений», поэтому Николай Александрович его замещал. Бердяев стоял у истоков этой организации и вспоминал забавный эпизод, связанный с ее рождением: когда Союз надо было зарегистрировать в Моссовете, оказалось, что нет категории работников, к которой можно было бы отнести писателей. Поэтому Союз писателей был зарегистрирован по разделу «типографские рабочие»! Союз организовал библиотеку для молодежи, а затем и Книжную лавку писателей, через которую, кстати, и давались объявления о планируемых в ВАДК докладах и лекциях. Здесь Бердяев тоже работал, и активно, – лавка писателей давала ему необходимый заработок. По сути, это был комиссионный магазин в Леонтьевской переулке, где продавались книги. Первоначальный капитал составился из взносов «пайщиков» – писателей П. Муратова, М. Осоргина, В. Ходасевича и других. Зарегестрировать лавку было практически невозможно: бизнес был не в почете у новых властей. Сначала власти лавку не замечали, – она была придатком Союза, существовала в его тени, а потом на помощь пришел знакомый резчик по дереву, который за небольшую мзду вырезал лавке необходимые печати. Бердяев работал в лавке продавцом, но затем был принят и в «учредители» – после выхода двух пайщиков. Осоргин вспоминал: «…оказались у нас за прилавком представители художественного слова, философии, истории, истории литературы, искусств, публицистики и, прежде всего, книголюбия и книговедения. Соответственно распределялись и роли, хотя не строго. Б. Зайцев по части литературы русской;…Н. Бердяев держался поближе к полкам философским; Б. Грифцов аккуратно расставлял томики в иностранном отделе…»[353]. Постепенно лавка стала одним из центров московской интеллектуальной жизни. «Мы не просто скупали и перепродавали старую книгу, мы священодействовали, спасли книгу от гибели и разрушения, подбирали в целое разбитые томики, создавали библиотеки…»[354], – вспоминал Осоргин. Он же писал, что с Зайцевым и Бердяевым никто не смог бы сравниться в «купеческой бесталанности» и «деловой неосведомленности», зато они привлекали покупателей знанием книг, умением поговорить с ним на интересующие их темы, – а многие и приходили в лавку, как в клуб, не для покупок, а для обмена мнениями. Все работавшие в лавке выполняли обязанности не только консультантов и продавцов, но и вытирали пыль, таскали ящики с книгами, мыли пол, кололи дрова, топили буржуйку. Кроме того, в том же доме, где находилась лавка, удалось снять несколько комнат, в которых проходила подготовительная работа: там хранились скупленные книги, производилась подборка собраний сочинений из разрозненных томов, составлялись библиографии. Осоргин рассказывал о «старых профессорах, носивших сначала ненужное, затем ценное из своих библиотек, затем оставшийся дешевый хлам… О дамах, тащивших нам французские романы, о детях, расстававшихся с литературой своего детства, о коллекционерах, книжка за книжкой отдававших все, что составляло смысл их жизни, о букинистах, приходивших подышать знакомым воздухом, о нуворишах, скупавших у нас «валютную» книгу, влагавших в нее терявшие цену деньги, о рабочих, закупавших для клуба, о знатоках, перебиравших любовно листочки найденной редкости, об упрямом интеллигенте, пытавшемся жить духовной пищей, когда все интересы сводились к фунту муки и десятку советских селедок…. И было очень много таких, которые проходили просто поговорить – о философии, о литературе, об искусстве»[355].
Основную выручку лавке давали, конечно, не индивидуальные покупатели, а организации – лавка подбирала книги для создаваемых при клубах и различных организациях библиотек. Конкурентов у нее было мало: книжная торговля, поставленная под контроль государства, развалилась, поэтому лавка приносила очень хорошую прибыль, хотя за книги очень часто брали не деньгами, а продуктами – мукой, крупой, а то и мылом. Полученный «навар» честно делился между пайщиками, который имели право и на «книжный паек» – они могли взять часть поступивших в лавку книг вместо дивидендов, положенных учредителям. Интересно, что Книжная лавка торговала и совсем необычными произведениями, – изданными в одном-двум экземплярах самими авторами. В витрине можно было увидеть исписанные от руки тетрадки, иногда с рисунками, которые пользовались большим успехом у любителей автографов.
В 1921 году был момент, когда организатор и душа лавки, Михаил Осоргин, а также Борис Зайцев, Павел Муратов и другие писатели были арестованы и попали в тюрьму за свое участие в общественном комитете помощи голодающим и больным (Помгол). Это поразительная история заслуживает хотя бы немногословного рассказа. Поволжье и другие области России голодали: вымирали целые семьи, участились случаи людоедства, в еду шли не только белки и лягушки, но и земляные черви, сверчки, даже «жирная» глина. Правительство не могло справиться с голодом. Тогда оно дало разрешение на организацию общественного комитета (с участием и нескольких членов правительства). Комитет буквально в несколько дней организовал отправку поездов картофеля и ржи в голодающие губернии, в адрес комитета потекли пожертвования даже от бойцов Красной армии и милиции. Получилось, что общественному комитету, не обладающему никакой формальной властью и опиравшемуся только на нравственный авторитет, доверяли больше, чем официальным органам! Этого правительство, конечно, допустить не могло. На последнее заседание Помгола народный комиссар Каменев и другие члены правительства не пришли: они знали, что всех членов комитета арестуют. Так и произошло: их всех свезли на Лубянку – за то, что у них получилось слишком хорошо спасать от смерти голодающих людей. Среди членов Помгола были и писатели… Зайцева и Муратова вскоре освободили, а вот Осоргину грозил расстрел. Тогда Бердяев и еще один член правления Союза писателей (к сожалению, неизвестно – кто именно) пошли к М. И. Калинину – хлопотать об освобождении товарища. Вряд ли эти хлопоты были очень успешными, гораздо большее значение имело вмешательство в эту трагическую историю известного норвежского полярного иследователя Ф. Нансена, который занимал видный пост в Лиге наций: Осоргина тогда сослали, но ненадолго, – видимо, решив, что он для власти не опасен. Скоро Осоргин опять был на своем месте в лавке писателей.
Бердяев приходил в лавку в костюме с бантом, но в валенках (было очень холодно, печку топили чрезвычайно экономно), и мог прочитать целую лекцию потенциальному покупателю, порой мало относящуюся к самому факту книжной торговли. Осоргин в воспоминаниях приводил забавный пример общения Николая Александровича с покупателем:
– У Вас есть сочинения Ницше?
– А вы хотите на немецком или на русском языке?
– Лучше по-русски…
– Русских изданий существует несколько, хуже других – издание Клюкина… – И дальше шел тщательный разбор всех недостатков этого издания.
– Нет, мне нужно хорошее издание.
– У других изданий тоже есть недостатки, – и Бердяев подробно рассматривал все плюсы и минусы известных ему изданий Ницше. Покупатель с почтением слушал философа, и затем они вместе приходили к выводу, какое издание ему подойдет больше всего. Тогда Николай Александрович вздыхал и говорил:
– К сожалению, у нас нет этого издания.
Покупатель был обескуражен, но не сдавался и просил другое издание, похуже.
– Но и этого издания у нас сейчас нет.
– Хорошо, дайте тогда хотя бы издание Клюкина, – был согласен и на этот вариант покупатель.
– Но это плохое издание! – горячился Николай Александрович, а потом признавал, что и Клюкина в лавке нет… Покупатель был в растерянности, но упорствовал:
– Хорошо, я плоховато знаю немецкий, но попробую. Дайте мне издание на немецком языке.
– Но это большая редкость! У нас нет изданий на немецком языке.
После этого Бердяев заводил разговор о книге Лихтенберже, которая дает некоторое представление о творчестве Ницше. Покупатель был согласен и на Лихтенберже:
– Покажите мне тогда, пожалуйста, эту книгу. Она у Вас есть?
– У меня лично или в магазине? – отвечал Бердяев. – Вы хотели бы купить?
– Ну да…
– Но в лавке нет Лихтенберже…
Разговор, продолжавшийся довольно долго, заканчивался ничем, а Николай Александрович, после ухода потенциального покупателя, огорчался:
– Очень обидно, что у нас нет Ницше! Так неприятно отказывать…
Несмотря на лавку писателей, прокормиться было все равно трудно: на недолгое время Бердяев, для заработка, взялся за работу в хранилище частных архивов Главархива. Еще одним источником существования для него в 1918 году стало чтение лекций в Государственном институте слова. Дело в том, что еще с 1913 году в Москве действовали Курсы дикции и декламации В. И. Сережникова. После революции курсы стали носить имя Государственного института слова (ГИС)[356]. Некоторые знакомые Бердяева ухватились за возможность преподавать в ГИСе, потому что это означало небольшой продовольственный паек (институт-то был государственным!) и освобождение от общественных работ для ряда преподавателей (не для всех). Подрабатывал там и Бердяев, – читал курс по этике. По конспектам бердяевских лекций видно, что Бердяев не пытался приспособить свои взгляды к идеологическим требованиям времени, – он читал о Канте, о взаимосвязи этики и религии, о нравственном достоинстве человека, причем подходил к подготовке занятий чрезвычайно серьезно: у него была составлена программа всего курса, к каждой лекции он делал конспект – около двух страниц убористым и неразборчивым бердяевским почерком, формулировал основные выводы. Впрочем, обстановка в ГИСе сильно отличалась от того, что можно увидеть в сегодняшних учебных заведениях. Композитор и музыковед Л. Л. Сабанеев, который читал там курс «Музыки речи», вспоминал, как он, Вяч. Иванов и князь С. М. Волконский, тоже работавшие в ГИСе, возвращались с лекций, шли по Воздвиженке, «где три месяца зимой посредине улицы и напротив института слова лежала дохлая лошадь, которую сначала ели собаки, потом вороны и мелкие пташки. Вяч. Иванов, очень зябкий, был облачен в две чрезвычайно старые шубы и какие-то глубокие ботфорты. Князь Волконский – во что-то вроде костюма альпиниста, в теплых чулках и коротких штанах. Я был в какой-то телячьей куртке, которую мне выдал Дом ученых, и оттого имел «коммунистический» вид. Конечно, во время лекций все эти костюмы не снимались, ибо отопления не было»[357].
Жизнь в Москве эпохи военного коммунизма принимала порой фантастические формы, поэтому дохлая лошадь на Воздвиженке воспринималась как нечто привычное и само собой разумеющееся. Зинаида Гиппиус писала, что в то время у нее было три главных телесных ощущения: голода (скорее всего привыкаешь), темноты (хуже гораздо) и холода (почти невозможно привыкнуть). В это же время, в начале 1919 года, умер Василий Васильевич Розанов, живший тогда с семьей в Сергиевом Посаде, умер из-за голода, холода и отсутствия лекарств, так бы пожил еще. Выпуски брошюр его последней книги «Апокалипсис нашего времени» оплачивались мукой и картошкой, он и его близкие недоедали… Известие о смерти Розанова глубоко поразило Бердяева, в том числе и потому, что несколько месяцев назад Розанов приезжал в Москву и даже останавливался в квартире у Бердяевых. Он уже был очень плох – страшно похудел, постарел, временами заговаривался, горевал о смерти сына, умершего от тифа, но временами блистал в разговоре остротой и новизной мысли, шептал вам на ухо сокровенные слова, – был прежним ни на кого не похожим Розановым. Большое впечатление на Николая Александровича произвели и рассказы о том, что умер Розанов как христианин, исповедовавшись и причастившись. Его непростой путь в церковь («Иду! Иду!») все-таки завершился принятием ее…
В 1920 году Бердяев был избран профессором Московского университета (сбылось предсказание Любека!). В университете в это время работали и близкие знакомые Николая Александровича – Франк и Струве. Бердяев читал студентам курсы лекций о миросозерцании Ф. М. Достоевского и о философии истории на историко-филологическом факультете. Лекции, которые он прочел, легли затем в основу таких его работ, как «Смысл истории» и «Миросозерцание Достоевского», вышедших уже за рубежом. Евгения Герцык вспоминала: «Бердяев жил не прежней жизнью в тесной среде писателей-одиночек. Он основатель Вольной Академии духовной культуры, читает лекции, ведет семинары, избран в Университет, ведет там какой-то курс. Окружен доцентами»[358]. Это было время признания философского авторитета Бердяева, его известности. Бердяев стал и действительным членом Вольфилы (у которой появилось отделение в Москве).
Как профессору университета Бердяеву был положен специальный паек. Михаил Осоргин вспоминал в связи с этим забавный эпизод: в лавку писателей приехал Бердяев с мешком селедок. Все были за него рады, поздравляли, но Бердяев пропускал все это мимо ушей и казался чрезвычайно озабоченным: он приехал в лавку на извозчике и обещал расплатиться селедками. Перед Николаем Александровичем стоял мучительный вопрос: сколько селедок дать? Осоргин дал совет:
– Дайте ему пять селедок.
– Вы думаете – пять?
– Непременно шесть.
– А почему именно шесть?
– Потому что семь.
Бердяев стал отсчитывать селедки, выбирая самые жирные и большие, когда Осоргин сказал уже про восемь селедок. Николай Александрович выбрал девять, накинул еще одну, – извочик был, конечно, поражен щедростью ездока и долго его благодарил. Вернувшись в лавку, Бердяев засомневался:
– Вероятно, правильной нормой было семь – он так благодарил… Но я не жалею, у меня осталось больше, чем я дал ему[359]…
Но не только обеспечение элементарного быта отягощало жизнь. Относительная свобода мысли, которая оставалась еще после революции, скукоживалась, как шагреневая кожа. Первоначальные, пусть и с предопределенным заранее итогом, марксистские дискуссии 20-х годов в журналах «Большевик» и «Под знаменем марксизма» уходили в прошлое. Философия стала рассматриваться как «руководство для политического действия», ее буквально приравняли к штыку. В научных журналах даже терминология использовалась военная: за отступления от «марксистских философских позиций» могли объявить «меньшевиствующим идеалистом» (что это такое – вряд ли кто-то сможет объяснить) со всеми вытекающими отсюда последствиями. В результате в стране постепенно стала складываться ситуация, когда философское творчество было возможно лишь в рамках марксизма «под прикрытием» цитат из «классиков», свободная же русская мысль на несколько десятилетий перемещалась в эмиграцию или безжалостно выкорчевывалась.
Уже с первых лет советской власти начался процесс избавления от инакомыслящих, проходили процессы над «контрреволюционной интеллигенцией». В 1921 году, например, «Петроградская правда» опубликовала (а сколько всего не публиковалось!) сообщение ВЧК о раскрытом заговоре против советской власти и о расстреле 61 человека. Среди растрелянных были поэт Н. Гумилев, профессор права Н. Лазаревский, профессор географии В. Таганцев, профессор химии М. Тихвинский (преследовавшийся когда-то царской охранкой как раз за свои социалистические убеждения), скульптор С. Ухтомский, другие. В число арестованных попали лица, явно далекие от политики; среди растрелянных было даже 15 женщин – жен «заговорщиков». Коллеги арестованных писали коллективные письма, пытались объяснить, что произошла роковая ошибка, недоразумение, но на их ходатайства не обратили никакого внимания. Президент Российской Академии наук, академик А. Карпинский, мужественный человек, не промолчал, – он написал личное письмо Ленину, в котором говорил, что событие вызвало глубокое нравственное возмущение «неоправдываемой жесткостью, так слабо мотивированной, так ненужною и вредною для нашей страны… Расстрел ученых граждан, которыми слишком бедна наша страна, например про[фессора] Лазаревского или проф[ессора] Тихвинского, по удостоверению его сотоварищей по профессуре совершенно непричастного к активной политической деятельности, наносит непоправимый удар не только близким ему лицам, но и многочисленным настоящим и бывшим его ученикам и тем неизбежно создает враждебное отношение к современному порядку, при котором… группа лиц решает судьбу многих очень нужных, необходимых государству граждан без соблюдения элементарных гарантий справедливости приговоров».[360] Будучи умным человеком, Карпинский правильно понял и цель всего произошедшего ужаса – устрашение. Реакцией на это письмо была ленинская пометка: «Горбунову, в архив»…
Поэтому когда в феврале 1920 года Бердяева арестовали, ситуация могла закончиться как угодно трагично. В день ареста Николай Александрович и Евгения Юдифовна с рассветом были вывезены на принудительные общественные работы, – они кололи лед и очищали от снега железнодорожные пути. Бердяев был нездоров, у него была температура, от непривычной ему физической работы он совсем ослаб. Но, когда ночью за ним пришли чекисты, он вел себя с достоинством. В квартире произвели обыск на основании ордера, подписанного В. Р. Менжинским и А. Х. Арбузовым. Во время обыска были изъяты некоторые письма и бумаги, а также печать ВАДК. После этого больного Бердяева пешком повели по морозным московским улицам на Лубянку. Арестован Николай Александрович был по делу «Тактического центра», о котором не имел никакого представления, что неудивительно – Бердяев был далек от реальной политической борьбы. Вспоминая пять лет, проведенных им в советской России, он писал: «С коммунизмом я вел не политическую, а духовную борьбу, борьбу против его духа, против его вражды к духу. Я менее всего был реставратором. Я был совершенно убежден, что старый мир кончился и что никакой возврат к нему невозможен и нежелателен… Я относился очень враждебно ко всякой интервенции извне, к вмешательству иностранцев в русскую судьбу. Я был убежден, что вина и ответственность за ужасы революции лежат прежде всего на людях старого режима и что не им быть судьями в этих ужасах»[361]. Очевидно, что с такими взглядами Бердяев не мог участвовать в заговорах, подпольной деятельности и подготовке военного переворота. Косвенным доказательством его невиновности в юридическом смысле этого слова служила и чрезвычайная занятость Бердяева делами преподавательскими, организационными. Тем не менее, он не маскировал своих взглядов. Например, когда на заседании Союза писателей нужно почтить вставанием память убиенных революционеров К. Либкнехта и Р. Люксембург, Бердяев демонстративно остался сидеть – в первом ряду…
Несколько дней философ провел во внутренней тюрьме ЧК и был допрошен лично Дзержинским. Имея опыт сидения и в царских тюрьмах, Бердяев невольно сравнивал положение заключенных тогда и в советское время. Он пришел к выводу, что старые тюрьмы были гораздо более «патриархальными» учреждениями, к попавшим в тюрьму относились мягче, видели в них не «врагов народа», а лишь врагов режима, дисциплина была не такой строгой.
Бердяев сидел не в одиночке, поэтому он быстро смог узнать, что арестованы по тому же делу «какого-то тактического центра» многие люди, в том числе, его знакомые. Ночью, в двенадцатом часу, его повели по мрачным коридорам и лестницам на допрос. «Наконец, мы попали в коридор более чистый и светлый, с ковром, и вошли в большой кабинет, ярко освещенный, с шкурой белого медведя на полу. С левой стороны, около письменного стола, стоял неизвестный мне человек в военной форме, с красной звездой. Это был блондин с жидкой заостренной бородкой, с серыми мутными и меланхолическими глазами; в его внешности и манере было что-то мягкое, чувствовалась благовоспитанность и вежливость»[362]. Бердяеву предложили сесть и блондин с бородкой представился:
– Меня зовут Дзержинский.
Бердяев был единственным заключенным в камере, кого допрашивал сам глава ЧК, имя которого в то время, время красного террора, внушало ужас. Николай Александрович вспоминал: «Мой допрос носил торжественный характер, приехал Каменев[363] присутствовать на допросе, был и заместитель председателя Чека Менжинский, которого я знал немного в прошлом; я встречал его в Петербурге, он был тогда писателем, неудавшимся романистом… Я решил на допросе не столько защищаться, сколько нападать… Я говорил минут сорок пять, прочел целую лекцию… Я старался объяснить, по каким религиозным, философским, моральным основаниям я являюсь противником коммунизма. Вместе с тем, я настаивал, что я человек не политический»[364]. Бердяев не скрывал своего отношения к большевикам, он откровенно объяснил свои расхождения с властью, предупредив Дзержинского:
– Имейте в виду, что я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю.
На что Дзержинский ему ответил:
– Мы этого и ждем от Вас.
Интересно, что после смерти Ф. Э. Дзержинского летом 1926 года среди его личных вещей была найдена потертая записная книжка, в которой была сделана запись беседы с Бердяевым. Это не был протокол допроса (протоколы такого рода вели секретари), это были действительно личные записи – пометки, рядом с которыми иногда стояли вопросительные знаки. Тот факт, что такие записи были сделаны, говорит об интересе, который вызвала у владельца книжки бердяевская «лекция».
После длинной бердяевской речи и нескольких «неприятных» вопросов, заданных Дзержинским (он спрашивал о конкретных людях, и Бердяев на эти вопросы отвечать не стал), Бердяева освободили, взяв с него обещание о невыезде из Москвы. Видимо, позиция Бердяева произвела на Дзержинского впечатление, – по его распоряжению Николая Александровича не просто отпустили, а даже доставили домой: глава ЧК попросил Менжинского доставить Бердяева на автомобиле (из-за позднего часа в Москве было небезопасно ходить по улицам, – процветал бандитизм). Автомобиля не нашлось, и Бердяева посадили на мотоциклетку. Но и мотоциклетка была знаком уважения к личности Бердяева. Это понял начальник внутренней тюрьмы: он сам снес вещи Николая Александровича из камеры в предоставленный тому тарахтящий транспорт. К обширному процессу по делу Тактического центра Николай Александрович привлечен не был. Лидия Юдифовна и ее сестра встретили Бердяева бурно, – они уже и не надеялись увидеть его целым и невредимым.
Жизнь после ареста продолжалась дальше. В 1921 году Николай Александрович с удовольствием дал рекомендацию в Союз писателей Анастасии Ивановне Цветаевой. Вторым рекомендателем был М. Гершензон. С такими поручителями Цветаева, конечно, была принята в члены Союза. Но в самом Союзе произошли некоторые изменения, которые затронули и лавку писателей. Она переехала на Большую Никитскую улицу. По новому адресу ей была суждена недолгая жизнь: наступали времена нэпа, мелкий бизнес был разрешен властью, открывались самые разные магазины, в том числе, – книжные, и Книжная лавка писателей конкуренции не выдержала. Лавка была закрыта, но через нее в 1922 году успели реализовать часть тиража нового сборника. Сборник был посвящен книге О. Шпенглера «Закат Европы». Инициатором его стал Федор Степун, но и Бердяев написал статью для этого издания – «Предсмертные мысли Фауста». Кроме Степуна и Бердяева в сборнике «Освальд Шпенглер и «Закат Европы» приняли участие С. Л. Франк и Я. М. Букшпан. Сборнику предшествовала лекция Степуна в рамках ВАДК об этой книге Шпенглера. Леция умела оглушительный успех, ее пришлось потом еще дважды повторить – для членов Пироговского съезда и в Московском университете.
Почему Бердяев выбрал для своей статьи такое «предсмертное» название? Да потому, что современное ему состояние Европы он рассматривал как переход «от религиозной культуры к безрелигиозной цивилизации», когда «истощается творческая энергия», заканчивается прежняя, грандиозная по своему значению, историческая эпоха. Для Бердяева было не менее важно показать, что идеи Шпенглера не новы для русского читателя, – в частности, он упоминал в этой связи имя Контантина Леонтьева, который также отрицал прогресс, исповедывал теорию круговорота, утверждал, что после сложного цветения каждой культуры наступает закат, упадок, смерть. Но Бердяев, к сожалению, не упомянул имя Николая Яковлевича Данилевского – автора оригинальной теории культурно-исторических типов, изложенной в его книге «Россия и Европа», которая во многом предвосхитила концепцию О. Шпенглера. Именно на теорию Данилевского опирался и К. Леонтьев. И Данилевский, и Леонтьев, и Шпенглер считали, что все существующие системы, будь то живые организмы или социальные, развиваются по одному и тому же закону – зарождение, расцвет, умирание. Любая сложная система замкнута, подчиняется закону саморазвития, не являются исключениями и человеческие общества. По аналогии с природой (Данилевский был естествоиспытателем), характеризующейся многообразием биологических видов, они рассматривали историю не как единый процесс, а как мозаику самобытных культурно-исторических типов. Данилевский выделил десять «полноценных» культурно-исторических типов: египетский, китайский, древнесемитский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитский (аравийский) и романо-германский (европейский) и два американских – мексиканский и перуанский, которые прекратили свое существование в результате завоеваний до завершения цикла своего развития. Шпенглер тоже отвергал единство культуры, тоже выделил культурно-исторические типы, но их уже было восемь (что является косвенным свидетельством субъективности выделения этих типов в калейдоскопе культур). Более того, Бердяев писал о намеках, содержащихся в первом томе (о котором и писали авторы сборника) «Заката Европы» на перспективы развития славянского культурно-исторического типа; Шпенглер верил, что именно за этим типом будущее. Так думали и Данилевский с Леонтьевым, к этой мысли не раз возвращался и сам Бердяев.
У Николая Алекандровича в 1922 году появилось новое официальное место работы – Российская Академия художественных наук. Он вошел в философское отделение РАХН как действительный член, и в этом же году прочитал там доклад «Конец Ренессанса в современном искусстве». Много времени и сил забирала и ВАДК: именно тогда при Академии решили организовать философско-гуманитарный факультет. Уже составлялись программы занятий, шли переговоры с потенциальными лекторами. Бердяев принимал в этом непосредственное участие. Вообще, советские годы были для него чрезвычайно насыщенными, он занимался огромным количеством дел: писал, выступал с лекциями, преподавал, торговал в лавке писателей, организовывал Академию, подрабатывал в разных местах, по-прежнему был душой собраний по вторникам в своей квартире во Власьевском… Николаю Александровичу явно требовался отдых. Любимые Бабаки остались в прошлом, но Бердяевым удалось на лето 1922 года снять дачу в Барвихе. Хотя «дача» – громко сказано: речь шла о деревенской избе (правда, новой), которую Бердяевы сняли пополам с Михаилом Осоргиным и его второй женой – Рахилью Григорьевной, которая была дружна с Лидией. Место было очень красивым, грибным, рядом протекала Москва-река, недалеко находилась живописнейшая Юсуповская усадьба в Архангельском, соседи были приятными и близкими людьми, а в деревне можно было на время забыть о советском режиме… Бердяевы блаженствовали. Правда, если их сосед по даче – Михаил Осоргин – сразу, по его собственному выражению, «одичал», то Николай Александрович и в Барвихе выглядел настоящим городским «дачником» – «в светлом костюме, даже в галстуке легкого батиста, днем – за работой, под вечер – в приятных прогулках»[365].
С ними вместе лето в Барвихе проводила и Евгения Герцык, которую Бердяев не видел с весны 1917 года. Правда, зимой у Бердяевых останавливался родственник Евгении – муж Ади, Дмитрий Евгеньевич Жуковский, издававший когда-то «Новый путь» и «Вопросы жизни». С ним передали Евгении Казимировне письмо от Николая Александровича, новости и приветы от всего семейства. Адя, со слов мужа, описывала сестре бердяевский быт, причем особенно – положение с питанием, что для сестер Герцык, буквально боровшихся за выживание в послереволюционные годы, стало больным вопросом: «вид у них (Бердяевых – О.В.) хороший, бодрый, Лидия помолодела и пополнела, питаются очень хорошо, 2 или 3 блюда за обедом, а когда собрание… – всем дают чай и по одному пирожку!! Готовит Евгения, вообще она самая деятельная… Встает очень рано, варит всем кофе, затем идет за провизией, стряпает, а Лидия немножко убирает комнаты, идет ненадолгоо в библиотеку, а потом занимается своим – la pratique religiense, читает, молится, ходит в церковь. Ник<олай> Ал<ександрович> оч<ень> самоуверен и чувствует себя признанным и популярным. Так оно и есть… Его недавно освободили из-под ареста и много говорили о том, как доблестно и благородно он себя держал по сравнению с другими…»[366].
Все это время Евгения Казимировна провела в Крыму, в своем доме в Судаке. Судак в эти годы переходил из рук в руки, власть менялась иногда по несколько раз в год: большевики, немцы, белые, опять большевики, Добровольческая армия, красные… Ужасы войны, голод, лишения – Евгении и Аделаиде всего этого досталось сполна. (А сколько еще ожидало впереди!) Сестры Герцык все это время были практически отрезаны от мира: письма не доходили до адресатов, а поездки были невозможны. Как только сообщениес остальным миром стало возможным, Евгения тут же отправилась в Москву – увидеть Николая Александровича. Она приехала к Бердяевым в мае, но надежды на долгожданную встречу с близким человеком не оправдались: в общении с Николаем Александровичем не чувствовалось прежней теплоты и отрытости, прожитое врозь за последние несколько лет – и каких лет! – разделяло их. Евгения пыталась сломать возникшее отчуждение, но это не сразу ей удалось. «В эти первые дни в Москве я переходила от элементарного чувства радости по забытому комфорту, книгам, еде досыта, к новой тоске, к желанию спрятаться, допонять что-то, чего-то небывалого дождаться. Только бы остаться наедине с Бердяевым…»[367]. Впечатление от встречи у Евгении было неоднозначным: ее не радовало «оцерковление» часто заходивших к Бердяевым недавних позитивистов, – к церкви-то они обратились только «в пику» ненавистной власти; ей показалось, что всегда «меткая и глубокая» мысль Бердяева – «на холостом ходу», «размах мельничных крыльев без привода»… Да еще Лидия Юдифовна с присущим ей «католическим» рвением ходила за Евгенией по дому с религиозными книгами в руках… Поэтому переезд в Барвиху стал радостным событием и для нее тоже: хлопоты в новом бревенчатом доме, когда она с Бердяевым мастерила письменные столы из опрокинутых ящиков, «ненасытность в прогулках» – полями до Архангельского, день в сосновом бору по соседству, где Евгения и Николай Александрович любили лежать на теплых иголках и читать вслух друг другу книжки, разговоры Бердяева на «собачье-человечьем» языке со всеми встреченными по дороге псами, – Николай Александрович не мог пропустить, не приласкав, ни одной дворняги. Евгения переживала счастливые дни: отчуждение растаяло, былое родство душ вернулось. Возвращаясь из бора, куда ходили за ягодами, Евгения и Николай Алкександрович не забывали набрать в легкий чемоданчик сосновых шишек – для обязательного ежевечернего самовара. «Этот вечерний самовар на тесном балкончике, потрескивающие и снопом взлетающие искры, тонкий, как дымок, туман снизу реки – и близкие, без слов близкие люди. Сладость жизни, милой жизни, опять как будто дарованной, и тут же, тотчас же – боль гложущая…»[368].
Действительно, «сладость жизни» была недолгой. Еще в мае 1921 года в целях выявления инакомыслящих в университетах были созданы «бюро содействия» работе ВЧК. Входившие туда люди собирали информацию о своих коллегах, – говоря человеческим языком, занимались доносительством. В 1922 году ГПУ (ставшее «наследником» упраздненной в этом же году ЧК) ввело постоянное негласное наблюдение за интеллигентами. Дзержинский, во внешности и манере которого Бердяеву почудилось «что-то мягкое», дал указание своему заместителю, И. С. Уншлихту, проработать каждого наблюдаемого интеллигента, а для удобства, чтобы никого не упустить, разделить их на группы – «1) беллетристы, 2) публицисты и политики, 3) экономисты (здесь необходимы подгруппы: а) финансисты, б) топливники, в) транспортники, г) торговля, д) кооперация и т. д.), 4) техники (здесь тоже подгруппы: 1) инженеры, 2) агрономы, 3) врачи, 4) генштабисты и т. д.), 5) профессора и преподаватели и т. д. и т. д.» Сведения должны были собираться всеми отделами ГПУ и стекаться в «отдел по интеллигенции». Ленин в 1922 году откровенно писал в статье «О значении воинствующего материализма», что не только в вузах, но и в стране не должно быть места «философским предрассудкам так называемого «образованного общества»», что «профессора философии» суть не что иное, как «дипломированные лакеи поповщины», которых давно следовало бы выпроводить в страны буржуазной демократии, а все преподавание общественных наук перестроить на марксистской основе. А в одном из писем к Дзержинскому Ленин прямо назвал профессоров и писателей «явными контрреволюционерами, пособниками Антанты… шпионами и растлителями учащейся молодежи»[369]. К. И. Чуковский в своем дневнике с горечью писал: «Прежней культурной среды уже нет – она погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее»[370]. Показательные процессы, суды, ссылки, расстрелы… Даже Максим Горький, ставший признанным «классиком пролетарской литературы», назвал происходящее «истреблением интеллигенции в нашей безграмотной стране». И был прав…
Пока Бердяев собирал шишки в сосновом бору, Политбюро Центрального Комитета Российской коммунистической партии (большевиков) – по сути, высший орган власти в стране – обсуждало постановление о создании особого совещания для составления списков «враждебных» интеллигентов, которых предлагалось высылать за границу или в определенные пункты СССР («когда имеется возможность не прибегать к более строгому наказанию»[371], – иезуитски было добавлено в тексте решения). Замысел этой акции начал вызревать у большевиков еще зимой, когда они столкнулись с массовыми забастовками профессорско-преподавательского состава. Только за 1922 год Политбюро 30 раз обсуждало меры по депортации «колеблющейся» интеллигенции[372]. Первыми ласточками стали высланные за границу в июне 1922 года бывшие руководители Всероссийского комитета помощи голодающим С. Н. Прокопович и Е. Д. Кускова. Но два человека – ничто при масштабах репрессий в коммунистической России. Подбирались кандидаты для следующей высылки. 10 августа список высылаемых за границу был утвержден Политбюро, хотя изменения в него вносились и позже. Составлен он был с одобрения Ленина, который хотя и не мог уже активно управлять страной из-за состояния здоровья после инсульта, идею о высылке высказывал и раньше, даже черновые списки имен набрасывал[373]. В частности, предлагал Дзержинскому выслать всех сотрудников редакции журнала «Экономист». Среди них был и Бердяев. Сохранилась копия записки Ленина от 16 июля 1922 года, сделанная рукой будущего наркома внутренних дел, печально знаменитого Генриха Ягоды, где он писал Сталину: «Всех их – вон из России!.. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов – выезжайте, господа!»[374]. Ленин потребовал от ГПУ список высылаемых лиц с пометками – «кто выслан, кто сидит, кто и почему избавлен от высылки»[375]. Ягода прислал Ленину такой список. Напротив фамилии Бердяева значилось: «Высылается. На свободе». А в параллельном списке ГПУ, где формулировались обвинения, про Бердяева было написано следующее: «Близок к издательству «Берег». Проходил по делу «Тактического центра» и по «Союзу возрождения», монархист, кадет правого устремления, черносотенец, религиозно настроенный, принимает участие в церковной контрреволюции»[376]. ГПУ совершенно не волновало, что Бердяев никогда не был монархистом и кадетом, не имел отношения к «Тактическому центру», а издательство «Берег» (в котором вышел сборник о книге Шпенглера) не издавало политической литературы…
Основная операция ГПУ была назначена в ночное время с 16 до 18 августа. В «Постановлении Политбюро ЦК РКП(б) об утверждении списка высылаемых из России интеллигентов», которое не раз уже было опубликовано в постсоветской России, есть указание – «Предложить ГПУ подвергнуть обыску всех, арестовать же только тех, относительно которых имеется опасение, что они могут скрыться, остальных подвергнуть домашнему аресту». 16 августа Бердяев, не подозревая о планах ГПУ, впервые за все лето отправился на несколько дней в Москву, – по делам. Ночью его арестовали, тщательно обыскав перед этим квартиру (обыск продолжался четыре с лишним часа) и отвезли на Лубянку. Видимо, у следователей имелось опасение, что он может скрыться, раз не ограничились домашним арестом… Этой ночью в квартиры многих профессоров, ученых, писателей тоже пришли гэпэушники. Причем аресты шли не только в Москве, но и Петрограде, Новгороде, Казани, других городах.
Властями была проведена своеобразная обработка общественного мнения, – сначала в газете «Правда» в начале июня 1922 года была опубликована статья Льва Троцкого под говорящим за себя названием – «Диктатура, где твой хлыст?», в которой советский сановник обрушился с критикой на работу Ю. Айхенвальда, а затем в той же газете поместили передовицу: «Первое предупреждение». В тексте, опубликованном без подписи, как официальное мнение власть предержащих, говорилось: «По постановлению Государственного Политического Управления, наиболее активные контрреволюционные элементы из среды профессуры, врачей, агрономов, литераторов выселяются частью в северные губернии России, частью за границу. Если этим господам не нравится в Советской России, пусть они наслаждаются всеми благами буржуазной свободы за ее пределами… Среди высылаемых почти нет крупных научных имен. В большинстве это – политиканствующие профессора, которые гораздо больше известны своей принадлежностью к кадетской партии, чем своими научными заслугами».
Утверждение о том, что «среди высылаемых почти нет крупных научных имен» было чистой воды ложью. Высылались интеллектуалы – богатство и достояние любой нации, люди, оставившие свой след в российской науке и культуре. К упомянутому выше постановлению прилагались списки – «Список антисоветской интеллигенции г. Петрограда», «Список активной антисоветской интеллигенции (профессура)», «Общий список активных антисоветских деятелей по делу издательства «Берег»», «Список лиц, проходящих по делу № 813 (группа Абрикосова)» и т. д. Даже беглый взгляд выхватывает из них хорошо знакомые имена: Питирим Сорокин – человек, который считается сегодня «классиком» американской социологии, родоначальник теории социальной стратификации и социальной мобильности; писатель Евгений Замятин, автор известной антиутопии «Мы», повлиявший своим творчеством на Дж. Оруэлла и О. Хаксли; будущий изобретатель телевидения Владимир Зворыкин; историк-медиевист и замечательный философ Лев Карсавин; группа математиков во главе с деканом физико-математического факультета Московского университета астрофизиком В. В. Стратоновым; известные историки А. А. Кизеветтер, В. А. Мякотин, А. А. Боголепов и ректор Археологического института А. И. Успенский; бывший ректор Московского университета зоолог М. М. Новиков; профессор гистологии В. Е. Фомин, много сделавший для развития отечественной медицины; известный специалист в области экономики сельского хозяйства профессор А. И. Угримов; упоминавшиеся в этой книге выдающиеся философы С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, Ф. А. Степун, И. И. Лапшин, И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев и писатели, литературоведы М. А. Осоргин, Ю. И. Айхенвальд; философ и богослов Г. В. Флоровский; уже знакомый нам католический священник отец Владимир Абрикосов… Длинное перечисление хотя бы некоторых имен помогает понять масштаб той трагедии, которую пережила русская культура. Ущерб, нанесенный ей, просто невозможно оценить, особенно если иметь в виду, что оставшиеся в стране были обречены на молчание. Любые проявления разномыслия карались. Достаточно вспомнить расстрел Н. Гумилева, пощадить которого просил М. Горький и другие. Говорят, что, когда Дзержинского просили отменить принятое решение – «Можно ли расстреливать одного из лучших поэтов России?», – он ответил: «Можно ли делать исключение для поэта, расстреливая других?»[377]. Нельзя было даже отмолчаться. По сути, интеллигенции не просто навязывалась несвобода, от нее требовалась активное участие в этой несвободе: было мало молчать о том, о чем думаешь, надо было убедительно говорить то, чего не думаешь. К этому времени удивительно подходит чеканный афоризм А. Камю: «Свободен лишь тот, кто может не лгать».
Разумеется, не объективно было бы рисовать прошлое лишь черными красками: огромный пласт культуры был, действительно, буквально выкорчеван новой властью, но при этой же власти была побеждена неграмотность, были подготовлены тысячи специалистов «из народа» – то есть культура стала развиваться экстенсивно, «вширь», что тоже имело немалое значение. Впрочем, многие авторы считают, что происходило распространение псевдокультуры, и такое мнение имеет под собой основания, – классовый критерий смещал акценты в оценке культурных достижений прошлого и настоящего, приводил к утилитарному подходу в образовании и культуре, породил изоляцию от культурных процессов в других странах, но, тем не менее, имевшие место процессы демократизации культуры нельзя оценивать лишь негативно. Думаю, речь надо вести о смене типов культурного развития – на смену интенсивному развитию пришло развитие экстенсивное, из-за чего многие высоты были утеряны, но определенный минимум знаний люди могли получить даже в захолустье. В целом же, нельзя отрицать, что в течение нескольких десятилетий именно Зарубежная Россия стала носительницей традиций отечественной культуры и философии. Поэтому Бердяев был, видимо, прав, почувствовав в своей высылке «что-то провиденциальное и значительное».
Но в высылке интеллектуалов в 1922 году было и нечто фантасмагорическое: страна нуждалась в восстановлении после кровопролитных войн и революций, уровень среднего и высшего образования резко упал, даже всебщая грамотность была тогда задачей, которую еще только предстояло решить. И вот в этой обстановке более двух сотен далеких от политики и реального сопротивления режиму людей, единственным «грехом» которых было умение мыслить, изгонялись из родной страны, которая так в них нуждалась. Если даже режиму не были нужны философы и литературоведы, то уж врачи с агрономами – точно пригодились бы! Но к постановлению были приложены и отдельные списки врачей, инженеров, агрономов… (Правда, опомнившись, в последний момент врачей решили выслать не за рубеж, а «во внутренние голодающие губернии для спасения гибнущего населения и борьбы с эпидемиями».) Многие не хотели уезжать[378], хотя, наверное, им все же повезло, – они выжили, смогли работать, получили признание. Известный историк русского зарубежья Марк Раев не без иронии писал по этому поводу: «Благодаря Ленину, Зарубежная Россия получила когорту блестящих ученых и интеллектуалов…»[379]. Тех же, кто остался, ждала гораздо более горькая участь, – достаточно вспомнить о судьбе «ученого попа» (как писали тогда советские газеты) – отца Павла Флоренского, богослова, философа, математика с мировым именем, который погиб в лагере из-за своих религиозных убеждений.
В тюрьме Бердяев встретил многих знакомых, которые гадали о причинах своего ареста. А 18 августа он был допрошен. В этот раз он был приглашен уже к обычному следователю, так как речь шла о выполнении простых формальностей по решенному делу. Сначала, согласно правилам, он заполнил акету-вопросник: возраст, адрес, род занятий, семейное положение. Были и интересные вопросы, например, о политических убеждениях. Николай Александрович написал: «являюсь сторонником христианской общественности, основанной на христианской свободе, христианском братстве и христианских верованиях, которые не угнетаются ни одной партией, т. е. одинаково неслиянны ни с буржуазным обществом, ни с коммунизмом»[380]. Сам протокол допроса содержит собственноручно записанные Бердяевым ответы. Он объяснил, что его отношение к Советской власти базируется на том, что любую класовую точку зрению – будь то точка зрения дворянства, крестьян, буржуазии или пролетариата – он считает неоправданно узкой. Более того, он написал, что не верит в существование в России пролетарского государства, так как большинством населения страны являются крестьяне. В качестве задач интеллигенции Бердяев назвал отстаивание одухотворяющего начала в культуре. Он откровенно отметил, что не сочувствует политике Советской власти относительно высшей школы, поскольку она нарушает свободу науки и преподавания и стесняет свободу прежней философии, что не принадлежит и никогда не будет принадлежать ни к одной политической партии… Но ответы Бердяева никакого значения не имели, – решение было уже принято. На следующий день следователь Бахвалов вызвал его и сообщил, что решением ГПУ он за антисоветскую деятельность высылается за границу – бессрочно. Ему (так же, как и другим высылаемым интеллектуалам) был представлен приговор, где содержалось предупреждение о расстреле в случае попытки самовольного возвращения в Россию.
За многих арестованных и включенных в список на высылку стали вступаться коллеги, знавшие их люди. Среди тех, кто не побоялся поставить свои подписи под ходатайствами за арестованных, были и коммунисты (А. Луначарский, например, вступился за профессора Ивана Лапшина). Решение о высылке трех-четырех первоначально внесенных в списки людей (писателя Е. Замятина, например) было решено отложить. По всем остальным спорным вопросам Политбюро предоставило право изменять список Дзержинскому.
Бердяев объявленным ему решением был поражен. Он вспоминал позднее: «Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась тоска. Я не хотел эмигрировать, и у меня было отталкивание от эмиграции, с которой я не хотел слиться. Но вместе с тем было чувство, что я попаду в более свободный мир и смогу дышать более свободным воздухом»[381]. Он, как и другие, написал типовое заявление в коллегию ГПУ, где просил разрешить выезд вместе с ним за границу семьи: его жены, Лидии Юдифовны Рапп-Бердяевой, ее сестры, Евгении Юдифовны Рапп, и матери жены Ирины Васильевны Трушевой. Кстати, в этом заявлении он указал и возраст каждого из членов своей семьи. Рядом с именем Лидии он написал: «48 лет», то есть самую позднюю из известных дат ее рождения, – возможно, он не знал, что жена его на несколько лет старше.
19 августа тот же следователь Бахвалов, сылаясь на заявление Бердяева, написал ходатайство начальству об освобождении Николая Александровича на семь дней – для устройства личных дел перед отъездом. Через неделю он должен был придти в ГПУ сам, в противном же случае, неявка приравнивалась к побегу. За это время Бердяев должен был получить все необходимые для выезда документы, собраться, подготовиться к отъезду и найти деньги на билеты, так как высылка осуществлялась за счет самих высылаемых. В вопросе об оплате высылке был подвох. Ф. Степун вспоминал, что следователь предложил ему на выбор – высылку за свой счет или за казенный. «Хотелось, конечно, ответить, что поеду на свой счет, так как не было твердой уверенности, что казна благополучно довезет меня до Берлина, а не затеряет где-нибудь по пути. Но как написать «на свой счет», когда в кармане нет ни гроша? Подумал, подумал и написал: «на казенный». Прочитав мой ответ, следователь деловито сообщил, что ввиду моего решения ехать на средства государства я буду пока что препровожден в тюрьму, а впоследствии по этапу доставлен до польской границы. Услыхав это, я взволновался:
– Простите, товарищ, в таком случае – еду на свой счет. Я думал, что вы повезете меня на средства государства, а вы хотите так устроиться, чтобы моя высылка не стоила вам никаких средств. Это дело совсем другое.
– Ну что же, – благожелательно отозвался следователь, – если хотите ехать на свой, то так и пишите. Вот вам чистый бланк, но только знайте, что, собираясь ехать на свои деньги, вы должны будете подписать еще бумагу, обязующую вас уже через неделю покинуть пределы РСФСР»[382]. Приблизительно так же обстояло с «выбором» у Михаила Осоргина: следователь честно посоветовал ему согласиться на оплату собственной высылки, «а то сидеть придется долго». Думаю, такой же выбор был и у Бердяева: идти этапом от тюрьмы к тюрьме безо всякой гарантии, что доберешься до границы живым, или искать деньги самому. Разумеется, он – как и все остальные – выбрал второй вариант. Еще два дня Бердяев пробыл в тюрьме – пока все необходимые подписи на бумагах, решениях, заявлениях, подписках были поставлены, а затем его отпустили – собираться в дорогу.
В Барвихе родные и близкие волновались, – они не могли понять, куда делся Николай Александрович. В Москву на розыски отправилась Евгения Герцык. Но уже вечером в день ареста в Барвиху приехал знакомый и рассказал, что в Москве идут аресты писателей и профессоров. Потом вернулась с плохим известием и Герцык, – Бердяева на квартире нет, бумаги в его кабинете перевернуты, многие знакомые – в тюрьме. Сосед по даче, Осоргин, вспоминал: «По нашей привычке к тогдашним нелепостям арест Н. А. Бердяева – величайшая политическая чепуха – нас не удивил»[383]. Но не меньшей «политической чепухой» было и другое решение властей: некоторое время спустя в Барвиху нагрянули гэпэушники – за самим Осоргиным. Осоргин, уже имевший некоторый опыт советских арестов и высылок, после приезда из города Евгении Казимировны, предпочел спрятаться – «засел в камышах». Приехавшие за «контрерволюционером» оперативники его не нашли, но поставили вокруг дачи дозор. Причем самим им стоять и ждать Осоргина было некогда – потенциальных арестантов было много, поэтому они привлекли для дежурства местных жителей. Осоргин отсиделся в лесу, но потом решил ехать в Москву. Несколько дней провел в московской больнице (там искать его, конечно, никто не стал), разведал обстановку, а потом сам пришел на Лубянку. Спрятаться от судьбы Осоргину не удалось, – его тоже высылали.
21 августа вечером из тюрьмы вернулся Бердяев и объявил родным об ожидавшем их переломе всей жизни. Он уже успел осмыслить произошедшее, был спокоен и тверд. Герцык даже написала о его состоянии: «Не перспектива отъезда за границу – ему всегда была чужда и отвратительна эмигрантская среда, а само трагическое обострение его судьбы как будто развеяло давивший его гнет. Враг? Пусть враг. Лишь бы не призрачность существования»[384].
Часть 4. Изгнание
13. Трагедия изгнания
«Блаженны изгнанные за правду…»
(Мф.5,10).Семь коротких дней – и огромное количество разных проблем, которые необходимо разрешить до отъезда. Первая паника перед неизвестностью уже прошла (некоторые знакомые, как вспоминал Осоргин, даже завидовали: «счастливые, за границу поедете!»), но перед отъезжавшими встала уйма вопросов и проблем. Из Москвы высылали многих. Высылаемые объединились и даже выбрали двух «старост», которые хлопотали в различных инстанциях за всех сразу. «Собирались, заседали, обсуждали, действовали», – вспоминал Осоргин. Первоочередной была проблема с визой. Естественным выбором для высылки была Германия. После подписания позорного для России Брестского мира в 1918 году, в результате которого часть территории России перешла к уже абсолютно не боеспособной Германии (абсурдность ситуации заключалась в том, что у Германии иногда не хватало сил даже на то, чтобы занять положенную ей по условиям мирного договора территорию), дипломатические отношения советского правительства с Германией были лучше, чем с другими западными странами. (Бердяев до конца жизни считал заключение этого мирного договора предательством национальных интересов.) Власти надеялись получить коллективную визу для всех высылаемых. Но, в отличие от России, где жизнь во всех областях жизни шла по «спискам», германское посольство в коллективной визе отказало. Отказ был понятен: Германия – не Сибирь, ее нельзя представлять местом для ссылки! Посольство предложило каждому из высылаемых обращаться к ним индивидуально, тогда они с смогут выдать визы господам профессорам и литераторам. Действительно, Германия визы дала всем, более того, посольство и консульство сделали все возможное, чтобы облегчить участь высылаемых интеллектуалов. Например, тот же Федор Степун вспоминал, как ему помогли в немецком посольстве продлить срок пребывания в стране: поняв, что за отпущенные семь дней он не успеет ни денег собрать, ни дела свои закончить, он слезно попросил в посольстве потянуть с выдачей ему визы.
Конечно, это было рискованно: власти могли передумать с высылкой и заменить ее чем-нибудь посерьезнее – тюрьмой, расстрелом, сылкой на Колыму. Посольский чиновник тоже это понимал, потому тут же вызвал начальника канцелярии и отдал ему распоряжение: в случае запроса со стороны комиссариата внешних дел о причине задержки визы он просил немедленно доложить ему, дабы он ссылкою на Берлин мог сразу же уладить дело. Трудно сказать, сколько высылаемых воспользовались такой же лазейкой после рассказа Степуна, но высылка отложилась до сентября. Впрочем, среди высылаемых был и другой подход к ситуации, – некоторые боялись, что решение о высылке могут в любой момент поменять на «ликвидацию», и всячески торопили события. Есть сведения о том, что немецкое посольство помогло и Бердяеву, переправив некоторые его рукописи и заметки в Берлин по дипломатическим каналам[385].
Мало было получить визы, нужно было бронировать каюты на пароходе, отходящем из Петрограда, покупать железнодорожные билеты до северной столицы, каким-то образом доставать валюту в стране, где ее хождение было запрещено (разрешалось взять по 20 долларов на человека), и главное – получить разрешение в ГПУ на вывоз своих собственных рукописей. Каждому разрешили вывести по мешку рукописей, – разумеется, после их просмотра в ГПУ. Мешок – не фигуральное выражение, а вполне-таки соответствуюшее действительности: рукописи зашивались в ГПУ в мешок, опечатывались сургучом и только в таком виде могли покинуть советскую землю. Бердяеву удалось вывести часть семейного архива, рукописи нескольких написанных за советские годы, но не опубликованных еще книг, оттиски своих статей, вырезки из газет и журналов.
Следующая проблема – библиотека. Она у Бердяева была чрезвычайно обширной и богатой, насчитывала несколько тысяч томов на разных языках, причем ему удалось пополнить свое книжное собрание за годы работы в Книжной лавке писателей (благодаря ежемесячному «книжному пайку»). Люди, любящие книги, знают, как трудно бывает расставаться с книжкой, ставшей тебе «родной». Тогда, думаю, это чувство было еще острее, – книги были единственным источником информации, об интернете, ксероксах, сканерах и компьютерах еще и речи не было. Бердяев тщательно отбирал те книги, которые хотел взять с собой, которые нужны были ему для работы. С большей частью книг, конечно, пришлось расстаться: багаж был ограничен местом и весом, ехали Бердяевы буквально «в никуда», поэтому книжки лихорадочно раздаривались знакомым. Но среди отобранных книг Бердев увез и один экземпляр сборника «Из глубины», благодаря чему он смог быть переиздан за рубежом.
Эмоционально трудным было и решение судьбы любимой собаки – мопса Томки (Шу-шу к этому моменту уже умерла). К счастью, здесь пригодились «бердяинки» – почитательницы таланта Николая Александровича. Сразу несколько дам предложили «усыновить» Томку. Бердяевы всесторонне рассматривали каждую кандидатуру и, в конце концов, пес обрел новый дом. Количество носильных вещей тоже регламентировалось. Степун вспоминал, что высылаемым «разрешалось взять: одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм, по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок. Вот и все. Золотые вещи, драгоценные камни, за исключением венчальных колец, были к вывозу запрещены; даже и нательные кресты надо было снимать с шеи»[386]. Никаких особых драгоценностей у Бердяевых не водилось, хотя в последнее время перед высылкой жили они в достатке – конечно, по советским меркам, даже приходящую прислугу держали. Крупные вещи Бердяевы решили продать, чтобы оплатить свою дорогу. Пианино удалось продать соседям, один книжный шкаф – за символическую цену – пристроили в Союз писателей… Бердяев всю свою взрослую жизнь жил только литературным и преподавательским трудом, у него, как он сам отмечал в анкете ГПУ, не было собственности. Были времена, когда ему очень непросто было содержать семью из четырех человек (правда, Евгения Юдифовна в последние полтора года устроилась на работу в Цетроспичку, ее зарплата стала большим подспорьем), поэтому мысли о будущем были очень тревожными – «впереди была неизвестность»[387].
Впрочем, в последние московские дни для раздумий времени было мало: люди, прощанья, заканчиванье дел в Союзе писателей, в ВАДК (которая после отъезда Бердяева прекратила свое существование), предотъездная суета… Конечно, высылаемые не уложились в первоначально отведенные им семь дней, но и месяца для расставания с прошлой жизнью было мало. Михаил Осоргин описывал это так: «люди разрушали свой быт, прощались со своими библиотеками, со всем, что долгие годы служило им для работы, без чего как-то и не мыслилось продолжение умственной деятельности, с кругом близких и единомышленников, с Россией. Для многих отъезд был настоящей трагедией, – никакая Европа их манить к себе не могла; вся их жизнь и работа были связаны с Россией связью единственной и нерушимой отдельно от цели существования»[388]. Поэтому предотъездные многочисленные хлопоты, может быть, были во благо, – некогда было грустить и горевать. Даже прощание с Евгенией Казимировной Герцык вышло не совсем таким, как хотелось бы, – времени для задушевных разговоров не хватило. Хотя эти разговоры между ними будут идти еще долгие годы в длинных письмах… Впрочем, Бердяев не верил, что никогда больше не вернется в Россию. Многие оптимисты говорили высылаемым, что максимум через три года – самый длинный по закону срок административной высылки – им разрешат вернуться. В это не очень верилось, но в то, что уезжаешь навсегда, – тем более верилось с трудом.
Перед отъездом Николай Александрович зашел исповедоваться и причаститься в храм святителя Николая в Кленниках. Незадолго до отъезда он познакомился там с протоиереем Алексеем Мечевым. «Самое сильное и самое отрадное впечатление от всех встреч с духовными лицами у меня осталось от отца Алексея Мечева. От него исходила необыкновенная благостность. Я в нем не заметил никаких отрицательных бытовых черт духовного сословия»[389], – писал позднее Бердяев. С очень теплым чувством вспоминал он свою беседу в маленькой комнатке около церкви с отцом Алексием перед отъездом в Петроград. Священник благословлял отъезд Бердяева и говорил, что у него есть положительная миссия в Западной Европе. Как и Бердяев, отец Алексий считал, что только духовный переворот внутри русского народа может вылечить Россию, и никакие интервенции и военные насилия для свержения большевизма не могут иметь положительного значения. Он рассказал Бердяеву о красноармейцах, которые приходили по ночам к нему каяться, – значит, большевики не смогли убить религиозную потребность у людей, значит, сохраняется надежда на возрождение страны. Все это соответствовало собственным оптимистичным настроениям Бердяева и навсегда осталось у него в памяти, а икона, подаренная отцом Алексием, сопровождала его до конца жизни.
В конце сентября вещи были собраны и упакованы, дела завершены. Степун и еще несколько человек отправились из Москвы в Берлин поездом. Приблизительно в это же время, тоже поездом, за границу в Ригу выехали с семьями П. А. Сорокин и еще несколько человек. Большинство же высылаемых из Москвы – и Бердяевы в том числе – отправлялись в Германию морем из Петрограда, значит, сначала надо было добраться поездом до северной столицы. На Николаевском вокзале Москвы отъезжавших провожало довольно много народа, – что было, по тем временам, некоторой смелостью. Отъежавшие заняли целый вагон.
В Петрограде расселились кто по гостиницам, кто по родственникам, кто по знакомым: надо было подождать еще пару дней до отплытия парохода «Oberbürgermeister Haken». Впрочем, народная молва дала ему другое имя – «философский пароход». На самом деле, «философских пароходов» было два: первый рейс – на «Обербургомистре Хакене» – отправился в Штеттин (ныне Щецин) 29 сентября, а второй рейс – на пароходе «Пруссия» – отчалил из Петрограда 16 ноября. На первом пароходе из страны выехали более 70 человек московских и казанских интеллигентов и членов их семей (Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Б. П. Вышеславцев, А. А. Кизеветтер, М. А. Осоргин, И. А. Ильин, другие). На втором было более 40 человек петроградских профессоров и интеллектуалов с семьями (в том числе – Л. П. Карсавин и Н. О. Лосский). Практика высылки за границу «философскими пароходами» не ограничилась (так, например, в начале 1923 года за рубеж был выслан С. Н. Булгаков), но ручеек этот быстро иссяк: к «неблагонадежной» интелигенции стали применять совсем другие меры.
Приехав из Москвы в Петроград 27 сентября, Бердяевы остановились у Лосского. Сын Николая Онуфриевича Лосского, Борис, вспоминал: «Делом солидарности северных коллег было приютить их (москвичей – О.В.) у себя до посадки на немецкий пароход»[390]. Троих женщин – Лидию Юдифовну, ее сестру и мать – поместили в одной комнате, где обычно жили сыновья Лосского, переселив Бориса с братом в другое помещение, а Николаю Александровичу был отведен кабинет Николая Онуфриевича с кожаным диваном в качестве постели. «Когда стали расходиться спать, Бердяев счел по справедливости уместным сообщить матери, что ему иногда случается громко говорить во сне и что он надеется этим не встревожить соседей по комнате, – описывал пребывание Бердяева сын Лосского. – Наутро, выйдя к кофе, он удовлетворенно уверил мать, что спал мирно и безмятежно. Но примерно полчаса спустя из розовой спальни выбрела Мазяся (гувернантка – О.В.) и заявила, что чувствует себя совершенно разбитой после ночи, в течение которой ее несколько раз будили доносившиеся из отцовского кабинета отчаянные протестующие вопли: «нет!.. нет-нет!.. нет-нет-нет!» и заключила свою жалобу мало действенным ультиматумом: «S'il reste, je pars… tant pis…». Но этой угрозы ей исполнить не предстояло, потому что наступило 28 сентября, день отплытия москвичей»[391].
Посадка на пароход «Обербургомистр Хакен» происходила на пристани, что на Васильевском острове, напротив Горного института. Хотя посадка началась около полудня, закончилась она очень не скоро: выкрикивалась фамилия отплывающего, а затем он и члены его семьи проходили процедуру «досмотра» – то есть обыска в специальной контрольной камере. Ощупывалась одежда, открывались чемоданы и баулы, все отъезжавшиеся еще раз подвергались «опросу» (допросу), – люди стояли на пристани часами, прежде чем оказывались на трапе парохода. Среди провожавших был Е. Замятин (который эмигрирует за границу через десять лет), семья Лосского, родственники Угримовых, Лев Карсавин, другие. Бердяевы ждали своей очереди на посадку и беседовали со знакомыми. На пароходе они оказались только к вечеру, а утром следующего дня пароход отплыл в Германию. Спустя 80 лет назад на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге был установлен памятный знак, на нем написано: «С этой набережной осенью 1922 года отправились в вынужденную эмиграцию выдающиеся деятели отечественной философии, культуры и науки».
На пароходе вместе с высланными находился сначала отряд чекистов. Поэтому пассажиры были осторожны в словах и не выражали своих чувств и мыслей. Только когда после Кронштадта пароход остановился, а чекисты сели в лодку и уплыли, эмигранты почувствовали себя более свободными. Стоя на палубе с палкой в руке, в широкополой шляпе на кудрявых волосах, Николай Александрович провожал взглядом родные берега. Он еще не знал, что никогда больше не увидит родины, но сердце щемило… В похожем состоянии были и другие удивительные пассажиры этого удивительного парохода. О том, что пассажиры – удивительные, капитан знал и дал изгнанникам «Золотую книгу» своего судна, в которой оставляли памятные записи именитые пассажиры. Это была дань уважения оказавшимся на пароходе странникам. Каково же был удивление Бердяева и Осоргина, когда, открыв книгу, они увидели в ней рисунок Ф. Шаляпина, покинувшего Россию немного раньше. Великий певец изобразил себя голым, переходящим вброд море («море по колено»). Надпись под рисунком гласила: «Весь мир мне дом». Многие, оказавшиеся на «Обербургомистре Хакене» в тот день, чувствовали что-то подобное: изгнанники с неведомым будущим впервые за несколько лет ощутили себя свободными. «Когда мы переехали по морю советскую границу, то было такое чувство, что мы в безопасности, до этой границы никто не был уверен, что его (пароход – О.В.) не вернут обратно. Но вместе с этим чувством вступления в зону большей свободы у меня было чувство тоски расставания на неопределенное время со своей родиной»[392], – писал Бердяев.
Михаил Осоргин так описывал прощание с родиной пассажиров корабля: «В столовой старики, молодежь, дети, все это – изгоняемые неизвестно за что и почему; все это – ненужные для страны элементы с общественными наклонностями и привычкой к независимой мысли. Мне очень хочется провозгласить тост за Европу, за остатки свободного духа, за предстоящий нам отдых и ждущую нас живую работу…. Я беру стакан, встаю и, увидев в окно последнюю уходящую в синеву полоску берега России, говорю внезапно и смущенно:
– Выпьем… за счастье России, которая… нас вышвырнула….»[393].
Несмотря на чувство облегчения – отдохнуть от заглядываний власти «под мозговоую покрышку», несмотря на чувство ожидания – «приобщиться настоящей культуре», несмотря на чувство незаслуженной обиды – горечь несправедливого изгнания, большинство пассажиров ощущали себя русскими людьми и не могли не думать о России.
На пароходе вместе с Бердяевым находился и отец Владимир Абрикосов, повлиявший в свое время на переход Лидии Юдифовны в католичество. Сначала его приговорили было к расстрелу, но затем заменили расстрел высылкой. У его бывшей жены, матери Екатерины, которая стала монахиней-доминиканкой, судьба была горестнее: она осталась в Москве, вскоре также была арестована и начала свой крестный путь по тюрьмам и ссылкам, завершившийся в 1935 году в Бутырской тюрьме. Лунным тихим вечером (на море был штиль) Лидия Юдифовна стояла с отцом Владимиром на палубе и гадала: как сложится дальше их судьба?
30 сентября пароход прибыл в Штеттин. Среди пассажиров откуда-то пронесся слух, что их на берегу будут встречать представители русской эмиграции. «И все заволновались и стали думать, как на эту встречу отвечать. Собрались профессора, было довольно длительное совещание с участием Бердяева, Ильина, Франка, Кизеветтера, Вышеславцева и других. И выработали они общий ответ на предполагаемую встречу»[394], – вспоминала находившая на том пароходе В. Рещикова (в девичестве – Угримова). Но приплывших никто не встречал, они вышли на совершенно пустой причал. Так началась эмигрантская биография философа.
Позволю себе здесь небольшое отступление, которое сделает более понятным те условия, в которые попали Бердяевы в своей европейской «ссылке». Исход из России огромного числа людей (по некоторым данным – от двух до трех миллионов) после Октябрьской революции стал уникальным явлением в европейской истории. Русская эмиграция была феноменом политическим. Причины, по которым люди самых разных социальных слоев и групп – казаки и крестьяне, офицеры и инженеры, артисты и художники, университетские профессора и писатели – покинули родину, имели, прежде всего, политический характер. Но уникальность русского рассеяния состояла не в политических пристрастиях, а в исключительно высоком образовательном и культурном уровне послереволюционный эмиграции. Уровень этот был значительно выше, чем в самой России, выше, чем в других странах, которые предоставили убежище русским беженцам. Результатом этого стала редкая ситуация, когда разные культурные традиции вступили в многолетний непосредственный диалог. Один из известных историографов русской эмиграции П. Е. Ковалевский в этой связи отмечал, что «русское рассеяние было в 1920-1940 годах одной из движущих сил европейской культуры»[395]. С ним трудно не согласиться, если вспомнить хотя бы некоторые имена русских эмигрантов, внесших свой вклад в мировую культурную «копилку»: писателей и поэтов И. А. Бунина (отмеченного Нобелевской премией), Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, М. И. Цветаеву (вернувшуюся в СССР лишь в 1939 году и трагически погибшую уже в 1941), Вяч. И. Иванова, Г. В. Иванова, И. С. Шмелева, Б. К. Зайцева, М. А. Алданова, А. И. Куприна (вернувшегося в СССР в 1937 году, за год до смерти, уже больным), А. Т. Аверченко, Н. Н. Берберову, В. Ф. Ходасевича, И. В. Одоевцеву, К. Д. Бальмонта, А. М. Ремизова, Н. А. Тэффи, И. Северянина, Н. А. Оцупа, Г. В. Адамовича, М. А. Осоргина, Г. Газданова и других; художников И. Я. Билибина, Ф. А. Малявина (чья серия картин «Бабы» стала одним из самых запоминающихся изображений национального характера), «мирискусников» К. А. Сомова, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, основателя абстрактного искусства В. В. Кандинского, прославившегося своими пейзажами и театральными работами К. А. Коровина, известного портретиста Ю. П. Анненкова и многих других. Русская музыка тоже имела своих «послов» в зарубежье: композиторы А. К. Глазунов, А. Т. Гречанинов, С. В. Рахманинов, И. Ф. Стравинский, непревзойденный бас Ф. И. Шаляпин, многочисленные прославленные хоры – под руководством С. Жарова, имени атамана Платова, Донских казаков. В Париже была создана даже Русская консерватория им. С. Рахманинова, при которой существовала и балетная студия С. М. Лифаря, ставшего вслед за В. Ф. Нижинским ведущим европейским хореографом, – за океаном эту роль играл Дж. Баланчин, покинувший советскую Россию в 1924 году. Знаменитые балеты, организованные С. П. Дягилевым, оформленные А. Н. Бенуа, Н. С. Гончаровой, М. В. Добужинским, Л. С. Бакстом, стали яркими событиями культурной жизни Франции. С именами Анны Павловой и Сержа Лифаря связана новая страница в балете, что позволило прославленному балейтместеру сказать: «мы с гордостью утверждаем, что мировой балет всей первой половины ХХ века есть создание балетных сил русской эмиграции»[396]. Свой след в мировой науке оставили и русские ученые. Конечно, для широкой публики одними из самых известных являются имена работавших в США изобретателя вертолета (и убежденного монархиста!) И. И. Сикорского и профессора физики В. К. Зворыкина, сделавшего многое для развития современного телевидения и радио, но, конечно, среди эмигрантов оказались и другие ученые с мировыми именами: академик С. Н. Виноградский, работавший в Пастеровском институте, геолог Н. И. Андрусов, химики В. Н. Ипатьев и А. Е. Чичибабин, археолог М. И. Ростовцев, впервые предложивший классификацию скифских курганов, известный египтолог В. С. Голенищев, сформировавший образ социологии ХХ века П. А. Сорокин, филологи Б. Г. Унбегаун, Ю. С. Коловрат-Червинский, Р. О. Якобсон и многие, многие другие. Почти все оригинальные русские философы первой половины 20 столетия тоже оказались заграницей: в советской России места свободному философствованию не было. Поэтому традиции Серебряного века русской культуры, религиозной и идеалистической философии были продолжены вне пределов СССР.
Оказавшись за рубежом, русские эмигранты по-прежнему считали себя гражданами России, людьми русской культуры. Первоначально их ассимиляции препятствовало твердое убеждение большинства, что их отъезд – явление временное, что скоро они вновь смогут вернуться на родину. Отсюда – стремление сохранить язык, обычаи, дать русское воспитание детям. Позднее, когда эти надежды стали угасать после очевидного поражения белого движения в 1920 году, эмиграцию поддерживало осознание своей особой задачи, особой духовной миссии – сохранить и развить русскую культуру, не дать прерваться традиции, сделать то, что не могло быть сделано в условиях тоталитарной советской России. Нищие в большинстве своем люди организовывали библиотеки, школы, семинарии, институты, академии, выпускали газеты и журналы, устраивали выставки и конференции. Был создан особый мир русский эмиграции – Зарубежная Россия. Таким образом, образовалось как бы два потока русской культуры – внутри страны и за ее пределами, причем с точки зрения своего вклада, именно зарубежье оказалось более продуктивным.
Потоки беженцев, хлынувшие за пределы России после революции, имели несколько наиболее типичных направлений. Прежде всего, это Турция, куда на судах (число которых разными источниками называется от 126 до 187) эвакуировались остатки разбитых армий Деникина (в январе-марте 1920 года) и Врангеля (в ноябре 1920 года), а также гражданские лица из Крыма. Эвакуация в Турцию происходила, насколько это возможно, в организованном порядке, поток беженцев в эту соседнюю страну был очень велик. Всего через Турцию по приблизительным подсчетам эмигрировало до полумиллиона русских. Более состоятельные эмигранты использовали Константинополь лишь как привал на пути в Европу. Оставались же в Турции, как правило, неимущие эмигранты и военные, которые были поселены в специальных лагерях, где по мере возможности поддерживались военная дисциплина и боевой дух (в расчете на военные действия против большевиков в ближайшем будущем). Таких лагерей было несколько – в Галлиполи (самый большой, более 26 тысяч человек), на Лемносе, в Чаталдже, Бернадоте и др. Лагеря были построены наспех, в пустынной местности, не имели элементарных удобств. Жившие в Константинополе тоже попали в ужасные условия, – город был переполнен русскими беженцами, работу найти было невозможно, оставалось лишь уповать на милость союзников, выдававших беженцам скудный ежедневный продовольственный паек и содержавших военные лагеря. Но, тем не менее, даже здесь выпускались эмигрантские газеты, была создана библиотека, читались лекции, функционировали курсы иностранных языков, литературно-драматические кружки. А когда в 1921 году были достигнуты договоренности с правительствами Болгарии, Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (СХС) и Чехословакии и многие русские переехали из Турции в эти страны, их положение стало более устойчивым, культурная жизнь эмиграции активизировалась.[397]
Большое количество русских нашло приют в Королевстве СХС (будущей Югославии). Доброе отношение к русским эмигрантам имело здесь несколько причин: сербы, число которых в правящей политической элите страны было очень велико, видели в русских «братьев-славян», пришедших на помощь сербам в 1914 году; король Александр I, получивший воспитание при петербургском дворе, отличался прорусскими и антибольшевистскими взглядами; Королевство нуждалось в квалифицированных специалистах. Разумеется, положение беженцев облегчалось также близостью языков и общностью религии. Сербское правительство учредило даже специальную Державную комиссию попечения о русских беженцах, в распоряжение которой выделялось 6 млн. динаров в месяц из госбюджета. За счет этой суммы содержалось несколько учебных заведений: две гимназии, реальное училище, три кадетских корпуса, кавалерийское училище, два женских института, технические курсы и т. д. Правительство Сербии не только финансировало образование русских эмигрантов, но и предоставило русским учебным заведениям одинаковые права с сербскими школами, училищами и институтами[398]. Несколько позднее было создано Общество русских ученых в Югославии, которое организовывало научные семинары, помогало устанавливать научные контакты с югославскими коллегами, издавать написанное и т. п. Появилось и Общество попечения о нуждающихся русских студентах и учащихся, благодаря которому многие молодые люди смогли завершить свое образование. Если задуматься о ситуации, в которой оказалось большинство эмигрантов, то такое внимание к образованию и культуре не могут не показаться поразительными: люди, не имевшие стабильного заработка, оказавшиеся в чужой стране, потерявшие родных и друзей, весь уклад жизни которых был грубо разрушен, думали о том, как не растерять традиции русской школы (считавшейся тогда одной из лучших в мире, особенно когда речь шла о высшей школе), дать образование детям, не дать померкнуть славе русской науки.
Похожие процессы происходили в Болгарии. Эта страна переживала в то время определенные экономические трудности и нуждалась не только в неквалифицированной рабочей силе, но и в инженерах, преподавателях школ и университетов и т. п., так как собственная национальная интеллигенция была еще очень малочисленной. Русские эмигранты стали профессорами и преподавателями Софийского университета[399] и других болгарских учебных заведений, создали собственные русские учебные заведения. Значительную материальную помощь в этом им оказали американские общественные организации: американцы, например, дали согласие тратить ежемесячно до 10 тысяч франков (сумму, с учетом нескольких десятилетий инфляции, ощутимую) на Русскую высшую школу в Болгарии[400], которая должна была включать в себя юридический и филологический факультеты. Кроме того, существовали несколько русских школ, гимназий, колледж, сельскохозяйственное училище, технические курсы (для взрослых) и др., в которых обучались не только русские, но и болгары, так как авторитет русских преподавателей (и учебных заведений в целом) был достаточно высок.
Тем не менее, ни Константинополь, ни Белград, ни София не стали «столицами» русского зарубежья. На роль такой столицы некоторое время (до середины 20-х годов) претендовали Прага и Берлин. Особенно способствовала этому так называемая «Русская акция» (Action russe), начало которой было положено в Праге правительством Г. Масарика в 1922 году и которая должна была способствовать деятельности русских научных и учебных заведений. Чешское правительство и зарубежные благотворительные организации финансировали целый ряд культурных проектов русской эмиграции, в результате чего в Праге появилось около десятка русских высших учебных заведения: в 1921 году открылся Институт сельскохозяйственной кооперации; немного позднее – Русский институт коммерческих знаний; Русский юридический факультет, созданный по инициативе П. Новгородцева в 1922 году и просуществовавший до 1929, где преподавали многие известные ученые, в том числе, и высланные в 1922 году на «философских пароходах» – П. Струве, С. Булгаков, А. Кизеветтер, Н. Лосский, Н. Тимашев, Г. Флоровский, А. Боголепов и другие; Высшее училище техников путей сообщения и др. Особое место в этом ряду занимали два учебных заведения, торжественно открытые в 1923 году, – Русский народный университет (переименованный потом в Русский свободный университет), просуществовавший 16 лет и издававший «Научные труды» (при университете было создано и Философское общество под председательством И. Лапшина) и Русский педагогический институт им. Я. Коменского, призванный готовить «деятелей по народному образованию в России» (!). Вера в то, что возвращение на родину будет скорым, заставляла думать о необходимости подготовки педагогических кадров для начальных школ в разоренной России, – эмиграция видела свой долг в том, чтобы образовательные и культурные традиции в стране не прервались.
В Берлине, где в силу экономических причин до середины 20-х годов жило много русских беженцев – с 1920 по 1924 численность русской общины достигала 300 тысяч человек! – также были открыты несколько школ, гимназий и научных институтов. Илья Эренбург вспоминал в своих мемуарах, что в начале 20-х годов юго-запад Берлина выглядел как русский пригород, всюду была слышна русская речь. Владимир Набоков писал в своей автобиографии о годах жизни в Германии (1922-1937): «Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. ‹…› Американские мои друзья явно не верят мне, когда я рассказываю, что за пятнадцать лет жизни в Германии я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка». Годами наибольшего скопления русских в Берлине были 1921-23 годы (то есть как раз тогда, когда Бердяевы оказались на германской земле), – тогда город был главным центром русской эмиграции. Берлин называли «мачехой городов русских», писали о «Санкт-Петербурге на Виттенбергплатц», но эта «эрзац-столица» оказалась «быстрорастоворимой»: многочисленные русские организации, учреждения, союзы «возникли буквально в одночасье, как бивуак, который армия разбивает в мгновение ока. Русские, которых занесло в Германскую империю, создали себе столицу, свой собственный город в городе, свой культурный и полугосударственный микрокосм, сконцентрированный на Западе Берлине»[401]. Но эти же организации, учреждения, союзы через несколько лет исчезли без следа. «В русском Берлине было все, – продолжает немецкий исследователь «русского Берлина», – что должно быть в столице: люди, институты, производственные объединения, издательства, поэты, мыслители и сплетни. Но через два-три года этот город уже не существовал, его жителей разбросало во все стороны света, и с тех пор он существует лишь в воспоминании как отрезок жизни целого поколения эмигрантов, как комета, которая исчезает в космосе, и от нее не остается ничего, кроме светового следа на фотопластинках».[402]
Не обошлось и здесь без американской помощи: в Германии, например, существовал специальный американский Фонд содействия русским писателям и ученым, распределявший средства между нуждавшимися русскими интеллигентами. В Берлине даже существовало три русских театра, издавались газеты на русском языке («Накануне», «Руль», другие), работали русскоязычные издательства. Достаточно сказать, что в 1924 году из 130 русскоязычных издательств, существовавших за рубежом, в Берлине находились 87. Немецкая статистика отмечала, что в некоторые годы число русских книг, вышедших в Германии, превышало число немецких[403]. Более того, количество изданных в Берлине между 1918 и 1924 годами книг, было больше, чем в Москве! Живая «община» позволяла эмигрантам оставаться в своем кругу и обособляться от окружения, тем более что поначалу была уверенность в том, что изгнание – не навсегда. Но после 1926 года количество русских эмигрантов в Германии резко уменьшилось: в стране начал действовать новый закон, затруднявший для иностранцев поступление на работу. Большая часть русских из Берлина перебралась в Париж, который и стал настоящей «столицей» Зарубежной России.
Трудно перечислить все страны, куда устремились русские беженцы[404]. В поисках счастья несколько ручейков эмиграции направилось даже в Перу, на Мадагаскар, в Южную Америку – в Аргентину, Парагвай, Бразилию. Труднее было эмигрировать в Северо-Американские Соединенные Штаты, правительство которых оказывало определенную материальную помощь беженцам, но не спешило принимать их у себя. Тем не менее, со временем и в Северной Америке число русских становится значительным, поток эмигрантов увеличивается особенно накануне и в начале второй мировой войны, когда Европа уже не могла служить надежным прибежищем.
Практически везде русские предпочитали селиться компактно, причем своеобразными центрами русских диаспор становились православные церкви. Вырванные из привычной жизни, лишенные многих семейных и дружеских связей, ощущавшие себя чужими в иностранном окружении, русские эмигранты видели в церковной общине своеобразную замену тем духовным потерям, что они понесли. Даже те, кто был ранее равнодушен к религиозным обрядам и церковной жизни, стали посещать церковь не только из-за проснувшейся в душе веры (без нее после всего пережитого действительно было трудно выжить), но и из-за того, что принадлежность к определенному церковному приходу воспринималась как подтверждение русскости. Недаром среди многочисленных эмигрантских организаций, партий, движений самым «живучим» оказалось то, что было связано с религиозной жизнью диаспоры – Русское студенческое христианское движение (РСХД).
Когда «философский пароход» причалил в Штеттине, все его пассажиры собирались отправиться в Берлин. Приехавшие наняли несколько фур, запряженных битюгами, погрузили на него свой скарб, сверху посадили маленьких детей. «И фура за фурой поехали по направлению к вокзалу, откуда мы должны были отправиться в Берлин, а за фурами, не по тротуару, а прямо по мостовой, взявши под руки своих жен, шли профессора. Это были целое шествие по Штеттину, напоминавшее чем-то похоронную процессию. А мальчики на фурах умирали от хохота: они увидели, что в Штеттине дворники в белых панталонах швабрами мыли дно реки. После всего пережитого за пять лет в Москве, это действо показалось им невообразимой глупостью. Немцы на нас смотрели как на сумасшедших»[405]. На берлинском вокзале тоже никакой встречи, естественно, не было, прибывшие в растерянности стали гадать – что делать дальше? На помощь пришел немецкий Красный крест, – его представитель разместил на первую ночь приехавших русских профессоров по дешевым пансионам и гостиницам. А на другой день Лидия Юдифовна и ее сестра поехали искать квартиру. Решили, что за городом жилье будет дешевле, хотели снять там, но тут выяснилось, что Красный крест, выполняя указание германского правительства, подыскало Бердяевым недорогое жилье на первое время – 2 комнаты в доме фрау Деме, 31/32 Ranke-Strasse. Хозяйка была не слишком приветлива и поставила условием для новых жильцов проходить в их комнаты через ее гостиную только по краю ковра, не наступая ни на паркетный пол, ни на ковровый рисунок.
14. Русский Берлин: введение в «западную жизнь»
В центрах скопления беженцев формируется и вызревает новый тип человека, которому предстоит головокружительная карьера в эпоху чисток и вынужденных миграций. Русский Берлин – одна из первых испытательных площадок для него.
К. Шлегель.Два года жизни Бердяева в Германии были наполнены активной деятельностью. Как только Николай Александрович обосновался в Берлине, в его квартире образовался религиозно-философский кружок, куда вошло немало эмигрантской молодежи. Такие же кружки образовались и под руководством Франка и Карсавина. Бердяев стал членом и участником собраний (проходивших в одном из берлинских кафе на Ноллендорфплац) Клуба русских писателей, в который входили А. Белый, В. Набоков, М. Осоргин, М. Алданов, Л. Карсавин и другие. Интеллектуальное общение, которое столь много значило для Бердяева, налаживалось. Он даже послал сестрам Герцык в Крым «бодрую» открытку, где писал, что его опасения эмигрантской жизни (в Москве он строил планы о том, что не будет общаться с русской эмиграцией) были напрасными: в Берлине оказалось много близких по духу людей. Но жизнь, особенно в материальном плане, устроенной назвать было трудно. Поэтому в ноябре приехавший в Берлин Н. О. Лосский обсуждал с Бердяевым и другими знакомыми эмигрантами вопрос – не уехать ли из Германии в Прагу? Бердяев с Франком отказались от переезда: у них появилась мысль об издании журнала, более того, они начали обсуждать идею создания русского университета. Отчасти эти мечты удалось реализовать: тогда в Берлине начал активно действовать Американский христианский союз молодых людей (YMCA), оказавший колоссальную поддержку культурной жизни русской эмиграции. Бердяеву удалось установить некоторые связи с этой организацией, что определило (в материальном плане) его эмигрантскую судьбу на долгие годы. При помощи YMCA в Берлине 26 ноября 1922 года была создана Религиозно-философская академия, продолжившая традиции ВАДК в Москве, на те же деньги было решено финансировать и устроение Русского научного института.
Приблизительно в это время Николай Александрович получил первое большое письмо из Судака – от Евгении Казимировны Герцык. Письмо было пронзительным: «Сегодня месяц, как расстались и в такие разные концы и разные жизни поехали. Я так не утолена общением с тобой, с духом твоим в это свидание, что тем мучительней эта новая разлука, и при этом я обречена на долгое, долгое незнание жизни вашей, внешних ее условий, работы твоей… Ревниво хочу, чтобы скорее имел возможность приступить к писанию большой книги, потому что там, в глубине духа, нет этих пространственных и всяких иных преград, и там – и без писем, и без разговоров – совершается общение близких… Точно за какие-то грехи мои опять наросла передо мной непреодолимая глыба расстояния! Но зато всякая доходящая весть воспринимается как чудо… Постараюсь здесь осуществить ту зимнюю жизнь, о которой ты, помнишь, помечтал, – сейчас в начале ноября еще так солнечно и тепло и золотисто вокруг. Но такая пустыня, такое одиночество!
И виноградные пустыни, Дома и люди – все гроба.Это Блок написал о Равенне, но это как будто бы совсем о нас. Тяжко это полное одиночество. Только твоя семья, по которой исходишь в тревоге, когда вдали от нее, но которая ничего не дает духу, когда вблизи. Впрочем, верно духу и нужна эта непрестанная забота о ком-то.
Благодарю тебя, мой дорогой, за все. С любовью. Твоя Евгения.»[406]
К счастью, Евгения Казимировна могла написать в Германию, да и письма из-за границы еще доходили до советских адресатов (позднее это упущение властью было исправлено). Переписка продолжалась годы, причем корреспондентом Герцык был не только Николай Александрович, но и его жена, и Евгения Юдифовна Рапп. Евгения Казимировна искренне радовалась, что Бердяев заинтересовал YMCA своими проектами, что его мысли находят отклик у немецких философов (завязывались связи Бердяева с М. Шелером и Г. фон Кайзерлингом, о чем он сообщил Герцык), что Бердяев работает над новым периодическим изданием.
Это издание, можно сказать – толстый журнал, упомянутый не раз в письмах Герцык, – «София», который должен был стать органом Религиозно-философской академии. Создателем его был Бердяев, но он много беседовал о своем журнальном проекте с другими уехавшими из России, – в том числе, с Н. О. Лосским до его отъезда в Прагу. В воспоминаниях сына Лосского сохранилась интересная запись о том, как выбиралось название для журнала: «вспоминается и Бердяев и его толки с отцом, как будто за столом в ресторане, где мне почему-то (может быть, недостаточно обоснованно) показалась жадной манера принимать пищу у его участвовавшей в разговорах на высокие темы супруги. На этот раз философы совещались о том, как назвать задуманный ими периодический сборник, и Лидия Юдифовна предложила наименовать его «Время и Вечность», на что Николай Александрович, уже, если не ошибаюсь, употреблявший эти два слова в виде заголовков в своих писаниях, высказал мысль (которую, надеюсь, не искажаю), что на обложке журнала они бы приобрели своей высокопарностью скорее отталкивающий, чем притягательный характер для вербуемого читателя. Конечно, никак не мне было вмешиваться в этот разговор, и я не спросил, как мне захотелось, почему бы не назвать новый временник «Софией». К чему прибавлю с известным чувством самоудовлетворения, что в конечном счете этот заголовок ему и достался»[407]. Первый и последний выпуск «Софии» вышел в Берлине в 1923 году с подзаголовком «Проблемы духовной культуры и религиозной философии». В обращении «От редакции» говорилось, что первоочередная задача, стоящая перед Россией, – «задача исцеления от духовного недуга», поэтому «София» ставит перед собой целью «в меру своих сил служить делу духовного возрождения России». В сборнике приняли участие Франк, Карсавин, И. Ильин, Лосский, Новгородцев, И. П. Сувчинский (известный евразиец), Э. К. Кейхель. Бердяев (как и Карсавин) написал даже две статьи для этого сборника.
Первая статья – «Конец Ренессанса (к современному кризису культуры)» – содержала мысль (общепринятую сегодня), что с началом первой мировой войны тот период истории, который называется Новым временем, закончился. Закончился он и в культуре, – человечество, по мысли Бердяева, переживало конец Ренессанса: «на вершинах культуры, в творчестве, в царстве искусства и царстве мысли давно уже чувствовалась исчерпанность Ренессанса, конец целой мировой эпохи»[408]. Если начало эпохи Ренесанса было заложено в христианских основах средневековья, то затем «свободная игра человеческих сил» привела к противоречиям с этими основами. Благодаря Ренессансу и вслед за ним установилась нехристианская по своей сути эра новой истории. Новое время поставило человека в центр Вселенной, освободило человека внешне, но лишило его внутренней духовной дисциплины и зависимости от всего «сверхчеловеческого». В результате к 19 веку гуманистическая культура практически исчерпала себя, развив все человеческие потенции, которым давала простор, но потеряв накопленную в предыдущие века веру в сверх-задачу человеческого существования. Наступила эпоха разочарования. Типы монаха и рыцаря с их сильной самодисциплиной уступили место типам торгаша и шофера с тем, чтобы далее уступить место типу комиссара, во имя «народа» тиранящего народ.
В этой большой статье у Бердяева появляется тема «нового средневековья» – так он назовет свою будущую, одну из самых известных на Западе, книг, которую уже начал тогда писать. Когда-то его товарищ по ссылке А. Богданов назвал так свою статью, где он критиковал позицию Бердяева в сборнике «Проблемы идеализма». Для марксиста Богданова ассоциирование позиции Бердяева со средневековьем казалось, конечно, убийственно-негативным. Но это словосочетание появляется потом в работах Бердяева – уже в позитивном ключе, как задача развития. Речь шла о возрате к духовным, христианским началам культуры, о восходе «солнца нового, христианского Ренессанса».
Вторая бердяевская статья – «Живая Церковь» и религиозное возрождение России» – продолжала ту же тему христианского возрождения, но на материалах российской действительности. Формально – речь шла о движении обновленчества, возникшем после революции 1917 года в российской православной церкви. «Обновленцы», выступая за упрощение богослужения, демократизацию церкви, имели большой «успех» – около половины приходов в России середины 20-х годов находились в подчинении обновленческих структур. Сама идея опоры на простых прихожан, реформирования церковной жизни могла бы вызвать понимание и поддержку у Бердяева, – ведь не так давно он сам примыкал к «новому религиозному сознанию»! Более того, даже в конце жизни, рассуждая в «Самопознании» о своей религиозной позиции, он написал: «Я всегда особенно хотел реформации»[409]. Но Бердяев понимал, что привилегированное положение клира «Живой церкви» не могло быть даровано властью из альтруистических побуждений, что слухи о том, что многие священники этой церкви – агенты ГПУ, оправданы. В этом убеждал его и личный опыт: он описывал в воспоминаниях, как во время своего последнего ареста и хлопот с высылкой, видел на Лубянке «обновленческих» священников, даже епископа Антонина, которые чувствовали себя там как «свои». На деле «обновленцы» использовали идею изменения церкви (почерпнутую, в том числе, из духа Религиозно-философских собраний начала века) для раскола и отстранения патриарха Тихона, то есть для вполне опредленных политических целей. Движение обновленчества было поддержано властью в обмен на лояльность. «Живая Церквь» же была одной из наиболее крайних групп в рамках обновленческого движения, и Бердяев относился к «Живой Церкви» резко отрицательно.
Но в этой статье был и второй «пласт», который косвенно рассказывает об отношениях Бердяева с руской эмиграцией. Начиналась статья афористичной фразой: «Два рода людей обречено на непонимание сущности и смысла революции – внешние революционеры и внешние контр-революционеры»[410]. В этой фразе, несомненно, есть личный подтекст: дело в том, что русская эмиграция в Берлине была не просто антисоветски настроена, большинство из оказавшихся на чужбине были «реставраторами», – то есть мечтали о попятном историческом движении, о возвращении назад, в «Россию, которую мы потеряли». Бердяв не только считал это невозможным, но и был принципиально против такой установки. Практически сразу после приезда у него произошло столкновение с его хорошим знакомым – Петром Бернгардовичем Струве, жившим тогда в Праге, но переписывавшимся с Николаем Александровчием. Еще в период адаптации Бердяевых к новой берлинской жизни, Струве, приехав в Берлин, устроил на квартире у Бердяева встречу нескольких русских эмигрантов (Шульгина, Изгоева, Франка, Ильина, фон Лампе, других). Присутствовал и сын Струве, Глеб Петрович. Глеб Струве и «готовил» этот визит, – он беседовал с Бердяевым и сообщал отцу в письме, что Александр Николаевич «настроен в достаточной мере право (правей Франка), монархист, но о Белом движении, его значении и причинах его неудачи у него, по-видимому, превратное представление, и всякую дальнейшую вооруженную борьбу против большевиков он считает вредной»[411].
Бердяев полагал, что русская эмиграция не учитывает: жизнь в России за 5 лет их жизни на чужбине не стояла на месте, поэтому речь нужно вести не о реставрации, а о движении вперед. Такой подход в эмиграции именовали «пореволюционным», он заключался в своеобразном признании «факта» свершившейся Октябрьской революции: реставрационные мечтания беспочвенны и наивны, необходимо относиться к большевистскому правительству в России как к исторической данности. Не поддерживая марксистских, коммунистических идей, сторонники «пореволюционной» точки зрения считали возможным использование положительных достижений советской власти. Их программа действий предполагала отрицание насильственного перехода к постбольшевистскому периоду (установка велась на эволюцию нового строя), использование советов как новой формы государственности и т. д.
Подобная точка зрения была характерна для многих «высланных». Не солидаризируясь с коммунистическим режимом, они понимали, что просто перечеркнуть пережитое Росией за последние годы невозможно. Более того, многие из них испытывали сомнение в способности и моральном праве эмиграции судить о жизни «под большевиками». Пережитые голод, холод, лишения, аресты делали их в собственных глазах способными более трезво и правильно оценить перспективы страны (наверное, так и было). Поэтому почти сразу после приезда в отношениях между вновь прибывшими и остальной эмиграцией возникли трещины. В этом смысле, характерно письмо Бердяева П. Струве в Прагу (написанное еще до их встречи в Берлине, еще дружеское и теплое): «Есть у Вас одна фраза, которой я не могу Вам простить и за которую вызываю Вас на дуэль. Вы говорите, что русская духовная жизнь и русская мысль за годы революции перебрались за границу и там только существуют. Это непозволительная эмигрантская гордыня. Русская духовная жизнь и мысль преимущественно существовали и развивались в России, у тех, которые прикасались к русской земле»[412]
Большинство русской эмиграции (прежде всего, монархическое) с «пореволюционной» точкой зрения было не соглано. Хотя «белое дело» в России потерпело поражение и сошло на нет, его идея не умерла – вплоть до трагического исчезновения генералов А. П. Кутепова в 1930 году и А. Миллера в 1934 (они были похищены советскими спецслужбами) в эмиграции продолжало существовать идеологическое движение «Белое дело». Тот же Иван Ильин, приехавший вмете с Бердяевым на одном пароходе, стал активно сотрудничать с «Белым делом». А в 1924 году бароном П. Н. Врангелем был основан Русский Обще-Воинский Союз (РОВС), который был объявлен наследником «белого дела» и просуществовал долгие годы (как общественное объединение потомков русской эмиграции существует в США и сейчас). Военных было очень много среди эмигрантов, в каком-то смысле белая армия еще существовала – хоть и призрачно. Были полки, штабы, собрания, приказы, смотры – идея реставрации былого продолжала жить.
Приехавший из Праги П. Б. Струве надеялся среди вновь прибывших в Зарубежную Россию найти сторонников идейной борьбы с русским комунизмом. Сначала у него возникли трения в общении с Франком, отказавшемся от приглашения публично выступить в Праге (в том числе, – чтобы не повредить оставшимся в России арестованным коллегам). Затем он узнал, что Изгоев готовит к публикации письмо о том, что «белое дело» в современных условиях наносит России вред, и хотел помешать публикации. Струве возлагал особые надежды на встречу с Бердяевым. Но во время его визита разгорелся спор, переросший в бурное выяснение позиций. Бердяев повысил голос (сказалась его пресловутая разражительность), он буквально кричал на старого приятеля, размахивая руками и пытаясь сдержать нервный тик:
– Это безбожие и чистой воды материализм! Все ваши надежды сводятся к насилию, вы хотите ниспровергнуть большевизм штыками! Но это невозможно! Он не сводится только к материальным проявлениям, унего есть духовные источники, а этого-то вы и не понимаете! Большевизм может быть преодолен только медленным внутренним процессом религиозного покаяния и духовного возрождения русского народа…
Многолетние приятельские отношения были испорчены. Полного разрыва между П. Б. Струве и Бердяевым тогда, однако, не произошло: Струве, не согласившись с Бердяевым, но увидев состояние Николая Александровича, обнял его и начал успокаивать, а по окончании собрания они долго бродили по улицам Берлина и страстно спорили[413]. Но с этого эпизода, получившего широкую известность, начался идейный разрыв Бердяева с деятелями «Белого дела». Как когда-то Бердяеву пришлось быть в изоляции среди марксистов, как когда-то он не смог прочно войти в московские православные кружки, так и здесь, в эмиграции он столкнулся с непониманием большинства. Видимо, тогда у него и появилось прозвище «розовый профессор» – за якобы имеющиеся симпатии к большевикам. Такое отношение к Николаю Александровичу только усилилось после высказанного им мнения, что западным странам необходимо формально признать советскую Россию, потому что если она будет включена в международную жизнь, самые страшные стороны большевизма могут ослабнуть. (Здесь, как показало дальнейшее развитие событий, Бердяев был не прав: дипломатические отношения с западными странами не помешали концлагерям и гонениям на инакомыслящих в СССР.)
Надо сказать, что первое время в сознании эмигрантов существовало разделение между теми, кто уехал за границу сам (Мережковские, Философов, Карташев, Шестов, другие), и теми, кто был выслан. Среди высланных некоторое время даже подозревали «засланных» – агентов советских спецслужб. В первые годы эмигрантской жизни «высланный» не был синонимичен «белому эмигранту» (как называли уехавших в РСФСР), с высланными даже дозволялось общение немногочисленным «советским», оказавшимся в Европе в командировках или по другим причинам. Потом различия, конечно, стерлись, но первоначально это мешало сближению вновь прибывших с теми, кто уже имел более солидный эмигратский «стаж».
В своей статье в «Софии» Бедяев косвенно объяснялся с теми представителями эмиграции, которые не разделяли его позицию. Он писал о том, что идеализация революций и поклонение им – жалкое дело, но «в том же заблуждении находятся и нынешние контр-революционеры. Они не менее революционеров определяют себя отрицательно, а не положительно»[414] – революционеры противопоставляют себя «старому», контр-революционеры – «новому» миру. По сути, Бердяев считал «революционно-контр-революционные процессы» разными сторонами распада государства. Грядущий провал Зарубежного съезда русской эмиграции в Париже в 1926 году подтвердил, что эмиграция расколота в своих политических оценках, что согласие и сотрудничество между крайне правыми и либералами невозможны.
В «Софии» была опубликована и заметка, носившая справочный характер, о деятельности ВАДК в России. Вслед за этой заметкой шел отчет о первом заседании Религиозно-философской академии в Берлине. Интересно, что Глеб Струве в письме к родителям в Прагу описывал это заседание так: «..Мне в высланных очень не нравится то, как они обособленно держатся, отгораживаясь от всех других и как бы претендуя на монопольное знание того, что нужно России, и как-то возводя в подвиг то, что они оставались все время в России. Но ведь их там никто и не трогал, а когда тронули, то только выслали (здесь Глеб Струве был, конечно, не совсем прав – О.В.). Эта отгороженность и подчеркивание своего превосходства чувствуется больше всего как раз у философской группы – в Бердяеве, Франке – но особенно резко выразилась она в речи Карсавина на воскресном собрании (открытие Рел<игиозно>-Фил<ософской> Академии), прямо и откровенно сформулировавшем эту точку зрения»[415]. Письмо является лишним подтвержденим того, что у Бердяева и его друзей сразу после приезда появились трения с остальной эмиграцией.
В феврале 1923 года в Берлине был организован Русский научный институт, в деятельности котрого участвовали многие знакомые Николая Александровича – Айхенвальд, Муратов, Вышеславцев, Ильин, Карсавин, Кизеветтер и другие. В письме министру культуры Германии ректор института проф. В. И. Ясинский писал, что многие русские молодые люди получили образование в высших школах Германии, но после окончания этих заведений они «плохо подготовлены в вопросах русской культуры и особых условий российской действительности», поэтому он просил помощи и содействия в организации института. Такая помощь была оказана, в создании института приняли участие немекие профессора Берлинского университета и Технического института. Особую роль сыграли известный славист, профессор истории Восточной Европы Отто Хетч и и уполномоченный Лиги Наций по делам беженцев Мориц Шлезингер. Надо сказать, что русские профессора, высланные из советской России, были приняты в Берлине с распростертыми объятиями (хотя в отношении остальных беженцев уже наступило некоторое охлаждение). Когда они оказались в Германии, министр иностранных дел страны барон фон Мальцен дал в их честь обед, у них практически не возникло сложностей с оформлением документов для пребывания в стране. Поэтому неудивительно, что городское управление Берлина предоставило Русскому институту достаточно большое помещение в здании Строительной академии, ему была даже оказана материальная поддержка со стороны германского МИДа, хотя обучение было платным (плата за семестр для студента составляла 5000 рейхсмарок, для вольного слушателя – 1000). Впрочем, население Германии реагировало на русскую эмиграцию по-разному: в это же время автор одной из газетных статей в «Deutsche Allgemeine Zeitung» негодовал по поводу намерения открыть институт и бездействия правительства в этом вопросе[416]. Его негодование усилилось бы в разы, если бы он узнал, что речь идет не о «бездействии», а о помощи.
В институте планировалось проводить занятия для эмигрантской молодежи, а выдаваемые институтом свидетельства признавались при поступлении в немецкие высшие учебные заведения. Институт включал в себя три факультета: духовной культуры, которым руководил Н. А. Бердяев, юридический – под руководством И. А. Ильина и экономики, во главе которого стоял С. Н. Прокопович. Летом 1923 года был сделан первый набор студентов и слушателей, – на факультет духовной культуры записалось 263 человека! Были и иностранцы – румыны, немцы, даже один американец. Бердяев вел в Институте занятия, читал на всех трех отделениях чрезвычайно популярный среди студентов курс по истории русской мысли, проводил семинары. Впрочем, организация Русского научного института в Берлине имела и отрицательные стороны – прежде всего, ориентированность на дореволюционные реалии. Даже дипломы окончившим решено было выдавать по дореволюционному университетскому образцу. Кроме того, программы составлялись с учетом проживавших в Берлине профессоров, поэтому занятия института не всегда могли удовлетворить требованиям правильного систематического преподавания.
Бердяев, в отличие от многих эмигрантов, был буквально окружен молодежью в Берлине. Студенты Института, слушатели РФА, члены его философского кружка, молодежь на его публичных лекциях, – несмотря на то, что у него никогда не было желания стать педагогом, Бердяев находил удовольствие в общении с юными людьми: он видел, что может пробудить в них мысль. Один из этих молодых людей вокруг Бердяева был Владимир Николаевич Ильин. Он прибыл в Берлин из Константинополя. В один из дней Евгения Юдифовна заметила в русской церкви дурно и бедно одетого молодого человека, заговорила с ним и, узнав, что он киевлянин (как и Николай Александрович), интересуется философией и богословием, пишет музыку, пригласила его в дом, где он познакомился с Бердяевым. Николая Александровича Владимир Ильин заинтересовал, он увидел в нем недюжинные способности. Владимир Николаевич стал завсегдаем бердяевского кружка, заседаний РФА, присутствовал на бердяевских лекциях, очень часто бывал у Бердяева дома – постепенно он стал достаточно близким человеком для всего бердяевского круга. К сожалению, уже в Париже, их пути разойдутся, и достаточно болезненно для Николая Александровича: он многое сделал для Ильина, и публичное выступление Владимира Николаевича с написанной в неуважительном тоне критической статьей по-настоящему ранило его. Но пока Владимир Ильин рядом, – в том числе, он стал активистом Русского студенческого христианского движения, много сил и времени которому отдал и Николай Александрович.
Русское студенческое христианское движение (РСХД) возникло в том же 1923 году и тоже при поддержке YMCA. Это был удивительно долгий проект, если сравнивать его с другими многочисленными эмигрантскими организациями, партиями, движениями, век которых зачастую был очень короток. РСХД, тесно связанное с религиозной жизнью диаспоры, оказалось исключительно долговечным: оно существует до сих пор. Душой движения стал С. Н. Булгаков (впрочем, правильнее было бы написать – отец Сергий, так как незадолго до высылки из России в 1923 году он был рукоположен в сан священника), в руководство вошли другие знакомые Бердяева – А. К. Ельчанинов, В. В. Зеньковский, А. В. Карташев, Н. М. Зернов и некоторые другие. Учредительный съезд РСХД состоялся в октябре в г. Пшеров, под Прагой[417], куда собрались около 60 русских и несколько иностранных студентов со всей Европы. На этом съезде произошла встреча двух поколений: деятелей русского религиозного ренессанса, заявивших о себе еще до отъезда, в России, и младшего поколения эмиграции, пришедшего в православную церковь в послереволюционные годы. Объединяющей основой для этой встречи стала общая вера.
В первый день съезда, который проходил в удивительно живописном месте – в бывшем охотничьем замке Габсбургов, по чьей-то просьбе отец Сергий Булгаков согласился отслужить раннюю литургию (еще до официального открытия съезда). К удивлению, на нее пришли почти все участники, включая иностранцев. Отец Сергий служил с молитвенным подъемом, зажег сердца собравшихся. Бердяев говорил, что эта литургия решила участь съезда, – она определила характер студенческого движения. Неслучайно движение избрало своим лозунгом «Оцерковление всей жизни». Каждый последующий день съезда тоже начинался литургией, которую отец Сергий служил в зале замка. РСХД планировал заняться организацей библейских кружков, семинаров для изучения христианства, социальной работой, чтобы помочь нуждающимся, устройством школ и другими задачами. Бердяев не просто присутствовал на этом съезде, он сделал там центральный по значимости доклад; стал почетным членом совета РСХД и участвовал в его работе вплоть до 1936 года. (По дороге Николай Александрович заехал и в Прагу, – тема о возможном переезде туда из Берлина периодически поднималась в его окружении.)
В это же время было создано и братство святой Софии, точнее – Православное Братство во имя святой Софии-Премудрости Божией[418]. «Православные братства» – удивительное явление в истории, получившее особенный размах со второй половины 19 столетия. С одной стороны, так называли «духовную семью», с другой – братствами бывали и религиозные организации мирян и духовенства, имевшие целью помощь кому-то или просветительскую деятельность. В данном случае, оба значения совпадали. С одной стороны, речь шла о соединении близких по мироощущению людей, которые хотели быть связаными духовными узами друг с другом. С другой – братство намеревалось проводить ежемесячные собрания, на которых планировалось обуждать доклады на церковно-исторические темы. Важной задачей братства являлось и духовное руководство РСХД. На съезде РСХД в Пшерове эта идея и возникла: в России существовало братство святой Софии с 1919 года, большинство его членов оказалось в эмиграции, многие из них были участниками пшеровского съезда. Поэтому мысль о возрождении братства буквально носилась в воздухе. «Мысль эта была принята, решено было пригласить всех русских религиозных мыслителей и писателей»[419], – писал о возрождении братства один из его членов, Василий Зеньковский. Главой воссозданного братства избрали отца Сергия Булгакова, секретарём – Зеньковского. В братство входил еще 21 человек: Н. А. Бердяев (Берлин), Н. С. Арсеньев (Париж), С. С. Безобразов (Белград), Г. В. Вернадский (вышел из братства едва в него вступив), А. В. Ельчанинов (Ницца), А. В. Карташев (Париж), П. И. Новгородцев (Прага), П. Б. Струве (Прага), С. Л. Франк (Берлин), Г. В. Флоровский (Прага), другие философы, богословы, историки, профессора разных институтов и университетов. Все члены братства были интеллектуалами, для которых религиозная и церковная проблематика представляла особый интерес. Несколько позже в него вошли Г. П. Федотов и В. В. Вейдле, а в агусте 1924 года по предложению Бердяева был принят Б. П. Вышеславцев. Бердяев воспринял идею братства очень горячо: несмотря на активную общественную жизнь, он был одиноким человеком, трудно сходился с людьми, у него практически не было близких друзей. Евгения Герцык осталась в России, Лидия Юдифовна большую часть душевных сил посвящала своей католической вере, его свояченица Евгения была, конечно, родным человеком, но вряд ли с ней можно было «на равных» обсуждать философские проблемы. Братство же должно было стать союзом религиозных мыслителей, дискуссии с которыми могли многое дать для его интеллектуального развития, более того, Бердяев ожидал, что братство станет родством не крови, но по духу, которое сможет восполнить пустоты в его жизни.
Первые заседания были посвящены рассмотрению Устава, молитвенного правила (обязательного для членов братства), общебратского годового праздника (21 сентября). Затем началось ежемесячное обсуждение докладов. С самого начала одной из центральных проблем стал вопрос отношения церкви к власти, – недаром первым предметным обсуждением стал разбор книги одного из членов братства историка М. В. Зызыкина «Царская власть и закон о престолонаследии в России», изданной в Софии. Обсуждался известный общий принцип апостола Павла: «несть власти аще не от Бога». Применимо ли это и к советской власти (разумеется, имея в виду, что «подобает Богу повиноватися более нежели человеку»)? Затем на первый план вышла тема Софии, – во многом благодаря богословскому интересу к этому вопросу Булгакова. Рассматривались и проблемы экуменизма, объединения христианских конфессий (большинство членов братства поддерживало экуменизм). Братство существовало долго – до смерти Булгакова в 1944 году, переехав потом в Париж. Конечно, к началу второй мировой войны заседания проводились уже гораздо реже – пару раз в год, но роль братства была велика и в Богословском Православном Институте в Париже, и в жизни каждого из «братьев». Бердяев же покинул братство гораздо раньше – в 1925 году. Поводом стали разногласия с П. Б. Струве, трещина в отношениях с которым так и не зарастала, – он выступил с критикой Бердяева в основанной им газете «Возрождение». Глубинной же причиной стало признание того, что «духовной семьи» не получилось. Бердяев ожидал от братства – братства, духовных уз, готовности прийти на помощь, интереса к мыслям друг друга. На деле так не вышло: люди в братстве имели много общего, но воистину христианских отношений не сложилось. Бердяев же, как всегда, был перфекционистом, мечтал об идеале, он не был согласен на меньшее. Публичные нападки Струве (через газету! не в личной беседе!) Бердяева обидели и, как он писал Булгакову, сделали для него очевидным, что братскими отношениями здесь и не пахнет… Булгаков тоже довольно тяжело пережил этот момент в истории братства, он даже думал, что братство распадется. Так не случилось, но Бердяев, написав письмо другим его членом, из него вышел. Его иногда приглашали на заседания, он с удовольствием приходил на них и участвовал в обсуждениях, но частью братства св. Софии больше себя не считал.
В ноябре 1923 года Бердяев оказался на две недели в своей любимой Италии, в Риме – там проходила конференция, организованная Итальянским комитетом помощи русским интеллигентам. Из Берлина для участия в этой конференции прибыл не один Николай Александрович, вместе с ним участие в конференции принимали Б. Зайцев, С. Франк, Л. Карсавин, Б. Вышеславцев, П. Муратов, М. Осоргин. Бердяев прочитал по-французски доклад «Русская религиозная идея».
Рим вызвал волну воспоминаний, – как ходили по старым базиликам с Евгенией Герцык, пили с ней кофе в римских кафе, любовались фонтанами… Тогда Бердяев говорил ей:
– Я не люблю Вашего Рима. Мертвенная скука мраморов Ватикана с напыщенным Аполлоном Бельведерским и грузными ангелами, нависшими над алтарями барочных церквей.
Действительно, он предпочитал Флоренцию, замершую в Ренессансе. Но сейчас прогулки по солнечным даже в ноябре римским улицам вызвали чувство тоски по оставленному, прошедшему, прожитому. Под влиянием воспоминаний Николай Александрович послал открытку в Судак, причем специально выбрал такую, где было изображено место, памятное обоим, – пьяцца Венеция. Он предложил Евгении Казимировне подумать о переезде в Европу.
Герцык с радостью получала весточки от Николая Александровича, в ответных письмах рассказывала о своих мыслях и чувствах. Писала, что полюбила «странничать» – с котомкой за плечам проходила совсем одна иногда по сто верст по родным крымским дорогам («Такая свобода и полное отсутствие страха»). Но от планов эмиграции наотрез отказалась: «Живем мы благополучно, хоть и бедно. Пойми, друг мой, чтобы переезжать с такой больной – нужно иметь неограниченные миллиарды»[420]. Ее сестра, Аделаида, была очень больна, знала, что скоро умрет (так и случилось, – она умерла 25 июня 1925 года в Судаке, оставив на попечение сестры и мужа двоих сыновей), Евгения Казимировна не могла оставить ее. Мысль о близких людях, оставшихся в России, прежде всего – о Евгении, угнетала Николая Александровича и заставляла с особенной остротой чувствовать все границы и километры между ними. Спасала работа.
Берлинский период оказался для Николая Александровича плодотворным. Он познакомился с рядом выдающихся немецких мыслителей – Освальдом Шпенглером, книгу которого обсуждали на собрании ВАДК в Москве, с Максом Шелером и Германом Кайзерлингом, который помог опубликовать на немецком его книгу «Смысл истории» и стал довольно близким человеком для Николая Александровича. «Брал очень много книг из Берлинской государственной библиотеки и перечитал целую литературу»[421], – вспоминал Бердяев о своем берлинском бытии. Но он не только читал, но и много писал. В Берлине увидели свет несколько его книг, – как написанных еще в России, так и созданных здесь. Были опубликованы «Миросозерцание Достоевского» и «Смысл истории», рукописи которых Николай Александрович вывез из Москвы, и небольшая книжка «Новое средневековье», написанная уже в Берлине и напечатанная в издетельстве «Обелиск». Первые две книги были написаны Бердяевым на материале тех курсов лекций, что он читал в ВАДК и в Московском университете, третья – принесла ему европейскую известность.
Книгу, посвященную Достоевскому, можно назвать одной из лучших в обширном «достоевсковедении». Для Бердяева эта работа во многом носила принципиальный характер, ибо «творчество Достоевского есть русское слово о всечеловеческом… Понять до конца Достоевского – значит понять что-то очень существенное в строе русской души, приблизиться к разгадке тайны России»[422]. Предисловие к книге было датировано Бердяевым сентябрем 1921 года. Бердяев пояснял читателям, что книга была написана еще в Москве. (Философу удалось вывезти из Москвы автографы пяти книг, четыре из которых он опубликовал в 1923-1926 годах, а одна, «Духовные основы русской революции», в полном виде так и не была издана). В книгу о Достоевском автором было вложено много личного, и творчество Достоевского было рассмотрено им сквозь призму собственной философии свободы. Правомерен ли такой подход? С одной стороны, Бердяев проницательно и тонко показал, какую огромную роль в миросозерцании писателя играла диалектика свободы. Для Бердяева Достоевский – не только великий художник, но и «гениальный диалектик, величайший русский метафизик», которого интересовал человек, выпавший из колеи обычных действий и поступков, «отпущенный на свободу», бунтующий, а не спокойный обыватель в привычной череде своих поступков. Романы Достоевского – исследование судеб и путей человеческой свободы, может быть, именно поэтому Бердяев, создатель философии свободы, воспринимал творчество писателя как свою «духовную родину»[423]. Но, с другой стороны, Достоевский, разумеется, не исчерпывается темой свободы, хотя и включает ее. В этом смысле книга Бердяева – не только и не столько о миросозерцании Достоевского, сколько о миросозерцании ее автора.
Бердяев «расшифровывал» судьбу свободы того или иного персонажа романов Достоевского: беспредметна и пуста свобода Ставрогина и Версилова, разлагает личность свобода Свидригайлова и Федора Павловича Карамазова – такая свобода с неизбежностью ведет к угашению личности, она поражает болезнью человеческую совесть и приводит, в конце концов, к насилию (а значит, и к отрицанию самой свободы). Характерен в этой связи пример Шигалева, проходящего путь от безграничной свободы и своеволия к безграничному деспотизму. Почему? Потому что, несмотря на свою значимость, свобода не может быть самодовлеющей целью человеческого бытия. Такая «неприкаянная» свобода патологична, порочна. В самой свободе содержится указание на ее использование для ценностей высших, нравственных, которые для религиозного философа всегда связаны с высшим началом. Именно в зависимости от различной своей ориентации свобода может привести к Богочеловечеству – раскрытию в каждой личности божественного творческого начала, нравственному возвышению человека, и к человекобожию – своеволию, бунтующему самоутверждению человека, когда нет ничего выше человека (на этом пути человека гибнет как моральное существо). Но «если все дозволено человеку, то свобода человеческая переходит в рабствование самому себе… Образ человеческий держится природой высшей, чем он сам»[424], – предупреждал вслед за Достоевским Бердяев.
В своей книге Бердяев не раз употребил слово «бесы», вообще часто встречающееся в его работах, но не как заглавие известного романа. (Кстати, выпуск этой книги Достоевского в советской России двадцатых годов издательством «Academia» вызвал бурю критики со страниц партийной печати, после чего стало ясно, что даже произведения писателей-классиков могут быть отнесены в разряд «неразрешенных»). Бердяев попытался раскрыть природу зла, показывая, что, когда человек одержим безбожной («бесовской») индивидуалистической или коллективистской идеей, для него возможна любая жестокость или бесчеловечность. «Если Бога нет, то все позволено», – эта формула явно и скрыто присутствует во всех романах Достоевского. Раскольников, рационально «рассчитавший» убийство старухи-процентщицы, разговор черта с Иваном Карамазовым, болезненная одержимость Кириллова – иллюстрации путей атеистического бунта, своеволия и одержимости. Своего рода логическое завершение этот процесс истребления свободы в результате освобождения ее от высших нравственных начал получает в концепциях принудительного «человекоустроения». Достоевский, интуитивно ощутивший надвигающуюся революцию, предостерегал, что она может привести не к свободе, а, наоборот, к страшному порабощению человеческого духа, стать «судорогой» шигалевского толка. Естественно, что эта тема была близка Бердяеву, который в целом ряде своих работ анализировал революционную идеологию русской интеллигенции.
Бердяев очень остро чувствовал переломность своей эпохи, ее духовный кризис. Начиная с 1917 года темы философии истории занимают все большее место в его творчестве. Именно философия истории Бердяева вызвала к нему такой интерес на Западе. Речь может идти, прежде всего, о таких его книгах, как «Смысл истории» и «Новое средневековье». Кризисные мотивы бердяевских работ оказались созвучны темам западной философии, мироощущению европейского интеллектуала.
Для христианина непреложна истина о существовании двух планов бытия – мира горнего и мира дольнего. Дуализм бытия и является основой его динамики. Соотношение духовного и материального мира отражается в смысле бытия. Смысл – одно из ключевых понятий в философии истории Бердяева. Он разводит его с понятием «цель», считая, что цель обыкновенно относится к будущему, причем настоящее рассматривается как средство для достижения этой цели. Смысл же должен присутствовать в каждом мгновении бытия, он проявляется в судьбе культуры, человека, человечества. Оба эти понятия чрезвычайно часто встречаются в бердяевских текстах, названиях статей и книг, что позволяет предположить их принципиальное значение для его творчества. Если «смысл» отражает религиозные установки Бердяева, его уверенность в том, что внешний мир не самодостаточен, то «судьба» говорит о его экзистенциализме, ориентации на личность. В чем же видит Бердяев смысл истории и какова судьба человечества в ней?
Чтобы ответить на эти вопросы, стоит сказать, что Бердяев писал об истории не только земной, но и небесной. Еще в молодости Бердяев испытал достаточно сильное влияние философии Канта. Он принял в качестве некой исходной точки кантовский дуализм «вещей в себе» (высшей реальности) и явлений (мира вокруг нас). Для Бердяева этот дуализм проявляется как противопоставление духа и природы. Подлинная реальность есть дух, «небесная история», а кантовский «мир явлений» есть, по Бердяеву, мир объективации, нечто, противостоящее духу, чуждое ему. Сам он называл небесную историю «прологом на небе» того, что потом развертывается и раскрывается в земной судьбе человека и человечества. Причем речь здесь идет не только о некой божественной истории, но и о внутренней жизни духа: «Небо и небесная жизнь, в которой зачат исторический процесс, есть ведь не что иное, как глубочайшая внутренняя духовная жизнь, потому что, поистине, небо – не только над нами и не только в каком-то отдалении от нас….небо есть и самая глубочайшая глубина нашей духовной жизни…»[425].
Получается, что история имеет источник не только в Абсолютном, но в и в глубинах человеческого духа, что не только Бог, но и человек предопределяет свою земную судьбу и судьбу человечества. «История – не только откровение Бога, но и ответное откровение человека Богу… Поэтому история есть такая страшная, такая сложная трагедия»[426], – писал философ. Мир, общество, история – результат объективации, опредмечивания творческой деятельности человека, ее противоречивости. Человек есть «манифестация духа», дух утверждает свою реальность через человека. В этом смысле человек «однокачественен» Богу, поэтому и возможен «завет» (союз) Бога и человека. «Бог возжелал своего другого и ответной любви его», что стало причиной творения мира и человека. Тем не менее, возникновение мира не устраняет наличие первичной бездны, свободы Ungrund, то есть творение остается незавершенным. Согласно Бердяеву, из первичной бездны вечно рождаются Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух святой, причем бездна, Ungrund не полностью перешла, преобразилась в святую Троицу, она продолжает сосуществовать с Богом. Мир вокруг нас имеет свои корни не только в божественном творении, но и в первореальности бездны.
Бердяев постоянно возвращался к образу первоначального хаоса, бездны, меонической свободы. Видимо, это было связано не только с его интеллектуальными постороениями, но и с особенностями характера. В письмах он упоминал, что чувствует бездну внутри себя, поэтому в его жизни было так много дисциплинирующих усилий: распорядок дня, напряженная работа, не взирая на настроение и состояние духа, пунктуальность, военный порядок на письменном столе и в кабинете, особая эмоциональная чувствительность к произведениям искусства, в которых приоткрывалось иррациональное начало мира. Эта иррациональная свобода ощущалась им и в истории. Свобода вечна, попытки же построить рациональное общество – конечны и ограничены.
Вопрос о соотношении времени и вечности очень занимал Бердяева. По его мнению, все мы живем не в каком-то одном времени, а по меньшей мере в трех: раз человек является существом природным, социальным и духовным одновременно, то и времени для него существует тоже три – космическое, историческое и экзистенциальное. Бердяев даже нашел геометрический образ для описания каждого времени – круг, линия и точка. У космического времени – природная закономерная логика круговорота, оно оперирует не днями и годами, а эпохами, тысячелетиями. Историческое же время идет по прямой и оперирует меньшими временными категориями. Но наиболее значительные события совершаются во времени экзистенциальном, именно в нем происходят творческие акты, свободный выбор, формируется смысл существования. Для него относительна длительность события: иногда день для человека более значителен и долог, чем десятилетие, а иногда и год промелькнет незаметно.
Наше земное время само есть лишь этап, период внутри вечности, оно «зачинается» в вечности, укоренено в ней. Вечное воплощается во времени, вторгается в него (как небесная история вторгается в земную), и история становится историей борьбы вечного с временным. Но силы не равны. Вечное возьмет верх над всем тленным и скоротечным: «Мы живем в падшем времени, разорванном на прошлое, настоящее и будущее, – писал Бердяев. – Победа над смертоносным потоком времени – основная задача духа. Вечность не есть бесконечное время, измеряемое числом, а качество, преодолевающее время»[427]. Выйдя из вечности и осуществив какую-то задачу, наша история когда-нибудь должна закончиться, Бердяев был абсолютно убежден в этом. «Смысл истории – в ее конце» – этот известный афоризм Бердяева лучше всего иллюстрирует проблему соотношения временного и вечного в его философии истории. Бердяев не раз подчеркивал, что признание бесконечного прогресса во времени есть признание бессмысленности истории, смысл же истории предполагает ее конец. В противном случае, при предположении «дурной бесконечности» мирового процесса, считал Бердяев, в истории не было бы разрешения, перехода в другое состояние, выхода из несовершенства в полноту вечной жизни. Эсхатологические мотивы, обостренное ожидание завершения этого падшего мира многое объясняют в философии истории Бердяева и прежде всего то, почему, живя в такое «вулканическое» время, он был достаточно равнодушен к политическим оценкам, прогнозам и тому подобным «частностям». (Кстати, Бердяев вообще считал эсхатологизм характерной чертой русского человека.)
Бердяев был убежден, что мечты о воплощении когда-либо в истории идеального общества всегда останутся лишь мечтами. Утопии земного рая несостоятельны с христианской точки зрения потому, что «жизнь абсолютная не вмещается в эту, со всех сторон сдавленную и ограниченную действительность»[428]; разорванное на прошлое, настоящее и будущее время не может вместить в себя совершенство. История – путь к иному миру, значит, задача истории разрешима лишь за ее пределами, в сверх-истории, в вечности. Если не понимать ограниченности истории, то «нельзя не придти к самым пессимистическим, безнадежным результатам, потому что, с этой точки зрения, все попытки разрешения всех исторических задач во все периоды должны быть признаны сплошной неудачей. В исторической судьбе человека, в сущности, все не удавалось и есть основание думать, что никогда и не будет удаваться. Не удался ни один замысел, поставленный внутри исторического процесса. Никогда не осуществлялось то, что ставилось задачей и целью какой-либо исторической эпохи… Если взять исторический процесс в целом, то коренной неудачей, которая этот процесс поражает, нужно признать, что в нем не удается Царство Божие…»[429]. Поэтому все надежды на осуществление такого Царства Божьего, как бы оно ни называлось – коммунизмом, теократией ли, не могут сбыться в истории человечества. С этим принципиальным положением были согласны и Франк, и Федотов, и Зеньковский, впрочем, так же, как и любой верующий христианин. Цель и оправдание истории заключались для Бердяева лишь в конце исторического мира, который должен наступить не как катастрофа или наказание за грехи, а как победа освобожденного человека над материальным миром: «Мир должен кончиться, такой мир не может существовать вечно»[430].
Значит ли это, что Бердяев отказывал человечеству в реальном будущем? Разумеется, нет. Не одну страницу своих произведений он посвятил анализу современного ему состояния общества. Он оценил это состояние как кризисное, как «конец ренессансного периода истории»[431]. Не только Бердяев, но и Шестов видели источник кризисных процессов современной им культуры в эпохе Возрождения. Шестов считал, что именно в эпоху Ренессанса начинается возвеличение человека, его ума, красоты, силы, и тогда же начали забывать о том, что человек – лишь образ и подобие Божье. Но если не помнить этого, то что же тогда возвеличивать, – хорошо организованное животное? Усовершенствованную лягушку?
Бердяев несколько сместил акценты. Средние века дисциплинировали человека, формировали у него ориентацию на духовную жизнь. Образы средневековья – это образы монаха и рыцаря как двух разновидностей аскетической личности, сконцентрированной на своем внутреннем мире. Вместе с тем, средневековье сковывало свободу творчества, поэтому на смену ему пришел Ренессанс, который Бердяев увидел как мистическую эпоху (что, думаю, во многом соответствовало действительности). Ренессанс характеризовался Бердяевым как эпоха отпадения человека от Бога, что породило самонадеянность человека и человечества. В конце концов, это привело к иссяканию творческих сил, не служащих высшей, абсолютной цели. Самонадеянность человека лучше всего выразилась в эпоху позднего Возрождения и Новое время, когда стало складываться новое отношение человека к природе, – отношение господина и покорителя. Связано это было с вхождением машин и техники в человеческую жизнь. Бердяев называл это величайшей революцией в истории человечества, радикально изменившей весь склад и ритм жизни. Машина не только покорила природу, она покорила и человека. Цивилизация развила колоссальные технические силы, которые, по замыслу, должны были обеспечить господство человека над природой. На деле же эти технические силы властвуют над самим человеком, делают его рабом техники, убивают не только его душу, но иногда и тело. Интересно, что еще в начале 20-х годов Бердяев предвидел нечто подобное будущей атомной бомбе.
Человек попал в новое рабство, – коллективистскую зависимость от машины, техники (ибо техника требует коллектива). Само мышление человека становится техническим, техницизм проникает во все поры его жизни. В такой технической цивилизации преобладающим становится стремление иметь, а не быть, стремление к наслаждению, комфорту, узко прагматическое, потребительское отношение к миру. Все оценивается с точки зрения полезности. Исходя из такой оценки, стоящими внимания объявляются лишь техника, организация, производство, прикладные отрасли науки, вся же духовная жизнь, духовная культура воспринимаются как нечто иллюзорное, призрачное, необязательное. Техническая цивилизация провозглашает «культ жизни вне ее смысла»[432]. Философ сделал и еще один чрезвычайно интересный вывод: власть техники благоприятствует установлению коллективизма и тоталитаризма.
Такой осторожный подход к технике не был абсолютно оригинальным (Бердяев почти всегда «шел в ногу» с другими интеллектуалами, хотя и считал себя вполне искренно «одиночкой»). Многие западные философы, социологи, писатели между двумя мировыми войнами чувствовали ту же опасность. Например, немецкий экзистенциализм одновременно с Бердяевым тоже поставил вопрос о противоположности «орудования техникой» и «интимного отношения к вещам». Но самым ярким описанием бесчеловечного будущего цивилизации, поклоняющейся науке и технике, видимо, стал знаменитый роман-антиутопия О. Хаксли «О новый дивный мир!», написанный в 1932 году. В своем романе-предостережении Хаксли нарисовал жутковатый облик грядущего, когда неслыханный технический прогресс порождает нравственную деградацию выращенных в колбах людей. По сравнению с людьми из рационального устроенного мира будущего, обладающими красивыми телами, не знающими старости и горя, даже дикарь, прочитавший за всю жизнь одну книжку (правда, книжку Шекспира), выглядит душевно сложнее и выше, человечнее. Симптоматично, что эпиграфом к своему роману Хаксли взял цитату из книги Бердяева «Новое средневековье».
По Бердяеву, техническая цивилизация означала разрыв с миром природы, с органическим типом развития человечества. Когда человек начал не просто использовать силы природы, но строить машины, – он стал жить уже не в органическом, а в организованном мире. Этот переход Николай Александрович назвал переходом «от растительности к конструктивности». Человеческие творения нередко восстают на своего создателя, используются ему во вред, грозят человечеству гибелью. По-новому повторяется библейское сказание о грехопадении: творение восстает на своего творца. Техника начинает занимать не подобающее ей решающее место в человеческом существовании. По мере распространения технической цивилизации человек меняется, становится придатком машины, зависимым от нее. Бердяев предостерегал, что это может изменить саму человеческую сущность, сорвать осуществление «Божьего замысла о человеке». Таким образом, безграничная умственная свобода, которую принес человечеству Ренессанс (в том числе, и свободу религиозных убеждений), начала истощаться, исчерпывать себя, а ее результаты – техника, машины – лишь порабощали человека.
Вслед за Ренессансом установилась нехристианская по своей сути эра новой истории. Новое время освободило человека внешне, но лишило его внутренней духовной дисциплины и зависимости от всего «сверхчеловеческого». В результате к 19 веку гуманистическая культура практически исчерпала себя, развив все человеческие потенции, которым давала простор, но потеряв накопленную в предыдущие века веру в сверх-задачу человеческого существования. Наступила эпоха разочарования. Самые гордые и смелые мечты человека не осуществились, «человек стал бескрылым»[433], время после средневековья было временем растраты человеческих сил. Сам гуманизм, будучи оторванным от религиозной почвы, привел к своей противоположности – к антигуманизму «мещанской цивилизации». Выход Бердяев видел во вступлении человечества в эпоху «нового средневековья».
Концепция «нового средневековья» была попыткой философа наметить пути, которые могли бы вывести человечество из кризисного состояния. Несмотря на многие негативные моменты, средневековое общество имело огромное преимущество перед современным: благодаря христианству, оно было идеологически единым, устремленным не к материальному, а к духовному. (Кстати, это импонировало в средневековье и другим мыслителям – Л. Шестову, Э. Фромму). В новом средневековье человек «вновь должен подчинить себя высшему, чтобы окончательно не погубить себя»[434]. Бердяев был уверен, что современное ему общество переживает состояние, схожее с падением Римской империи, когда христианство духовно спасло мир от окончательного нравственного разложения. Его призыв к новому средневековью был призывом к новому христианскому сознанию, к религиозной революции духа. Концепция «нового средневековья» стала своеобразной бердяевской вариацией на темы русского религиозного ренессанса начала века.
Интересно, что, по мнению Бердяева, в обществе «нового средневековья» большую роль будет играть женщина. Прежняя культура с ее исключительным господством мужского начала, считал он, исчерпала себя. «Мужская культура слишком рационалистична, слишком далеко ушла от непосредственных тайн …жизни»[435], – писал Бердяев. Именно мужское начало, определяющее жизнь общества, сделало возможным мировые войны. Поэтому будущее человечества связано с ростом женского влияния на культуру и общество.
Бердяев так описывал наступающую, по его мнению, эпоху нового средневековья: «Религия опять делается в высшей степени общим, всеобщим, всеопределяющим делом»[436], общество станет сакральным[437], все стороны его жизни будут подчинены духовной цели. Но и советское общество в каком-то смысле можно считать сакральным, недаром марксизм Бердяев рассматривал как религию, а не как философскую или экономическую теорию. Советское общество было объединено идеей, а не экономикой или географией. В этом смысле, советское общество (которому он отнюдь не симпатизировал) уже принадлежало «новому средневековью», ведь наступление новой эпохи «не значит, что в новом средневековье обязательно количественно победит…религия Христа, но это значит, что в эту эпоху вся жизнь со всех своих сторон становится под знак религиозной борьбы, религиозной поляризации, выявления предельных религиозных начал. Эпоха обостренной борьбы религии Бога и религии дьявола, начал христовых и начал антихристовых будет уже не секулярной[438], а религиозной, сакральной эпохой по своему типу, хотя бы количественно побеждала религия дьявола и дух антихриста. Поэтому русский коммунизм с разворачивающейся в нем религиозной драмой принадлежит уже к новому средневековью, а не старой новой истории»[439].
Книга «Новое средневековье» была первой бердяевской работой, которая стала доступна иностранному читателю, ее ждал огушительный успех в Европе. Имя Бердяева стало известно, книга была переведена на четырнадцать языков. Один из историков русской философии, С. А. Левицкий, так оценил выход книги: «Будучи переведена на иностранные языки, она произвела сенсацию, ее читали наряду с «Закатом Европы» Шпенглера. С этих пор Бердяев начал пользоваться в западном мире огромной популярностью»[440]. Замечена работа Бердяева была и в эмиграции, появились отклики на книгу в эмигрантской печати, бердяевские идеи обуждались на собраниях и в кружках. Например, Лев Карсавин высоко оценил эту работу Бердяева, хотя и высказал ряд серьезных замечаний. Интересно, что с косвенной критикой понимания истории Бердяевым выступил Владимир Набоков, который и сам не чуждался философии. В берлинском литературном кружке Ю. Айхенвальда он прочитал не только свою «Машеньку», но и несколько своих эссе и докладов на темы философии истории. В его докладе «On Generalities» досталось не только Марксу, но и Шпенглеру с Бердяевым. Дело в том, что Набоков был против любых попыток увидеть закономерности и тенденции в истории, где, по его мнению, всегда царит случай: «Глупо искать закона, еще глупее его найти…. К счастью, закона нет никакого – зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, – все зыбко, все от случая»[441]. Значит, и ожидание нового средневековья – пустая трата времени. Не был согласен Набоков и с критикой техники и машин Бердяевым: он отрицал какое-либо принципиальное отличие наиновейших технических достижений от машин и инструментов былых времен.
К середине 1923 года экономика Германии достигла нижней точки за послевоенные годы, безработица составляла около 30 %, а курс марки менялся уже не каждый день, а каждый час – в оборот были введены миллиардные банкноты. Понять темпы инфляции поможет такой наглядный пример: в декабре 1922 года килограмм хлеба в Берлине стоил около 130 марок, а годом позже – свыше 300 миллиардов! Заработную плату рабочим выдавали каждый день, чтобы они могли успеть хоть что-то купить на полученные деньги. Политическая обстановка тоже была нестабильной. Массовые забастовки, Гамбургское восстание коммунистов, провалившийся национал-социалистический «пивной путч» в Мюнхене, – русские эмигранты, прошедшие через опыт революций дома, в России, очень настороженно относились к происходящему. Для них это было deja-vu, которое пугало. Семья Бердяевых состояла из четырех человек, и заработки Николая Александровича позволяли ее обеспечивать лишь самым необходимым и элементарным. В свое время Бердяевы решили остаться в Берлине, именно потому что жизнь здесь была очень дешева, но ситуация резко изменилась. Будущее Религиозно-философской академии – детища Бердяева и Научного института казалось неясным. В это время Николай Александрович начал подумывать о переезде из Берлина. Самым естественным выбором был Париж, – там были друзья (Лев Шестов, например, жил там с 1920 года), Лидия Юдифовна, ее сестра и, конечно, сам Николай Александрович хорошо знали французский язык (немецкий Бердяев знал много хуже, он свободно на нем читал, но публичные выступления на немецком для него были затруднительны), а главное – до Бердяева доходили слухи о том, что в Париже затевается что-то вроде русского философского института, где можно было получить работу.
Летом 1924 года Бердяев переехал во Францию, где прожил в пригороде Парижа четверть века, лишь ненадолго выезжая в Англию, Австрию, Италию, Латвию, Польшу, Бельгию, Швейцарию, Эстонию, Чехословакию и другие страны для чтения лекций и публичных выступлений.
15. Париж: в столице Зарубежной России
В Париже самая злостная эмиграция – так называемая идейная: Мережковский, Гиппиус, Бунин и др.
В. МаяковскийПереезд в Париж был не просто географическим перемещением для Бердяева; изменилось его отношение к окружающему миру. Если в Берлине он чувствовал себя временным странником, оказавшимся там неожиданно для себя, в результате трагического поворота жизни, то в Париж он приехал иначе: это был его сознательный выбор, он уже вполне адаптировался к эмигрантскому существованию, да и книги его, переведенные на европейские языки, позволяли чувствовать себя европейским мыслителем. Сам Бердяев писал об этом следующее: «Двухлетняя жизнь в Берлине была введением в мою жизнь на Западе. Германия находится на границе русского Востока и европейского Запада. Я вполне вошел в жизнь Запада, в мировую ширь лишь в Париже, и у меня началось интенсивное общение с западными кругами»[442]. Конечно, парижская жизнь показалась Бердяевым сначала гораздо более бурной, чем берлинская, – Лидия Юдифовна писала в одном из своих писем Евгении Герцык, что Париж «после провинциального, чистого и тихого Берлина показался Вавилоном».
В 1924 году русский Берлин начинает сходить на нет, и не только Бердяевы, – многие перебираются в Париж. Во Франции атмосфера была другая: люди оседали на годы. Париж стал тогда чем-то вроде магнита, притягивавшим русских беженцев со всех концов Европы, – тогда русских в Париже и пригородах начитывалось до 45 тысяч человек. Большинство работали на заводах Рено и Ситроена, расположенных на юго-западе Парижа в Биянкуре (который получил шутливое название Биянкурска), многие стали шоферами такси (извозом чаще всего занимались вчерашние офицеры), но одновременно русские необыкновенно ярко заявили о себе в культурной жизни французской столицы. Здесь открылось 9 русских высших учебных заведений: в 1920 году начал свою деятельность Русский политехнический институт, через год заработали русские отделения при Сорбонне, где преподавали около 40 русских профессоров, в этом же году открылся Народный университет, в 1925 году были созданы Франко-Русский институт и Православный богословский институт, открыли двери для студентов Коммерческий институт и Высший технический институт (существовавший вплоть до 1962 года), функционировали Высшие военные курсы, основанные замечательным военным мыслителем генералом Н. Головиным, приобрела известность Русская консерватория им. С. Рахманинова.
Выставки русских художников, объединения русских писателей, лекции русских профессоров, – все это сделало заметной «русскую ноту» в мелодии парижской жизни. «Русский стиль» одно время был в моде: антикварный магазин князя И. Куракина расписал И. Билибин. Русские художники оказывали влияние на декоративно-прикладное искусство: И. Зданевич стал художником по тканям в Доме Коко Шанель, М. Васильева занималась проектированием мебели и делала куклы, Ю. Анненков разрабатывал эскизы костюмов для звезд театра и кино. Князь Феликс Юсупов со своей женой Ириной создали Модный Дом «Ирфе» с русским персоналом. Этот Дом существовал с 1924 по 1931 год. Юсупов стал и инициатором создания Школы прикладных искусств им. Строганова, которая готовила мастеров для русских предприятий. Дом мод «Китмир» был создан и великой княжной Марией Павловной Романовой. «Русский балет» Сергея Дягилева завораживал своими постановками парижан. В традиционном районе французских художников образовался «русский Монпарнас» (связанный, прежде всего, с деятельностью Г. Адамовича), писатели по воскресеньям собирались в салоне Мережковских. А. Ремизов считал, что в начале 30-х годов в Париже было около трехсот русских писателей! Недаром время с середины 20-х годов и вплоть до оккупации немецкими войсками многие исследователи эмиграции называют «золотым веком русского Парижа».
Кстати, у «золотого века» была и своя (пусть и очень скромная) материальная база. В феврале 1921 года в Париже был образован Земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей. Земгор получал субсидии от частных лиц (Рахманинова, например), а также в его распоряжение были переданы деньги русского посольства во Франции, то есть средства, вырученные от последнего, самого крупного золотого займа Колчака. Было получено двадцать два с половиной миллиона долларов, по тем временам – колоссальные деньги, и не все успели потратить на винтовки, пулеметы и патроны. Тоненький ручеек этих денег еще годы поддерживал издание русских журналов, работу студий, институтов, школ, жизнь эмигрантов, обратившихся за помощью в Земгор или Эмигрантский комитет.
Большое значение имело и появление во Франции (как и в других странах русского рассеяния) Русской Академической группы, которая возникла на заре эмигрантской эры, в начале 20-х, и объединяла высланную из России научную интеллигенцию с привлечением французских коллег. Начало этому явлению было положено в Берлине благодаря инициативе историка-медиевиста, академика Петербургской Академии наук П. Виноградова и последнего свободно избранного ректора Московского университета (1918-1920) биолога М. Новикова. Академические группы, подобные берлинской, возникли в Софии, Варшаве, Риге, немного позже в Великобритании, Италии, Франции, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Чехословакии, Харбине, после Второй мировой воны – в США. В 1921 году они объединились в Союз Академических организаций, а в 1923 году состоялась конференция этих групп в Праге, которая поставила задачи координации их деятельности. Кроме того, Академические группы организовывали коллоквиумы для тех, кто утерял документы и кому требовалось подтвердить свою ученую степень. Эти свидетельства во многих странах приравнивались к подлинникам и помогали эмигрантам найти работу по специальности. Бердяев тоже стал участником Русской Академической группы. Уже через несколько месяцев после своего переезда в Париж он сделал доклад на заседании группы – «О характере русской философии».
Вокруг и внутри Парижа появлялись «русские деревни» – сильно русифицированные районы с русскими магазинами, ресторанами, школами и, конечно же, с православными церквями. Бердяевы поселились в Кламаре – рабочем пригороде Парижа, где тоже жило много русских. Сделать это им помог князь Трубецкой, – с его помощью они нашли меблированную квартирку в четыре комнаты на нижнем этаже дома на улице Martial-Grand-champs, окна которой выходили с небольшой сад. До центра Парижа можно было доехать за полчаса на трамвае или поездом, дом утопал в зелени. Неподалеку находился старинный дом Григория Николаевича Трубецкого, куда Бердяевы были вскоре после своего приезда приглашены на чашку чая. Чай пили в большом саду, а вокруг оказались близкие по духу люди – Вышеславцев, отец Сергий (Булгаков), Карташов, Бунаков-Фондаминский, Зеньковский, Франк… Григорий Николаевич собирал у себя интеллектуалов, которым были интересны религиозные вопросы, – так как сам он был человеком глубоко верующим, воцерковленным, одним из основателей православного прихода в Кламаре. Не пропускал чаепития во время своих приездов в Париж и его племянник – талантливый филолог, один из зачинателей евразийства, Николай Сергеевич Трубецкой. Бердяев ценил эти встречи, они помогали ему не чувствовать себя в интеллектуальной изоляции. А немного погодя, когда их быт наладился (прежде всего, усилиями Евгении Юдифовны), Бердяевы стали и у себя собирать интересных людей. Традиция, начатая еще в Москве и продолженная в Берлине, получила парижскую «прописку».
Во Франции нашла продолжение и еще одна семейная традиция – иметь дома питомцев. Переезжая в Париж, Евгения и Лидия решили, что заводить собак и кошек больше не будут: с домашними питомцами было очень трудно куда-то уезжать, они привязывали хозяев к дому. Николай Александрович согласился с сестрами, но в 1936 году Лидия Юдифовна встретила на улице собаку, «о которой Ни мечтает уже лет десять (с Берлина, где он такую увидел в первый раз)»[443]. Собака была без ошейника, грязная, голодная, – видно, потерялась. Бердяевы подали заявление о собаке в мэрию, и Николай Александровчи боялся, что хозяин найдется, – он был так рад находке! Собака осталась у них. А в один прекрасный день у их порога появился черный котенок, пришедший из соседнего дома. Приходил он не раз, Евгения Юдифовна настойчиво возвращала его хозяевам, пока однажды те не сказали, что Бердяевы могут оставить котенка себе. Когда она рассказывала об этом Лидии, Бердяев услышал их беседу и вмешался в нее:
– Неужели вы обе не понимаете, что он хочет жить у нас? В этом все дело!
Так котенок Мури стал членом бердяевской семьи. Николай Александрович питомца очень любил, следил за его здоровьем, носил к ветеринару, а если Мури, загулявшись, не возвращался домой к ночи, не ложился спать и ждал кота. Кот платил ему взаимностью: хотя кормила его Евгения Юдифовна, именно Николая Александровича он выбрал своим хозяином. Когда Бердяевы, спустя некоторое время, переезжали в новое место, Николай Александрович сказал, что понесет кота сам, на руках. Случилось непредвиденное: Мури чего-то испугался, спрыгнул с рук и убежал. Поскольку район был для него не знакомым, надежды на его возвращение было мало. Тогда Николай Александрович из своих скромных средств нанял женщину для того, чтобы она целый день сидела в старой пустой квартире и ждала Мури, если он вдруг туда вернется. Несколько дней спустя так и произошло. Бердяев был счастлив, он даже плакал от радости!
В Париже Бердяев много и часто общался со своим давним приятелем – Львом Шестовым. Путь Льва Исаакивича на Запад не был простым. В 1920 году, когда он приехал в Париж, его работы не были переведены на французский язык, о нем никто не слышал. Постепенно о нем узнавали – из журнальных статей, из появившихся в 1923 году двух книг на французском языке. Оригинальность мысли Шестова привлекла к нему внимание французских интеллектуалов: он стал постоянным автором в трех крупнейших журналах – «La Revue Philosophique», «Le Mercure de France» и «La Nouvelle Revue Francaise», был избран в почетный президиум немецкого общества Ницше (оно роскошно потом издало книгу Шестова «Власть ключей» на немецком языке), его приглашали читать лекции о Канте, Соловьеве, Паскале в разные города Европы. В одну из таких поездок в 1926 году в Амстердам с ним захотел познакомиться Эдмунд Гуссерль, после этой и других встреч между ними завязалась оживленная переписка. В течение многих лет Лев Исаакиевич читал лекции в «Institut des Etudes Slaves» (Славянский Институт при Парижском Университете). Лекции его имели большой успех, они были напечатаные впоследствии в «Современных Записках». Преподавал Шестов и в Сорбонне – на русском языке. (Бердяева тоже пригласят читать лекции в Сорбонее, но это случится позже, в 1939.) Некоторые книги Шестова издавались по-французски раньше, чем по-русски. В 1923 году Лев Исаакиевич был приглашен на ежегодные философские собрания в бывший монастырь Понтиньи, что было очень почетно, – там ежегодно собирался цвет европейской интеллектуальной элиты. Поэтому к моменту переезда в Париж его друга, Николая Александровича, место Льва Исакиевича в парижском философском сообществе было достаточно определенным. Бердяев советовался с Шестовым о том, какие шаги и ему предпринять, чтобы его положение тоже стало более устойчивым, Шестов знакомил его с западными интеллектуалами, давал советы. Через два года «Новое средневековье» будет переведено и на французский, но пока бердяевские работы были доступны только французским славистам, знавшим русский язык. В конечном счете, постоянный заработок обоим давало преподавание. Правда, в отличие от Бердяева, Шестов чтения лекций не любил – «разве можно профессорствовать о земле обетованной?»[444], – писал он в письме к Евгении Герцык. Бердяев к этому относился иначе: в чтении лекций он видел исполнение некоторой просветительской задачи. «Я говорю Н.А. (Бердяеву – О.В.): «до чего мы с тобой пали – под старость профессорами сделались». Он со мной не соглашается, он даже гордится своим профессорством»[445], – писал Шестов. Со временем Шестов и Бердяев не только стали признанными мэтрами философской мысли, не только общались «на равных» с выдающими европейскими мыслителями – с Эдмундом Гуссерлем, Клодом Леви-Строссом, Мартином Бубером, Максом Шелером, Мартином Хайдеггером, Жаком Маритеном, Эммануэлем Мунье, другими, но и оказались, наверное, единственными русскими эмигрантскими философами, которые еще при жизни были высоко оценены на Западе.
Когда Бердяев написал в «Самопознании»: «Мои книги были переведены на много языков, и только мои книги были переведены»[446], он был не прав, – работы Шестова тоже были известны западным читателям. Более того, почти все произведения Франка появились на немецком языке (некоторые статьи он вообще и писал, и публиковал только на немецом), весьма популярен был в Германии Степун, чьи произведения тоже иногда выходили только на немецком языке и т. д. Наверное, Бердяев стал самым известным среди эмигрантских философов, но это было связано еще и с тем, что ряд его работ были посвящены темам, имевшим общественный резонанс, – русскому коммунизму, экуменческим проблемам, соотношению марксизма и религии, судьбе всемирной истории, что включало в число его читателей людей, далеких от философии. Показательно, что главные, теоретические работы Бердяева («Смысл творчества», «О назначении человека», «Опыт эсхатологической метафизики» и другие) остаются недооцененными до сих пор в европейских философских кругах. Когда Бердяев писал в «Самопознании», что живя долгие годы в эмиграции, он делается более западным философом, чем русским, он говорил о своем внутреннем чувстве, но не о реальности. Он, действительно, во многих вопросах был чужд эмигрантской среде, но не был при этом целиком признан и французской университетской философией. До сих пор его творчество мало упоминается во французских учебниках по философии и в профессиональных исследованиях (исключения – исследования по славистике). «Причина этого полузабвения, – писал один из французских исследователей его философии Ж-К. Маркадэ, – в том, что он именно слишком русский мыслитель, не придерживающийся строгого и систематического изложения своих идей, часто впадающий в кажущиеся противоречия и передающий не ясно свои интуитивные мысли и чувства»[447]. Получалось, что для эмигрантских кругов Бердяев был слишком европеизированным мыслителем, а для немцев и французов – слишком русским…
Перед отъездом из Берлина Николай Александрович вел переговоры с представителями YMCA о переезде в Париж созданной им Религиозно-философской академии. Этот замысел удалось осуществить, и в ноябре 1924 года академия вновь заработала уже на французской земле. Кстати, это дало Бердяеву и небольшой постоянный заработок, – как организатор и активный деятель академии, он получал от YMCA деньги. В академии Николай Александрович читал курсы лекций – «О проблемах христианства», «О современных духовных течениях», вел семинары – «Идолы и идеалы», «Основные течения современной европейской культуры» и другие. В числе преподавателей РФА были о. Сергий Булгаков, Б. П. Вышеславцев, К. В. Мочульский и другие знакомые Николая Александровича, которым академия дала трибуну для выражения своих мыслей и некоторый заработок. Членом РФА стал, конечно, и Шестов.
Помощь русским студентам и ученым оказывал и Центральный Комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей, – так называемый «Федоровский Комитет» в Париже (по фамилии его председателя М. М. Федорова). Благодаря этому фонду некоторые ученые получали материальную поддержку, воспользовался его помощью однажды и Бердяев. Но денег все равно хронически не хватало, впрочем, как большинству учёных-эмигрантов: даже у самых признанных и титулованных были периоды жестокой материальной нужды, ведь весь их доход составляли жалованье за преподавательскую работу, гонорары за печатные труды и периодическая материальная помощь от иностранных фондов или русских академических организаций.
Некоторые средства к существованию давали журналы, которые платили за опубликованные статьи. Конечно, самым известным и долго жившим «толстым» журналом были «Современные записки» (да и платили там лучше всего). Журнал начал выходить в ноябре 1920-го года и продолжался до весны 1940-го, прекратившись лишь тогда, когда Гитлер оккупировал Францию. Редактировали журнал пять бывших эсеров – Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков-Фондаминский, В. В. Руднев, М. В. Вешняк и А. И. Гуковский, которые смогли создать неполитизированный, серьезный журнал, в своем роде – «классику» журнального дела. Программа журнала была изложена в его первом номере: ««Современные Записки» посвящены прежде всего интересам русской культуры. В самой России свободному, независимому слову нет места, а здесь, на чужбине, сосредоточено большое количество культурных сил, насильственно оторванных от своего народа…» Благодаря своей «надпартийной» ориентации журнал имел возможность собрать лучшие силы русского зарубежья. В нем публиковались В. Набоков, А. Ремизов, М. Осоргин, Л. Шестов, эмигрантский вариант (отличающийся от советского) «Хождения по мукам» Алексея Толстого, воспоминания посла В. А. Маклакова… Публиковался здесь и Бердяев. «Современные записки» с честью поддержали традицию, на которую прямо указывало название журнала – традицию «Современника» и «Отечественных записок», они стали печатным органом всего русского зарубежья. По сути, журнал был возобновлен в 1942 году в Нью-Йорке под другим названием («Новый журнал») и выходил в свет еще сорок лет.
Весть о переезде Бердяевых в Париж долетела до Судака. Герцык написала Николаю Александровичу письмо, где говорила, что «взволновалась, узнав случайно, что вы переехали, и все новое вокруг вас»[448]. Бердяев не забывал о Евгении, переслал ей (с оказией в Москву) письмо и свои новые книги, но они еще не дошли до Крыма. Особенно она радовалась книгам – «ведь это часть тебя и, когда они дойдут до меня, будет точно новая встреча», – писала Евгений Казимировна. Любая весточка от Бердяевых была желанна, – «для меня это очень, очень важно в моей, по правде, трудной жизни»[449]. Болела Аделаида, болела сама Евгения, Дмитрий Евгеньевич Жуковский остался без работы… Аделаида Казимировна в это время загорелась идеей эмиграции в Париж, Жуковский мечтал там найти хотя бы место консьержа. В письме к Шестову Аделаида советовалась с ним об их перспективах за границей и описывала свой крымский быт: «Чтобы Вы имели представление о скромности наших требований к жизни, скажу, что в течение двух лет мы ютились в маленькой, сырой кухне (в Симферополе, там Жуковский смог найти работу – О.В.), где хозяева стирали и пекли хлеб… Вот уже года два, что Д.Е. спит без простынь (ибо у нас их пять на четырех), а я с старшим сыном имела всю эту зиму одну общую пару башмаков, которыми мы пользовались по очереди»[450]. Не лучше обстояли дела и у ее сестры. Бердяев пытался как-то помочь, разговаривал в берлинском издательстве «Обелиск» о публикации переводов Евгении Казимировны, но она и сама, периодически получая сведения об эмигрантской жизни, понимала, что надежды на это мало: «На днях Гершензон писал Аде, что там трудно, – он сам абсолютно не находит работы и существует только на жалование, крайнее безденежье у Белого и других»[451].
К счастью, постоянный заработок у Николая Александровича вскоре появился: он стал главным редактором издательства YMCA-Press (и оставался им до самой своей смерти). Книгоиздательство Христианского союза молодых людей «YMCA-Press» сыграло огромную роль в жизни Зарубежной России. Как вспоминал Карташев в связи с 35-летием издательства: «YMCA-Press… разрешила вопрос огромной исторической важности. YMCA-Press имела великодушие и мудрость поддержать… в своих изданиях целое вершинное направление общерусской (и в этом смысе и мировой) культуры, которому не оказалось места в Советской России»[452]. Кроме того, издательство выпускало книги для чтения – классику (Пушкина, Тургенева, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Лескова, Крылова), удовлетворяя запросы русских эмигрантов. Более того, благодаря YMCA-Press учебные заведения, созданные в эмиграции, имели учебники. Именно здесь публиковали свои работы не только Бердяев, но и Б. Вышеславцев, И. Шмелев, Б. Зайцев, В. Ходасевич, И. Бунин, В. Вейдле, А. Ремизов, М. Алданов, С. Булгаков, С. Франк, В. Зеньковский, а позже – А. Солженицын, Ю. Домбровский, Надежда Мандельштам, Лидия Чуковская, В. Шаламов… Тоненький ручеек этих запрещенных в СССР книг просачивался-таки в советскую Россию. Вспоминаю, что первые работы Бердяева я увидела именно в имковском издании в обложке из мягкого картона, причем эти книжки передавались студентами философского факультета друг другу тайком, – за «антисоветскую литературу» можно было и из университета вылететь… Кстати, некоторые книги (не только Библия, но и «Архипелаг ГУЛаг») печатались в полутвердой обложке из коленкора, но на папиросной бумаге, чтобы они были прочными, но занимали меньший объем, их было легче спрятать. ИМКА – это была легенда, обаяние которой – к счастью и к сожалению – уже неизвестно современным молодым людям.
Мало кто знает, что издание книг на русском языке в YMCA началось с Пола Андерсона (1894 – 1982). Он был представителем YMCA сначала в Шанхае, затем в России, где был арестован ЧК за религиозную пропаганду (что естественно: YMCA была и есть христианскоя организация, поэтому без миссионерской деятельности она существовать не могла). Когда Андерсон был выслан из советской России, он переехал в Берлин. Именно там благодаря его усилиям русское издательство YMCA-Press начало печатать книги на русском языке. До этого первые издания на русском языке появились в Праге, но успеха не имели, да и издательство тогда не приобрело своего, ставшего легендарным, имени. Первыми книгами, на которых стояла марка «YMCA-Press» были книга Бердяева «Миросозерцание Достоевского» и сборник «Проблемы русского религиозного сознания», в котором Николай Александрович тоже участвовал. Кстати, Андерсон поддержал и создание РСХД, – он был активным его деятелем до 1977 года.
У Бердяева, к счастью, еще в Берлине сложились хорошие отношения с представителями YMCA. Довольно быстро Николай Александрович стал одной из наиболее активных и заметных фигур в руководстве русского издательства этой организации. Не случайно большинство его книг издано именно там. А после его смерти издательство опубликовало одну из самых известных биографий мыслителя на английском языке – «Мятежный пророк», написанную Дональдом Лурье, одним из сотрудников организации, лично хорошо знавшем Николая Александровича и по издательской работе, и по РСХД в течение двух десятков лет. Начиная с 1924 года, Николай Александрович почти ежедневно бывал на бульваре Монпарнас, в доме 10, который принадлежал издательству. В этом же доме разместилось и представительство РСХД, здесь же проходили некоторые заседания Религиозно-философской академии. Но надо сказать, что ИМКА была заинтересована только в книгах на религиозные и религиозно-философские темы; Бердяев, Шестов, Вышеславцев, Булгаков находили здесь поддержку, а другим русским авторам приходилось туго. Издательств в Париже почему-то было гораздо меньше, чем в Берлине, издаваться приходилось, как правило, за свой счет, а это было дорого для нищих эмигрантов, зарабатывавших себе на кусок хлеба то вышиванием крестом, то продажей пылесосов. Недостаток издательств в Париже даже нашел отражение в шуточной эпиграмме И. А. Бунина на немногочисленных парижских издетелей:
Автор к автору летит, Автор автору кричит: Как бы нам с тобой дознаться, Где бы нам с тобой издаться? Отвечает им Зелюк: Всем, писаки, вам каюк! Отвечает им Гукасов: Не терплю вас, лоботрясов! Отвечает ИМКА: мы Издаем одни псалмы!В 1924 году находятся истоки еще одного важного начинания русской эмиграции в Париже, к которому непосредственное отношение имел и Николай Александрович. При поддержке еще одного сотрудника YMCA, много сделавшего для Зарубежной России, Джона Рейли Мотта (будущего лауреата Нобелевской премии мира 1946 года), а также с благославления митрополита Евлогия (Георгиевского) удалось приобрести на аукционе здание усадьбы с требовавшей серьезного ремонта церковью. Деньги на приобретение здания дали великая княжна Мария Павловна Романова (100 тысяч франков – очень большие по тем временам деньги), родившийся в России шведский промышленник и чрезвычайно богатый человек Эммануил Людвигович Нобель, упомянавшиеся уже Дж. Мотт и Д. Лаури, англиканский священник Перси Эльборо Тинлинг Видрингтон, болгарский богослов Стефан Цанков. Здание хотели использовать после необходимого ремонта под православный храм и для основания духовной школы. Приобретение состоялось в день памяти преподобного Сергия Радонежского, поэтому будущий центр русской церковности и богословия (существующий и сегодня) назвали «Сергиевским подворьем». Многие верующие русские эмигранты занимались ремонтом подворья, несколько дней работал здесь и Николай Александрович – вместе с другими членами братства святой Софии. Здесь, в Сергиевом подворье в скором времени состоялась и свадьба племянника Николая Александровича (со стороны Гудим-Левковичей), на которой он присутствовал вместе с Лидией Юдифовной.
А 1 марта 1925 года митрополит Евлогий совершением литургии официально открыл Свято-Сергиевский Богословский Институт. Еще через два месяца в нем начались занятия, – для первых десяти студентов. Название «Институт» было дано в память о Петроградском богословском институте, существовавшем в 1919-1921 годах по благословению патриарха Тихона и созданном с применением церковных реформ, принятых на Соборе (в частности, впервые туда принимали женщин). Протоиерей Сергий Булгаков стал штатным священником Сергиевского подворья (и преподавателем Богословского Института). Центр православной богословской мысли, хотя бы на время, оказался перенесенным из России в русскую диаспору. Многие русские богословы были приглашены профессорами на богословские факультеты Белграда, Софии, Бухареста, Варшавы, а в парижском Богословском Институт почти 50 лет блестящая плеяда ученых смогла сохранить, несмотря на трудные материальные условия, высокий уровень русского богословия. После второй мировой войны группа профессоров парижского Института приняла участие в создании Свято-Владимирской Духовной Академии в Нью-Йорке, – богословская мысль жила и развивалась в эмиграции.
Благодаря Сергиевому подворью в жизнь Бердяева вошла Елизавета Юрьевна Скобцова (Пиленко), которая в 1932 году и стала матерью Марией. Бывшая революционерка, поэтесса, с которой Бердяев познакомился еще в России, на «башне» у Вячеслава Иванова, Елизавета Юрьевна, оказавшись в эмиграции и не имея средств прокормить детей, не гнушалась никакой работой (как правило, найденной по объявлению в «Последних новостях») – мыла полы, выводила тараканов, чистила тюфяки. В Сергиевом подворье она занималась на курсах. Особенно сблизилась Скобцова с отцом Сергием Булгаковым (он преподавал на курсах), она стала его духовной дочерью. Работала Елизавета Юрьевна и в Русском студенческом христианском движении, где тоже часто встречалась с Николаем Александровичем. Они сошлись довольно близко, Елизавета Юрьевна стала завсегдаем бердяевского дома, ее часто можно было видеть на «воскресеньях».
В конце концов, Скобцова решила принять постриг. Не все считали это возможным – вспоминали ее бывшую политическую деятельность и два неудачных замужества. Бердяев тоже отговаривал ее от монашества, – хотя, конечно, по совсем другим соображениям: он писал ей об опасениях, что монашеский сан может стать для нее препятствием в осуществлении ее собственного призвания. Но митрополит Евлогий (Георгиевский) понял и принял желание Елизаветы. Так Елизавета Юрьевна Скобцова стала матерью Марией.
Монашеское служение началось еще в тридцатых: экономический кризис многих сделал безработными. Мать Мария открыла приют для бедных и обездоленных, где каждый был принят как брат и сестра. Денег на это начинание у нее не было, но было страстное желание помочь людям. Нашлись друзья, с чьей помощью она сняла дом на Вилла де Сакс в Париже. Очень быстро он не смог вместить всех страждущих, и тогда мать Мария перебралась в большой полуразрушенный дом на улице Лурмель. Ремонтировали этот дом самостоятельно – мать Мария, ее мать Софья Борисовна, ее дети – Юрий и Гаяна, друзья. Мать Мария и плотничала, и столярничала, и красила стены… Из старого гаража рядом с домом была сделана церковь, украшенная иконами, написанными и вышитыми самой матерью Марией (она владела искусством лицевого шитья). В доме на Лурмель можно было встретить бездомного эмигранта и душевнобольного, которого энергичная монахиня выручила из психиатрической лечебницы с жестоким режимом, безработного и наркомана, проститутку и убежавшую из дома молоденькую девушку. Для матери Марии все люди были братьями во Христе, и она пыталась помочь и поддержать каждого, кто встречался на ее пути. Ее друг, Константин Мочульский вспоминал слова матери Марии: «Путь к Богу лежит через любовь к человеку, а другого пути нет… На Страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов, а спросят: накормила ли я голодного, одела ли голого, посетила ли больного и заключенного в тюрьме. И только это спросят». В 1935 году мать Мария основала объединение «Православное дело», которое развернуло активную деятельность: было создано два общежития для бедных, дом для выздоравливающих туберкулезных больных в Нуази-ле-Гран, на улице Лурмель открыли приходскую школу, издавался даже одноименный журнал. Николай Александрович поддерживал начинания своей давней знакомой, они относились друг к другу с неизменной симпатией, не раз в трудных ситуациях оказывались «по одну сторону баррикад».
В Богословском Институте преподавали многие близкие знакомые Николая Александровича – не только Булгаков, но и Вышеславцев, Зеньковский, Лосский, Франк. Бердяев, не будучи богословом и считая себя «свободным философом», лекций не читал, но в жизни Института участвовал. Сохранились воспоминания отца Алекандра Шмемана о том, как часто в годы его обучения в Богословском институте там бывал Бердяев. Но в самой церковной жизни эмиграции не было единства, что привело к раздорам, церковной смуте, завершилось карловацким расколом, а затем усугубилось церковным разрывом в 1931 году. Большинство эмигрантов, при всей их ностальгии и любви к родине, негативно воспринимали все происходящее в Советском Союзе. Поэтому тот вопрос, который обсуждался еще на первых собраниях братства святой Софии, вопрос об отношениях церкви и власти, неминуемо должен был встать перед верующими эмигрантами. Осенью 1921 года состоялся Русский Всезаграничный церковный собор в Сремских Карловцах, где большинство участников во главе с митрополитом Антонием (Храповицким) высказались за восстановление на престоле «законного православного царя из дома Романовых», а также обратились к мировой общественности с рядом политических по своей сути заявлений. Конечно, это было отрицательно воспринято в России. Патриарх Тихон не признал решения Собора каноническими и поручил все заграничные приходы попечению митрополита Евлогия. В результате эмигрантские приходы раскололись на «карловчан» и «евлогиан». Причем правые круги эмиграции, как правило, поддерживали митрополита Антония, а либеральные – свободно мыслящего, не чуждого новшеств Евлогия. Именно Евлогий благославил братство святой Софии, благодаря ему начал работать Богословский Институт на Сергиевом подворье. Бердяев принадлежал к «евлогианам». Да и Евлогий, лично знавший Николая Александровича, с большим сочувствием относился к его деятельности, несколько раз оказывал поддержку его начинаниям, присутствовал на заседаниях РФА.
Забегая вперед, скажу, что церковные неурядицы на этом не закончились: Евлогий не чуждался экуменических идей, поэтому в 1930 году принял участие в молениях «о страждущей Русской Церкви», организованных в Лондоне архиепископом Кентерберийским. Результатом этого стал его конфликт с Московской Патриархией. В 1931 году митрополит Евлогий принял трудное решение – перейти в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, разорвать с Русской Православной Церковью. Такое решение митрополита Евлогия поддерживалось не всеми. Небольшая группа людей, несмотря ни на что, считала невозможным отказаться от своей Церкви, даже если эта Церковь находилась в порабощении и унижении. Звучал вопрос: «Наша Церковь находится на кресте – как же мы можем ее оставить?». В результате в Париже был создан храм Московской Патриархии, а одним первых его прихожан стал Николай Александрович. Это был смелый шаг, потому что для большинства эмигрантов церковь была центром национального и культурного объединения, принадлежность к тому или иному приходу была знаковой. «Розовость» Бердяева получила подтверждение у монархических и реакционных кругов русской эмиграции. Тут уж Николаю Александровичу досталось: ожила вся привычная мифология реакционеров – вспомнили его связи с американской организацией YMCA (готов торговать убеждениями! подкуплен!), завели речь о «заговорах» (конечно, еврейских и масонских), начали обсуждать причины высылки 22-го года (не иначе как спецслужбы послали в качестве агента)… Опять Николай Александрович оказался persona non grata для правых эмигрантских кругов. Больнее было другое: переход в «московский» приход означал разрыв связей с людьми, которые близки Бердяеву: матерью Марией (Скобцовой), Ильей Фондаминским, Иваном Манухиным. Этот маленький кружок, к которому принадлежал Николай Александрович, часто встречался в доме у Фондаминского или Манухина, каждый член группы по очереди делал доклады на религиозные темы, которые обсуждались остальными присутствующими. Вопрос об отношении к Московской Патриархии просто «убил» эти собрания. Хотя, спустя несколько лет, члены кружка вновь начали встречаться, обсуждать социальные аспекты христианства.
Но это еще было впереди, а в 1925 году Бердяев и Вышеславцев затеяли новый журнал. Мысль эту им подал Густав Кульман, один из сотрудников YMCA, «который вообще много сделал для русских, особенно для религиозного движения среди русских»[453], Николай Алексанрович договорился с Дж. Моттом о финансовой поддержке YMCA для этого ежемесячного журнала, замысливаемого как печатый орган Религиозно-философской академии. Журналу было решено дать название «Путь». К нему печатались приложения, – например, доклады выступавших на открытых собраниях РФА. В сентябре вышел и первый номер. Подзаголовок гласил: «Орган русской религиозной мысли». В редакционной статье говорилось об уникальном характере «русского рассеяния». «Путь» искал смысл и предназначение эмиграции, объединившей «громадные силы, ставшие ненужными России». Бердяев был убежден, что миссия эмиграции (о которой так часто говорили на различных эмигрантских собраниях) – религиозная. Он был уверен, что надо идти навстречу западному христианству, не замыкаться в «русской идее». Журналу Бердяева оказывал поддержку митрополит Евлогий (в пику «карловчанам», Русской Зарубежной церкви, но и потому что идеи Бердяева были ему близки).
«Путь» прожил удивительно долго и в каком-то смысле составил конкуренцию «Современным запискам», – хотя это не совсем так, ведь направленность и задачи журналов были различными. Скорее, можно говорить о том, что с проблематикой «Пути» перекликался другой журнал, основанный позднее, в 1931 году, – «Новый град» (под редакцией И. И. Бунакова-Фонаминского, Ф. А. Степуна и замечательного историка-медиевиста, богослова, философа Г. П. Федотова). «Путь» существовал до 1940 года (и Николай Александрович был его бессменным редактором), вышел 61 номер, – поразительный результат для зарубежной России, где таких «долгожителей» было мало. Бердяев смог собрать вокруг себя лучших представителей христианской мысли. В «Пути» участвовали Франк, Булгаков, Лосский, конечно же, Вышеславцев, в него писал Д. И. Чижевский и многие другие представители свободной философской мысли. К сожалению, многие русские журналы безвозвратно и начисто смела Вторая мировая война. Для Бердяева было важным, что на страницах журнала выступали не только православные авторы, но также протестанты и католики (Ж. Маритен, П. Тиллих, другие), – без этого нельзя было идти навстречу западному христианству. Благодаря Лидии Юдифовне и в окружении Бердяевых всегда были католики (прежде всего здесь нужно вспомнить польского философа отца Августина (Якубисика), священника церкви Сен-Медар в Париже, который стал духовником Лидии), да и философия Бердяева начала находить себе почитателей не только у русских читателей.
Одновременно с этим у Бердяева нарастали противоречия со многими русскими эмигрантами. В газете «Возрождение» появилась публикация «брата» П. Струве, после которой Николай Александрович вышел из братства святой Софии. Доносились нападки со стороны Мережковского, общение с которым – хотя и живут Мережковские рядом, в Париже, в купленной ими еще до революции квартире, – для Бердяева уже невозможно. Если зимой 1908 года он приехал в Париж для того, чтобы договорить, проговорить свое понимание будущего христианства с Зинаидой Николаевной, которая так много значила для него, то сейчас их разделяла пропасть. Начинается и очень неприятная по своей тональности полемика с Иваном Ильиным, опубликовавшим в 1925 году свою знаменитую книгу «О сопротивлении злу силою». Книга, спорящая с идеями непротивленчества Льва Толстого, была написана для морального оправдания борьбы с большевизмом как воплощенным злом, но оказалась шире политической злободневности. Бердяев не прошел мимо идей Ильина и ответил на них критикой (кстати, критиковала Ильина и Гиппиус). Надо сказать, что критика Бердяева было чересчур резкой, иногда уничижительной, она сильно задела Ильина, который после этого буквально возненавидел Николая Александровича. Статья Бердяева называлась «Кошмар злого добра» и была опубликована в 1926 году в четвертом номере «Пути». Бердяев назвал книгу Ильина «кошмарной» и «мучительной», говорил, что она «ввергает в застенок моральной инквизиции», обозначил позицию Ильина как «Чека во имя Божье», обвинил в «антихристианском духе»… Религиозное оправдание Ильиным смертной казни вызвало бурю возмущения не только у Бердяева, но и у других русских философов. Бердяев писал в статье, что, борясь с большевиками, Ильин сам заразился идеями большевизма. Конечно, Ильин, известный своей вспыльчивостью, взбелинился. Он шесть раз арестовывался в советской России, и ассоциировать его с ЧК – возмутительно!
Надо сказать, что характер у Ильина был тяжелый, это отмечали многие, знавшие его лично. Кроме многочисленных панегириков Ильину (бесспорно, было за что его уважать), воспоминания содержат и очень много негативных характеристик. Белый в своих мемуарах назвал его «воинственным черносотенцем» и высказал предположение, что он «страдал затаенной душевной болезнью»[454]. Евгения Герцык, которая была его родственницей по жене, о своих отношениях с Ильиным в Москве писала как о «дружбе-вражбе» и рассказывала, что Ильины, встречая у Герцыков Волошина, Бердяева, Иванова и других, известных им ранее только по книжкам людей, странно на них реагировали: «с неутомимым сыском Ильин ловил все слабости их, за всеми с торжеством вскрывал «сексуальные извращения»… Способность ненавидеть, презирать, оскорблять идейных противников была у Ильина исключительна…»[455]. Пытаясь понять эту «ненависть, граничащую с психозом», Евгения вспоминала: «Где, в чем источник ее? Может быть, отчасти в жестоких лишениях его юных лет: ведь во имя отвлеченной мысли он запрещал себе поэзию, художественный досуг, все виды сладострастия, духовного и материального, все, до чего жадна была его душа. Знакомство с Фрейдом было для него откровением: он поехал в Вену, провел курс лечения-бесед, и сперва казалось, что-то улучшилось, расширилось в нем. Но не отомкнуть и фрейдовскому ключу замкнутое на семь поворотов»[456].
Расхождения Бердяева и Ильина были шире проблемы насилия. Бердяев, придерживающийся «пореволюционных» взглядов, считавший, что реставрация невозможна, – и монархист-Ильин, утверждавший, что в России может существовать или единовластие, или хаос, а к республиканскому строю Россия не способна. Выступавший против реанимации идеологии белого движения Бердяев – и теоретик «Белой идеи» Ильин. Стремящийся к вхождению России в западный мир Бердяев – и антизападник Ильин, уверенный, что «все прекрасное, что было доселе создано русским народом… представлялось чуждым Западу»[457]. Сопоставления можно было бы продолжать и дальше, но очевидно, что общего языка они найти не могли, для примирения не было никакого идейного основания. Заглядывая вперед, можно сказать, что потом их пути разошлись еще дальше: Бердяев, пережив не очень понятный, зато очень короткий период очарования итальянским фашизмом (ненадолго в душе Бердяева «государственник» опять победил певца индивиудализма и свободы, как и в начале первой мировой войны) стал принципиальным противником фашизма во всех формах, считая его насилием над личностью. Ильин, живя в Германии до 1938 года, видел в фашистских организациях возрождение рыцарского духа, одно из проявлений белого движения (Ильин, и не только он, был склонен к чрезвычайно широкому толкованию белого дела, считая, что любые духовные, патриотические цели являются условием вхождения в белое движение). В одной из своих статей 1928 года Ильин прямо писал о том, что белое движение шире фашизма, фашизм – лишь его часть[458]. Он обращался к опыту Италии (что тогда было довольно типично) как к положительному примеру того, как власть за сравнительно короткое время смогла навести порядок в стране. Более того, Ильин писал о зарождении русского фашизма и приветствовал его, он сравнивал появившиеся в эмиграции фашистские ячейки и мощную организацию РОВС не в пользу последнего: лучше стать членом фашистской ячейки, советовал он, чем членом РОВС, так как ячейка «дает политическую программу и возглавление». Он дал любопытное определение этого страшного явления в европейской истории: «Фашизм есть спасительный эксцесс патриотического произвола»[459].
Современного читателя, уже знающего об Освенциме и Хатыни, может шокировать такая позиция. Но до Второй мировой войны подобное восприятие фашизма не было редкостью. Мережковский писал письма Муссолини, видя в нем лидера нового типа (быстро разочаровался), известный военный теоретик, русский генерал А. Геруа говорил: «на наших глазах сейчас борются две мировых силы: объединенный коммунизм и разобщенный и многоцветный фашизм… Лозунги всякого фашизма, считающегося с массой и ее понимающего, близки нашему сердцу и разумению»[460]. Примеры можно множить. Это было время фашистских «цветочков», а не национал-социалистических плодов, время, когда многие люди видели в фашизме лишь противоядие большевизму и коммунизму и возрождение национальных традиций, – не более того. Возможно, что Ильина привлекала еще одна черта, присущая фашизму: наличие явного национального лидера, который воспринимался как олицетворение народа, страны, нации. Известный теоретик социально ориентированного психоанализа Вильгельм Райх, рассматривая характерные особенности фашизма, отмечал, что для него чрезвычайно важна идентификация «массовых индивидов» с фюрером: «Чем беспомощней становится «массовый индивид»…, чем отчетливей проступает его идентификация с фюрером и тем глубже детская потребность в защите прячется в чувстве его единства с фюрером. Эта склонность к идентификации составляет психологическую основу национального нарциссизма, т. е. уверенности отдельного человека в себе, которая ассоциируется с «величием нации»[461]. По сути, такие же функции должен выполнять, по мысли Ильина, монарх. Патерналистский характер монархической власти никогда не отрицался самими монархистами, традиционно уподоблявшими монарха – отцу нации, а подданных – его детям. Ильин не раз в своих работах подчеркивал, что монарх – олицетворение нации, ее символ. Поэтому здесь тоже можно заметить своеобразное сопряжение монархического авторитаризма, сторонником которого был Ильин, и фашизма.
Для Бердяева с его индивидуализмом такие мысли были невозможны. Правда, справедливости ради нельзя не сказать, что Ильин преследовался гестапо и вынужден был покинуть фашистскую Германию. Впрочем, даже после войны Ильин писал о безрелигиозности и «правом тоталитаризме» как «ошибках» фашизма, которые и привели к его поражению: «Эти ошибки скомпрометировали фашизм, восстановили против него целые исповедания, партии, народы и государства, привели его к непосильной войне и погубили его. Его культурно-политическая миссия не удалась»[462]. Читать такие строки, написанные после самой кровопролитной войны в истории человечества, немного странно: ошибки эти были неизбежны, коренились в самой доктрине фашизма, да и «ошибками» их вряд ли можно назвать, – речь должна идти о преступлениях. Мне, в отличие от Ильина, хотелось бы верить не в то, что «русские патриоты» «продумают ошибки фашизма и национал-социализма… и не повторят их» (Франко и Салазар почти смогли избежать крайностей), но в то, что «русские патриоты» вообще не захотят иметь ничего общего с фашизмом.
Вражда началась в 1926 году. Ильин обратился за «подкреплением» и помощью к Струве, – он просил на страницах «Возрождения» защитить его от нападок Бердяева, причем в письме с возмущением назвал тон статьи Бердяева «цепно-собачим, грязно-марающим» и тут же охарактеризовал все писания Бердяева как поверхностные и вредные… Струве на страницах своей газеты, действительно, поддержал позицию Ильина. Ильин опубликовал в «Возрождениии» статью-ответ Бердяеву «Кошмар Н. А. Бердяева. Необходимая оборона». Надо сказать, что ответ Ильина, несмотря на его заявления, что теоретические споры не должны содержать личные нападки, мало чем отличалась по тональности от статьи Бердяева: он тоже содержал личные нападки, причем даже более явные, чем в бердяевской рецензии. Хочу привести один абзац из этой злой статьи, для некоторой характеристики их отношений: «20 лет я следил за его (Бердяева – О.В.) публицистической деятельностью, и 20 лет я отходил в сторону; до такой степени я всегда считал то, что он делает, философически неосновательным и религиозно соблазнительным. В редких беседах с ним я никогда не высказывался; ни личными настроениями, ни идейными замыслами никогда с ним не делился; на понимание с его стороны никогда не рассчитывал и при публичном обмене мнениями всегда отмечал, что г. Бердяев ни мою, ни чью бы то ни было чужую мысль вообще не слышит… Автор судит о том, о чем «понятия его ему судить не дозволяют» и…поэтому его суждения неосновательны и безответственны. И только. Итак, пока г. Бердяев пребывает в своем кошмаре, я спорить с ним не могу и не буду. И со всеми моими дальнейшими утверждениями и доказательствами я обращаюсь не к нему, а к читателю…»[463].
Николай Александрович, несмотря на поддержку Айхенвальда, Зеньковского, Лидии Юдифовны и других, очень переживал из-за развернувшейся полемики и ее личной направленности. Эмиграция, при всем уважении ко многим ее деятелям и искреннем восхищении к тому, что было ею сделано, была замкнутым мирком, где, как в маленьких провинциальных городках, любое событие обсуждалось и передавалось из уст в уста несчетное количество раз, где слухи росли, как на дрожжах, где все друг друга если не знали, то что-то слышали… Можно вспомнить горькие слова А. Ремизова о «русском Париже» из романа «Учитель музыки»: «А ведь Париж, единственный и последний пункт земли, откуда только и остается или взлететь на воздух или зарыться в пески, этот мировой город – глупейшая провинция для Русских, не Вологда и не Пенза, а какой-то Усть-Сысольск, все знают друг друга и у всякого есть до всего дело…»[464].
Николай Александрович опять ощутил, что нигде – в том числе, и в «профессорской эмиграции» не может быть до конца «своим». Вспоминалось полученное от Евгении Герцык письмо, где она хвалила его «Новое Средневековье», рассказывала, что эта книга была последней, которую прочел перед смертью Гершензон – с восторгом! А Ильин называл его писания вредными и опасными… Было горько, – вокруг столько чужих людей, а родного и близкого рядом не было. Николаю Александровичу порой мучительно не хватало Евгении. Сестра ее умерла, Бердяев знал о тяжелой жизни «любимого друга», хотелось увидеть ее, быть рядом, помочь. И он, и Шестов пару раз пересылали ей деньги с оказией. Он написал Евгении Казимировне письмо с очередным предложением приехать к ним. «Может быть, я должна была бы умереть, чтоб исцелить тебя от твоего недуга – восприятия всего чуждым, разъединенным в мире…», – отвечала на это горькое письмо Герцык и продолжала: «Друг мой, ты заговорил со мной о моем приезде к вам. У меня у самой очень горячо вспыхнула эта мечта. Но это будет – если будет – не скоро, через годы, так как сначала нужно преодолеть много житейских трудностей»[465]. Этого не случилось никогда. «Трудности» так никогда и не были преодолены: Евгения заменила племянникам умершую сестру, в 1927 году Д. Е. Жуковский был выслан в Вологодскую губернию, и она осталась их единственной опорой, в 1928 году они переехали в Кисловодск, к ее брату, – судакский дом был экспроприирован, а брат наконец-то получил работу на Кавказе. В 1938 году семья переселилась в деревню, в Курскую область, Евгения пережила там оккупацию и умерла на Курской земле в 1944 году, в возрасте 66 лет. Но тогда и Бердяев, и Евгения еще надеялись на встречу, пусть и нескорую… Последнее письмо от Евгении Бердяев получил в 1927 году, после долгого молчания с двух сторон. Начиналось оно словами: «Мой милый, милый и, может быть, самый близкий друг!»
16. Признание
Я не люблю славы.
Н. БердяевВ 1927 году французскую границу почти полностью закрыли для русских беженцев: им запретили свободно перемещаться по Европе. Эмигрантское сообщество Парижа оказалось в изоляции. Интеллигенция Франции «полевела» и ее общественное мнение стало более благосклонно взирать на «великий эксперимент», происходящий в СССР. Среди эмиграции, как ответ, в эти годы обрела второе дыхание «национальная идея», которую дружно проповедовали и монархисты, и евразийцы, и НТС (Народно-трудовой союз) – по-боевому настроенная организация, которая искала возможности заслать своих сторонников в СССР. Изменилось отношение к русским эмигрантам и со стороны многих западных организаций и фондов: финансирование становилось все более скудным. Сказалось это и на «Пути», – надо было урезать расходы. На помощь пришла Лидия Юдифовна, которая стала вычитывать корректуры журнала. Впрочем, у нее было и свое дело: она организовала кружок по изучению библейских текстов. Да еще по воскресеньям в их доме собирались интеллектуалы, – заботой ее и Евгении Юдифовны было обеспечение участников пирогами и чаем, хотя и в беседах они всегда принимали активное участие. У Бердяевых бывали Л. Шестов, Г. Федотов с женой, Б. Вышеславцев, К. Мочульский, секретарь РСХД Ф. Т. Пьянов… Заглядывала на огонек жившая тогда в Париже Марина Цветаева. Частой гостью была дочь последнего царского посла во Франции Елена Александровна Извольская – яркая и красивая женщина, католичка, занимавшаяся переводами с русского на французский и наоборот, сделавшая доступными для французского читателя некоторые работы Бердяева, а также Мандельштама, Пастернака, Ремизова и других. Заходил иногда и Семен Либерман, знакомый Бердяева со времен житомирской ссылки, В 1926 году он, видный советский хозяйственный деятель, стал «невозвращенцем», почувствовав – если останется в России, то не миновать ему беды, припомнят ему и меньшивистское прошлое, и контакты с зарубежными промышленниками (он торговал лесом, добывая для советской власти валюту), и знакомства с «белоэмигрантами», и финансовую успешность. Либерман оказался в Париже, он и его жена (Генриетта Либерман-Паскар – актриса, режиссер) бывали у Бердяевых. С Бердяевым его связывали воспоминания о молодости и революционной романтике, – он всегда с теплом отзывался о Николае Александровиче, до конца жизни гордился знакомством с ним. Интересная деталь: сын Семена Исаевича Либермана стал впоследствии мужем Татьяны Яковлевой – возлюбленной Маяковского, которую он собирался «взять» – «одну или вдвоем с Парижем».
Завсегдаем у Бердяевых был швейцарец Фриц Либ – протестантский теолог, живо интересовавшийся Росией и воточным христианством. Его замечательная библиотека по славистике, которую он собирал долгие годы, была передана им в университет Базеля, где он раньше учился. Сегодня это одно из самых известных собраний книг и рукописей в данной области. С Бердяевым Либ познакомился сразу после их переезда в Париж через сотрудников YMCA; знакомство это переросло в настоящую дружбу, – Бердяевы окрестили его «Федором Ивановичем», считали его в доме своим человеком («наш милый, уютный Фед<ор> Ив<анович>[466]», – писала в дневнике Лидия Юдифовна). Общался Либ и с другими русскими философами, даже организовывал их лекции в базельском университете. Он познакомил Бердяева с Карлом Бартом[467] (у которого защищал свою диссертацию), другими западными коллегами, присылал ему книги, помогал найти издателей для работ в Швейцарии и Германии, был в курсе семейных дел… Сначала Либ бывал в Париже только наездами, но никогда не пропускал возможности навестить Бердяевых в Кламаре. Перед войной Либ получил место профессора в Бонне, но покинул его, когда в Германии к власти пришел Гитлер. Он переехал в Кламар, где несколько лет жил по соседству с Бердяевыми, часто навещая их и очень тесно общаясь с Николаем Александровичем.
Еще в Берлине Бердяев познакомился с Максом Шелером («самый интересный немецкий философ последней эпохи»[468], – сказал о нем Бердяев), который тоже бывал у него дома, приезжая в Париж. И Бердяев, и Шелер настаивали на том, что проблема человека – самая значимая для современной эпохи. Кризис общества, культуры – проявление кризиса самого человека, человек никогда не был столь «проблематичным», как в ХХ веке, считал Шелер. Его мысли были созвучны персонализму Бердяева, поэтому, хотя первые личные встречи с Максом Шелером его и разочаровали (немецкий философ показался ему слишком эгоцентричным человеком, интересующимся только собой и своими мыслями), Бердяев не раз возвращался к философским идеям Шелера в своих работах.
Личные отношения Николая Александровича с представителями европейской философии представляются особенно важными потому, что постепенно Бердяев становится своеобразным личным «посредником» между русской и западной культурами. Очень помогло его личным контактам тесное сотрудничество Николая Александровича с YMCA, оно во многом определило его эмигрантскую судьбу. Особенно ярко это проявилось в замечательном начинании – межконфессиональных встречах, которые несколько лет проходили в помещении YMCA на Монпарнасе. Встречи эти, инициатором которых был Бердяев, не были бы возможны и без другого известного мыслителя – Жака Маритена.
Маритен всегда проявлял интерес к русской культуре. Отчасти это было связано с его русской женой, Раисой, но, кроме того, его интересовала русская религиозно-философская мысль: он испытал на себе сильное воздействие идей В. С. Соловьева. В работах Маритена 20-30-х годов настойчиво присутствовали темы, характерные для русской философии, он тесно общался со многими русскими, – прежде всего, здесь можно назвать Вяч. Иванова. Бердяев же познакомился с Маритеном в 1925 году через вдову Леона Блуа, французского писателя-мистика, о котором Николай Александрович написал статью еще в России и который имел воздействие на формирование мировоззрения самого Николая Александровича. Мадам Блуа была другом Маритена и, узнав, что Бердяев интересуется его сочинениями, предложила Николаю Александровичу и Лидии Юдифовне пойти вместе с ней к Маритену. О первой встрече Бердяев вспоминал так: «Интересно, что сам Маритен был в прошлом анархистом и материалистом. Став католиком, он начал защищать очень ортодоксальное католичество, приобрел известность как враг и свирепый критик модернизма. У меня было предубеждение против томизма, против католической ортодоксии, против гонения на модернистов. Но Маритен меня очаровал»[469]. Они жили недалеко друг от друга, встречались довольно часто. Скоро с Маритеном установились доверительные дружеские отношения, – «я его очень полюбил, что при моей сухости случается не часто»[470]. Маритен отвечал ему взаимностью и ввел в круг бердяевского общения многих своих знакомых – известного писателя, драматурга и философа Габриэля Марселя (и Бердяев стал участником знаменитых марселевских «пятниц»), писателя и литературного критика Шарля Дю Боса, французского философа-неотомиста Этьена-Анри Жильсона, основателя французского персонализма Эммануэля Мунье, других. Бердяев всегда высоко оценивал заслуги Маритена как мыслителя, хотя и расходился с ним во взглядах. В конце жизни Бердяев писал даже о своем влиянии на нового друга: «Маритен первый ввел томизм в культуру. За долгие годы нашего общения Маритен очень изменился, но он всегда остается томистом, он приспособляет новые проблемы к томизму и томизм к новым проблемам; он, в сущности, модернист в томистском обличии. Когда я познакомился с Маритеном, он был «правым». Но в конце пережитой эволюции он стал «левым» и даже вождем «левых» течений во французском католичестве. Правые, враждебные ему, католики не раз писали, что он подвергся моему вредному влиянию. Это неверно в отношении к философии, но, может быть, от части верно в отношении к вопросам социальным и политическим. Маритен – философ схоластический, я философ экзистенциальный. Сговориться при этом трудно. И все же общение между нами было плодотворно»[471].
Маритен поддержал идею Бердяева об организации межконфессиональных собраний. По замыслу, на этих встречах православные, католики, протестанты должны были собираться для обсуждения религиозных вопросов. Это была реальная попытка показать единство христиан в мире, несмотря на конфессиональные различия, и попытка успешная. Первые собрания настолько удались, что о них узнала публика, – «народу приходило даже слишком много. Была опасность, что собрания станут модными»[472], – писал Бердяев. Участники испытали подъем после первых встреч: для каждой из участвовавших сторон приоткрывалась незнакомая религиозная жизнь, атмосфера собраний заставляла переживать заново чувство братства во Христе, стала понятной общая задача противостояния безрелигиозному миру. Особенно активно в собраниях участвовали их вдохновители – Бердяев и Маритен, но выступали на них и Булгаков, Лосский, отец Жиле (впоследствии генерал доминиканского ордена), пастор Бегнер (глава протестантских церквей Франции), другие. Такие «большие» встречи продолжались два года (1926-1928), потом они как будто исчерпали себя, интерес к ним стал падать. Тогда, по предложению Бердеява, они были видоизменены: вместо больших публичных собраний решили проводить камерные собеседования заинтересованных людей, – дома у Бердяева. Идею опять поддержал Жак Маритен – с условием, что на этих встречах не будет больше протестанстов. Авторитет Маритена стал своего рода «магнитом» для западных религиозных философов и богословов. Такое изменение формы межконфессиональных встреч опять вдохнуло в них жизнь. В «коллоквиуме» у Бердяева принимали участие и православные богословы – не только Булгаков, но и Зеньковский, и отец Г. Флоровский (тоже преподававший тогда в Богословском Институте). Для последнего эти неформальные встречи имели огромное значение. В них он приобретал опыт экуменического общения, они помогли усовершенствовать его концепцию «неопатристического синтеза». Постепенно и этот формат «коллоквиума» начал исчерпывать себя, но и после 1931 года такие собеседования католиков и православных периодически все же проводились, причем иногда не у Бердяева, а у Маритена.
В этих встречах Бердяев столкнулся с трудностью: на него смотрели как на представителя официальной православной позиции, он же мог говорить только за себя одного. Даже позиция отца Сергия Булгакова, священника, вряд ли была бы безоговорочно поддержана церковными кругами, – его обвиняли в искажениях христианства в связи с его учением о Софии, премудрости Божией, говорили, что он вводит четвертую ипостась Бога… Бердяев чувствовал неловкость, когда его точку зрения принимали за отправную в попытках понять православную позицию и характер православной религиозной мысли. Он понимал, что в самом православии нет единства, и уж тем более, оставаясь «верующим вольнодумцем», не чувствовал себя вправе говорить от лица Православной Церкви. Двусмысленность своего положения он понимал сам, и это стало одной из причин приглашения на собрания других русских философов и богословов.
Отношения русских интеллектуалов с французскими коллегами не были слишком тесными. Мешал не язык (хотя иногда – и он тоже), а разность культур, жизненного опыта, конфессиональные различия, но главное – мода на «левизну», эдакий «салонный большевизм»: многие французские писатели, художники, философы в это время верили, что «свет идет с Востока» и в СССР «родится новый мир». Об этом ярко написала в своих воспоминаниях Нина Берберова: «Страшное, грозное время – двадцатые-тридцатые годы нашего века… В то время во всем западном мире не было ни одного видного писателя, который был бы «за нас», то есть, который бы поднял бы голос против преследований интеллигенции в СССР, против репрессий, против советской цензуры, арестов, процессов, закрытия журналов, против железного закона социалистического реализма, за неповиновение которому шло уничтожение русских писателей. Старшее поколение – Уэллс, Шоу, Роллан, Манн – было целиком за «новую Россию», за «любопытный опыт», ликвидировавший «ужасы царизма»… Старшее поколение – с Теодором Драйзером, Синклером Люисом, Эптоном Синклером, Андрэ Жидом (до 1936 г.), Стефаном Цвейгом, во всех вопросах было на стороне компартии против оппозиции…»[473]
Попытки преодолеть разрыв предпринимались не раз. В частности, в 1929 году именно для этой цели была создана «Франко-русская студия» (Studio Franco-Russe), проводившая поэтические вечера, встречи, литературные диспуты. Из французской элиты в ней участвовали Поль Валери, Андре Мальро, Андре Моруа, Жак Маритэн, Габриэль Марсель, Станислав Фюме, Рене Лалу, Рене Гиль, а с русской стороны – Н. Бердяев, Б. Вышеславцев, Г. Федотов, П. Муратов, М. Цветаева, Б. Зайцев, М. Алданов, Г. Адамович, Г. Газданов, Б. Поплавский, М. Слоним, В. Вейдле и другие[474]. К сожалению, это начинание особого успеха не имело: состоялось всего четыре собрания, на которых говорили о творчестве Достоевского, Толстого, о влиянии французской традиции на русскую культуру в 20 веке, но после этого встречи прекратились как-то сами собой…
В 1927 – 1928 годах в Париже в издательстве YMCA-Press была опубликована книга Бердяева в двух томах – «Философия свободного духа». Книга затем вышла на иностранных языках: на немецком в 1930 – под тем же названием, что и русское издание, на французском в 1933 под названием «Esprit et liberte. Essai de philosophic chretienne» (это название – «Дух и свобода» – больше всего нравилось Бердяеву, и оно было воспроизведено в изданиях на английском в 1935 году, испанском (издание вышло без указания года), нидерландском (1946) и итальянском (1947). Книга получила премию Французской Академии.
По своему содержанию книга продолжала вышедшую еще в России «Философию свободы», которую он позже назвал «еще несовершенным эскизом» своей философии. В центре этой работы опять стоял человек, что вполне согласовывалась с персонализмом Бердяева в философии. «Человек не есть окончательно готовое и законченное существо, он образуется и творится в опыте жизни, в испытаниях своей судьбы. Человек есть лишь Божий замысел»[475], – убеждал читателей Бердяев, которому вообще был свойственен христианский «активизм» – нельзя ждать, что замысел Божий исполнится сам собою, надо действовать, чтобы он воплотился. Давал он и характеристику современной ему «переходной эпохи духовных кризисов», когда многие «странники» возвращаются к христианству, к вере отцов, к Церкви. Бердяев понимал, что люди, приходящие в Церковь, – другие, они отличаются от тех верующих, которые обретали веру раньше: это люди, «пережившие опыт новой истории, в котором дошли они до последних пределов», «трагические души». Люди – коренным образом изменились, а Церковь – меняться не хочет, потому часто встречает «странников, возвращающихся в Отчий Дом» не так, как встретил Отец блудного сына в евангельской притче.
Для Бердяева, человек, пришедший к религии, понимает, что живет на границе двух царств – природного царства, где господствует необходимость, где все подчиняется законам, и царства духа, где господствует свобода. Отношения между духовным и материальным миром, между царством свободы и царством необходимости, могут быть рассмотрены по-разному: с позиций дуализма, монизма и символизма. Дуализм удваивает реальность, помещает Бога вне материального мира и отрицает их взаимосвязь. Монизм рассматривает реальность природного мира как единственно возможную. В обеих этих концепциях никаких связей между двумя мирами нет. Символизм же показывает такую связь, показывает, что реальность духовного мира может найти свое выражение в символах. Символы – отражение высшего мира, когда мы можем почувствовать, ощутить за реальностью вещей, предметов вокруг нас нечто бо́льшее, что через них проявляется, подает нам знаки. В символизме Бердяев видел ключ, с помощью которого человек может открыть первые ворота своей тюрьмы в мире необходимости. Конечно, есть и другие ворота и запоры, некоторые могут быть открыты только извне, но без понимания того, что человек не сводится к природному началу, что сама природа имеет духовную «подкладку», освободиться невозможно: если верить, что наша жизнь – лищь процессы обмена веществ со средой, то такой она и станет.
Писал эту книгу Николай Александрович, как всегда, быстро, – у него была поразительная скорость письма. Когда мысль созревала в его голове, он буквально рвался к бумаге, ему некогда было даже было проверять цитаты, – их немного в его книгах, да и приводил он зачастую по памяти (поэтому они не всегда бывали точны). Обычно он писал книгу, не останавливаясь, до конца, причем очень редко возвращался к написанному тексту. Он не принадлежал к людям, которые могут долго анализировать собственный подход, разбирать его «по косточкам», несколько раз редактировать написанный текст. Бердяев говорил, что он не может этого делать физически: мысли слишком быстро приходят к нему в голову, он еле успевает их записать. Да и верстки своих книг в YMCA-Press он не вычитывал, хотя сам корил себя за такую «беспечность». Однажды Николай Александрович сказал жене, что никогда не устает от писания, потому что «процесс писания у меня не сознательный, а бесознательный. Источник его в бессознательном»[476]. Мысль у Бердяева работала постоянно, – может, поэтому он не радовался появлению своих книг: ему всегда казалось, что книга уже устарела, что он в ней многое бы изменил.
Бердяев был чрезвычайно дисциплинированным в своей работе. Писание было его постоянной потребностью. Если случались дни, когда он не мог добраться до своего письменного стола (из-за лекций, собраний, встреч), он страдал. В своем дневнике Лидия Юдифовна приводила его слова: «Я сегодня ни разу не присел за стол и ничего не написал. Это такое мученье, так хочется скорее за письменный стол!»[477] У него были четко отведенные часы, которые он проводил в кабинете, когда беспокоить его не разрешалось. Такой же четкости во времени он требовал от домашних, – он прерывал свои занятия для кофе, обеда, ужина, следуя заранее определенному «расписанию». День начинался с того, что Николай Александрович выпивал свою обычную чашку кофе и шел в кабинет – читать, писать, отвечать на письма (которых становился все больше и больше, – пропорционально бердяевской известности). Иногда он помогал Евгении делать закупки. Причем выглядело это немного комично: Николай Александрович был очень строг в одежде, даже дома, среди близких, его невозможно было застать в пижаме, в халате. Он появлялся утром в столовой уже полностью экипированным: в рубашке, домашнем пиджаке, причесанный и пахнущий хорошим одеколоном. На улицу (в том числе, в продуктовые лавки) он тем более выходил «при полном параде». Человек аристократической внешности в галстуке, жилетке, пиджаке (но с обмотанным шарфом горлом – вдруг сквозняк! Боязнь болезней его не покидала), в начищенных туфлях, но с бесформенной потрепанной хозяйственной сумкой в руках смотрелся необычно, на диссонанс между внешностью и поклажей обращали внимание. Особенно любил Бердяев бывать в винных лавках (что часто бывало необходимостью, так как Бердяевы принимали много гостей). Он разбирался в вине, любил его, хотя никогда – в отличие от многих русских – не пил водки. Считал это очень вульгарным. В эмиграции Николай Александрович начал есть мясо – раз в неделю. Это было вызвано экономией: полностью вегетарианский стол обходился дороже, Бердяевы просто не могли себе этого позволить.
Через четыре года парижской жизни перед Бердяевыми встала серьезная проблема: дом, где они снимали квартиру, был продан, им было необходимо срочно искать новое жилье. Лидия Юдифовна услышала, что недалеко собираются сдавать пустой дом – на rue de St. Cloud. Дом ей и Евгении очень понравился, в нем было три этажа, центральное отопление и большой кабинет на втором этаже для Николая Александровича. Цена аренды дома была вполне умеренной. Но для постоянно находящихся в стесненных обстоятельствах Бердяевых проблемой было меблировать дом: три этажа требовали столов, стульев, шкафов, ламп, денег на которые у них не было. Они все-таки решились снять понравившийся дом, – пришлось взять взаймы у бывшего мужа Евгении Юдифовны – Евгения Раппа (он тоже жил в Париже, был богат, женат на француженке, имел троих дочерей во втором браке, иногда наведывался к Бердяевым, чтобы повидаться с бывшей тещей). В тот месяц, который по условиям договора они должны были еще прожить в старой квартире, Евгения стала завсегдатаем блошиного рынка, покупая там за копейки старые кресла, обивку которых сама потом перетягивала, колченогие столики, чьи ножки потом подпиливались или, наоборот, удлинялись, и всякую другую необходимую в хозяйстве мебель и утварь. Дом получился уютным, удобным, здесь Бердяевы прожили самые счастливые годы в изгнании[478].
В этом доме у них всегда было много гостей, посетителей, друзей, да и просто людей, которым они помогали. Одним из таких, нуждавшихся в помощи, был Александр Викторович Каравадин. В прошлом – очень богатый помещик, проводивший жизнь в заграничных путешествиях, Каравадин стал совершенно нищим человеком, – революция застала его на Корсике, он остался жив, но не смог спасти даже малой доли своего состояния. Случайно познакомившись с Бердяевыми, он стал постоянно бывать в их доме – они его кормили обедами и ужинами, а иногда поручали какую-то работу по хозяйству, чтобы он мог немного заработать. «Он так слился с нашим домом, – писала Лидия Юдифовна, – что мне трудно уже представить себе наш особняк без старомодной фигуры А<лександра> В<икторовича> и его черного пса»[479].
Правда, арендная плата все время потихоньку росла. Николай Александрович часто говорил:
– Мы живем как в монастыре. Никаких развлечений, визитов, поездок (кроме необходимого лечения). К нам приходят, а мы – никуда…
Николай Александрович немного утрировал ситуацию. Все-таки они время от времени ездили на море, в Виши, иногда – в горы: озабоченный здоровьем Николай Александрович очень сереьзно относился к отдыху и санаторному лечению, старался выкроить на это деньги из семейного бюджета. Кроме того, он любил ходить в кино, всегда пользовался хорошим одеколоном, был придирчив к обуви. В остальном – жизнь Бердяевы вели очень скромную. Но денег все равно хронически не хватало. Бердяев пытался контролировать расходы, хранил все чеки и счета, экономил, но это мало помогало. Наступил момент, когда Бердяевы просто не могли больше позволить себе снимать такой дом. Тогда произошло «чудо»: Николаю Александровичу пришло письмо, в котором его приглашали к нотариусу. Он был очень удивлен:
– Не могу понять, в чем дело. Не знаю ни одной причины, по которой меня хотел бы видеть парижский нотариус. Да у меня и никогда не было причин иметь дело с нотариусами…
Оказалось, Бердяев получил наследство от друга семьи – англичанки Флоранс Вест. Она была активным членом кружка по изучению Библии, организованного Лидией Юдифовной и собиравшегося в доме Бердяевых еженедельно. Состояние, полученное ею от мужа, Флоранс распредилила в своем завещании между родственниками и благотворительными организациями, но оставила деньги и Бердяевым, чтобы они купили себе дом: жизнь в изгнании и так тяжела, говорила она, надо иметь хотя бы свой угол. Вскоре после этого в июне 1938 года Бердяевы переехали в собственный двухэтажный дом номер 83 на rue du Moulin de Pierre. С этого момента там всегда висел портрет «нашей дорогой Флоранс», – ведь благодаря ей семья смогла выйти из критического положения, даже приходящая прислуга теперь стала им по средствам. Купленный дом был окружен садиком, где Лидия и Евгения посадили розы. Лидии Юдифовне он чем-то напоминал русскую усадьбу. На первом этаже находилось большое помещение, предназначенное, видимо, для приема гостей. Из него со временем сделали православную часовню, иконостас для которой написал отец Григорий Круг. Кабинетом Николая Александровича стала маленькая комнатка, которая обстановкой напоминала скорее келью монаха, чем кабинет известного человека. Кровать с тумбочкой (на ней всегда лежал молитвенник и стояла икона, данная Бердяеву в Москве отцом Алексием Мечевым), стул, письменный стол и книги. Из-за стесненных средств книги Николай Александрович покупал, как правило, подержанные, в букинистических лавках, но отказать себе в этой страсти не мог. Именно этот дом стал последним земным приютом Николая Александровича. О нем с теплом говорили и писали многие бывавшие в нем: в отличие от сумрачного киевского дома, где прошло детство Бердяева, его собственный дом был открыт гостям, гостеприимен. Георгий Федотов не зря называл его «замком Монсальвате, где всегда чувствуешь себя так хорошо».
Каждое воскресенье в течение многих лет в 5 часов вечера у Бердяевых собирались друзья. Шестов, Габриэль Марсель, Марина Цветаева, Жак Маритен с женой, чета Федотовых, мать Мария Скобцова… Вечера у Бердяевых привлекали многих и стали настолько привычны для самих Бердяевых и их знакомых, что представить себе жизнь без них было трудно. Лидия Юдифовна писала: «Ни очень любит собрания у нас по воскресеньям. Это единственный день, когда он отдыхает в обществе знакомых. Он в своей бархатной шапочке с трубкой во рту сидит в конце стола, шутит, острит и чувствует себя легко и приятно»[480]. «Воскресенья» отменялись только в одном случае, – если Бердяев заболевал. К болезням он относился серьезно, даже трагично, спрашивал знакомых о хороших врачах, почувствовав себя неважно, сразу становился мрачен и озабочен. Тут уж было не гостей…. В 1933 году к воскресным собраниям присоединился знакомый Бердяевым еще по Москве Пьер Паскаль, о необычной судьба которого можно было бы написать приключенческий роман. Француз и верующий католик Паскаль провел в России более 15 лет, был женат на русской, дружил с Ремизовым и другими русскими интеллектуалами, отлично знал русскую историю и литературу. Один из его учеников, известный славист Жорж Нива, назвал своего учителя «христианским большевиком», который «ушел в коммунизм, как идут в монастырь», не переставая при этом оставаться искренне верующим католиком.
Изучавший в школе русский язык (с помощью русских полиэмигрантов!), Паскаль на всю жизнь остался влюбленным в Россию. Он воевал во время первой мировой войны, затем работал во французском посольстве в России шифровальщиком, но стихия русской революции его настолько поразила, что он бросил службу (был за это осужден по законам военного времени), вступил в РСДРП (будущую коммунистическую партию), стал большевиком и остался в России. Он жил в Москве, работал в Институте Маркса-Энгельса, причем – фантастическое время! – занимался в этом институте исследованиями, связанными не с Марксом или Энгельсом, а со старообрядческим протопопом Аввакумом. Разочарование в революции наступило у Паскаля довольно скоро. НЭП, репрессии новой власти, исключение из партии и снятие «с поста» директора института Рязанова – все эти события заставили Паскаля пересмотреть свое отношение к большевизму, но на родину ему удалось вернуться только в 1933 году после больших трудностей. Сохранились яркие воспоминания Пьера Паскаля о Бердяеве, – начиная с его внешности («всегда элегантно одетый») и заканчивая описанием типичного бердяевского «воскресенья»[481].
Обычно Паскаль с женой приезжали одними из первых, – к 16 часам. Их встречала хозяйка дома и ее сестра, «которая вела все хозяйство». По мнению Паскаля, сестры очень отличались друг от друга: Лидия была скромна и «очень мила», почти не принимала участия в дискуссиях (если вспомнить характеристику Белого, то можно понять, как сильно изменилась Лидия после перехода в католичество). Ее сестра обладала гораздо более страстным характером, с удовольствием вступала в беседу, как правило, поддерживая позицию Николая Александровича. Мать сестер, Ирина Васильевна, к гостям не выходила, она вообще редко покидала свою комнату в силу возраста. Жена Паскаля, тем не менее, была с ней знакома и любила с ней беседовать. Однажды зашел разговор об ее имении под Харьковом – о любимых Бабаках, где при советской власти расположидся дом отдыха рабочих. Ирина Васильевна, услышав об этом, сказала: «Надеюсь, им там нравится». Ответ запомнился Паскалю, потому что показывал ту атмосферу «нестяжательства», которая существовала в доме Бердяевых.
Около 16 часов сверху, из кабинета раздавался голос Николая Александровича:
– Самовар уже готов?
Он спускался к приезжавшим гостям. «Там бывали русские, заезжие иностранцы, французы, – вспоминал Паскаль. – Усаживались вокруг стола, пили чай, всегда с щедрым и великолепным угощением, кондитерским шедевром Лидии или Евгении, и болтали о том, о сем. Николай Александрович задавал вопросы, направлял разговор к более серьезной беседе, которая затем занимала остаток дня. Это уже была не московская Академия: ни председателя, ни протокола заседаний, но Бердяев, тем не менее, руководил дискуссиями. Он одушевлял их, придавал им интерес, иногда прямо наслаждение своими остротами, обобщениями, категорическими выводами и… вспышками гнева… Верхом наслаждения для большинства слушателей бывала дуэль Бердяев – Шестов»[482]. Лидия Юдифовна остроумно называла многолетний спор между двумя друзьями спором между Ветхим и Новым Заветом.
Парижскую жизнь Бердяева невозможно представить и без двух кружков, в которые он входил: левого движения французских инеллектуалов «Union pour la Verite» («Союз за правду») и группы вокург журнала «Esprit», организованого Э. Мунье. «Союз за правду» был организован французским писателем Полем Дежарденом в его квартире на rue Visconti. На собраниях обсуждали новые книги по философии культуры, спорили. Сначала Николая Александровича приглашали на эти встречи как специалиста по марксизму и русскому коммунизму. Затем он стал просто одним из членов кружка. Здесь, например, обсуждались его новые книги. Эти встречи много дали Бердяеву, прежде всего, в понимании эстетических и религиозных оснований французского экзистенциализма; они несомненно сыграли свою роль в формировании его собственной экзистенциалистской эсхатологии. Правда, Бердяев считал, что представители эстетического экзистенциализма (Жан-Поль Сартр, например, которого Бердяев называл «литературным плейбоем») проходят мимо основной проблемы – духовной судьбы человека (потому что не верят в Бога, восприимают человека как конечное существо). Если атеистическая философия 18 века была хотя бы оптимичной, она предагала человеку «эрзац» религии в виде веры в прогресс и безграничность человеческого познания, то атеистический экзистенциализм 20 века лишал человека всякой надежды. Недаром Альбер Камю основным вопросом философии считал вопрос о самоубийстве: стоит ли эта жизнь того, чтобы быть прожитой?
Персоналистское течение французских левых католиков, сложившееся в середине 1930-х годах вокруг журнала «Esprit», возникло в результате инициативы двадцатисемилетнего Эмманюэля Мунье. Основными темами не только журнала, но и возникшего вокруг него философского направления стала проблема личности, а точнее – констатация «кризиса человека» в буржуазном мире. «Воссоздать Ренессанс» – так называлась передовая статья первого номера «Esprit» (1932). Ренессанс вывел из кризиса средневековье; такая же персоналистская революция коммунитарного типа необходима, чтобы разрешить кризис XX века. Это станет возможным тогда, когда в центре теоретических дискуссий и практических действий окажется личность. Течение получило название «персонализма», возникло и развивалось под прямым влиянием идей Бердяева. Таким образом, Николай Александрович стал одним из авторитетов и основателей течения западноевропейской философии! В 1936 году Мунье опубликовал работу под смелым названием «Манифест персонализма», в которой изложил отправные пункты нового философского понимания личности и построения персоналистского общества. Свою позицию Бердяев тоже называл персонализмом. Он утверждал ценность человеческой личности как божественной эманации, как духа: личность после смерти войдет в Царствие Божие, тогда как от коллектива не останется ничего. Разумеется, у персонализма немало общего с индивидуализмом. Но есть и коренное различие: крайний индивидуализм превращает человеческую личность в центр мироздания. Персонализм же, высоко ставя личность, провозглашает ее назначением служение сверхличным ценностям, творческую активность. В одном из своих частных писем Бердяев так излагал свои взгляды на возможность разрешения противостояния личности и общества: «Персонализм (признание верховной ценности конкретной человеческой личности) имеет социальную проекцию. Общество может быть организовано персоналистически во имя каждой человеческой личности, ее достоинства, ее права на жизнь и труд, на реализацию заложенных в ней возможностей. Персонализм требует преодоления власти денег, уничтожения классов, замены классовых различий индивидуальными призваниями профессий. Эта система ближе к Прудону, чем к Марксу. Впрочем, я во многом расхожусь и с Прудоном»[483]. И ниже: «У меня трезвое чувство реальности, я не верю в возможность обойтись без государства, этого «холодного чудовища», как говорил Ницше, но сердце мое принадлежит анархии…»[484].
В 1931 году увидела свет важная для понимания философского мировоззрения Бердяева книга – «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики». Эту книгу с интересом встретили Г. Марсель и Ж. Маритен. Сам Бердяев «О назначении человека» считал своей «наиболее совершенной» работой. Излагая систему своих взглядов для берлинского словаря философов, Бердяев разделил опубликованные им до середины 30-х годов книги на две категории. Для характеристики своих философских взлядов он считал главными такие книги, как «Смысл творчества», «Смысл истории», «Философия свободного духа», «О назначении человека», «Я и мир объектов». Вторая категория книг помогала понять его взгляды на культуру и общество: «Новое средневековье», «Христианство и классовая борьба», «Правда и ложь коммунизма» (статья в журнале «Путь») и «Судьба человека в современном мире». Новая книга развивала учение Бердяева о несотворенной свободе и свободной природе человека. В этой книге Бердяев окончательно сформулировал и свою концепцию о трех эпохах преимущественного господства различных систем нравственных ценностей – этики закона, этики искупления и этики творчества. Подлинно христианской этикой Бердяев считал этику творчества, поскольку «творчество означает переход души в иной план бытия».
На эту работу Бердяева появились отклики в печати, – хотя и не такие многочисленные, как в былые времена в Москве и Петрограде. Самым серьезным откликом стала статья архиепископа Иоанна (Шаховского), опубликованная в № 31 журнала «Путь». Он назвал книгу философско-публицистической и, по сути, повторил те возражения, которые вызвала концепция Бердяева еще в России у Розанова и других православных рецензентов, – в частности, о противополагании творчества и святости: «Основной вопрос этической системы «назначения человека» – о творчестве остается, по существу, не решенным у Бердяева, хотя и намеченным, хотелось бы сказать, верно. Тупик вопроса этого в том, что в категориях христианского разума «творец» не может быть иным идеалом, чем «святой». Образ и подобие Божии должны открыться Духом в ответ на творческую самоопределительную свободу человека. Господь призывает творить добро и признает великим лишь сотворившего и потом уже научившего (Мф. 5; 19). Это и есть святость, ни предела коей, ни каких-либо единых форм нет. Форм столько, сколько лиц человеческих, и даже более»[485], – писал архиепископ Иоанн. Идея творчества, противопоставленная Бердяевым идее личного спасения, тоже не нашла у него понимания: христианская заповедь любви к ближнему чужда эгоизма и эгоцентризма, потому также поднимается над индивдуальной жизнью, как и творческий акт. Но, несмотря на многочисленные возражения, арх. Иоанн признал ценность работы Бердяева. «Самое ценное в книге Бердяева – этическая печаль о несовершенстве добра и добрых»[486], – заключил он свой отклик.
В Париже у Николая Александровича появился еще один друг – Ирина Павловна Романова, урожденная Гогенфельзен, княжна Палей (1903–1990). Она познакомились с Бердяевым в начале 30-х, причем сначала их отношения и переписка носили чисто деловой характер, – Ирина Павловна переводила на французский язык некоторые работы Бердяева, в том числе, – «Философию свободного духа», «О назначении человека», причем помогал ей в этом издатель и художник граф Юбер Конкере де Монбризон, ставший ее вторым мужем после второй мировой войны. Мобризон, будучи богатым человеком, выступал еще и меценатом для многих начинаний эмиграции, – например, он пожертвовал деньги РСХД, когда его финансирование со стороны YMCA сократилось, издавал работы Бердяева, выписывая ему щедрые гонорары, занимался благотворительностью. Ирина Павловна тоже не была чужда меценатства: она содержала под Парижем приют и школу для русских девочек, куда со временем стали принимать и беженок из Испании и Германии. Постепенно отношения с Ириной Павловной переросли в настоящую дружбу, и Бердяев имел все основания ей написать: «Вы уже так хорошо знаете мою манеру писать и мои мысли, лучше всех»[487]. Речь шла о переводе статьи Николая Александровича «Человек и машина» для журнала «Esprit» – Бердяев сначала попросил перевести текст Марину Цветаеву, чтобы дать ей возможность заработка. Но перевод его не удовлетворил, и он обратился за помощью к Ирине Павловне. Несмотря на то, что он сам хорошо знал французский язык, Николай Александрович не писал на этом языке и даже не переводил написанный уже на русском текст (в отличие от Франка, Степуна, которые даже писали на немецком). Тем не менее, его знания французского вполне хватало на то, чтобы оценить качество перевода, помочь переводчику с поиском нужного выражения, слова, идиомы.
В 1933 году Бердяев гостил у Романовой в Биаррице, где она жила на берегу моря летом. Он хотел приехать к ней и раньше, в августе 1931 года, даже сел в поезд, но в купе обнаружил, что его бумажник со всеми деньгами и документами украден. Не солоно хлебавши, он сошел с поезда и, оставшись в Париже, стал заниматься хлопотами по восстановлению пропавшего удостоверения личности и других бумаг. Только спустя почти два года он заехал на неделю к Ирине Павловне после своего санаторного лечения в Виши. «Я вспоминаю о днях, проведенных у Вас и с Вами, как о празднике… Я очень сблизился и сдружился с Вами за дни, проведенные в Биаррице. Мне кажется, что я Вас почувствовал и узнал. И образ Ваш стал для меня еще милее»[488], – писал он ей в письме по возвращении в Париж. Ирина Павловна восхищалась Бердяевым, ее завораживали его идеи, способность парадоксально мыслить. Во время пребывания Николая Александровича у нее в доме они очень сблизились. Днем они часто ездили по окрестностям (Ирина Павловна прекрасно водила машину), вечерами засиживались в гостиной, разговаривая о самых разных вещах. Бердяев и в это время успевал работать над своей книгой «Я и мир объектов: Опыт философии одиночества и общения», но как сам вспоминал, совсем не чувствовал одиночества, переживание которого для него было так характерно.
Тональность бердяевских писем, обращение к Ирине Павловне («Дорогая моя принцесса!»), характер подписи («Целую Ваши руки. Любящий Вас Николай Бердяев»), просьба о фотографии, замечания, что скучает без нее, заставляют предположить, что Ирина Павловна нравилась Бердяеву не только как друг и переводчик, но и как очаровательная женщина. Видимо, такое отношение Бердяева к ней заметил и Дональд Лурье, близко общавшийся с Николаем Александровичем; во всяком случае, перечисляя женщин, которые имели значение для всей жизни Бердяева, он называет Лидию Юдифовну, Евгению Юдифовну (рядом с которой прошла бо́льшая часть жизни философа), Евгению Герцык и «Mme de Monbrison», то есть Ирину Павловну[489]. Она была на 29 лет моложе Николая Александровича (а он сам уже приближался к шестидесятилетию), в то время – замужем за князем императорской крови Федором Александровичем Романовым, поэтому речь, конечно, могла идти только о платоническом чувстве восхищения умной и красивой женщиной (с женщинами Николай Александрович всю жизнь сходился легче, чем с мужчинами), с которой возможным стало «общение душ». Николай Александрович был откровенен в письмах к Ирине Павловне, – как когда-то он откровенно расказывал о себе Лидии или Зинаиде Гиппиус, писал даже о тех свойствах своего характера, которые считал дурными. Показательным может быть письмо от 1 августа 1933 года: «Главное мое несчастье в том, что мир и жизнь постоянно вызывают во мне чувство брезгливого отталкивания. И я радуюсь, когда этого не бывает, я счастлив, когда испытываю притяжение без отталкивания. Так у меня это с Вами, милой принцессой. Я с такой страстью ухожу в творческую мысль, потому, что «жизнь» так часто вызывает во мне болезненное отталкивание, слишком многое кажется мне уродливым. Вы мне сказали, что я от скромности ничего не говорил о себе. Вот я и сказал сейчас о своем свойстве, которое внешне стараюсь всегда не показывать, так как считаю дурным его показывать»[490]. Он беспокоился об Ирине Павловне как о близком человеке: «Я прочел на днях в газете, что одна русская, член студенческого христианского движения, т. е. значит еще молодая, умерла в Биаррице от солнечного удара во время купания. Я вспомнил о Вас и испугался. Принимаете ли Вы все предосторожности при купании и при лежании на солнце на пляже? Кажется, необходимо мочить холодной водой голову. Я давно слыхал, что такое лежание на солнце может быть опасно, если это делать неосторожно. Как вообще Ваше здоровье? Мне кажется, что у Вас не особенно хорошее здоровье»[491]. Отчасти здесь сказалась мнительность Бердяева в медицинских вопросах, его озабоченность здоровьем – своих и дорогих ему людей.
Постепенно вычитывание переводов, которые делала Ирина Павловна, стали не главным в их общении. Перед своим отъездом для чтения лекций, Бердяев обсуждал с ней «деловой» вопрос в одном из писем так: «Если хотите, в этот день я мог бы приехать к Вам, что мне было бы очень приятно. Тогда можно было бы докончить и просмотр небольшого оставшегося куска третьей главы. Неприятно только, что это отнимет время от разговора и общения с Вами»[492]. Но время шло, и так же постепенно нежная мелодия бердяевских писем к Ирине Павловне становилась более дружеской, хотя и оставалась теплой. Диалог между Николаем Александровчием и Ириной Павловной (которую он, кстати, считал лучшей переводчицей своих текстов) продлился вплоть до смерти Бердяева.
В 1934 году вышла в свет еще одна книга Бердяева – «Судьба человека в современном мире. (К пониманию нашей эпохи)». Книга была вызвана к жизни потребностью осмыслить происходящее в истории. Европа была накануне второй мировой войны, – сжата между жерновами двух войн, по словами Мережковского. В Германии в 1933 году к власти пришел Гитлер. Франция тоже стояла на пороге важных событий. Вечером 6 февраля 1934 года на улицах Парижа произошло выступление французских фашистов, руководимых полковником де ла Рокком и поддержанных начальником парижской полиции Кьяппом. В ответ 12 февраля была проведена грандиозная демонстрация пролетарской солидарности, в которой участвовали левые партии и рабочие организации. С этой демонстрации началось складывание народного фронта в стране. В этом же году Советский Союз вступил в Лигу наций, Франция официально признала СССР, и это событие погрузило большинство русских эмигрантов в тревогу и уныние. Конечно, Бердяев не откликался в своих книгах на конкретные политические события, – он был философом, он стремился встать на сверх-историческую точку зрения, но ощущение жизни было неустойчивым: времена опять «плавились». Неслучайно Бердяев сравнивал эту книгу со своим «Смыслом истории», – тогда человечество тоже стояло на пороге колоссальных перемен. Сравнивал Николай Александровчи эту работу и с «Новым Средневековьем». «Моя книга «Новое средневековье» была написана 11 лет тому назад, а книга «Смысл истории» 15 лет тому назад. В них я высказал свои историософические мысли в связи с наступлением конца целой исторической эпохи. Многое из того, что я говорил, подтвердилось, многое предвиденное мной сбывается. Но возникло и много нового, требующего осмысливания. И у меня явилась потребность написать как бы второй том «Нового средневековья»[493], – говорил он. В этом же году вышла еще одна книга – «Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения». Эта книга более всего роднит Бердяева с другими представителями философии экзистенциализма, в ней наиболее полно развито учение философа об объективации, которое стало как бы второй точкой опоры его персоналистической концепции наряду с констатацией первичности и несотворенности свободы. Материальная действительность для него – лишь «объективация» (опредмечивание, символизация, воплощение) духа. Мир объективации для Бердяева – это мир падший, мир «заколдованный», мир явлений, а не сущности, мир, где утеряна свобода и одинокого человека окружают чуждые объекты. «Дух никогда не есть объект, дух всегда субъект, но субъект в более глубоком смысле, чем это утверждает гносеология. «Объективно» мне не может раскрыться смысл. Ничто «объективное» не имеет смысла, если не осмысленно в субъекте, в духе. Смысл раскрывается во мне, в человеке, и соизмерим со мной. Объективация смысла, когда он представляется данным извне, из объекта, носит социальный характер и всегда есть еще та или иная форма рабства духа»[494], – писал Бердяев. Он по-своему переосмысливал Канта, соглашаясь с кантовским признанием иной, более глубокой реальности, скрытой за объективированным миром.
Как и во всех работах Бердяева, в этой своеобразно преломился его собственный духовный опыт, – несмотря на бурную общественную деятельность, большое количество людей, окружавших его, Николай Александрович почти всю жизнь, с самого детства, очень остро чувствовал одиночество. Это понимала его жена, написавшая в дневнике: «Ни очень одинок. Единственный человек, с кот<орым> он сохраняет дружеские отношения еще с киевского периода жизни, это – Л. И. Шестов»[495]. Сама Лидия Юдифовна, конечно, тоже была отчасти его alter ego – он искренно любил ее и привязывался год от года к ней все больше. В семье был обычай: каждый вечер Николай Александрович приходил в комнату Лидии, садился у ее постели в большое кресло и беседовал о прожитом дне. «Это часы, когда мы ведем самые интересные и интимные беседы и говорим друг другу все [самое важное]… свое»[496], – записала в дневнике Лидия. Беседы диктовались не только потребностью общения, но имели со стороны Бердяева и «терапевтическую» цель: в то время, в парижские годы, Лидия пережила трудный период. Евгения Юдифовна рассказывала, что достаточно долгое время ее сестра находилась в подавленно-депрессивном состоянии из-за того, что не могла жить такой жизнью, какой хотела бы: «сидеть одной и читать псалмы». Лидия жаловалась в письмах, что ее тяготит «семейная жизнь» (несмотря на постоянную помощь Евгении, взявшей все хозяйственные заботы на себя). Николай Александрович раздражал ее своей педантичностью, суетливостью, нервностью, боязнью болезней, хотя умом она и понимала, «какое огромное счастье» выпало на ее долю,[497] – она нашла человека, который принял ее представление о совместной жизни и согласился с ним. Некоторое время Лидия старалась меньше бывать дома – часто ходила в церковь, навещала в госпитале «своего» больного, читала религиозные книги, – была погружена в свое католичество с головой. Если бы не усилия сестры и Николая Александровича, она бы совсем отгородилась от окружающего ее мира. В этот период жизни Николай Александрович и Лидия, каждый по-своему, переживали свое одиночество.
Сохранилось описание Бердяева этого времени, сделанное замечательным писателем, принадлежавшим к следующему эмигрантскому поколению, Василием Яновским: «В синем берете, серебристо-седой, величественный, красивый старец, судорожно сжимающий в зубах толстый мундштук для сигары – спасаясь этим от тика! Он выходил из своего домика с каменным крылечком, подарок американской поклонницы, и осторожно спускался по улице к станции Кламар или к трамвайной линии, бежавшей до площади Шатлэ. …Бердяев один из немногих в эмигрантском Париже сохранил барское достоинство и аристократическую независимость. Ибо рядовые «рефюже» были затасканы и задерганы обстоятельствами до чрезвычайности»[498]. Яновский отмечал, что Бердяев происходил будто бы из царского рода Бурбонов, и вел себя соответствующе, «как надлежит первому среди равных или равному среди первых». Врожденный аристократизм Николая Александровича отмечали многие, некоторых он даже раздражал. Бердяев, несмотря на бытовые тяготы, жил как будто в двух мирах, причем обыденный мир забот и суеты никогда не был для него важнее жизни духа. Впрочем, далеко не все принимали и его духовные «открытия», – тот же Яновский считал его философом, но отнюдь не мудрецом (как Сократ, Григорий Сковорода, Лев Толстой), отмечая, что «мудрец живет в соответствии со своею мыслью, со своим учением. От «философа» требуются только знания, таланты анализа или обобщения»[499]. Но, тем не менее, несмотря на критический настрой, Яновский отмечал, что именно от Бердяева он унаследовал ценную мысль социального порядка: «От него я впервые услышал, что нельзя прийти к голодающему и рассказывать ему о Святом Духе: это было бы преступлением против Святого Духа. Такая простая истина указала мне путь к внутренней Реформе. Я понял, что можно участвовать в литургии и тут же активно стремиться к улучшению всеобщего страхования от болезней; борясь с марксизмом, оставаться братом эксплуатируемых… За это скромное наследство я прощаю Бердяеву его «новое средневековье», мессианизм, особенности «национальной души» и прочий опасный бред.»[500] Думаю, если бы каждый из нас мог подарить другому хотя бы по одной нравственно-ценной мысли, то мир стал бы намного лучше.
В феврале 1934 года Бердяев отправился в Прибалтику для чтения лекций. Поездка была не очень удачной: он заболел в дороге ангиной, из-за больного горла план лекций пришлось существенно сократить, да еще в Риге его лекции бойкотировали те немцы и русские, которые симпатизировали Гитлеру и национал-социализму, – было известно, что Бердяев является противником новой германской власти. Лекции Николай Александрович читал часто, в разных местах, перед разной аудиторией. И не только потому, что ему было важно раскрыть свои взгляды перед слушателями, но и для заработка. Он очень много работал для того, чтобы содержать семью, близкие это понимали и были ему благодарны.
Поэтому когда в парижской газете «Возрождение» под псевдонимом П. Сазанович появилась ругательная статья о книге Николая Александровича «Судьба человека в современном мире», все близкие стали на его защиту. Обиднее всего было то, что псевдоним легко расшифровывался: автором статейки был тот самый Владимир Ильин, который столько лет был своим человеком в их берлинском и парижском доме. Тональность рецензии была хамская: «замысел Н. А. Бердяева дышит люциферической гордыней», «литературность его (Бердяева – О.В.), вообще, весьма и весьма под вопросом. Некоторые его книги почти невозможно читать», «Н. А. Бердяев не раскрывает органически своих мыслей, но вдалбливает их в голову – он «тешет кол на голове читателя»», Бердяев «односторонен «как флюс» или, лучше сказать, как любимый им марксизм, от которого он и воспринял фактическое отношение к человеку и миру», «сам Христос у него – «красный» и Бог – левый», «Н. А. Бердяев судья неправедный, который «Бога не боится и людей не стыдится»» и так далее. Бердяевы были неприятно поражены этой публикацией. Но каково же было их удивление, когда спустя несколько дней они получили письмо от Владимира Ильина с извинениями! «Я заслуживаю всякого осуждения, но одного прошу, не подумать обо мне, как это подумала Евгения Юдифовна – и по всей вероятности думаете Вы – что я забыл мою любовь к Вам, десять лет хлеба-соли и интимнейшего общения в области идей, – писал Ильин. – Я этого не только не забыл – но с того времени – этому скоро будет год – как мною покинут Ваш дом – еще никогда я так не томился жаждой встречи с Вами и с Вашей семьей… Дорогой Николай Александрович! Вы отреклись от «Философии неравенства», и я решил Вам отомстить, ибо у меня было такое чувство, будто королева связалась с конюхом или еще сильнее «матрона полюбили осла» (В. Розанов)»[501]. Бердяев был оскорблен письмом еще больше, чем статьей: «Кто дал ему право судить меня и мою философию?» Прочитав пасквиль Ильина, к Бердяевым заехал Шестов. Он был возмущен:
– Этого так оставить нельзя. Сегодня льют помои на одного, завтра на другого. Ему надо ответить! Это касается всех нас!
Резкий ответ, действительно, был напечатан в газете «Последние новости» за подписями Б. Вышеславцева, Г. Федотова, Л. Шестова, И. Бунакова-Фондаминского, Е. Извольской, К. Мочульского, М. Курдюмова[502]. Лидия Юдифовна описывала в своем дневнике, как отнеслись к заметке В. Ильина слушатели одной из многочисленных бердяевских лекций: «Вечером на лекции Ни. В перерыве меня окружают знакомые, взволнованные и негодующие на статью В. И[льина]. Собираются выразить протест в форме открытого письма. «Неужели Н<иколай> Александрович> подаст ему руку при встрече?» – спрашивает одна из знакомых. «Никто из нас не подаст!» – горячо говорят они. «А Николай Александрович сказал мне, что, конечно, подаст», – говорю я, потому что в каждом самом низком человеке он все же видит человека [– образ и подобие Бога]. Так поступал он всегда, всю свою жизнь, и так будет поступать и впредь»[503].
В это время Бердяев, как и Шестов ранее, стал участником декад в Понтиньи. В бывшем аббатстве на берегу реки с 1910 по 1914 и с 1922 по 1939 года проводились ежегодные десятидневные конференции, на которые собиралась интеллектуальная элита Франции. Но декады носили международный характер, и на них бывали представители других стран: англичане, немцы, итальянцы, испанцы, американцы, швейцарцы, голландцы, шведы, японцы. В Понтиньи приезжали Антуан де Сент-Экзюпери, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Томас Стернз Элиот, Томас Манн и другие выдающиеся личности. Из русских эмигрантов участникам декад были Шестов и Бердяев[504], что было очевидным признанием их творчества со стороны французских коллег. С эмиграцией дела обстояли много хуже, – Бердяева критиковали, вспомнили словечко, пущенное еще в Москве злоязычным Густовом Шпетом и подхваченное потом в статьях Ленина – «белибердяевщина», обвиняли в «коммунарстве». Действительно, Бердяев в эти годы полевел, что окончательно противопоставило его большинству эмиграции. Впрочем, Бердяев никогда не стремился приспособиться к мнению большинства. Еще одним доказательством этого стало его выступление в защиту отца Сергия Булгакова.
Осенью 1935 года на свет появился указ патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) № 1651. Указ строго осуждал булгаковское учение о Софии и рекомендовал всем верным чадам Церкви отвергать это учение, «опасное для духовной жизни». Надо сказать, что отец Сергий был в это время деканом Богословского Института, поэтому такое осуждение имело бы вполне очевидные административные последствия, если б не состоявшееся к этому моменту разделение эмигрантских церквей на три части: «белую» церковь, во главе с митрополитом Антонием Храповицким (Русская Православная Церковь за рубежом – РПЦЗ), «греческую» Церковь, руководимую из Парижа митрополитом Евлогием и поддержанную Институтом, которая с 7 февраля 1931 года подчинялась Константинопольскому Вселенскому Престолу; и, наконец, «красную» Церковь митрополита Сергия (Страгородского). Сначала булгаковскую «ересь» осудила «красная» церковь, а затем и РПЦЗ. Выбор Николая Александровича – стать прихожанином церкви Московской патриархии, очень осложнил его отношения не только с Богословским Институтом, но и со многими близкими ему людьми – тем же Булгаковым, Бунаковым-Фондаминским, матерью Марией (Скобцовой). Но когда отец Сергий, священник в седьмом поколении, был осужден как еретик, Бердяев, не раздумывая, бросился на его защиту. Он опубликовал в декабре 1935 года в «Пути» статью «Дух Великого Инквизитора», где резко осудил практику запретов митрополита Сергия. Для него вопрос заключался в том, возможна ли свобода мысли в православии? По его мнению, единственная настоящая ересь есть ересь против христианской жизни, а не против доктрин. В оценках Николай Александрович не стяснялся: он назвал практику осуждения непрочитанных книг (митрополит Сергий книгу Булгакова не читал) «церковным фашизмом». Написав эту статью, Николай Александрович заметно успокоился после нескольких дней волнений и возмущений, – «исполнил свой долг», – написала Лидия Юдифовна. Статья Бердяева вызвала немало откликов, в том числе, с критикой позиции самого Бердяева, но Николай Александрович стоял на своем: церковь не должна быть авторитарной, это должен быть свободный духовный союз! История была долгой, ее обсуждала эмигрантская печать от Харбина до Лондона, отец Сергий уже хотел уйти в отставку из Института, но летом 1937 года пусть не окончательное, но все-таки завершение ей дала Епархиальная комиссия, созданная митрополитом Евлогием. Комисия пришла к выводу о невиновности Булгакова, расмотрев его учение о Софии как частное богословское мнение, с которым не все могут быть согласны (Г. Флоровский и не согласился!)
РСХД, которому Бердяев отдал много душевных сил, тоже, по его мнению, превращалось в авторитарное движение ортодоксов. Бердяев чувствовал, что на него там стали смотреть как на вредного «модерниста», сам же он стал тяготиться пребыванием в «духовно чуждой, враждебной к философской мысли, свободе, духовному творчеству»[505] среде. Постепенно он отошел от движения. Вообще, если задуматься, Бердяева преследовали в жизни ситуации, когда он раставался с когда-то близкими друзьями (Мережковские, Карташев, Гершензон, Струве, Вяч. Иванов, В. Ильин, другие), отходил от важного и значимого вначале дела (ВАДК, Научный Институт в Берлине, «Путь», РСХД), оставался в одиночестве и под огнем критики. «В моем общении с людьми и целыми течениями всегда было что-то, для меня мучительное, всегда была какая-то горечь»[506], – чувствовал и сам Николай Александрович.
Лето 1936 года ознаменовалось многочисленными стачками и забастовками во Франции. В лавках нельзя было купить сахару и соли, – доставка продуктов прекратилась. И хотя спустя некоторое время все наладилось, было ясно: над Европой собирается грозовая туча. «Состояние Европы было очень нездоровым. Версальский мир готовил новую катастрофу»[507], – писал об этом времени Бердяев. Неудивительно, что следующая книга Бердяева – «Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности» (1935) – была связана с социальными проблемами, стоящими перед людьми. Но Бердяев показал их вторичность по отношению к проблемам духовным. Устранение голода, нищеты, неравенства не избавят человека от тайны смерти, любви, творчества. Более того, конфликты личности и общества, человека и космоса, истории и вечности лишь обострятся при более рационально устроенной общественной организации. Бердяев смог показать в этой книге несовершенство всех земных человеческих достижений. Человек призван к творчеству, но всякое творчество – неизбежная неудача, так как результаты творчества объективируются и начинают участвовать в порабощении человека. «Огненный творческий дух» не может узнать себя в произведениях искусства, книгах, теориях – в своих продуктах. Результаты творчества отчуждаются от творца. Творчество – это «восхождение из мира», по Бердяеву, но полный разрыв с миром невозможен, и в этом трагизм ситуации творчества. В. Зеньковский, анализируя философию Бердяева, считал этот момент в его концепции наиболее уязвимым: «Бердяев долго не замечает того, что его персонализм, отчуждая личность от мира, создает не просто трагичность творчества…, но и обессмысливает его: если творчество лишь закрепляет нас в «падшем» мире, то не стоит стремиться к творчеству в мире»[508]. Критика Зеньковского не была лишена оснований. Впрочем, подобное замечание можно адресовать и другим представителям экзистенциальной философии, с которыми Бердяев особенно сблизился в это время.
В ноябре 1938 года умер близкий друг Николая Александровича – Лев Шестов. Умер он в больнице, диагнозом был бронхит, но врачи нашли и признаки туберкулеза, а лечащий врач подозревал рак. Шестов чувствовал себя очень слабым и больным в последнее время, но незадолго до смерти все же нашел силы написать статью о Бердяеве для «Современных записок», считая несправедливым тот факт, что в русскоязычной прессе о работах Николая Александровича пишут мало и не по существу. В письме Булгакову по поводу этой статьи (Булгакову она очень понравилась) Лев Исаакиевич написал: «Я очень люблю и ценю Н.А. – думаю, это из статьи видно; но его уклон к Афинам[509] (влияние немецкой школы философии) и уклон в вопросах решающих, самых важных, был всегда предметом горячих споров между нами»[510]. Шестов и Бердяев были близкими по духу людьми, которые, тем не менее, всю свою жизнь спорили и не соглашались друг с другом в «последних» вопросах. Бердяев, конечно, откликнулся на смерть Льва Исаакиевича – статьей в «Пути», где почтил его память и подчеркнул значение его работ. Но как он откликнулся на это грустное событие внутри себя, в душе – остается только догадываться…
Незадолго до смерти Лев Шестов в одном из своих писем с горечью писал о современной ему эпохе: «Вот уже четверть века, как мы переживаем непрерывные ужасы… Что творилось и творится в России, где люди отданы во власть Сталиных и Ежовых! Миллионы людей, даже десятки миллионов… гибли и гибнут от голода, холода, расстрелов. То же в Китае. И рядом с нами в Испании, а потом в Германии, в Австрии. Действительно, остается только глядеть и холодеть»[511]. Такое мироощущение было присуще не ему одному в то время. После Мюнхенского соглашения между Германией, Италией, Великобританией и Францией обязывающего Чехословацкую республику уступить нацистской Германии Судетскую область (где находились ключевые чехословацкие оборонительные сооружения), стало ясно, что в мир стоит на пороге непрогнозируемых изменений. Возможно, поэтому Бердяев так много писал в поздний период своего творчества об истории, социальных проблемах, судьбе Европы, Росии и мира. В 1938 году вышла самая известная у иностранного читателя книга Бердяева – «Истоки и смысл русского коммунизма», где давался анализ произошедшей русской революции и ее влияния на остальной мир. Вышла она на немецком языке, была переведена на английский и французский, а на русском увидела свет только в 1955 году в YMCA-Press. Книга до сих пор считается классической для понимания русского коммунизма и русских революций начала 20 столетия. Она выдержала шесть изданий только до второй мировой войны!
Книга продолжала многие более ранние работы Бердяева, развивала содержащиеся в них идеи и мысли. Бердяев считал, что на любую революцию можно посмотреть с трех различных точек зрения: революционной (контрреволюционной), объективно-исторической (научной) и религиозной-апокалиптической. Менее всего смысл происходящих революционных процессов понятен активным участникам событий, то есть тем, кто стоит на революционной либо контрреволюционной точке зрения. И революционеры, и контрреволюционеры – лишь орудия истории. Рациональные цели, которые они преследуют в революции, никогда не достигаются, потому что любая революция – иррациональна, стихийна, неуправляема. Революционеры поклоняются будущему, но на деле живут прошлым. Объективно-историческая точка зрения позволяет лучше понять революционные процессы, но и она не раскрывает их сути. Историк, человек науки, способен познать и раскрыть множество второстепенных деталей произошедшей революции, – ее источники, хронологию, историографию и т. п., но и от него ускользает глубинный смысл случившегося. Только с позиций религиозной историософии можно приблизиться к пониманию значения и смысла революции: «смысл революции есть внутренний апокалипсис истории»[512]. Что это означает?
Революция есть частичное умирание, – в ней умирает многое и многие. В результате такого умирания наступает новая жизнь, хотя совсем не такая, какой ее представляли себе революционеры и контрреволюционеры. Революция, по Бердяеву, свидетельствует о нарастании в истории иррациональных сил. Это верно в двух смыслах: с одной стороны, революция иррациональна постольку, поскольку завершает собой старый уклад общества, который потерял свою прежнюю разумность, рациональность. С другой, – революция есть проявление иррациональной народной стихии. Таким образом, революция – это свидетельство невозможности непрерывного поступательного развития, симптом иррациональности истории, «откровение о всегдашней близости конца». Любая революция становится как бы маленьким апокалипсисом, когда накопившиеся в обществе зло и «яды разложения старого» вызывают смерть социального организма. Поэтому Бердяев был убежден в том, что смысл революции всегда пессимистичен, а не оптимистичен, ибо революция обнаруживает царящие в обществе зло и неправду, показывает, какие страшные проблемы в нем накопились, сдергивает внешние благообразные покровы с общественной жизни. Революция – суд над историей: «Революция есть грех и свидетельство о грехе… В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие силы сами творят зло»[513]. Таким образом, революция всегда грех, кровопролитие, насилие, но она же и реакция на имевшиеся в истории грех, кровопролитие, насилие. Уже поэтому она – катастрофа, приближение конца истории.
Наряду с чертами, общими для всех революций, русская революция 1917 года обладала, разумеется, и специфическими особенностями, была порождена своеобразием российского исторического процесса. В частности, Бердяев был убежден, что до критической точки процесс разложения старого общества довела война. Именно война сделала явными несостоятельность российской монархии, кризис православной Церкви, ненависть русских крестьян к дворянам-помещикам, устарелость сословного строя и многое другое, что привело к революционной катастрофе: «Весь стиль русского и мирового коммунизма вышел из войны. Если бы не было войны, то в России революция все-таки в конце концов была бы, но вероятно позже и была бы иной. Неудачная война создала наиболее благоприятные условия для победы большевиков»[514]. Многие современные историки согласны с ним и отводят войне роль подготовки почвы для революции. Разложение колоссальной, многомиллионной армии поставило страну на грань анархии. Старая власть потеряла свой политический авторитет. В этой ситуации любые демократические методы наведения порядка имели чрезвычайно мало шансов на успех: «принципы демократии годны для мирной жизни, да и то не всегда, а не для революционной эпохи. В революционную эпоху побеждают люди крайних принципов, люди склонные и способные к диктатуре».[515] Такими людьми «крайних принципов» и были в русской революции большевики, построившие на месте старой автократической монархии тоталитарное государство, основанное на диктатуре идеологии, миросозерцания.
Бердяев проницательно заметил «оборачиваемость» российской государственности: романовская монархия имела корни в религиозной вере, оправдывала себя как «священное царство», оплот православия и славянства. Но и новое государство большевиков воспринимало себя похожим образом: оно тоже имело корни в новой – марксистской – вере, оно тоже оправдывало себя как «священное царство» рабочих и крестьян, оплот пролетариата всего мира. Таким образом, Бердяев увидел, несмотря на всю поверхностную непохожесть, наследование между старой и новой Россией. Восприняв реально существующие традиции русского народа и российской государственности (как положительные, так и отрицательные), большевики по-своему трансформировали на практике идеи русского мессианства, особого предназначения России.
Судьба родного Отечества всегда осмысливалась в русской мысли не только на прагматическо-политическом уровне, но и с точки зрения философско-исторической, когда искался высший смысл, предназначение, миссия России в мировой истории, а сам путь страны воспринимался как служение некой цели. Не случайно Россия ощущала себя наследницей Рима (хотя известная формула о «Москве – Третьем Риме» возникла сначала не в русских, а в болгарских текстах, и лишь затем перекочевала в писания старца Филофея), причем имелась в виду не Римская империя, а «вечный Рим» как символ духовного мирового центра. «Вместо Третьего Рима, – с долей иронии писал Бердяев, – в России удалось осуществить Третий Интернационал, и на Третий Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. Третий Интернационал есть тоже священное царство, и оно тоже основано на ортодоксальной вере»[516].
Бердяев проследил парадоксальную связь между практикой большевиков и православием, воспитавшим русский народ: «Русский человек, даже если грех корыстолюбия и стяжательства овладел его природой, не считает своей собственности священной, не имеет идеологического оправдания своего обладания материальными благами жизни, и в глубине души думает, что лучше уйти в монастырь или сделаться странником. Легкость низвержения собственности в России произошла не только от слабости правосознания в русском народе, но и от исключительной отрешенности русского человека от земных благ. То, что европейскому буржуа представлялось добродетелью, то русскому человеку представлялось грехом. И русский помещик никогда не был до конца уверен, что он по правде владеет своей землей… И русский купец думал, что нажился нечистыми способами и раньше или позже должен покаяться. Православие внушало идею обязанности, а не права»[517]. Идея царства Божия, к которому всегда был устремлен русский народ, трансформировалась в революции в идею социализма как последнего «устроения» человечества на этой земле. Поэтому социализм носил в революционной России не политический только, а сакральный характер. Отсюда – его антирелигиозный пафос. Социализм сам стал религией, поэтому он не мог терпеть рядом с собой никаких других религиозных верований: «Коммунизм, не как социальная система, а как религия, фанатически враждебен всякой религии и более всего христианской. Он сам хочет быть религией, идущей на смену христианству, он претендует ответить на религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни. Коммунизм целостен, он охватывает всю жизнь, он не относится к какой-либо социальной области. Поэтому его столкновение с другими религиозными верованиями неизбежно… Как религиозное верование, коммунизм эксклюзивен»[518].
Сочинения Маркса и Ленина, постоянно цитировавшиеся в советских статьях и книгах, Бердяев сравнивал со священным писанием коммунизма, содержащем ответы на все вопросы, пролетариат – с мессией, который спасет и освободит все человечество, коммунистическую партию – с церковной организацией, «чека» – с инквизицией и т. п. Были свои пророки (Маркс, Энгельс, Ленин), свои обряды (партийные собрания, пение Интернационала): марксизм выступал в его работах как эрзац религии.
Утверждение Бердяева, что атеистический марксизм, – это религия (вернее, псевдо-религия), звучало шокирующе, вызывало споры. Для Бердяева же признание марксизма религиозным движением имело принципиальное значение, так как в этом случае становилось очевидным, что противостоять ему лишь в политике или экономике невозможно, гораздо важнее духовное противостояние. «Я согласился бы принять коммунизм социально, как экономическую и политическую организацию, – писал в конце жизни Бердяев, – но не согласился его принять духовно»[519]. Бердяев не раз повторял мысль о том, что главная ложь коммунизма – ложь безбожия, то есть ложь духовная, а не социальная. Для него было очевидно, что атеизм сводил на нет моменты социальной правды в марксизме. С точки зрения Бердяева, без религии нет гуманизма и свободы личности, более того, гуманизм с его проповедью свободы является результатом христианства в человеческой истории. Значит, отрицая Бога, дух, божественное начало в мире, марксисты закономерно приходят, в конце концов, к отрицанию самого человека, ценности его личности, сводя сущность человека к его биологическим и социальным проявлениям.
Сакральный характер социализма с необходимостью приводит к выбору: либо социализм, либо свобода. Бердяев гениально проследил тотальные претензии социализма марксистского типа на контроль над всей человеческой жизнью: «Социализм хочет владеть всем человеком, не только телом, но и душой его»[520]. Социализм обычно представляли себе как некую либеральную систему, одухотворенную стремлениями к справедливости. Речь шла о том, чтобы государство взяло на себя заботы об экономическом благоденствии своих граждан, освободив их от страха перед нищетой, безработицей и т. д., но считалось, что государству не будет никакого дела до частной интеллектуальной жизни. Исторический опыт заставил признать правоту Бердяева, а не этих расхожих представлений. Вся практика социализма в разных странах подтвердила истинность его вывода о тоталитарном характере революционного сознания: «Революционность есть тотальность, целостность в отношении ко всякому акту жизни. Революционер тот, кто в каждом совершаемом им акте относит его к целому, ко всему обществу, подчиняет его центральной и целостной идее… Тоталитарность во всем – основной признак революционного отношения к жизни»[521]. Разумеется, Бердяев не был пророком. В его книгах и статьях можно найти много положений, неоправданность которых уже очевидна современному читателю. Некоторые его оценки русского марксизма высказывались и раньше, но он смог довести их до логического завершения, сделать явными.
На протяжении десятилетий в советской России идеологическое неповиновение, отступление от заданного мировоззренческого шаблона считались гораздо более серьезными преступлениями, чем, например, кража. «Врагами народа» объявлялись не воры и убийцы, а те, кто осмелился мыслить самостоятельно. «Полиция мысли», в знаковом для нашего времени романе Джорджа Оруэлла «1984», написанном в 1848 году «по мотивам» сталинского социализма, тоже ставила грех «мыслепреступления» в разряд наиболее тяжких. В одной из своих статей Оруэлл объяснил это так: «Важно отдавать себе отчет в том, что контроль над мыслью преследует цели не только запретительные, но и конструктивные. Не просто возбраняется выражать – даже допускать – определенные мысли, но диктуется, что именно надлежит думать; создается идеология, которая должна быть принята личностью, норовят управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения. Она изолируется, насколько возможно, от внешнего мира, чтобы замкнуть ее в искусственной среде, лишив возможности сопоставлений. Тоталитарное государство обязательно старается контролировать мысли и чувства своих подданных по меньшей мере столь же действенно, как контролирует их поступки»[522]. Ведь пока сохраняется хотя бы росток неподконтрольной, своей мысли, – существует возможность бунта. Тоталитарный социализм стремится «выдрессировать» человеческие души. В этом видел Бердяев противоположность такого социализма христианству: христианство прежде всего дорожит духовной свободой человека, оно против любого принуждения (хотя церковная жизни не раз давала другие примеры; впрочем, Бердяев считал, что осуждение учения Булгакова о Софии как ереси, навязывание верующим единой точки зрения – это как раз нарушение христианского духа).
В 1939 году Николай Александрович был приглашен для чтения лекций в Сорбонну. Формальным поводом для этого стало присуждение ему премии Французской Академии за книгу «Философия свободного духа», вышедшую еще в 1928 году. Бердяев очень отвественно отнесся к своим лекциям, серьезно к ним готовился, – они стали для него еще одним знаком международного признания. Дались они ему не слишком легко: его мучал хронический трахеит с кашлем, он уставал не только от публичных выступлений, но подчас даже от долгих или слишком оживленных разговоров у себя по «воскресеньям». В этом же году у Бердяева диагностировали «сахарную болезнь» – диабет. Летом он мучался болезнью желудка, потом страшно болели зубы… Почти всю жизнь его преследовала бессонница, головные боли, – никуда не делись они и перед войной. Возраст давал себя знать: в семье Бердяевых все чаще гостили разные болезни. Лидия Юдифовна порой не могла дойти даже до церкви из-за больной ноги. У Евгении диагностировали костный туберкулез (хотя весь дом держался на ней). Мать Лидии и Евгении, Ирина Васильевна, уже не вставала с постели, – для ухода за ней даже пришлось нанять прислугу-испанку по имени Мари. Мари была ревностной католичкой, что пришлось очень по сердцу Лидии Юдифовне, – она снабжала ее религиозными книгами, брала с собой в библейский кружок. Если заболевали обе сестры одновременно (грипп, например), то ухажить за ними приглашали хорошую знакомую и сестру милосердия Т. С. Лямперт, – Николай Александрович сбивался с ног, суетился, но толку от его усилий было мало, сам он не справлялся с больными. 28 декабря 1939 года мать Лидии и Евгении умерла: ее слабый организм не выдержал гулявшего тогда по Парижу гриппа. Лидия была с ней в минуты конца и писала, что Ирина Васильевна покинула этот мир умиротворенной и благостной. Похоронили ее на кламарском кладбище, – причем сестры не смогли поехать на кладбище из-за болезни, провожали ее из окна дома.
В 1936-39 годах самые бурные страсти пробудила начавшаяся гражданская война в Испании, – и не только в СССР, но и в эмиграции. Многие бывшие русские офицеры отправились в Испанию, чтобы воевать на той или другой стороне. Коминтерн вербовал сторонников в интербригады, но и на стороне Франко было много добровольцев, среди них – члены РОВС. Одни боролись с фашизмом, другие – «с красными ордами». Симпатии Бердева в этой войне были очевидны: он был против франкистов. Он несколько раз участвовал на заседаниях «Пореволюционного клуба», члены которого считали, что «нужно не бороться с революцией, а овладевать ею»[523], разногласия с властью не отменят идею служения России. Писал он и для «Нового града» – журнала, находившего для зашиты демократии и свободы убедительные слова во время кризиса европейской свободы и демократии. От него приблительно этого и ожидали. Но когда преподаватель Свято-Сергиевского Богословского института Георгий Федотов, во многом определявший «новоградскую» линию, открыто вступился за испанских республиканцев, в эмигрантской среде это вызвало настоящий скандал. Более того, Георгий Петрович опубликовал ряд статей, за которые правление Богословского института выразило ему резкое порицание: по мнению правления, они вызывали «смущение и соблазн» у читателей. Дело было в том, что публицистические выступления Федотова были восприняты монархическими кругами русской эмиграции как про-большевистские, на автора обрушилась волна критики, подчас грубой, и правление института предпочло размежеваться с Федотовым, чтобы не быть втянутым в полемику. Федотов, тяжело переживавший сложившуюся ситуацию, подал в отставку. На его сторону безоговорочно встал Бердяев, выступив с громкой статьей в «Пути» в поддержку Федотова. Он доказывал в своей статье, что многие богословы не стоят в стороне от политики, но их за это не осуждают, – потому что они не стоят в стороне от правой политики. Проблема была в том, что статьи Федотова расценили как «левые». «Г. П. Федотов – христианский демократ и гуманист, защитник свободы человека. Он терпеть не может коммунизма. Он также несомненный русский патриот, что более достойно, чем быть «национально мыслящим». Он совсем не держится крайних взглядов. Оказывается, что защита христианской демократии и свободы человека недопустима для профессора Богословского института. Православный профессор должен даже быть защитником Франко, который предал свое отечество иностранцам и утопил народ свой в крови», – с возмущением писал Бердяев.
Статья Бердяева в «Пути» была встречена неоднозначно даже людьми, заподозрить которых в симпатии к франкизму было трудно. Например, профессор Богословского Института Василий Зеньковский написал Бердяеву письмо, в котором сказал, что после статьи Николая Александровича не может оставаться сотрудником «Пути». Бердяев, ощущая себя борцом за правое дело, возражений не слушал. Лидия Юдифовна писала в дневнике об этих днях и о «федотовском деле»: «Ни в возбужденном и боевом настроении»[524]. Бердяевский дом стал чем-то вроде штаба, где собирались сочувствующие позиции Федотова люди – Бунаков-Фондаминский, Мочульский, мать Мария, Пьянов. Сам Федотов в это время находился в Лондоне, но прислал теплое письмо Николаю Александровичу с искренней благодарностью за поддержку.
Позиция Федотова была близка Бердяеву, недаром в правых эмигрантских кругах его прозвище «розовый профессор» оказалось столь живучим. По воспоминаниям Бердяева, еще при его высылке один из видных представителей советской коммунистической элиты сказал ему: «В Кремле надеются, что, попав в Западную Европу, вы поймете, на чьей стороне правда». Позднее Бердяев с долей иронии говорил об этом напутствии, так как он всегда понимал «неправду капиталистического мира», для этого ему не нужно было быть высланным. Но после переезда на Запад это ощущение ограниченности и неправды буржуазного общества стало у Бердяева даже острее: «Я в эмоциональной подпочве вернулся к социальным взглядам своей молодости, но на новых духовных основаниях. И произошло это вследствие двойной реакции – реакции против окружающего буржуазно-капиталистического мира и реакции против настроений русской эмиграции»[525]. Разумеется, Бердяев остался противником коммунистического тоталитаризма в России, но не менее резко он выступал против тоталитаризма в любой форме, против любого насилия над личностью, что и дало повод некоторым кругам эмиграции причислить его (и Федотова) к «коммюнизанам».
Развернувшуюся полемику прервала война.
Часть 5. Последние годы
17. Война
Быть созданным, чтобы творить, любить и побеждать, – значит быть созданным, чтобы жить в мире. Но война учит все проигрывать и становиться тем, чем мы не были.
А. Камю1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Заручившись нейтралитетом Советского Союза (в августе 1939 года был подписан германо-советский пакт о ненападении)[526], Германия начала эту войну вторжением в Польшу. Уже через два дня в ответ Великобритания и Франция объявили войну Германии. Но война была «странной»: хотя англичане и французы обладали в тот момент превосходством в силах, практически никаких военных действий против Германии они не вели. 17 сентября Советский Союз тоже ввел свои войска в Польшу. Всего за месяц польская армия была разбита немецкими и советскими войсками, а Польша поделена между нацистской Германией и СССР.
Бердяев много размышлял о начавшейся войне. В начале ее он надеялся, что Англия и Франция смогут остановить Гитлера и беспокоился в своих письмах о том, чтобы разгром германского фашизма был окончательным, – чтобы «через полгода не было новой войны». Крайне болезненно он переживал и «низкую роль Советской России», – Николай Александрович всегда ощущал себя русским человеком, потому вступление СССР в сговор с Гитлером воспринимал почти как личное бесчестье. Это чувство усугубилось с началом «зимней войны» – Советский Союз напал на Финляндию. Впрочем, Бердяев довольно проницательно видел и те противоречия, которые неизбежно возникнут между Германией и СССР. Ирине Павловне Романовой он писал: «В войне виновно советское правительство. Но для Германии Советы создали огромные затруднения. Это может быть благоприятно для Франции и Англии. Но даже когда коммунисты делают что-нибудь, что может иметь положительное значение, они делают это в морально безобразной форме.»[527] Сами Бердяевы решили остаться в Кламаре «до крайней возможности», – Бердяев, как всегда, писал книгу. На этот раз он начал работать над собственной философской автобиографией.
«Воскресенья» в бердяевском доме еще продолжались. Собиравшиеся у Бердяевых люди – Фондаминский, Федотовы, мать Мария, другие задумали встречаться ежемесячно и обсуждать духовный смысл происходящих событий. На эти собрания решено было приглашать и иностранцев. Первое такое собрание 3 марта 1940 года прошло у Ильи Фондаминского, доклад (по-французски) сделал Бердяев. Пришло около 30 человек, среди них были Габриель Марсель, писатель Жан Шлемберже, испанские, китайские, индийские интеллектуалы, оказавшиеся тогда в Париже. Бердяев окрестил собрание «духовным интернационалом». Доклад Николая Александровича у иностранной части «интернационала» успеха не имел: они нашли его слишком левым и пессимистичным, а мысль о том, что условием победы над Германией должны стать социальные реформы, показалась им просто опасной. На следующем собрании, в апреле, докладчиком был уже Габриель Марсель. Тут уже был недоволен Бердяев: собрание показалось ему слишком «правым». Понимания не возникло, постепенно эти собрания сошли на нет.
В 1939 году в издательстве YMCA-Press вышла написанная им ранее книга «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии». Хотя Бердяева и считали «коммюнизаном», отношение к коммунизму у него было сложным. С одной стороны, марксистская прививка осталась у него до конца жизни, с другой – коммунистическое общество не могло удовлетворить Бердяева с точки зрения решения в нем вечной философской проблемы общества и личности. Личность для Бердяева – духовная категория, ее реализация означает восхождение от бессознательного через сознательное к сверхсознательному, божественному. Исток личности – не в плоти, а в духе (Бердяев всю жизнь испытывал отталкивание от материального, плотского, телесного), она имеет безусловный приоритет перед обществом. Бердяев убеждал читателя, что не личность является частью общества, а наоборот, общество надо рассматривать как часть личности. Что это означает?
Личность возникает как индивидуальное самосознание своего «я». Но любое «я» рано или поздно упирается в существование другого «я», которое становится для первой личности «ты». Сообщество личностей образует «мы». Осознание единства «мы» приводит к возникновению коммюнотарности. В этом смысле, сознание личности может быть названо социальным. Через «мы» личность внедрена в общество. Вместе с тем, для любой личности всегда сохраняется опасность превращения «мы» в чуждое «не-я» или даже во враждебное «оно». Это происходит тогда, когда общество, нация, государство, класс и т. д. пытаются подчинить личность себе, сделать ее простым орудием для достижения тех или иных целей (что происходит практически всегда). Трагедия личности в том, что ей приходится отстаивать свой приоритет.
Общество стремится поработить личность самыми разными способами. В своей книге Бердяев рассмотрел различные формы тирании общества над личностью: национализм (как тирания со стороны нации), этатизм[528] (со стороны государства), клерикализм (со стороны церкви), классовая борьба (со стороны класса) и т. д. Все эти социальные явления выступают как объективированные, противостоящие личности силы, и не только правом, но и долгом личности является защищать от них свою духовную свободу. Поэтому отрицание мира, восстание против него, вселенская революция – последнее слово персонализма Бердяева. Причем человек должен бунтовать не только против своей природы (биологической, физиологической, телесной), но и против социальных пут. Еще одна постоянная черта мировоззрения Бердяева – революционный романтизм, бунтарство, неприятие наличного социального бытия. В таком «революционаризме» его упрекали многие, возможно, именно в нем – причина отхода Бердяева от сферы «чистого духа» к политике, сохранившиеся до конца жизни симпатии к марксизму и социализму.
Бердяев мечтал о таком состоянии человека, когда он не будет больше «классифицироваться», «пригвождаться к какому-либо коллективу», когда человек будет восприниматься через свои личностные качества, а не как «булочник» или «капиталист», «русский» или «грузин», чей-то «сын» или «брат». Такое состояние Бердяев описывал как победу личной гордости человека «над гордостью национальной, классовой, конфессиональной, семейной, военной». Он был убежден, что социальные группы, к которым относится человек, могут расширять и сужать «объем личности». Но «преобладание социальной группы над личностью, детерминация личности социальной группой в конце концов лишает личность свободы и мешает достижению универсального содержания жизни»[529], – предостерегал он. Социальная организация должна быть такова, чтобы дать каждому члену общества возможность реализовать всю полноту своих устремлений. Для этого «необходим синтез аристократического, социалистического принципа справедливости и братского сотрудничества людей»[530].
В работах Бердяева мы можем встретить множество критических замечаний в адрес социалистических идей. Подчас они настолько непримиримы и жестки, что дают повод исследователям бердяевского творчества говорить о его неприятии социализма. Думаю, это не так. У Бердяева был достаточно короткий период после революции и вынужденной эмиграции, когда он резко отрицательно относился к социализму. Видимо, сыграл свою роль личный негативный опыт жизни при советской власти. Поэтому в работах 1918-23 годов, действительно, легко можно найти утверждение, подобное следующему: «Сопоставление и сближение христианства и социализма мне всегда представлялось кощунственным. Сходство христианства и социализма утверждают лишь те, которые остаются на поверхности… В глубине же раскрывается полная противоположность и несовместимость христианства и социализма, религии хлеба небесного и религии хлеба земного»[531]. Социализм большевиков был для Бердяева лишь логическим продолжением буржуазной технической цивилизации. «Социализму свойственно не столько презрение к буржуазности, сколько зависть к ней»[532], – проницательно заметил он в «Смысле творчества». В свершившейся социалистической революции Бердяев видел лишь внешнее, механическое разрушение, а не творчество, не революцию духа.
Бердяев всегда чрезвычайно критически относился к практике социализма. Для него был очевиден тоталитарный характер советского общества, он подчас ставил знак равенства между ним и фашизмом. Но главный грех реального социализма заключался для него в том, что социализм отрицал свободу совести и мысли. Корни такого «духоборчества» Бердяев видел в материализме, взятом за идеологическую основу социалистического общества. «… В коммунизме на материалистической основе неизбежно подавление личности»[533], – был убежден философ. Он признавал прогрессивность по сравнению с буржуазным способом производства социалистической экономики, но не принимал насильственное насаждение материалистического миросозерцания, в котором личность – лишь кирпичик, нужный для строительства коммунизма. «В идее бесклассового, трудового общества, в котором каждый работает для других и для всех, для сверхличной цели, не заключается отрицания Бога, духа, свободы и даже наоборот, эта идея более согласна с христианством, чем идея, на которой основано буржуазное капиталистическое общество. Но соединение этой идеи с ложным миросозерцанием, отрицающим дух и свободу, ведет к роковым результатам»[534]. Поэтому в более поздних работах Бердяев не отрицал принципиальную возможность соединения социализма с христианством, напротив, он был за такое соединение. Резкая критика относилась именно к атеистическому, материалистическому социализму, низводящему человека до уровня «потребителя» и «производителя», забывающему об устремленности человека ввысь, о его Богоподобии. Поэтому для Бердяева «социализм двойствен: он может создать или новое свободное общество или новое рабство»[535].
У Бердяева социализм – родовое понятие, для него были возможны различные формы социализма (социализм революционный и социализм реформаторский, социализм религиозный и социализм атеистический, социализм демократический и социализм аристократический и т. д.); оценка каждой конкретной формы зависела от принципов, на которых основано социалистическое общество. Один из известных американских историков русской философии профессор Дж. Л. Клайн проследил бердяевскую «квази-гегелевскую» диалектику: индивидуализм Ренессанса (тезис); затем – социалистический коллективизм (отрицание тезиса, антитезис); затем – «личностный» социализм (отрицание отрицания или синтез), который должен был вобрать в себя все лучшее из предшествующих стадий. (Дж. Клайн прослеживает у Бердяева и еще одну триаду: если средние века были отмечены верой в Бога без веры в человека, а в эпоху Возрождения появилась вера в человека без веры в Бога, то в христианском обществе будущего вера в человека должна гармонично сочетаться с верой в Бога)[536].
Вряд ли эти положения можно назвать конкретной моделью будущего общества. Бердяев и не претендовал на это, оговариваясь, что он – философ, и построение социальных схем – не его дело. Он, разумеется, был прав, говоря это, потому что при чтении книг и статей Бердяева, в которых он покидает философские высоты и пытается спуститься на землю, возникает ощущение аморфности и расплывчатости его социальной позиции. Конечно, никто не станет возражать против такого положения дел, когда и социальная справедливость достигнута, и личная инициатива с неравенством, тем не менее, сохранились, да и государство перестало подавлять личность, а все люди стали бы творцами, для которых главным является духовная, а не материальная жизнь, – в общем, чтобы все, по известной пословице, были здоровы и богаты одновременно. Но подобные декларации – не решение проблемы. Конкретика вредна Бердяеву, это не его стихия. Бердяевские мысли о «новом средневековье», о персоналистическом социализме, о смысле истории, о праве человека на неравенство при «переводе» их на язык социальной действительности многое теряют и становятся наивными. Учение о персоналистическом социализме, возможно, одно из самых слабых мест бердяевской философии.
Кроме того, нельзя забывать, что, с точки зрения Бердяева, смысл истории – в ее конце. Поэтому, будучи сторонником эсхатологического видения истории, он не мог ожидать осуществления некоего идеала в реальной, земной истории. Земная история всегда конечна, тесна для воплощения абсолюта. Поэтому Бердяев никогда не воспринимал социализм как осуществление царства Божьего, как совершенное общество. Для него социализм – не мечта, не упование, а один из возможных этапов земной истории, свидетельство приближения этой истории к своему завершению. «Весь мир идет к ликвидации старых капиталистических обществ… Движение к социализму – к социализму, понимаемому в широком, не доктринерском смысле, – есть мировое явление»,[537] – таков был подход социальной философии Бердяева.
Какой же социализм принимал Бердяев? Разумеется, христианский. Для такого социализма собственно социалистические преобразования экономики и политики, решение вопросов социальной справедливости, проблемы «хлеба» – лишь средство для достижения духовных целей. Человек должен быть выше принципа собственности, выше коллектива, – вот что должно определять мораль религиозного социализма. Кстати, Бердяев (так же, как и Георгий Федотов) был убежден, что такое слияние социализма и христианства – необходимо и для самого христианства. Он считал, что источник упадка веры, кризисных процессов в христианских церквях – в понимании христианства как религии лишь личного, а не всеобщего спасения. По его мнению, христианство должно стать религией не индивидуального только, но и социального преображения. Общество, возможное в результате соединения христианства и требований социальной справедливости, Бердяев называл персоналистическим социализмом: «Христианство представляется мне соединимым лишь с системой, которую я назвал бы системой персоналистического социализма, соединяющего принцип личности, как верховной ценности, с принципом братской общности людей»[538].
Поэтому, хотя вектор духовной эволюции Бердяева в конце его жизни, действительно, показывал его «полевение» и возврат к социалистическим идеалам молодости, по сути, эти идеалы понимались им в пожилом возрасте совсем иначе: Бердяев пытался соединить христианский персонализм и социализм. В конечном счете, объединяющей платформой для этого была либеральная установка, возобладавшая во взглядах Бердяева в этот период: речь шла о том, что ценности личной свободы не могут быть отменены ни решением парламента, ни соображениями государственной целесообразности, ни результатами голосования. В этой ситуации, разумеется, есть некоторая ирония: Бердяев, убежденный, что либералы были не характерны для русской мысли и истории, сам вполне может быть отнесен к либеральным мыслителям.
Правда, встает трудный вопрос о том, может ли либерал быть социалистом? В случае с Бердяевым он снимается тем, что его социализм – особенный. Во-первых, общество, считал Николай Александрович, должно оставаться иерархической системой: «Естественный иерархизм жизни должен вступить в свои права, и личности …с большей одаренностью и годностью должны занять подобающее место в жизни. Без духовной аристократии жизнь не может процветать»[539]. Личность гибнет, когда ее держат в принудительном равенстве с другими, когда всякое ее развитие задерживается уравнением с другими. Он предлагал своеобразный синтез аристократического принципа личности и социалистического принципа кооперации и подвергал сомнению «святая святых» социализма – принцип равенства. Социализм Бердяева – не только религиозный, но и аристократический. Возможен лишь один вид равенства, убеждал Бердяев, – равенство всех людей перед Богом. Любое другое равенство – пустая идея, выросшая из завистливого взгляда соседа. Речь может вестись лишь о достоинстве и свободе каждого отдельного человека, но не всех сразу. «Каждый», но не «все» – таков лейтмотив бердяевского социализма.
Во-вторых, Бердяев выступал за сохранение принципа частной собственности, хотя он и должен быть, по его мнению, ограничен. Индивидуальное владение орудиями труда, считал он, может стать противоядием против обездушенного отношения к труду. Скорее всего, труженики будут организовываться в хозяйственные союзы и корпорации, принцип конкуренции будет заменен принципом кооперации. Бердяев ввел в свои работы понятие «функциональной собственности», предполагающее как юридическое, так и духовно-нравственное регулирование частной собственности таким ее размером, который предполагает «аскетику и ограничение похоти жизни».
«Похоть жизни» ограничило само время: Европа находилось в страшном периоде своей истории. В 1939 году во Франции прошла мобилизация («впечатление жуткое…, – написала в дневнике Лидия. – Когда видишь этот Париж, всегда такой блестящий, яркий, кажется, что снится какой-то кошмарный сон!»[540]). После объявления войны Бердяевым, как и другим жителям Парижа, выдали маски на случай газовой атаки, но испробовать их в деле не пришлось, они заняли свои места на полках и в шкафах, о них быстро забыли. Жители домов были поставлены в известность, в какое убежище им идти в случае налета бомбардировщиков, – но такие налеты были только два раза, в сентябре. К тому же, Бердяевы устроили у себя дома собственное убежище: забили окна погреба мешками с песком, «а от газов решили приспособить… ванную, замазав все щели»[541], – им теперь не нужно было в случае тревоги даже выходить из дома. Лавки были открыты, магазины обслуживали покупателей, с продуктами перебоев не было, кафе и рестораны работали, даже театры вновь открылись… Жители французских городов, которых известие об объявлении войны заставило вспомнить все ужасы, пережитые в войне предыдущей, через некоторое время успокоились, – жизнь вошла в прежнюю колею. Но спокойствие не было долгим.
Новый 1940 год пришел вместе с сильными холодами и морозами, что люди суеверные трактовали как дурное предзнаменование. Бердяевы замерзали, – как назло, в доме испортилось отопление. Сидели дома одетыми, старались меньше выходить на улицу (за продуктами ходил Николай Александрович, оберегая сестер), а вечерами читали вслух Ибсена и Тургенева. Когда в феврале потеплело, Лидия Юдифовна отправилась в Париж по разным накопившим делам. Ее поразил обыденный вид города: «если бы не солдаты, трудно было бы представить, что мы переживаем войну. Магазины полны товаров, никакой суеты. Все по-прежнему…»[542]. Впрочем, «странная война» закончилась уже весной 1940 года, когда германские войска вторглись в Норвегию и Данию. А еще через месяц Германия напала на страны Бенилюкса (Бельгию, Нидерланды и Люксембург), которые до тех пор поддерживали нейтралитет в войне. Тогда же наступила и очередь Франции.
Наступление Германии было стремительным; все это совершенно не походило на позиционную Первую мировую: немецкие танки и бронетехника чрезвычайно быстро и глубоко проникли за линию фронта, а налёты авиации препятствовали перемещению войск противника и подвозу снабжения. Это был «блицкриг» (молниеносная война), которая не оставляла противнику времени на раздумья. 380 километров хваленой линии Мажино, построенной для обороны Франции от Германии, не сыграли никакой роли в защите страны: немецкие войска захватили Францию буквально за несколько дней. 5 июня немцы нанесли удар в тыл линии Мажино, а 14 июня они уже были в Париже, который сначала бомбардировали с воздуха. На Эйфелеву башню водрузили свастику. Жители просто не успевали эвакуироваться: сохранились описания того времени о забитых машинами и повозками французских дорогах, о пыльных колоннах людей, которые пешком пытались уйти от германской армии, побросав свои дома, но мало кому это удалось. В одном из рассказов Нины Берберовой (она жила в эмиграции во Франции) есть такое описание происходящего исхода глазами женщины, оказавшейся «на даче» под Парижем: «..поездов нет, газеты не вышли…, в Париж нельзя, а из Парижа люди едут вторые сутки… По большой дороге… в три ряда шли повозки и машины… Там шла артиллерия, шли цыганские таборы, грузовики, нагруженные гросбухами (а на них сидели бледные бухгалтеры, эвакуируя банк, основу государства), там шагали пешеходы, ехали велосипедисты, двигалась растроенная кавалерия на легких лошадях, вперемежку с першеронами, впряженными в длинные телеги, на которых стояли швейные машины, утварь, мебель, бочки. Высоко на скарбе сидели старухи, и в автомобилях сидели старухи, мертвенно-бледные и простоволосые; страрухи шли пешком, некоторых вели под руки, и опять шли войска, везли старенькие пушки, великолепный, пустой красный крест шел следом за гоночной машиной, из которой свешивалась лопоухая собака, похожая на мех. Потом везли раненых, и некоторые уныло сидели, держа в руке собственную ногу или руку, обрубок, из которого капала на дорогу кровь… Везли сено, немолотую пшеницу, уходили заводские станки и цистерны с нефтью, и до горизонта был виден этот странный, живой и уже мертвый поток»[543].
Несмотря на военную слабость Франции, поражение этой страны было настолько внезапным и полным, что не поддавалось никакому рациональному объяснению, кроме предательства интересов народа французским правительством. Уже 22 июня Франция подписала с Германией перемирие, в результате которого немцы оккупировали север страны, а на юге возникло коллаборационистское правительство в городе Виши во главе с маршалом Филиппом Петеном. Одновременно с этим французский полковник (генералом он станет позже) Шарль де Голль выступил по радио из Лондона и призвал всех французов объединиться для борьбы с захватчиками. Как и в других оккупированных странах, во Франции возникло движение Сопротивления, и под покровительством Англии начала свою деятельность «Свободная Франция». А в 1942 году Германия полностью оккупировала Францию, и марионеточное правительство Виши, этот фиговый листок, прикрывавший факт захвата Франции, перестало существовать.
Знакомые советовали Бердяеву уехать от ужасов войны в Америку. Многие его знакомые так и сделали: за океаном оказались Е. Извольская, И. Манциарли, Г. Федотов, В. Яновский. Николай Александрович уехать отказался: жизнь уже не раз заставляла его менять дома и страны, он устал от переездов, от усилий каждый раз начинать новую жизнь. Его поддержали жена и свояченица. Решено было остаться во Франции, если это будет возможно. Не зная, чего ожидать от оккупантов, Бердяевы уехали летом из Парижа. Помог им в этом Монбризон. Они провели лето 1940 года на юго-западе Франции, в чудесном местечке Пила (Pilat) недалеко от Бордо, вблизи имения Монбризонов. Дорога туда не была простой: даже добраться из Кламара в Париж стоило Бердяевым трудов. Такси, разумеется, не работали, им пришлось нанять открытый грузовик, куда они вскарабкались вместе со своим багажом и котом Мури в корзине. Потом трем пожилым людям пришлось безуспешно штурмовать отходящий поезд, – паника гнала людей вон из Парижа. Бердяевы, которые не могли ни уехать, ни вернуться в Кламар, вынуждены были переночевать в маленькой гостинице недалеко от вокзала, а следующим утром предприняли еще одну попытку покинуть Париж. Толпа не уменьшилась: Николай Александрович даже боялся, что Лидию Юдифовну и ее сестру толпа может задавить. Он пытался помочь женщинам, пытался защитить Мури (держал корзину с ним над головой), но когда толпа притиснула его к жене, сказал: «У меня появилась интересная мысль для моей книги», – Бердяев даже в таких обстоятельствах жил в своем мире, отличном от того, что окружало его в реальности. В конце концов, им удалось сесть в поезд и доехать до Пила.
Лес, Атлантический океан, песчаные дюны, – место было удивительно красивым, но ничто не радовало. Бердяевы хотели избежать оккупации, а этого не удалось: в Пила очень скоро оказалось большое количество немецких войск. «Мы живем в лесу в небольшом деревянном домике, – сообщал Николай Александрович Ирине Павловне 14 июля. – Воздух тут чудный. При других условиях тут было бы очень хорошо»[544]. Бердяевы провели в Пила около трех месяцев, надеялись осенью вернуться к себе в Кламар, хотя уверенности в этом, конечно, не было. Там были книги, знакомые, привычная жизнь и – врачи. Все трое опять по очереди болели, – сказывался пожилой возраст. Николай Александрович страдал от сахарного диабета, его мучил опять возникший трахеит, бывали головокружения. При отношении к болезням, которое было для него характерно, все это действовало на Бердяева угнетающе-депрессивно. Впрочем, Николай Александрович писал книгу (ту, что потом получила название «Самопознания»). Начал он очередную главу такими словами: «Я начинаю писать эту главу в страшные и мучительные дни европейской истории. Достаточно сказать, что это июнь 1940 года. Целые миры рушатся и возникают еще неведомые миры. Жизнь людей и народов выброшена во вне, и эта выброшенность во вне определяется прежде всего страшной трудностью и стесненностью жизни»[545]. Мучило Бердяева и то, что Советская Россия играла неприглядную роль в начале войны: в июне советскими войсками за три дня были оккупированы Балтийские государства – Литва, Латвия и Эстония, чуть позже СССР захватил принадлежавшую Румынии Бессарабию. Это огорчало Бердяева и привело его к печальным обобщениям, недаром в одном из писем И. П. Романовой он написал: «В мире такое страшное преобладание зла над добром и тьмы над светом, что традиционное учение о Промысле Божьем, которое повсюду видит действие Божьего всемогущества, требует пересмотра»[546].
Осенью Бердяевы, несмотря на оккупацию, вернулись в свой дом в Кламаре. Свежий сосновый воздух Пила оказал на Николая Александровича благотворное воздействие, – он чувствовал себя лучше, перестала кружиться голова, да и кашель прошел. Здесь их ждало горестное известие об аресте Фондаминского в июле 1941 года. Эта новость произвела сильное впечатление на Николая Александровича – Илью Исидоровича с Бердяевым связывали многие годы знакомства и сотрудничества в разных журналах и в России, и в эмиграции, работа в РСХД, тесное личное общение. О смерти Фондаминского в германском лагере в 1942 году Бердяев узнал лишь после войны. Расстраивали и военные вести, – все вокруг обсуждали бомбардировки Англии: после капитуляции Франции Германия вела настоящую воздушную войну против северного соседа. В этой ситуации Бердяева возмущало поведение части русской эмиграции во Франции, которая выступала за сотрудничество с немцами. После оккупации Франции немецкие власти попытались организовать учет русских эмигрантов (начиная с 15-летнего возраста), чтобы контролировать их жизнь. Было создано (как и в самой Германии) управление по делам русской эмиграции, которое возглавил некий Ю. С. Жеребков.
В некоторых кругах эмиграции, особенно среди ветеранов Белого движения, было принято считать, что с властями рейха можно найти общий язык. Но для этого необходимо организационное объединение русской эмиграции, чтобы было кому вести разговор с новой властью. В Париже, вскоре после его занятия германскими войсками, русские эмигранты-националисты приступили к созданию Русского представительного комитета, задачей которого было представление интересов русских, живущих во Франции, у оккупационных властей. Это начинание встретило резкую оппозицию со стороны либерально мыслящих людей, которые и были близки Бердяевым. Но многие эмигрантские организации идею поддержали: Русский общевоинский союз (РОВС), Кружок ревнителей православного государства, Имперский союз, Национально-трудовой союз нового поколения (НТС) и другие эмигрантские объединения высказались «за» Комитет, более того, – от имени Русской православной церкви за рубежом его создание приветствовал митрополит Серафим. РОВС, правда, не сразу решился на сотрудничество с немцами, внутри Союза были расхождения по этому вопросу, но, в конечном счете, это произошло. Новый комитет публично заявил, что его принципиальной позицией является «абсолютная непримиримость к иудо-марксистскому интернационалу и масонству всех толков». Правда, вторым пунктом, вслед за этим, шла речь о «борьбе со всеми силами, мешающими возрождению Национальной России», что, конечно, никак не вписывалось в планы гитлеровского геноцида по отношению к славянским народам, но эмигранты об этом еще не знали…
Одной из основных задач, которые поставил перед собой Комитет, было трудоустройство эмигрантов. Для этого русским, обратившимся в Комитет, оказывалась помощь для переезда в Германию или искалась работа в германских учреждениях во Франции. Кроме этого, Комитет пытался облегчить участь тех русских, которые служили во французской армии и находились в лагерях для военнопленных. Руководитель РОВС генерал-лейтенант А. П. Архангельский направил германским властям в июне 1940 года «Памятную записку», в которой высказал надежду на облегчение участи своих соотечественников, попавших в плен. При этом он ссылался на опыт польской кампании 1939 года: после ее завершения немцы позволили выходцам из России, принявшим в свое время польское гражданство, вернуть себе статус эмигрантов, а русские, призванные в армию польским правительством, были освобождены из плена. Основанием для таких действий Архангельский считал благожелательное отношение германского правительства к эмигрантам из России, в которых оно видело непримиримых врагов коммунизма.
У Бердяева вызывал гнев сам факт сотрудничества эмигрантских организаций с оккупантами. Но авторитетом в правых кругах эмиграции он не пользовался, повлиять ни на что не мог, и Николай Александрович – как когда-то после октябрьской революции в Москве – замкнулся в работе и общении с близкими людьми. «Путь» тоже выходить перестал… Он даже газеты старался не читать, – слишком бурную реакцию вызывали у него вычитанные в них новости. По вечерам Бердяев, Лидия Юдифовна и ее сестра читали вслух друг другу книги, выстраивая призрачный заслон между войной и своей жизнью. Но «воскресенья» продолжались, – на них собирались люди, не принимающие нацизма – мать Мария, Пьянов, Мочульский, М. Каллаш. Часто на этих встречах разворачивалась карта: на ней отслеживались военные действия на фронте. Но кроме этих встреч Бердяев почти нигде не бывал. «Мы живем в Кламаре так тихо, спокойно и уединенно, как никогда. В этой тихости есть что-то почти жуткое, если принять во внимание характер нашей эпохи. Я редко езжу в Париж. Очень много работаю у себя в кабинете. Кончаю переписывать мою философскую автобиографию и подготовляю новую философскую книгу… Очень много также читаю и много мыслей приходит в голову»[547], – писал Николай Александрович зимой 1941 года в одном из писем. Да и бытовые заботы тоже стали отнимать много времени: с продовольствием стало очень плохо, на его «добычу» приходилось тратить много сил. Зима была морозной, поэтому появилась еще одна проблема – отопление. Бердяевы закрыли часть своего дома и пытались отопить только свои спальни и кабинет Николая Александровича, – на весь дом дров не хватало. Такой спартанский быт вызывал у них воспоминания о жизни в Советской России времен военного коммунизма, – внешнего сходства было много. В то же время, Николай Александрович сокрушался, что не видит того духовного подъема, который наблюдал когда-то в голодной и холодной России, – кстати, об этом же писали и другие очевидцы событий 17-го года. Федор Степун, например, вспоминал, что, для того, чтобы остаться человеком в страшных условиях послереволюционной Москвы, выход был один – усиленно мыслить, подняться на метафизическую высоту, что, видимо, произошло со многими в те годы. Отсюда – переполненные залы во время лекций, интерес к философии и литературе, обостренное чувство творчества нового. Мало кто знает, что после Кронштадского восстания матросам, сидящим в Петропавловке, читали лекции по античной философии!! Потом их, после прослушанных лекций, расстреляли… Время было фантастическим – прежде всего, из-за контрастов между духовным подъемом, революционным романтизмом и бескрайней жестокостью. Во Франции, как отмечал Николай Александрович, было иначе: «в результате пережитой катастрофы во Франции образовалась очень прозаическая атмосфера. Совсем иначе было в Советской России, где катастрофа вызвала духовное углубление»[548].
Конечно, и во Франции все было не так однозначно, да и среди русской эмиграции немало было смелых людей, решивших бороться с немецким фашизмом. Прежде всего, в голову приходят имена Бориса Вильде и Анатолия Левицкого – русских эмигрантов во втором поколении, молодых этнографов из парижского «Музея человека». Они стали членами первой организации сопротивления оккупантам. По названию выпускавшейся группой газеты («Сопротивление») стали называть и все антифашистское движение. Вильде и Левицкий были расстреляны немцами в феврале 1942 года после жестоких пыток, но они стали настоящими героями своей новой родины, их имена выбиты на мраморной доске в «Музее человека». Нельзя не сказать и о близкой знакомой Николая Александровича, участнице бердяевских «воскресений» – матери Марии.
Когда Париж был оккупирован, мать Мария и еще несколько близких друзей собрались на квартире Бердяевых – как в «штабе». Позиция в начавшейся войне у них была общая, – фашизм воспринимался ими как безусловное зло. Неудивительно, что созданный матерью Марией приют на улице Лурмель стал явочной квартирой французского Сопротивления. Мать Мария, отец Дмитрий Клепинин (настоятель приютской церкви и духовный сын о. Сергия Булгакова), Тамара Клепинина (близкий друг семьи Бердяевых, слушательница РФА, жена отца Дмитрия) и их друзья составили список заключенных в лагерях русских и евреев и организовали пересылку им писем и посылок. Сотни евреев находили на улице Лурмель приют, мать Мария и отец Дмитрий помогали им переправиться в не оккупированную немцами зону страны, а евреям выдавали поддельные свидетельства о крещении. Бердяев несколько раз встречался с матерью Марией в этот первый год войны, – он разделял ее убеждения, хотя и был уже слишком не молод и занят интеллектуальным трудом, чтобы непосредственно сражаться с фашизмом. Бердяев был умозрительным человеком, не подходящим для реальной борьбы (это понял даже Дзержинский, отпустив его в свое время из тюрьмы ЧК). Но своих симпатий Сопротивлению Бердяев никогда не скрывал, что тоже требовало мужества в то время. В 1943 году мать Марию, ее сына и отца Дмитрия арестовало гестапо, все трое погибли в лагерях, мать Мария нашла свой конец в печах концлагеря Равенсбрюк. Когда Бердяев узнал об этом, – он написал небольшую заметку о своем друге, назвав ее «одной из самых замечательных и одаренных русских женщин». Спустя годы, 16 января 2004 г. Священный Синод Вселенского Патриархата в Константинополе принял решение о канонизации четырех близких для Николая Александровича людей, которых он очень хорошо знал: матери Марии (Скобцовой), Юрия Скобцова (ее сына), священника Димитрия Клепинина и Ильи Фондаминского.
Во время немецкой оккупации Бердяев очень редко выступал с публичными докладами и лекциями. Но было одно исключение: в 1940 году католическая монахиня и меценатка Мари-Мадлен Дави (1903-1998) организовала у себя дома Центр философских и духовных исследований. Собрания в доме Дави были необычны: с одной стороны, там можно было встретить известных французских интеллектуалов (восходящую звезду французского психоанализа Жака Лакана, писателя Пьера Клоссовски, редактора авторитетного литературного журнала Жана Полана и других), а с другой, – темы бесед на этих экзотических встречах бывали очень необычны. Дело в том, что сама хозяйка была специалисткой в области мистической теологии, она известна, прежде всего, как автор произведений на эту тему, – включая широко читаемые во Франции биографии святого Бернарда Клервосского и Свами Абхишиктананды. Написала она и биографию Бердяева после его смерти, – тоже с точки зрения мистических мотивов в его жизни и творчестве. Бердяев и особенно Лидия Юдифовна тоже не были чужды увлечению мистикой и эзотерикой. Неслучайно в России у них возник интерес к Анне Рудольфовне Минловой и штейнерианству (хотя Бердяев, благодаря своему повороту к православию, довольно скоро стал испытывать отталкивание от теософии), можно вспомнить и о шведском докторе Любеке, а в Париже в их доме часто бывала Ирма Владимировна Манциарли. Она родилась в Петербурге, родители ее были немцы, протестанты, замуж она вышла за итальянца, жила во Франции, но потом увлекалась Востоком – жила в Индии, в Гималаях, где изучала восточные религии. Ирма работала в Теософском обществе, покровительствовала восходящей теософской звезде, юному Кришнамурти, вела кружок по изучению «Тайной Доктрины», тесно общалась с Рерихами, занималась переводом с санскрита классических индийских текстов. Среди индолгов она известна, прежде всего, своим переводом «Бхагавадгиты». Манциарли часто бывала у Бердяевых, но на время оккупации Парижа перебралась за океан. Впрочем, она и там не забывала их, – Бердяевы время от времени получали то от нее, то от Елены Извольской посылки с гречневой крупой и сигарами, без которых Бердяеву было очень трудно обходиться.
О Манциарли я вспомнила для того, чтобы читателя не удивил факт участия Бердяева в собраниях, организованных Дави. В доме Дави Николай Александрович бывал, прерывая для этих встреч свою «тихую и уединенную жизнь» в оккупированном Париже, он даже прочел несколько лекций на этих собраниях – на тему мессианской идеи и проблем истории. Собрания у Дави нельзя назвать встречами мистиков: на них все же господствовала интеллектуальная атмосфера, участвовали многие интересные люди. Кстати, во время этих встреч произошло столкновение Николая Александровича и Габриеля Марселя: Марсель обвинил Бердяева в анархизме. Но «обвинения» не получилось: в общем-то, Николай Александрович и сам про себя так неоднократно говорил, называл себя «анархистом на духовной почве», не скрывал своих симпатий к Прудону. Марсель придерживался гораздо более умеренных социальных взглядов, возможно, поэтому их общение с Бердяевым постепенно сошло на нет.
Сказывалось и военное время, не слишком подходящее для конференций, собраний и теоретических споров. Немцы проводили жесткую политику на оккупированной французской территории. Движение Сопротивления, которое вначале было довольно слабым, значительно усилилось, когда немцы стали вывозить французов на принудительные работы в Германию. Гитлер обещал, что 1941 год станет «историческим годом великого нового порядка в Европе». В ожидании этого «порядка» Евгения Юдифона с Лидией сажали весной в садике картофель, – розам пришлось потесниться. А потом пришла страшная весть – Гитлер нападал на Советский Союз.
Большинство русской эмиграции восприняло весть о начале войны Германии с Россией как личное несчастье. Но были и такие, которые сделали ставку на Гитлера. Здесь показательными стали две речи, – причем обе были произнесены летом 1941 года. Первая была выступлением по радио давнего знакомого Бердяева, с которым он совершенно не общался в Париже, – Дмитрия Сергеевича Мережковского. Мережковские не вошли ни в один эмигрантский кружок, – их взгляды не находили отклика ни у правых, ни у левых. В каком-то смысле, они так же, как и Бердяев, были непоняты большинством эмиграции. С одной стороны, они не поддерживали реставраторства («бывшее не будет вновь»[549], – говорила Гиппиус), не скрывали своих чаяний революционного изменения мира, что отталкивало от них апологетов «белой идеи» и правых, с другой – их непримиримость к большевикам и происшедшему в России идейно развела их с левыми; с их точки зрения позиция, например, Степуна и тем более Бердяева (что уж говорить о евразийцах и младороссах!) представлялась соглашательством с преступным режимом. К тому же, Мережковские не скрывали своего мнения о допустимости и желательности иностранной интервенции в Россию, что противопоставило их многим патриотам, считавшим, что русские вопросы должны решаться русскими людьми, любое же иностранное вмешательство поставит Россию в экономическую и политическую зависимость, подорвет ее могущество, сделает ее полуколониальной страной.
Духовное одиночество Мережковских стало окончательным после выступления Дмитрия Сергеевича в 1941 году по радио. Именно это выступление стало поводом для обвинений Мережковских в сотрудничестве с фашистами. Думаю, дело обстояло не так однозначно. С одной стороны, Мережковские внимательно следили за различными политическими движениями, возникавшими в Европе. Разумеется, фашизм не мог не привлечь их внимания (как уже говорилось, многие представители русской эмиграции поддались сначала обаянию фашистской фразеологии). Мережковские чаяли найти в политических баталиях тех дней сильную личность, способную на борьбу с большевизмом. Отсюда – контакты сначала с Пилсудским, затем – с Муссолини. С дуче Мережковский даже встречался во время своей первой поездки в Италию, вообразив, что нашел наконец-то ту самую «сильную личность», но уже во время второго итальянского путешествия он в Муссолини разочаровался, увидев в нем обыкновенного властолюбивого политика и «пошляка». В своих работах того времени (например, киносценариях «Данте», «Борис Годунов») Мережковский тоже писал о необходимости появления выдающейся личности в «смутное время». На этом фоне вполне логичным было обращение взора Мережковского на Гитлера как нового потенциального соперника советского режима. Он был готов сотрудничать с любым, кто мог реально противостоять большевикам. Правда, взгляды Гиппиус и Мережковского здесь, может быть, впервые разошлись. Если для Гиппиус Гитлер всегда был «идиотом с мышь под носом» (об этом вспоминали многие, хорошо ее знавшие – Л. Энгельгардт, Н. Берберова), то Мережковский считал его удачным «орудием» в борьбе против большевизма. Именно так можно объяснить тот факт, что Мережковский встал перед микрофоном в радиостудии и произнес незадолго до своей смерти речь, в которой говорил о «подвиге, взятом на себя Германией в Святом Крестовом походе против большевизма»[550]. Гиппиус, узнав об этом радиовыступлении, была не только расстроена, но даже напугана, – первой ее реакцией стали слова: «это конец». Она не ошиблась, – отношение к ним со стороны многих их знакомых изменилось в худшую сторону, их подвергли настоящему остракизму, «сотрудничества» с Гитлером (заключавшегося лишь в одной этой радиоречи) Мережковскому не простили. Между тем, самой речи мало кто слышал или читал. Объективно, прогитлеровскими в ней были лишь процитированные выше слова, весь остальной текст выступления был посвящен критике большевизма. Заканчивалась же речь пламенными строками Гиппиус о России (совершенно несовместимыми с гитлеровскими планами):
Она не погибнет – знайте! Она не погибнет, Россия, Они всколосятся – верьте! Поля ее золотые! И мы не погибнем – верьте. Но что нам наше спасенье? Россия спасется – знайте! И близко ее воскресенье![551].Вторая речь, гораздо более характерная для тех кругов эмиграции, которыми столь возмущался Николай Александрович, была произнесена 22 июня 1941 года на собрании в Salle Rochefoucault в Париже. Автором ее был уже упоминавшийся выше Ю. С. Жеребков – председатель Русского представительного Комитета, сотрудник германского управления по делам русской эмиграции. Он приветствовал нападение Гитлера на СССР безоговорочно и считал, что горевать по этому поводу могут только простаки, попавшие под влияние «английских и советских агентов»: «…Вольные или невольные, английские и советские агенты… стараются разжечь в эмиграции ложно-патриотические чувства и постоянно твердят некоторым простакам: «Как, неужели вы, русские люди, радуетесь победе немецкого оружия? Подумайте, немцы убивают миллионы русских солдат, разрушают города, течет русская кровь!» Есть даже такие, к счастью очень малочисленные, которые уверяют, что долг русских всеми силами поддерживать советскую армию, которая является русской армией… Да, течет русская кровь, гибнут русские жизни, – но о них как-то меньше волновались, когда жидовское правительство в Москве уничтожало ежегодно еще большее количество людей… Ни один истинно русский человек не может признать убийц Царя, убийц миллионов русских людей – национальным русским правительством и советскую армию – русской»[552].
Подобные взгляды были абсолютно не приемлемы для Бердяева, да и для большинства эмиграции. Показательной здесь стала позиция А. И. Деникина, публично выступившего в поддержку Красной Армии. В 1942 году С. В. Рахманинов дал большой концерт, деньги от которого передал в фонд Красной Армии, написав в письме: «От одного из русских – посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу!» Таких примеров было много. Бердяев же с начала вступления в войну СССР занял «просоветскую» позицию (говоря словами Бердяева, – «естественно присущий ему патриотизм достиг предельного напряжения»). Он считал, что нападение Гитлера на Россию надо расценивать как общенациональную беду, а не возможность свержения большевизма. В послевоенном добавлении к «Самопознанию» он написал: «Вторжение немцев в русскую землю потрясло глубины моего существа»[553].
В 1941 году он познакомился с Г. В. Шибановым – русским эмигрантом, который был в прошлой жизни гардемарином, в настоящей – водителем парижского такси. Шибанов свою борьбу с фашизмом начал еще в Испании, сражаясь против франкистов. В оккупированном Париже он тоже не стал сидеть сложа руки: он распространял в городе антифашистские листовки. А в 1942 году Шибановым был создан подпольный «Союз патриотов». Бердяев, не раздумывая, стал его членом (хотя и номинальным – никаких реальных поступков это за собой не повлекло). Тем не менее, известность Бердяева была столь велика, что спасла его даже во время оккупации Парижа фашистами, хотя он и не скрывал своих симпатий движению Сопротивления и Красной Армии, – поклонники его философии были даже среди высшего немецкого командования. Как когда-то в Москве, он опять получил «охранную грамоту» от властей. Впрочем, два раза к нему домой приходили для беседы представители гестапо. Об этих визитах известно из «Самопознания», то есть из свидетельства самого Николая Александровича. Возможно, это была и не тайная полиция, а сотрудники каких-то других ведомств (в воспоминаниях Бердяева встречаются неточности), но очевидно, что оккупационные власти смотрели на него с подозрением. По его рассказу, один такой визит состоялся после заметки в одной из швейцарских газет об аресте Бердяева: пришедших интересовало, откуда появилась такая информация. Но Николай Александрович и сам об этом ничего не знал. Впрочем, он не без нотки гордости отметил: «..моя большая известность в Европе и Америке, в частности в самой Германии, была одной из причин, почему арестовать меня без слишком серьезных причин немцы считали невыгодным. Я шутя говорил, что тут обнаружилось почтение немцев к философии».[554]
18. Тяжелое время
Жизнь – гора: поднимаешься медленно, спускаешься быстро.
Г. МопассанВоенные годы не могли не изменить быт Бердяевых. «Воскресенья» продолжались, но доклады на них делались все реже, – скорее это было похоже на чаепитие друзей, которые ценили возможность увидеть друг друга и свободно поговорить. Быт был предельно аскетичен. Даже на Пасху, которую в доме праздновали всегда, саму «пасху» приготовить было не из чего. Николай Александрович, довольно легко переносивший житейские невзгоды, тут по-настоящему расстроился:
– Как будто бы праздника нет…
Поэтому, когда зимой 1942-43 годов на их адрес неожиданно из-за границы пришла посылка с белой мукой, ее решено было сберечь до весны, чтобы Евгения Юдифовна смогла на праздник сделать настоящую пасху. Николай Александрович так волновался о сохранности роскошной посылки, что решил спрятать ее в своей комнате – «иначе женщины могут использовать ее до праздника». Увы, эти усилия имели грустный конец: однажды в доме раздался крик возмущения и досады – Бердяев обнаружил, что мышь нашла его «тайник» и съела запасы…
«Эти годы были трудными и мучительными годами моей жизни не только внешне, но и внутренне. Это было время внутренней духовной борьбы, противоречий, сомнений, вопрошаний»[555], – написал про военное время Бердяев. Внешняя сторона жизни составилась из многих горестных и тяжелых событий – маленьких и больших. Осенью 1942 года он заболел – обострились мучавшие его уже давно боли в брюшной области. Николая Александровича положили в больницу и сделали операцию по удалению предстательной железы. В оккупированном Париже госпитализация не была простым делом, но для Николая Александровича место нашлось. Операция прошла успешно. Несколько недель – гораздо дольше, чем другие пациенты (сказалась его мнительность?) – Николай Александрович провел вне дома, в госпитале. О своих ощущениях во время операции он вспоминал: «Я не думал о том, что исход может быть смертельный, и не испытывал страха, как об этом свидетельствует самоотверженно ухаживавшая за мной сестра милосердия Т. С. Ламперт, наш друг. Но у меня было одно острое переживание. Анестезия была не полная, только нижняя половина тела была анестезирована. Сознание было полное, я все видел, боли не испытывал никакой. Но я был лишен возможности каких-либо движений, тело приведено в состояние полной пассивности. Я чувствовал стену неотвратимой необходимости…. Я очень плохо выношу состояние полной пассивности. Нет ничего страшнее этой власти неотвратимой необходимости»[556]. Активному, нервному, эмоциональному и слишком серьезно относящемуся к своему здоровью Бердяеву частичная анестезия показалась ужасной, – он был совершенно беспомощен!
В больнице он просил никогда не закрывать дверь в его комнату: Бердяев не мог оставаться один, тем более – ночью, в темноте. Как только Николаю Александровичу стало лучше, он попросил принести ему «Былое и думы» Герцена: его сознание занимала будущая автобиографическая книга, над которой он работал. Поэтому знаменитые мемуары Герцена пришлись ему кстати. Когда он смог ходить, его можно было увидеть прохаживающимся туда-сюда по больничному коридору в неизменном бархатном берете на голове, – он его никогда не снимал даже дома, оберегаясь от сквозняков. Бердяеву было уже 68 лет, немало по тем временам (средняя продолжительность жизни тогда была значительно меньше), он чувствовал потребность подвести итог своей непростой судьбы. На эту мысль наталкивали его и болезни близких, знакомых, друзей. В конце 1942 года Сергей Булгаков тоже должен был пройти через операцию. Некоторое время назад у него обнаружили рак горла. Операция была уже не первой, опасной, существовала вероятность того, что даже при наилучшем ее исходе отец Сергий не сможет говорить. Тяжелая болезнь когда-то близкого ему душевно человека, с которым были связаны целые периоды его жизни, потрясла Николая Александровича. Накануне операции он написал Булгакову очень теплое письмо: пусть они редко встречались (отношения между ними никогда не восстановились полностью после разрыва с московским издательством М. Морозовой), но Бердяев помнил весь тот долгий путь, который они прошли вместе. После операции Булгаков, растроганный бердяевскими словами, попросил Николая Александровича навестить его. Бердяев пришел на квартиру к отцу Сергию. Старые друзья разговаривали долго, не могли остановиться, хотя Булгаков был очень слаб и больше слушал. Отец Сергий скончался в 1944 году, – ушел из жизни свидетель и участник многих важных событий в бердяевской судьбе, «один из самых замечательных людей начала века, который первым пришел к традиционному православию», как написал про него Бердяев.
В феврале этого же, 1944 года, умер еще один друг в прошлом, ставший недругом в настоящем, – Петр Бернгардович Струве. После истории с Иваном Ильиным (который публиковал свои резкие ответы Бердяеву в газете Струве), Бердяев не разговаривал с Петром Бернгардовичем много лет. Он знал, что Струве был арестован в 1941 году гестапо, знал и об его освобождении через несколько месяцев. Общие знакомые говорили Николаю Александровичу, что его бывший приятель перебрался из Белграда к сыну в Париж. Тем не менее, когда они однажды встретились, Бердяев предпочел перейти на другую сторону улицы. Струве, как и многие другие, когда-то близкие знакомые Николая Александровича, друзья, приятели, пополнил список «разорванных дружб»[557], которыми была так богата жизнь Николая Александровича. Но уход человека, написавшего предисловие к первой книжке Бердяева, участвовавшего в сборниках «Проблемы идеализма», «Вехи», «Из глубины», участника братства Софии, не мог оставить Бердяева равнодушным, напомнил о том, что и собственная жизнь движется к закату.
Николай Александрович очень тяжело переживал угасание близких, собственные болезни. Для него всегда было характерно трагическое мироощущение, но в последние годы пессимистическая нотка даже усилилась. Тем не менее, во время второй мировой войны его особенно начала занимать тема России, – к концу жизни у него особенно обострилось чувство родины. Лидия Юдифовна писала в дневнике за 1943 год, что однажды Бердяев даже расплакался, прочитав вслух стихотворение Хомякова, посвященное России. С одной стороны, под влиянием трагических событий второй мировой войны, в творчестве Бердяева, начиная с книги «Опыт эсхатологической метафизики» (1941), властно зазвучали эсхатологические мотивы, предчувствия конца мировой истории. С другой, – несмотря на эту усиливающуюся пессимистическую ноту, его «совпатриотический подъем» не прошел, наоборот, он усиливался и достиг к 1946 году апогея: Николай Александрович изо всех сил пытался увидеть «не только ложь, но и правду коммунизма». В 1942-43 годах он много работал над книгой «Русская идея», в которой дал свое видение истории отечественной социальной мысли.
Во многом благодаря именно «русской» теме он сближается с Роменом Ролланом – известным писателем, лауреатом Нобелевской премии по литературе. Роллан был известен своими левыми взглядами: он побывал в СССР, переписывался с М. Горьким, был автором статей о Ленине и Сталине. Отчасти это соответствовало позиции Бердяева в те годы: Николай Александрович искренно верил, что положение в Советском Союзе меняется к лучшему, что сталинская конституция 1936 года свидетельствует – Россия становится свободной страной, он ожидал, что после окончания войны революционные эксцессы останутся в прошлом. Поэтому с Роменом Ролланом они часто беседовали о всемирной миссии России. Не исключено, что в таком настроении Роллану и Бердяеву «помогали» оставаться: дело в том, что Роллан был женат вторым браком на Марье (Майе) Павловне Кудашевой – отдаленной родственнице Николая Александровича, вдове его племянника, князя Сергея Кудашева, погибшего в Крыму во время гражданской войны от тифа. Майя Кудашева в молодости была удивительной хрупкой красавицей, поэтессой, хорошо знавшей М. Волошина, сестер Цветаевых, Бальмонта. После смерти мужа, с сыном на руках, она работала секретаршей во французском консульстве, – помогло блестящее знание французского. Но в голове любого пожившего в СССР человека, прочитавшего эти строки, кроме образа несчастной вдовушки, сразу возникает и знакомая аббревиатура названия советских спецслужб (какая – зависит от года рождения читателя, поскольку она неоднократно изменялась). Очевидно, что в советской стране «работать с иностранцами» без контактов с «органами» было невозможно, хотя, конечно, степень вовлеченности в эти самые «органы» могла быть различной. Жизнь Марии Павловны была богатой на различные события, но поверить, что ее (вдову белого офицера!) свободно командировали на парижскую ярмарку, что она могла сама, без одобрения соответствующих инстанций, пригласить в СССР иностранного писателя (Жоржа Дюамеля) и быть его официальной сопровождающей во время поездки по Союзу, трудно. Она затеяла переписку с Роменом Ролланом, который уже слышал о ней и о ее «влюбленности в большевизм» от других левых французских писателей. В результате – Роллан пригласил Майю к себе в гости в Швейцарию. И ее выпустили за границу! Согласитесь, это тоже было удивительным делом для скромной секретарши (если у той не было определенных связей с всесильной организаций): приблизительно в это же время в поездке в Европу отказали «живому классику пролетарской литературы» – Горькому. Во время второй такой поездки Мария Павловна и Ромен Роллан поженились. Думаю, Мария Кудашева выполняла вполне определенные задачи в Париже: она была «агентом влияния». Во многом благодаря ей Ромен Роллан стал яростным коммунистом, защитником сталинской политики. Очевидно, что и на Бердяева, с которым Мария Павловна очень сблизилась, она влияла таким же образом, – многие, общавшиеся с Бердяевым в то время, отмечали, что он стал придерживаться просоветских взглядов. Я не видела сама подтверждающих архивных документов, поэтому не могу категорически утверждать, что «княгиня» была агентом советских спецслужб, впрочем, писатели и исследователи, которые интересовались биографиями Ромена Роллана или Максима Горького, в этом не сомневаются[558]. Но и эта дружба напомнила Бердяеву о тленности бытия: Роллан чрезвычайно плохо себя чувствовал, перенес несколько операций, во время своих визитов Николай Александрович находил его «слабым, угасающим». В конце 1944 года Роллан тоже ушел из жизни. Отношения же с Марией Кудашевой сохранились, – даже после смерти Николая Александровича она осталась его почитательницей (добровольно или по указанию начальников?) и активно работала в созданном Обществе имени Н. А. Бердяева.
Бердяев писал мрачные письма Ирине Павловне Романовой, – переписка с ней продолжалась, хотя письма были уже довольно редкими. Затруднения с продовольствием, проблемы с деньгами, но главное – болезни, начинающаяся старость приводили его в уныние: «главное наше несчастье в том, что мы постоянно болеем, что у всех есть хронические болезни и что у нас в семье нет молодых, все преклонного возраста. При этом нынешняя жизнь непосильна»[559]. В марте 1944 года Бердяеву исполнилось 70 лет. Он воспринял этот «очень неприятный юбилей» не слишком радостно: паспортный возраст не соответствовал его самосознанию и самоощущению, «я очень молод умственно и духовно», – писал Бердяев. Он даже выдвинул теорию, что каждый человек имеет свой вечный возраст, и предположил, что его вечный возраст – юношеский. Во всяком случае, ему хотелось в это верить…
Для тяжелого настроения были и более «метафизические» причины: «трудно выносить состояние мира», – писал Николай Александрович. Война была связана со страданиями миллионов людей, и он предвидел, что «смутное состояние мира» будет продолжаться еще долго. Такое мрачное мироощущение диссонировало с объективным ходом событий: перелом в войне стал очевидным. В 1944 году Париж вообще был освобожден от оккупантов: 19 августа в городе было поднято восстание, а через пять дней на помощь восставшим пришли войска союзников. 24 августа первые танки дивизии Леклерка (одного из соратников Шарля де Голля) вошли в город. Бердяевы ждали и чаяли поражения фашистской Германии с самого начала войны, они даже вывесили на своем доме красный флаг, но радоваться происходящему мешало не только мысль о миллионах жертв (Франция потеряла во второй мировой войне больше всех западных союзников, а про Россию, вынесшую на своих плечах основную тяжесть военных действий, и говорить нечего), но и горестные события в семье. Страшным ударом стала болезнь Лидии Юдифовны – ей диагностировали прогрессирующий паралич горла. Болезнь доставила ей много страданий: она затрудняла не только речь, но и глотание. С июля 1944 года болезнь стала явной и развивалась чрезвычайно быстро. Лидия Юдифовна худела, слабела. Скоро ей стало трудно даже по дому передвигаться без посторонней помощи, большую часть времени Лидия стала проводить в постели. Свояченица Николая Александровича, Евгения, сбивалась с ног, чтобы помочь сестре, – но и она была не молода, не все ей было под силу. Приходящая помощница по дому выполняла часть домашней работы, но жизнь семейства была трудной и мрачной. В одном из писем Е. Извольской в Америку Бердяев жаловался на обрушившиеся на их дом болезни и тяготы.
Пришедший новый 1945 год не принес радости. Произошло еще одно событие, для постороннего человека кажущееся не столь значительным, но очень болезненное для Бердяева: умер кот Мури, появившийся в семье еще котенком. Мури тяжело болел, но перед смертью все же с трудом добрался до лежащей в постели Лидии Юдифовны, чтобы попрощаться. «Страдания Мури перед смертью я пережил, как страдание всей твари… Я очень редко и с трудом плачу, но, когда умер Мури, я горько плакал. И смерть его, такой очаровательной Божьей твари, была для меня переживание смерти вообще, смерти тех, кого любишь Я требовал для Мури вечной жизни. Требовал для себя вечной жизни с Мури…»[560]. Николай Александрович долгое время не мог говорить о коте, представлял его прыгающим себе на колени. Боль этой утраты соединилась с болью за Лидию: он плакал после смерти Мури не только от потери любимца, но и от беспомощности, невозможности помочь жене, от предчувствия ее скорого ухода. Николай Александрович по-прежнему работал, – работа не только оставалась его первой потребностью, но и была чем-то вроде спасательного круга: так было легче переносить навалившиеся несчастья.
Бердяев писал в январе 1945 года Ирине Павловне: «Пишу сейчас в очень тяжелом настроении. Никогда еще не было у нас такого тяжелого периода. И это несмотря на то, что мы освобождены от немецкого рабства и мне не приходится постоянно ждать возможности ареста. Мы уже много испытали в жизни, испытали первые годы революции в России, испытали немецкую оккупацию. Прежде всего Лидия Юдиф[овна] очень серьезно больна уже более шести месяцев. У нее болезнь мускулов горла или нервный паралич. Она с трудом говорит и с трудом глотает пищу. Очень большая слабость. Она лечится разными способами, но пока ничто не помогает. Сестра ее тоже постоянно болеет. Самое трудное, что у нас в доме нет никого моложе 68 лет. Приходит femme de menage, но этого недостаточно при нынешних условиях, когда нужно все время бороться за жизнь. Сейчас мы очень страдаем от холода. Это особенно плохо для Лид[ии] Юд[ифовны], ухудшает болезнь»[561]. Действительно, дров тогда достать было почти невозможно, а в Париже опять была холодная зима. По указанию Евгении Юдифовны срубили даже деревья в садике, чтобы протопить хотя бы часть комнат, но это мало помогло: полученные таким образом дрова были сырыми, дымили, да и было их слишком мало. Последняя запись в дневнике Лидии Юдифовны от 29 января 1945 года содержала не только упоминание о том, что Ни закончил очередную книгу, но и о «невыносимом холоде» – «у нас 6° тепла, а на дворе сегодня 10° мороза!»[562]
Надо сказать, что свою болезнь Лидия Юдифовна переносила стоически, несмотря на мучавшие ее время от времени боли: она была ревностная католичка, верила в провидение Божие, в ее сердце прочное место заняли жизнеописания различных святых, перед которыми она преклонялась, – болезнь сделала ее дух и веру даже сильнее. Одно из ее последних стихотворений передает, что она чувствовала в последние свои земные дни:
Уведи меня в страны нездешние, Уведи голубой тропой. Где-то плещут воды вешние, Где-то свет и покой. Упокой мою душу мятежную, Упокой, освети мои дни. Где-то розы цветут белоснежные, И не гаснут огни.Сохранилась записочка Лидии Юдифовны: «Удивительное состояние я переживаю [в] это время болезни. Я страдаю от болезни и в то же время чувствую себя счастливой»[563]. Бердяев потом вспоминал, что во время болезни она «приблизилась к святости». В мае 1945 года Бердяевых навестил Михаил Коряков (1911 – 1977) – бывший студент московского Института философии, литературы и истории, ставший офицером Красной армии. Он прошел через войну, немецкий плен, а затем случайно оказался в советском полпредстве в Париже, где и провел 10 месяцев, выполняя различные поручения начальства. В Париже он познакомился с К. Мочульским, не раз бывал в доме Бердяева. Понимая, что по возвращении домой его, как оказавшегося в немецком плену, ждет Колыма, он стал «невозвращенцем», с большим трудом уехал из Парижа в Америку, где выпустил несколько книг. Сохранились его воспоминания о встрече в 1945 году с больной Лидией Юдифовной: «…В камине трещали дрова, озаряя гостиную. В большом кресле сидела прозрачной худобы женщина, в шарфе, покрывавшем голову. То была Лидия Юдифовна Бердяева, с которой я еще не был знаком: в чьих-то воспоминаниях читал, что она красавица, потом слыхал, что давно больна. Она молча протянула мне сухую руку и посмотрела большими, все еще прекрасными глазами… На подлокотниках кресла – до костей иссушенные руки, огромные в глубине черепа глаза. Вдруг она заметалась подбитой птицей, простонала что-то. Бердяев поднял ее и, поддерживая, отвел по коридору в ее комнату… Пришла свояченица Бердяева и сказала, что ее сестра просит меня к ней в комнату. Лидия Юдифовна лежала в кровати, отгороженной ширмой. На прозрачной целлулоидной пленке «вечного блокнота» она быстро и твердо – откуда взялась в ней сила? – написала: «Вы мне очень понравились. Приходите к нам чаще»[564].
Скончалась Лидия Юдифовна в конце сентября 1945 года. «Это было из самых мучительных и вместе с тем внутренне значительных событий моей жизни, – вспоминал Бердяев. – Смерть Лидии не была мучительной, она была духовно просветленной …Я сказал Лидии перед смертью, что она была огромной поддержкой моей жизни. Она мне написала, что будет продолжать быть такой поддержкой»[565]. Бердяев написал, что смерть наступает для нас не только тогда, когда мы сами умираем, но и тогда уже, когда умирают наши близкие. Мы имеем в жизни опыт смерти, хотя и не окончательный, прощаясь с близкими людьми. Пережил такой опыт и сам Николай Александрович в эти осенние дни. На похороны Лидии Юдифовны пришло неожиданно большое количество людей. В отличие от страдавшего от одиночества Бердяева, жизненный путь которого в силу его взрывного темперамента буквально был усеян обломками старых дружб и привязанностей, у Лидии Юдифовны всегда было много друзей – вторая жена М. Осоргина (он с ней расстался еще в 1923 году, в Берлине) Рахиль, Лидия Иванова (дочь Вячеслава Иванова), Эли Беленсон, другие. Христианское служение она понимала как помощь окружающим людям, поэтому многим старалась помочь – словом или делом – в трудные моменты их жизни. Ее любили за доброту и отзывчивость, готовность придти на помощь. Поэтому на кладбище Лидию Юдифовну пришли проводить многие, благодарные ей за теплое слово, поддержку.
Николай Александрович пережил смерть жены тяжело, тосковал, – его одиночество стало еще более глубоким, хотя рядом с ним остался «близкий друг и особенный» – Евгения Юдифовна. Она многие годы была не только его опорой в бытовой жизни, но и душевно близким человеком. Смерть Лидии Юдифовны сказалась и на здоровье Николая Александровича: он плохо себя чувствовал, беспокоило сердце, он задыхался, его мучили бессонница, головные боли. Нервное переутомление Бердяев снимал не лучшим для своего здоровья образом: он много курил. Эта привычка была у него всю взрослую жизнь, но в пожилом возрасте курение особенно губительно влияло на его сердце. В декабрьском письме заокеанскому другу, Елене Александровне Извольской, не забывавшей Бердяевых и время от времени отправлявшей им посылки – с гречневой крупой, сухим молоком, мукой, сигарами, свечами, новыми книгами, Бердяев писал: «Мы чувствуем себя очень сиротливо и очень тоскливо в нашем доме. Собираемся ехать с Евгенией Юдифовной на три недели в швейцарские горы, чтобы там передохнуть. Но нужно преодолеть много трудностей. У меня в плохом состоянии сердце, один клапан не в порядке, и часто бывает одышка, особенно по ночам»[566]. Друзья Бердяевых, видя его состояние, прилагали все усилия, чтобы отправить Николая Александровича с Евгенией Юдифовной в санаторий – в Швейцарские Альпы. Поездка не состоялась: незадолго до намеченного отъезда Бердяев заболел гриппом. Смерть Лидии, плохое самочувствие, одиночество сделали для Бердяева почти незаметной смерть еще одного когда-то очень близкого для него человека: 9 сентября в возрасте 76 лет умерла Зинаида Гиппиус. Ее смерть вызвала целую бурю эмоций среди представителей эмиграции: нелюбившие (а подчас – и ненавидящие) ее люди говорили, что наконец-то умерла «злая старуха», некоторые на похоронах стучали по ее гробу палками. Те же, кто уважал и ценил ее, видели в ее смерти конец целой эпохи. Иван Бунин, никогда не приходивший на похороны – он панически боялся смерти и всего, что с ней связано, – не отходил от гроба Зинаиды Николаевны. Ее похоронили на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа, рядом с мужем – Дмитрием Сергеевичем Мережковским. Бердяев на похоронах не был, – ему было не до того, да и осознать уход дорогой для него лет тридцать пять назад женщины смог лишь позже…
19. «Совпатриотический подъем»: последнее разочарование
Коммунизм – опиум интеллектуалов.
Клэр ЛюсВ феврале 1945 года группа русских эмигрантов, возглавляемая бывшим послом Временного правительства во Франции В. А. Маклаковым, совершила визит в советское посольство на рю Гренель в Париже, чтобы приветствовать победы Красной Армии. Патриотизм части русской эмиграции привел к тому, что среди живших в изгнании русских людей возродилась надежда на изменение России после войны: «Никто не знает, какой Россия будет после войны. И не только Россия, – заявил Маклаков. – Глубочайшие трансформации происходят повсюду, пропасть между Советской Россией и миром очень уменьшилась». Бердяева не было в этой группе, но такая позиция была ему близка. Дональд Лурье и другие вспоминали, что у него даже появилась мысль о возможности возвращения на родину. После окончания войны указами Президиума Верховного Совета СССР некоторой части эмигрантов предоставлялась возможность получения советского гражданства. Евгения Юдифовна также говорила Николаю Александровичу, что будь она моложе, она бы вернулась на родину. Бердяев даже попросил принести ему из советского посольства бланк заявления для реэмиграции, который внимательно изучил. Правда, изучение закончилось неутешительно: бланк был выброшен в корзину для бумаг. Тем не менее, это было показательно: как писал В. Яновский: «После победы, в которой русские «катюши» сыграли такую большую роль, «признание» Бердяевым сталинской империи было так же психологически неизбежно, как и визит Маклакова на рю Гренель»[567].
Среди эмигрантского круга в это время появились люди из СССР, – граница между «товарищами» и «господами» на некоторое, очень короткое время, стала проницаемой. «Товарищи» уговаривали Бердяева вернуться.
– А что я там буду делать? – спрашивал Бердяев.
– Ну, то же, что и здесь… Писать…
– А печатать мои работы будут? – с сомнением в голосе продолжал разговор Николай Александрович.
– Да, будут, хотя и спорить о Ваших работах будут, и критиковать…
– Ну вот когда их напечатают, тогда я и вернусь, – совершенно обоснованно заканчивал подобные разговоры Бердяев. Несмотря на очень сильные у него в то время иллюзии о том, что творится в СССР, несмотря на веру в позитивные изменения, якобы произошедшие в стране, он понимал, что главным для него является возможность свободного творчества.
Вскоре после освобождения Парижа к Бердяеву приехала группа из нескольких человек, работавших в советском посольстве. Они пригласили Николая Александровича принять участие в работе кружка по изучению философии. Ему было сказано, что такой кружок хотят открыть для сотрудников посольства. Думаю, сама мысль о кружке возникла в головах советских чиновников из-за слухов, что Бердяев склоняется к возвращению домой, в Россию, – посольские служащие искали способы укрепить его в этой мысли. Из этой «военной хитрости» ничего не вышло: Бердяев бурно возмутился, его темперамент проявился тут в полной мере. Он буквально кричал пришедшим:
– Как вы могли подумать, что я буду принимать участие в работе группы, которой руководят инструктора-рабы?!
Как он сам написал в «Самопознании», он не мог «поставить себя вне судьбы своего народа, оставаясь на высоте каких-нибудь отвлеченных либерально-демократических принципов». Но для него это не значило согласовывать «свою мысль и свое поведение с директивами советского посольства, думать и писать с постоянной оглядкой на него»[568].
В 1945 году была опубликована книга о России, принадлежащая перу «милого Федора Ивановича» – Фрица Либа. Бердяев высоко оценил работу своего хорошего знакомого. Ему была близка и тональность этой книги, – Либ тоже пытался найти положительные моменты в советской действительности. «Просоветские» симпатии швейцарского богослова вызвали критику со стороны многих славистов, Бердяев же, напротив, выступил с защитой этой работы. В своем письме к Д. И. Чижевскому, специалисту по русской истории из Германии украинского происхождения, он назвал книгу Либа «лучшей книгой о России и очень хорошо документированной» и отметил, что у него самого «патриотически-советская ориентация».
С одной стороны, Бердяев как никогда раньше был готов увидеть в русском коммунизме нечто позитивное, с другой – его независимость, индивидуализм, ненависть к тоталитарным методам управления останавливали его. Он колебался. Эти колебания вызвали волну критики даже со стороны близких ему по духу людей среди русской эмиграции. Георгий Федотов так говорил об отношении Бердяева к советской власти: «Было время (1917-1922 гг.), когда его негодование против коммунистической тирании не имело границ. Он сам жил в стране пролетарской революции и видел ее человеческое, а не только доктринерское лицо. Впрочем, и тогда уже он кое-что принимал в ней: например, приобщение широких масс к культуре и даже праведное возмездие… Оказавшись поневоле в эмиграции…, он скоро был вынужден вести борьбу на два фронта: против капитализма и коммунизма одновременно. Это было позиция, достойная философа и христианина… Однако, во время второй мировой войны это равновесие было нарушено – в пользу Советской России. Бердяев оказался захвачен потоком русских патриотических настроений, вспыхнувших с необычайной силой в среде русской эмиграции во Франции. И хотя в его статьях этого времени преобладают социальные, а именно антикапиталистические ноты, национальные мотивы просоветской стратегии не подлежат сомнению. Россия представлялась освободительницей мира от гитлеровского фашизма. Сходство двух тоталитарных режимов забывалось. Жила вера, ни на чем не основанная, в близость больших перемен во внутренней политике большевистской партии»[569]. Из этого отрывка видно, в чем заключалось отличие позиций двух мыслителей, – сам Федотов отнюдь не испытывал иллюзий по отношению к Советской России, скорее напротив, считал усиление влияния СССР пагубным для всего человечества. В этом-то пункте и разошлись политические позиции близких друг другу до войны мыслителей.
После опубликования Бердяевым в 1946 году книги «Русская идея» (написанной еще в 1943, а опубликованной YMCA-Press только после войны), разрыв стал окончательным. Федотов (и не он один, но и Н. П. Полторацкий[570], С. А. Левицкий[571], другие) восприняли книгу как проявление национализма. Сегодня, сравнивая эту книгу Бердяева с действительно националистическими работами, например, И. Ильина (которым, в отличие от Бердяева, тот же Полторацкий восхищался) трудно понять, почему это произошло. В книге, посвященной истории русской мысли, философии русской истории, много спорных выводов, субъективных суждений, неверных оценок, но националистической назвать ее вряд ли можно. Скорее, речь можно вести о принятии Бердяевым современной ему советской России как закономерного этапа на историческом пути страны, о попытке показать своеобразие России по сравнению с западными странами. Тем не менее, именно эта работа вызвала особенно резкую критику в эмигрантской среде; именно после ее выхода в свет «друзья и ученики Бердяева были глубоко и тяжело поражены» (как писал Федотов). Думаю, это было связано с включением в текст книги некоторых позитивных политических оценок сталинской России. Например, на страницах книги высоко оценивалась сталинская конституция 1936 года: «Советская конституция 1936 г. создала самое лучшее в мире законодательство о собственности. Личная собственность признается, но в форме, не допускающей эксплуатации»[572]. В определенном смысле, книга была автобиографической – по ней можно судить, как изменилась позиция Бердяева по отношению к СССР за военные годы.
В «Русской идее» Бердяев продолжил темы другой своей книги – «Судьбы России». Здесь он тоже попытался определить русский национальный тип как противоречивый, антиномичный. Например, он считал, что русский народ – самый анархический, но – одновременно – и самый державный, государственный народ в истории: «…может поражать противоречие между русской анархичностью и любовью к вольности и русской покорностью к государству, согласием народа служить образованию огромной империи»[573]. Но Бердяев в этой книге отчасти изменил своему принципу антиномичности: с его точки зрения, анархизм перевешивает державность в характере русского народа, мыслитель даже называл его «народом анархическим по основной своей устремленности»[574], послушание же государственной власти связывал лишь с колоссальным терпением и покорностью. Русские люди, по мнению Бердяева, очень остро чувствуют зло и грех любой государственной власти. С таким выводом не были согласны многие. Например, Полторацкий рассуждал так: «В нашей истории действительно были явления анархического порядка, но если бы склонность к анархии была основной чертой русского народа, то, очевидно, у этого народа не было бы великого государства и не было бы почти тысячелетней истории. Кроме того, если даже признать, что у русских есть склонность к анархизму, это не значит, что подобную черту нужно возводить в достоинство и ее культивировать, как это делает Бердяев. Скорее, такую склонность следовало бы признать «великим злом» и всячески с этим злом бороться, как это делал хотя бы Константин Леонтьев»[575]. Бердяев, воспевая анархизм как идеал свободной гармонии и даже как победу Царства Божьего над царством Кесаря (не зря Габриэль Марсель обвинил его в анархизме!), тоже, как и Полторацкий, апеллировал к истории русской мысли. Он убеждал читателя, что вся русская литература, как и вся русская интеллигенция 19 века, исповедовали безгосударственный идеал. Он называл имена К. Аксакова, А. Хомякова, М. Бакунина, Л. Толстого и даже Ф. Достоевского, почему-то и его причислив к анархистам, оговорившись, правда, что Достоевский и сам не совсем понимал, что он анархист. «Русский пафос свободы был скорее связан с принципиальным анархизмом, чем с либерализмом»[576], – был убежден Бердяев. Из всей истории русской мысли 19 века он вспомнил лишь одного представителя либерализма – Б. Чичерина, тут же противопоставив его взгляды «русской идее», дав понять, что Чичерин – абсолютно не национален.
Либерализм, действительно, не был среди господствующих течений русской мысли, хотя к имени Чичерина можно с полным правом добавить еще десяток имен, в том числе, имя Владимира Соловьева. Но почему анархизму в бердяевском изложении противостоит лишь либерализм? История русской мысли богата «державными» моделями устройства России самой разной политической окраски; вряд ли можно назвать анархистами М. Каткова, Н. Гоголя, К. Леонтьева, Н. Кареева, В. Розанова, Н. Трубецкого, С. Франка, Л. Карсавина, И. Ильина, В. Ильина, Н. Тимашева, П. Струве и многих других русских «государственников». Разумеется, в русской истории были «вольницы» Разина и Пугачева, но были они и в истории других народов. Противоречия между государством и народом не являются чисто русским достоянием, это универсальная закономерность общественной жизни. Очень сомнителен был бы вывод об анархичности, скажем, американцев, основанный на широком распространении в США движения хиппи в 60-70-е годы. Но Бердяев, по сути, именно так и поступал, – вспомнив Разина и Пугачева, указав на Бакунина, он делал вывод об анархичности всего русского народа.
Еще одна характерная черта русского характера, считал Бердяев, – эсхатологичность, устремленность к концу, неудовлетворенность реальным земным положением дел. С этим тезисом Бердяева тоже не согласились многие; известный историк А. А. Кизеветтер, например, писал: «…Н. А. Бердяев хочет изобразить русский народ народом-незадачником в области строительства земной общественности; народом, дух которого всецело устремлен к «концу вещей», к «абсолютным духовным ценностям потустороннего бытия» и совершенно неспособен к созиданию относительных ценностей земной культуры; народом, не умеющим жить, а умеющим лишь грезить о том, как лучше помереть; не могущим создать ничего общественно ценного…, – тогда Н. А. Бердяеву нельзя не поставить на вид того, что с такой характеристикой можно согласиться лишь в том случае, если мы зачеркнем всю историю русского народа и закроем глаза на всю громадную созидательную культурную работу, этим народом в течение его истории совершенную»[577]. Трудно отрицать тот факт, что, в отличие от позиции Бердяева, не подкрепленной ничем, кроме его интуиции, точку зрения Кизеветтера и других критиков можно обосновать реальными фактами российской истории – колонизацией русского севера или Сибири, например, которая уж никак не вяжется с эсхатологической устремленностью народа.
Малодоказательны и остальные характеристики русского характера, которые давал в книге Бердяев, – о перевешивании женского начала над мужским в русской душе (здесь явно сказалось влияние на него В. В. Розанова, хотя и без розановской аргументации), о пристрастии к социализму и т. д. Россия описывалась Бердяевым как этнос, принципиально не способный к уравновешенному историческому и культурному строительству. Яркие, афористичные строки Бердяева до сих пор захватывают читателя, заставляют невольно соглашаться с автором, удивляться его проницательности. Но обаяние мысли Бердяева довольно скоро рассеивается при попытке проверить его выводы «на прочность»: оказывается, Бердяев говорит правду, но не всю, а полуправда зачастую бывает далека от реального положения дел. В «русскую идею» Бердяева не помещалось пол-России. Позиция Бердяева не была свободна от неосознанной тенденциозности: он находил в характере русского народа именно те черты, которые были присущи его собственной позиции, поэтому выводы о предназначении России, которые он делал, выглядели выражением укоренившихся в национальной почве особенностей.
Наиболее полным, предельным выражением какого-либо национального типа является, по Бердяеву, идея того или иного народа. Тема «русской идеи» была одной из основных в работах мыслителя периода эмиграции, но практически везде в своих книгах и статьях Бердяев давал лишь исторический срез проблемы, нигде не определяя прямо содержание русской идеи и свое собственное ее понимание. Не стала исключением и эта книга. Единственное, на что постоянно указывал Бердяев, говоря о «русской идее», – это ее антибуржуазность: («Буржуазный строй у нас в сущности почти все считали грехом… Такова Россия, таково призвание русского народа в мире. Хомяков и К. Леонтьев, Достоевский и Л. Толстой, Вл. Соловьев и Н. Федоров низвергают буржуазный строй и буржуазный дух не менее, чем русские революционеры, социалисты и коммунисты. Такова русская идея»[578].) Подобных определений русской идеи в книгах Бердяева очень много. Но почти все они – определения «от противного»: русская идея не буржуазная, не националистическая, не является западной или восточной, не похожа на германскую идею и так далее. Положительное содержание прямо нигде не указывается. Полторацкий, например, на основе изучения текстов Бердяев определил его «русскую идею» так: «Русская идея Царства Божьего, в понимании Бердяева, есть идея социалистическая, нигилистическая, анархическая, эсхатологическая и мессианская. В мессианизме[579] … и заключается новый духовный провал его учения о русской идее Царства Божьего. Этот мессианизм чрезвычайно провинциален»[580]. Оценка жесткая, критическая, даже не очень вежливая, но отчасти оправданная.
«Русская идея» многократно издавалась и переиздавалась в современной России, она хорошо известна читателям. В ней проводится довольно опасная в своих выводах мысль о том, что русский коммунизм – проявление присущих русскому народу поисков правды в общественной жизни, вывод из религиозных исканий целостной жизни. Более того, по Бердяеву выходило, что коммунизм выше и чище, чем буржуазный строй с его культом земного преуспеяния. Получалось, что атеистический, жестокий, тоталитарный советский строй с ГУЛАГом и свирепой цензурой все-таки лучше, чем буржуазный сытый Запад… Книга и сегодня вызывает разные оценки: кто-то ей восхищается, а кто-то – считает «вредной» и неверной. Можно вспомнить представителя уже современной русской эмиграции, лауреата множества литературных премий, известного критика и журналиста Бориса Парамонова, который назвал «Русскую идею» Бердяева «соблазном и прельщением» для посткоммунистической России.
С одной стороны, Бердяев всячески отвергал националистическую «атомизацию» и разобщение человечества, говорил об универсализме христианства, а с другой – искренне верил в то, что именно Россия, будучи Востоко-Западом, объединит человечество, именно ей принадлежит особое место в грядущем религиозном преображении истории. Бердяев видел источник мессианских идей в сознании древнееврейского народа, но очевидно, что и русскому народу пришлось не раз испытать мессианские ожидания. Это проявлялось по-разному: и в идее Москвы – «третьего Рима», когда Русь, а позднее Россия возомнила себя единственным прибежищем истинной веры, и в ленинской концепции России – «слабого звена в цепи капитализма», когда из пламени русской революции ожидалось возгорание мирового революционного пожара… По сути, выводя любой национальный мессианизм из древнееврейского, Бердяев сам косвенно указывал на тот факт, что христианство преодолевает подобные взгляды, что они типичны лишь для ветхозаветного образа мысли, противоречат новозаветному универсализму. С точки зрения христианства, оправдан не мессионизм, а миссионизм – признание того факта, что у каждого народа свое служение, своя миссия, свое призвание. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, сына и Святого Духа» (Матф., XXVIII, 19, 20), – таков дух Нового Завета. Но Бердяев не замечал противоречия в своих рассуждениях, создавая единственный в своем роде ненационалистический национальный мессианизм.
В современном ему мире Бердяев видел две наиболее ярко выраженные национальные мессианские идеи – русскую и германскую. Он не был свободен от славянофильских иллюзий, что «русское» является синонимом истинно христианского, когда во время второй мировой войны писал: «В современном мире столкнулись две мессианские идеи – русская и германская. Русская идея в чистом ее виде есть идея осуществления правды, братства людей и народов. Она наследует идею, заложенную у пророков, в вечной истине христианства, у некоторых учителей Церкви, особенно восточных, в исканиях правды русским народом. Германская идея есть идея господства избранной расы, расы господ над другими расами и народами, признанными низшими»[581]. Несмотря на момент истины, заложенный в подобной характеристике, невольно вспоминаются слова Соловьева о том, что национальная идея состоит не в том, что народ сам думает о себе во времени, а в том, что думает о нем Бог в вечности. Вряд ли лишь русские взыскуют религиозной правды, вряд ли истина (христианство) состоит в особом национальном способе ее усвоения. Е. Н. Трубецкой с полным основанием критиковал мессианские идеи Бердяева, обращаясь к новозаветным текстам и напоминая ему слова апостола Павла о том, что человечество – как дерево, у которого корнем является христианство, а отдельные народности – лишь ветвями: если корень свят, то и ветви питаются его соком, и ни одна из них не может превозноситься, ибо не она – корень дерева. Для него было очевидно, что «с точки зрения этого органического понимания взаимных отношений мессианского и народного ясно обнаруживается ложь всяческого национального мессианизма… А смягченный мессианизм, утверждающий особую к нам близость русского Христа, превращается в явно фантастическое суждение, будто на всенародном древе жизни отдельная ветвь нам ближе корня»[582]. Для Бердяева, который был человеком верующим, но не «воцерковленным», склонявшимся к религиозному модернизму, такая аргументация с помощью евангельских текстов не была достаточно убедительной.
Будущее – за «русской идеей», которую Бердяев понимал как социалистическую и религиозную одновременно. России надо изжить атеистический коммунизм, чтобы осуществить переход к персоналистическому социализму. Он сравнивал большевизм с инфекционной болезнью: если не удалось ее предотвратить, нельзя уже остановить ее течение. Надо выздороветь, пройдя через все стадии заболевания. Поэтому нельзя избавиться от большевизма «кавалерией» – внешним вмешательством (о чем, например, так страстно мечтал Д. Мережковский). Для Бердяева (в отличие, скажем, от А. Солженицына) большевизм – не интернациональное зло, занесенное в Россию, а чисто русское явление, извращение русской мессианской мечты. Значит, и избавиться от большевизма Россия должна сама, изнутри, никакая внешняя «помощь» здесь не эффективна. «Россия может еще воскреснуть», – был убежден мыслитель. «Коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа. И изжит он должен быть внутренними силами русского народа. Коммунизм должен быть преодолен, а не уничтожен. В высшую стадию, которая наступит после коммунизма, должна войти и правда коммунизма, но освобожденная от лжи. Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского народа. В этом ее главный смысл. …Назрел новый душевный тип с хорошими и плохими чертами. Но свободы человека все еще нет»[583]. Персоналистическое общество должно стать не результатом новой организации жизни, а следствием новой душевной структуры человека, его духовного перевоспитания, что под силу лишь христианству. Бердяев не видел здесь ничего невозможного, потому что «русский народ – религиозный по своему типу и по своей душевной структуре»[584], значит, отпадение от веры не может быть долгим.
Бердяев напряженно и с надеждой вглядывался в то, что происходило в России. Он, конечно, по-прежнему не принимал коммунистической идеологии, но надеялся, что времена тоталитаризма остались позади. Не он один обманулся: в эмиграции поднялась целая волна за возвращение на родину. Тысячи людей после второй мировой войны получили советское гражданство и вернулись в СССР. Судьба большинства из них была трагической, но кто об этом тогда знал? Возникло целое движение – «Советский патриотизм», призывавшее вернуться в Россию, чтобы помочь ее восстановлению после кровопролитной и разрушительной войны. Бердяев поддержал это движение: в одном из своих интервью 1946 года он приветствовал реэмиграцию, возвращение на родину. Нам не дано знать, «как наше слово отзовется», поэтому винить Бердяева в его искреннем заблуждении не стоит, хотя для кого-то его мнение могло стать решающим и привести к тюрьме, ссылке, даже расстрелу на родной земле. С «недобитыми белогвардейцами» в СССР не очень-то церемонились.
Возможно, Бердяев и сам бы все-таки уехал на родину, но его спас случай. Нельзя сказать, что счастливый: речь идет о Постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. (О журналах «Звезда» и «Ленинград»). В этом постановлении Михаил Зощенко был назван «пошляком и подонком русской литературы», стихи Анны Ахматовой назвали «пустой безыдейной поэзией», «не желающей идти в ногу со своим народом», разносились в пух и прах и другие литераторы. А ровно через месяц главный пропагандист совесткой страны А. А. Жданов на совещании в Ленинграде таким манером разъяснил смысл принятого Постановления, что Бердяев, узнав обо всей этой истории, был потрясен. Ахматову Жданов назвал «взбесившейся барынькой, мечущейся между будуаром и моленной», Зощенко – «мещанином и пошляком». Участники совещания единогласно поддержали мнение партии… Иллюзии Бердяева развеялись. Очевидным стал факт, что советская власть не изменила своей природы, – она по-прежнему не допускала никакого разномыслия и свободы творчества. Возмущенный Бердяев напечатал большую статью в защиту Ахматовой и Зощенко в одном из номеров парижских «Русских новостей». «Оружие свободных людей есть свободное слово», – повторил он слова И. С. Аксакова. С момента, когда Николай Александрович узнал о кампании травли, организованной в СССР против Зощенко и Ахматовой, он стал гораздо критичнее относиться к действиям советской власти, но это уже не успело отразиться в его крупных работах. Мечты о возрождающейся России рассеялись как дым. Жизнь потекла дальше, хотя после постигшего Николая Александровича разочарования, он записал: «47 год был для меня годом мучения о России»[585].
В том же году увидела свет еще одна его книга – «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация». В этой работе Николай Александрович подводил философский итог своего творчества – в ней содержалось систематическое (насколько это вообще возможно при бердяевском стиле философствования) изложение его метафизических идей. «Я мыслю не дискурсивно, не столько прихожу к истине, сколько исхожу от истины», – предварял изложение своей метафизики Бердяев. Еще в начале его творческого пути ему советовали «зашнуроваться в корсет школьной философии», сделать изложение логически выдержанным, рациональным. Но совет остался втуне: и в конце своей жизни Бердяев перекладывал на бумагу собственный духовный опыт, свое личностное понимание истины. Кого-то такой стиль философствования восхищал, кого-то – раздражал, но он был «бердяевским», узнаваемым и признанным многими философскими мэтрами. Не случайно в июне этого же года Николай Александрович Бердяев был избран почетным доктором теологии Кембриджского университета, причем одновременно с ним рассматривались кандидатуры таких известных мыслителей, как К. Барт и Ж. Маритен, но выбор был сделан не в их пользу. Бердяев стал третьим русским, удостоенным этой чести – после И. Тургенева и П. Чайковского. Его слава поистине стала общеевропейской. В июле Бердяев поехал в Англию для получения доктората (хотя путешествия уже были трудны для него). Одетый в красную мантию и средневековый головной убор – бархатную шапочку он прочел перед заполненной аудиторией небольшую лекцию. Происходящее показалось театральным представлением и утомило его.
Дома Евгения Юдифовна приняла решение: надо ехать отдыхать. Денег, как всегда было мало, поэтому первоначальная мысль поехать в Пила была отброшена, выбран был более дешевый курорт – Виши. Но поездка не принесла облегчения обоим: Евгения Юдифовна заболела, Бердяев мучился от стоящей в то лето жары, – отдых не удался. Зато август несколько скрасил неудавшийся «отпуск»: Николая Александровича пригласили в Женеву, на международную конференцию, где он прочел доклад «Технический прогресс и моральный прогресс» (организаторы конференции выбрали тему, волновавшую умы человечества еще со времен Руссо!). После завершения конференции Бердяева пригласили прочитать целый цикл лекций по истории философии – от Ницше до Сартра – в Экуменическом Институте в Боссе. Николай Александрович согласился, рассчитывая, что перемена места, горный воздух будут для него чем-то вроде отдыха. Действительно, поездка пошла ему на пользу: Бердяеву очень не хватало Лидии Юдифовны (Ирине Павловне Романовой он откровенно написал: «у меня сейчас очень преобладает чувство тоски. Мне трудно примириться со смертью Лид[ии] Юд[ифовны]»[586]), и отъезд из кламарского дома отвлек его.
Бердяев продолжал много работать. Его буквально заваливали письмами читатели его работ, многие приезжали для личной встречи в Кламар. Он писал новую книгу – «Истина и откровение», вносил правку в только что законченную «Экзистенциальную диалектику божественного и человеческого» (которую посвятил Евгении Юдифовне), встречался с Мунье, выстраивал в голове план новой книги, участвовал в «воскресеньях». 21 марта 1948 года тоже было воскресеньем, в кламарский дом опять собрались знакомые и друзья, но это бердяевское «воскресенье» стало последней дискуссией, в которой участвовал Николай Александрович. Он выглядел усталым, да и пожаловался на это Евгении Юдифовне перед сном. Следующее утро тоже не принесло долгожданной бодрости: он плохо спал, даже не смог работать. Евгения Юдифовна позвонила домашнему врачу, тот посоветовал какое-то лекарство. Во вторник Николая Александровичу стало лучше: он провел в своем кабинете за столом все утро, а во время обеда даже рассказывал Евгении о том, какие следующие книги ему хотелось бы написать. После обеда Бердяев имел обыкновение отдыхать некоторое время, – в тот день он тоже немного подремал и вернулся к себе за письменный стол. Некоторое время спустя Николай Александрович позвал из кабинета:
– Женя…
Когда Евгения Юдифовна поднялась к нему, он был мертв, хотя дымящаяся сигара еще была зажата во рту, – не выдержало не молодое уже сердце. Бердяев однажды сказал о себе: я, наверное, и умру за письменным столом. Так действительно и случилось; смерть застала его за работой, то есть жил он до последней секунды самой напряженной духовной жизнью. На письменном столе, за которым он так и остался сидеть, лежала рукопись его книги «Царство Духа и царство кесаря», рядом лежала открытая Библия и статья, с которой он работал в последние минуты свой жизни… В том, что Бердяев даже умер за письменным столом было что-то символическое: писание было главным и любимым делом всей его жизни. Он умер, не договорив всего, что хотел сказать своим читателям. Это произошло 23 марта 1948 года в Кламаре.
Похороны состоялись 26 марта на тихом кламарском кладбище. Отпевание по православному обряду провели сразу несколько священников – все они были лично знакомы с Николаем Александровичем и хотели проводить его в последний земной путь. Присутствовали на похоронах и католики, и протестанты – Бердяев при жизни поддерживал экуменические идеи, и его похороны не могли быть другими. На панихиде Г. Федотов сказал, что Бердяев умер как солдат на посту – за своим письменным столом. На Кламарском кладбище уже были русские могилы – фамильные надгробия князей Трубецких, Гагариных, Оболенских, Лопухиных и других. Недалеко, рядом с Лидией Юдифовной, был похоронен и Бердяев. На его скромной могиле с обычным православным крестом написано: «Nickolas Berdjaev».
Бердяевский дом не опустел. Спустя некоторое время Евгения Юдифовна продолжила традицию интеллектуальных встреч, которая не нарушалась в семье Бердяевых многие годы – несмотря на революции, войны, голод и холод. По пятницам в большой комнате кламарского дома собирались почитатели бердяевской философии, друзья. Гостей встречали Евгения Юдифовна и Софья Сергеевна – племянница Бердяева. Обычно Евгения Юдифовна выбирала для чтения какую-либо статью или отрывок из книги Николая Александровича, после чего начиналось обсуждение прочитанного, подчас довольно жаркое: с Бердяевым спорили и после его смерти. Сохранилась и еще одна традиция этого гостеприимного дома: после окончания дискуссии наиболее близкие друзья оставались на чаепитие со знаменитыми пирожками, печь которые Евгения Юдифовна была большая мастерица. Евгения Юдифовна, хотя и была всего на год моложе Бердяева, прожила еще более 10 лет – она умерла в 1961 году, много сделав для публикации бердяевских работ, записных книжек, писем. Она осталась предана памяти человека, с которым прожила в одном доме многие годы. Дом, кстати, по желанию Николая Александровича был завещан Русской Православной Церкви За Рубежом. Его кабинет, где он умер, пустует, – часы до сих пор показывают время, когда философ скончался, а настольный календарь так и остался открытым на том трагическом дне. В часовне изредка совершают службы. А в остальных комнатах, стараясь относиться бережно к оставшимся от Бердяева вещам, фотографиям на стенах, книгам, живут православные священники. Мысль о создании в доме музея периодически возникает и в России, и на Украине, но пока единственными «экскурсоводами» остаются монахи-жильцы.
Земная судьба Николая Александровича продолжалась благодаря его книгам. Через год после смерти Бердяева YMCA-Press выпустил его «Самопознание» – наверное, самую известную и самую читаемую книгу Бердяева. Книгу Бердяев посвятил «лучшему другу» – Евгении Юдифовне. Подзаголовок гласил: «Опыт философской автобиографии». Это было важным примечанием: действительно, книга рассказывала не столько о биографии философа, сколько о его духовном пути, в ней содержалась попытка проследить не историю жизни, а историю мысли, рассказать читателю о своем внутреннем мире, а не о внешних событиях, рассказ о которых присутствовал в тексте только как фон. Вышла в свет и последняя его работа, над которой он работал 23 марта 1948 года, в день своей смерти – «Царство Духа и царство кесаря», а в 1952 году увидела свет «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого». Многие люди, знавшие Бердяева, помогли сохранить память о нем. Прежде всего на ум приходит имя Тамары Федоровны Клепининой, вдовы отца Дмитрия, более тридцати лет проработавшей в издательстве YMCA. Именно благодаря ее трудам была составлена полная библиография работ Бердяева, вышедшая в Париже в 1978 году. Она до сих пор является основой для исследования бердяевского творчества.
Книги. Именно они остались на земле от Бердяева. Много книг – его перу принадлежат сорок три книги и брошюры, переведенных на десятки языков, сотни статей, миллионы благодарных, возмущенных, скучающих, заинтересованных читателей. Его работоспособности можно позавидовать. Но думаю, двигателем этой его поразительной работоспособности было одиночество и отталкивание от реального мира вокруг него. Работы Бердяева – опыт и способ преодоления одиночества и бегства от него в метафизические дали. Поэтому бердяевские книги – не только предмет для философских споров и исследований, но и свидетельства неприспособленности Николая Александровича к той земной жизни со страстями, пеленками, бытовыми радостями, которую так вкусно воспевал его знакомый по Петербургу и Москве – Василий Васильевич Розанов. Напряжение мысли, непрекращающийся труд, воля сделали его одной из самых заметных фигур в русской философии, но надеюсь, что глядя на тома бердяевских трудов, просвещенный читатель испытает не только положенное в таких случаях уважение, но и ощутит в своем сердце укол: вспомнит одинокого человека, безуспешно пытавшегося всю жизнь согреть холодный мир своим дыханием и потерпевшего в этом безнадежном деле оглушительное поражение.
Основные даны жизни и творчества Н. А. БЕРДЯЕВА
1894, 6 (18) марта – в городе Киеве у Александра Михайловиче Бердяева и его жены Александры Сергеевны (урожденной кн. Кудашевой) родился сын Николай.
1887 – 1891 – учеба в Киевском кадетском корпусе.
1894 – 1898 – учеба в Киевском университете Святого Владимира.
1900 – 1902 – ссылка в Вологду.
1901 – выход первой книги Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском».
1902 – участие в сборнике «Проблемы идеализма».
1902 – 1903 – переезд в Житомир в связи с изменением места ссылки.
1904 – участие во Втором международном философском конгрессе (Женева, Швейцария).
Встреча с Л. Ю. Трушевой-Рапп в Киеве.
Переезд в Петербург. Работа в журнале «Новый путь».
1905 – издание журнала «Вопросы жизни».
1905, сентябрь – 1907 – участие в «средах» в «башне» Вячеслава Иванова.
1906, весна – 1907 – участие в кружке «Гафиз».
1907 – выход в свет книги «Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные, литературные 1900-1906».
Выход в свет книги «Новое религиозное сознание и общественность».
Начало работы Петербургского религиозно-философского общества, одним из инициаторов создания которого был Н. А. Бердяев.
1907 – 1910 – участие в работе Московского еженедельника, издаваемого М. К. Морозовой и Е. Н. Трубецким.
1908 – поездка с женой в Париж. Общение в Париже с Мережковскими.
Переезд в Москву.
Начало многолетней дружбы с Евгенией Казимировной Герцык.
1909 – выход сборника «Вехи» со статьей Н. А. Бердяева.
1910 – 1911 – работа Н. А. Бердяева в издательстве «Путь».
1911 – выход в свет книги «Философия свободы».
Отход Н. А. Бердяева от издательства «Путь».
1911, ноябрь – 1912, май – поездка в Италию с женой и свояченицей Е. Ю. Рапп. В феврале 1912-го к ним присоединилась Е. К. Герцык.
1912 – скончалась Александра Сергеевна Бердяева, мать философа.
Выход в свет книги «Алексей Степанович Хомяков».
1913 – статья Н. А. Бердяева «Гасители духов» опубликована в «Русском слове». Бердяев обвинён в богохульстве, начато судебное разбирательство.
1914 – смерть старшего брата, Сергея Александровича Бердяева.
В основном написана книга «Смысл творчества», увидевшая свет в 1916 году.
1916 – переезд в Москву, в квартиру в Малом Власьевском переулке, 14, кв. 3.
Скончался Александр Михайлович Бердяев, отец философа.
1917 – переход Лидии Юдифовны Бердяевой в католичество.
1918 – выход в свет сборника статей «Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности».
Участие в сборнике «Из глубины».
Чтение Н. А. Бердяевым лекций в Государственном институте слова.
Написание книги «Философия неравенства» (вышла в свет в 1923 году в Берлине в издательстве «Обелиск»).
1918 – 1922 – работа в правлении Всероссийского союза писателей и в книжной лавке писателей.
1919, сентябрь – официальное открытие Вольной академии духовной культуры, просуществовавшей до 1922 года.
1920, февраль – первый арест Бердяева. Он несколько дней содержится во внутренней тюрьме ЧК, вызывается на беседу Ф. Э. Дзержинским. Н. А. Бердяев избран профессором Московского университета, где читал курсы лекций на историко-филологическом факультете о миросозерцании Ф. М. Достоевского и о философии истории.
1922 – Н. А. Бердяев стал действительным членом Российской академии художественных наук.
Август – второй арест. После заключения в тюрьме ГПУ в течение нескольких дней Н. А. Бердяеву объявлено о его высылке из страны.
Сентябрь – Н. А. Бердяев, Л. Ю. Бердяева, Е. Ю. Рапп и их мать, И. В. Трушева, на пароходе «Oberburgermeister Haken» («философский пароход») покинули Петроград и отправились в Штеттин, Германия.
Ноябрь – создание Религиозно-философской академии в Берлине.
1923, февраль – организация Русского научного института в Берлине. Н. А. Бердяев избран деканом факультета духовной культуры.
Октябрь – возникло Русское студенческое христианское движение (РСХД). Н. А. Бердяев становится почетным членом совета РСХД и участвует в его работе вплоть до 1936 года.
Выход в свет книги «Миросозерцание Достоевского» (опубликована в Праге в издательстве YMCA-Press).
Публикация книги «Смысл истории» в Берлине в издательстве YMCA-Press.
1924 – выход в свет книги «Новое Среднивековье. Размышление о судьбе России и Европы» (опубликована в Берлине в издательстве «Обелиск»).
Переезд Н. А. Бердяева с семьей в Кламар (пригород Парижа).
1926 – выход в свет книги «Константин Леонтьев. Очерк из истории религиозной мысли» (Париж, YMCA-Press).
1926 – 1928 – организация Бердяевым в Париже межконфессиональных христианских собраний.
1927 – 1928 – выход в свет двухтомной книги «Философия свободного духа» (Париж, YMCA-Press). Книга удостоена премии Французской академии в 1939 году.
1931 – выход в свет книги «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (Париж: «Современные записки»).
1934 – выход в свет книги «Судьба человека в современном мире. (К Пониманию нашей эпохи)» (Париж, YMCA-Press).
Выход в свет книги «Я и мир объектов (Опыт философии одиночества и общения)» (Париж, YMCA-Press).
1937 – выход в свет книги «Дух и реальность» (Париж, YMCA-Press).
1938 – выход в свет книги «Истоки и смысл русского коммунизма» на немецком языке.
Бердяева получают наследство от друга семьи и покупают дом, в котором проживут до конца дней.
1939 – выход в свет книги «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии» (Париж, YMCA-Press).
1940 – после взятия немцами Парижа и Бердяева собираются друзья на «военный совет».
1944 – приветствуя освобождение Парижа, Бердяевы вывешивают на своём доме красный флаг.
1945, сентябрь – смерть жены философа, Лидии Юдифовны.
1946 – выход в свет книги «Русская идея».
1947 – выход в свет книги «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация» (Париж, YMCA-Press).
Получает степень почетного доктора Кембриджского университета.
1948, 23 марта – Н. А. Бердяев умер в своём доме в Кламаре.
1949 – выход в свет книги «Самопознание. Опыт философской автобиографии» (автобиографическая книга; опубликована посмертно в издательстве YMCA-Press).
1951 – выход в свет книги «Царство Духа и царство Кесаря» (опубликована посмертно, Париж, YMCA-Press).
1952 – выход в свет книги «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого».
1960 – архив Бердяева передан его свояченицей, Е. Ю. Рапп, в советское посольство в Париже.
Сноски
1
Вадимов А. Жизнь Бердяева: Россия. – Oakland, Calif., Bercley Slavic Specialties, 1993 (автор воспользовался псевдонимом).
(обратно)2
Н. П. Полторацкий. Н. А. Бердяев: Философияэсхатологического анархизма. // Н. А. Бердяев: pro et contra. Антология. (Подгот. А. А. Ермичев). – СПб: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1994. С.559
(обратно)3
См.: Александр Мень. Мировая духовная культура. (Сост. А. Белавин). – Изд-во «Нижегородская ярмарка», 1995.
(обратно)4
А. Белый. Между двух революций. – М.: Худ. Литература, 1990. С. 414.
(обратно)5
Библиография, составленная Т. Ф. Клепининой вышла в Париже: Klepinine, Tamara. Bibliographie des oeuvres de Nicolas Berdiaev. – Paris, YMCA-Press, 1978.
(обратно)6
(обратно)7
Дворянские роды, внесенные в общий Гербовник Всероссийской Империи. Часть 1 (до конца XVI столетия). – Спб.: 1890. С. 748.
(обратно)8
Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). – М.: 1990. С.17.
(обратно)9
Н. А. Бердяев. Самопознание. С. 82.
(обратно)10
См.: Lowrie, Donald A. Rebellious Prophet: A Life of Nicolai Berdyaev. – Harper & brothers: New-York, 1960. P. 15–26.
(обратно)11
Бердяева Л. Ю. Профессия: жена философа. (Сост., авт. предисл. и коммент. Е. В. Бронникова). – М.: Молодая гвардия, 2002. С. 104.
(обратно)12
Н. А. Бердяев. Самопознание. С. 26.
(обратно)13
Н. А. Бердяев. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). – М.: 1990. С. 20.
(обратно)14
Там же. С. 22.
(обратно)15
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 93.
(обратно)16
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 83.
(обратно)17
Бердяев Н. А. Марксизм и религия. // Христианство, атеизм и современность. № 9. – YMCA-Press: Paris-Warszawa, 1929. C. 3.
(обратно)18
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 37.
(обратно)19
Там же. С. 108.
(обратно)20
Там же. С. 109.
(обратно)21
См.: Рабочее движение в России 1895 – февраль 1917 г Хроника. Составители В. П. Желтова (отв. секретарь), Б. Ф. Додонов, Н. А. Иванова, С. В. Калмыков, И. П. Пушкарева, И. А. Хайновск. Вып 1, 1895 год. – М.: 1992.
(обратно)22
Бердяев Н. А. Смысл творчества // Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. С. 323.
(обратно)23
Соловьев В. С. Словесность или истина? // Полн. собр. соч. – СПб.: Просвещение, 1914. Т. 10. С. 29.
(обратно)24
См.: Синеокая Ю. Н. Рубеж веков: русская судьба Сверхчеловека Ницше. // Фридрих Ницше и философия в России (сборник статей). – СПб: Изд. Русского Христианского гуманитарного института, 1999.
(обратно)25
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 115.
(обратно)26
Струве П. Б. Предисловие к книге Н. А. Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии». // Н. А. Бердяев: Pro et contra. Антология. – СПб: 1994. С. 101.
(обратно)27
Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском. – СПб: 1901. С. 53.
(обратно)28
Философское миросозерцание Н. А. Бердяева. (Автоизложение). Публикация проф. А. П. Оболенского.// Записки Русской Академической группы в США. Том XXIX. – Нью-Йорк: 1998. С. 230–231.
(обратно)29
Н. А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. С. 107.
(обратно)30
Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. С. 70.
(обратно)31
Там же. С. 69.
(обратно)32
Там же. С. 114.
(обратно)33
Н. А. Бердяев: Pro et contra. С. 105–106.
(обратно)34
Письмо Н. А. Бердяева отцу, Вологда, 24 июня 1900. //Письма молодого Бердяева. Публикация Д. Барас. – Память. Исторический сборник. Вып. 4. – Париж: YMCA-Press, 1981. C. 216.
(обратно)35
Шестов Л. И. Похвала глупости. По поводу книги Николая Бердяева. // Н. А. Бердяев: pro et contra. С. 209.
(обратно)36
Так назвал книгу Бердяева В. Зеньковский в своей «Истории русской философии». (См.: Зеньковский В. История русской философии. Том П. 2-е изд. – Paris, YMCA-Press, 1989. С. 299.)
(обратно)37
Куда мы идем? Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусств. Сборник статей и ответов. – М.: Заря, 1910. С. 109–111.
(обратно)38
Осьминский Т. И., Озеринин М. В., Брусенский И. И. Очерки по истории края. – Вологда: 1960. С.215.
(обратно)39
Письмо Н. А. Бердяева отцу, Вологда, 24 июня 1900. //Письма молодого Бердяева. Публикация Д. Барас. – Память. Исторический сборник. Вып. 4. – Париж: YMCA-Press, 1981. C.213.
(обратно)40
Письмо Н. А. Бердяева отцу, Вологда, 30 июня 1900. //Письма молодого Бердяева. Публикация Д. Барас. – Память. Исторический сборник. Вып. 4. – Москва-Париж: YMCA-Press, 1981. С. 214.
(обратно)41
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 120.
(обратно)42
Бердяев H.A. Борьба за идеализм // Мир Божий. 1901. Июнь. С. 21.
(обратно)43
Ермолаев И. Е. Мои воспоминания. – Вологда: изд. Север, 1923, кн. ¾. С. 4.
(обратно)44
Ремизов А. Иверень. Загогулины моей памяти // ЦГАЛИ. Ф. 420. Oп. 5. Ед. хр. 17. Л. 101.
(обратно)45
Ильин И. А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин – Ремизов – Шмелев. – Мюнхен: 1959. С. 103.
(обратно)46
См.: Обатнина Е. Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2001. 384 с.
(обратно)47
По мужу – Тучапская В. Г.
(обратно)48
Друг детства, Николай Константинович Мукалов, похлопотать о котором Бердяев не раз просил своих родителей в письмах из ссылки, тоже был сослан на 3 года в Вологодскую губернию, в город Яренск. Благодаря заботам семьи Бердяевых он был переведен в Вологду в 1901 году и работал там по специальности – штурманом на пароходе.
(обратно)49
РЦХИДНИ, Ф. 259. Oп. 1, Д. 4. ЛЛ. 1–4. Автограф.
(обратно)50
См: Луначарский А. В. Неизданные материалы. – М.: 1970. СС.603-618.
(обратно)51
Там же. С. 118.
(обратно)52
Луначарский А. В. Из воспоминаний. – Вологда: Изд. «Север», 1923, кн. 2, с.1.
(обратно)53
Ленин В. И. Полное собр. соч., т.46. С.175
(обратно)54
Н. А. Бердяев. Самопознание. С. 118.
(обратно)55
Цит. по: Бронникова Е. В. Guarda e passa. (О Лидии Бердяевой и ее рукописном наследии). // Бердяева Л. Ю. Профессия: жена философа. Сост., авт. Предисл. И коммент. Е. В. Бронникова. – М.: Мол. гвардия, 2002. С. 13.
(обратно)56
Ф. А. Степун. Бывшее и несбывшееся. // Бердяев Н. А. pro et contra. С. 36.
(обратно)57
См.: Lowrie, Donald A. Rebellious Prophet: A Life of Nicolai Berdyaev. – Harper & brothers: New-York, 1960. P. 62.
(обратно)58
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 124–125.
(обратно)59
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 78.
(обратно)60
Проблемы идеализма. Сборник статей под ред. П. И. Новгородцева. – М.: Издание Московского психологического общества, 1902. С.VII.
(обратно)61
Проблемы идеализма. С.6.
(обратно)62
Там же. С.7.
(обратно)63
Там же. С.32.
(обратно)64
Там же. С. 22.
(обратно)65
Там же. С.
(обратно)66
Проблемы идеализма. С.
(обратно)67
См.: Йованович М. Русский модернизм сто лет назад (По следам хроники литературных и художественных событий 1902 года). // Русская мысль», Париж, N 4400, 14 марта 2002 г.
(обратно)68
Проблемы идеализма. Антология. – М.: Модест Колеров, Три квадрата, 2002. – 896 с.
(обратно)69
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 123.
(обратно)70
Луначарский А. В. Трагизм жизни и белая магия. // Бердяев: pro et contra. С. 120.
(обратно)71
Там же. С. 122.
(обратно)72
Луначарский А. В. Трагизм жизни и белая магия. // Бердяев: pro et contra. С. 133.
(обратно)73
Богданов А. А. Новое средневековье. // Бердяев: pro et contra. С. 145.
(обратно)74
Там же. С. 151.
(обратно)75
Там же. С. 151.
(обратно)76
«Очерки реалистического мировоззрения. Сборник статей по философии, общественной науке и жизни». – СПб.: изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, 1904. В сборнике, кроме А. А. Богданова, написавшего предисловие и две статьи (одна под псевдонимом Н. Корсак), приняли участие В. Базаров, С. Суворов, А. Луначарский, А. Финн-Енотаевский, П. Маслов, П. Румянцев, В. Фриче и др.
(обратно)77
ГАРФ. Ф. 102. 3-е делопроизводство. Оп. 96. Д. 736. Лл. 19–19 об., 74.
(обратно)78
См.: РГАЛИ. Фонд 420. Опись 1, ед. хр. 79. Автограф.
(обратно)79
Бунд – Всеобщий еврейский рабочий союз в Беларуси, Литве, Польше и России. Это была марксистская левая партия антисионистской ориентации, которая входила как относительно самостоятельное объединение в РСДРП (Российскую социал-демократическую рабочую партию) и ратовала за культурную автономию восточно-европейского еврейства, развитие культуры на языке идиш, нерелигиозное объединение евреев и т. п.
(обратно)80
См.: Либерман С. И. Построение России Ленина. – New-York: 1945.
(обратно)81
Цит. по: Вадимов А. Жизнь Бердяева: Россия. – Oakland, Calif., Berkley Slavic Specialities: 1993. P. 58.
(обратно)82
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 92–93.
(обратно)83
Г. Адамович. Зинаида Гиппиус. // Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. Мемуары. – М.: Республика, 1994. С. 126.
(обратно)84
Дневник С. П. Каблукова. Запись от 17 мая 1909 г. – ГПБ. Ф.322. Ед. хр. 4. Л. 162-163.
(обратно)85
См.: В. Злобин. Тяжелая душа. – Вашингтон: 1970.
(обратно)86
З. Н. Гиппиус. Дмитрий Мережковский. //Гиппиус З. Н. Живые лица. Воспоминания. – Тбилиси: Мерани, 1991. С. 184.
(обратно)87
Перцов П. П. Воспоминания о В. В. Розанове. //Ж. «Новый мир», 1998, № 10. С.
(обратно)88
Мережковский Д. С. Пророк русской революции. (К юбилею Достоевского). // Мережковский Д. С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. – М.: Советский писатель, 1991. С. 345.
(обратно)89
Перцов П. П. Воспоминания о В. В. Розанове. //Ж. «Новый мир», 1998, № 10. С.
(обратно)90
Зеньковский В. История русской философии. Т. II. – Париж: YMCA-Press, 1989. С. 293.
(обратно)91
Мережковский Д. С. Грядущий Хам.// Мережковский Д. С. Грядущий Хам. Чехов и Горький. – М.: изд. Пирожкова, 1906. С. 28.
(обратно)92
Белый А. Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кн. Кн.3. – М.: Худож. лит., 1990. С. 57, 66.
(обратно)93
Бердяев Н. А. Метафизика пола и любви.// Бердяев Н. А. Эрос и личность. Философия пола и любви. – М.: Изд. «Прометей», 1989. С. 21.
(обратно)94
Розанов В. В. Когда начальство ушло. – СПб.: 1910. С. 278.
(обратно)95
Бердяев Н. А. Метафизика пола и любви. // Бердяев Н. А. Эрос и личность. С. 18.
(обратно)96
Чулков Г. И. «Новый путь». // Чулков Г. И. Годы странствий. Из книги воспоминаний. – М.: изд. «Федерация», 1930. С. 59.
(обратно)97
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 130.
(обратно)98
Письмо Л. Ю. Трушевой Л. Н. Толстому. Цит. по: Бронникова Е. В. Guarda e passa. (О Лидии Бердяевой и ее рукописном наследии). // Бердяева Л. Ю. Профессия: жена философа. Сост., авт. предисл. и коммент. Е. В. Бронникова. – М.: Мол. гвардия, 2002. С. 6.
(обратно)99
Там же.
(обратно)100
Там же. С. 6–7.
(обратно)101
См.: Ольховик Н. Н. Книгоиздательство «В. И. Рапп и В. И. Потапов» в 1900-1904 гг. // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале ХХ века: Сб. науч. тр. Вып. 6. (Сост. И. И. Фролова; Ред.: О. Н. Ансберг, И. И. Фролова). – Л. (CПб.): 1992.
(обратно)102
Цит. по: Бронникова Е. В. Guarda e passa. (О Лидии Бердяевой и ее рукописном наследии). // Бердяева Л. Ю. Профессия: жена философа. Сост., авт. предисл. и коммент. Е. В. Бронникова. – М.: Мол. гвардия, 2002. С. 10.
(обратно)103
Письма молодого Бердяева. Публикация Д. Барас. //Память. Исторический сборник. Вып.4. – Москва-Париж: YMCA-Press, 1981.С. 221.
(обратно)104
Там же. С. 222.
(обратно)105
Там же. С. 224.
(обратно)106
Е. К. Герцык. Н. А. Бердяев.// Бердяев: pro et contra. С. 49.
(обратно)107
А. Белый. Центральная станция. // Там же. С. 57.
(обратно)108
Там же. С. 59.
(обратно)109
Письма молодого Бердяева. Публикация Д. Барас. //Память. Исторический сборник. Вып.4. – Москва-Париж: YMCA-Press, 1981. С. 238.
(обратно)110
Письма молодого Бердяева. Публикация Д. Барас. //Память. Исторический сборник. Вып.4. – Москва-Париж: YMCA-Press, 1981. С. 229.
(обратно)111
Там же. С. 239 – 240.
(обратно)112
Там же. С. 238.
(обратно)113
Там же. С. 237.
(обратно)114
Письма молодого Бердяева. Публикация Д. Барас. //Память. Исторический сборник. Вып.4. – Москва-Париж: YMCA-Press, 1981.С. 222.
(обратно)115
Там же. С. 240.
(обратно)116
Там же. С. 240.
(обратно)117
Там же. С. 241.
(обратно)118
См.: Lowrie, Donald A. Rebellious Propfet: A Life of Nicolai Berdyaev. – Harper & brothers: New-York, 1960. P. 73.
(обратно)119
Бердяева Л. Ю. Профессия: жена философа. Сост., авт. предисл. и коммент. Е. В. Бронникова. – М.: Мол. гвардия, 2002. С. 61.
(обратно)120
Бердяев Н. А. Эрос и личность. Философия пола и любви. – М.: Прометей, 1989. С. 23.
(обратно)121
Бердяева Л. Ю. Профессия: жена философа. Сост., авт. предисл. и коммент. Е. В. Бронникова. – М.: Мол. гвардия, 2002. С. 136.
(обратно)122
Зайцев Б. К. Бердяев. // Бердяев: pro et contra. С. 85.
(обратно)123
Гиппиус З. Н. Дмитрий Мережковский. // Бердяев: pro et contra. Сс. 32-33.
(обратно)124
Так назвал Мережковских в своих воспоминаниях Г. И. Чулков.
(обратно)125
Чулков Г. И. «Вопросы жизни».// Чулков Г. И. Годы странствий. – М.: 1930. С. 66.
(обратно)126
Белый А. Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кН. Кн. 3. – М.: Худож. лит., 1990. С. 59.
(обратно)127
Белый А. Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кН. Кн. 3. – М.: Худож. лит., 1990. С. 59.
(обратно)128
Там же. С. 60.
(обратно)129
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 132.
(обратно)130
Гиппиус З. Н. Дмитрий Мережковский. // Бердяев: pro et contra. С. 33.
(обратно)131
Чулков Г. И. Годы странствий. С. 62.
(обратно)132
Перцов П. П. Литературные воспоминания. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. С.
(обратно)133
Погорелова Б. «Скорпион» и «Весы». // Воспоминания о серебряном веке. (Сост. И автор предисл. И коммент. В. Крейд). – М.: Республика, 1993. С.315.
(обратно)134
Тыркова-Вильямс А. Тени минувшего. Встречи с писателями.// Воспоминания о серебряном веке. С. 327.
(обратно)135
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 133.
(обратно)136
См.: Вейдле В. Русская философия и русский «Серебряный век». // Русская религиозно-философская мысль ХХ века. Сб. Статей под ред. Н. П. Полторацкого. – Univer. Of Pittsburgh: Pittsburgh, 1975. P. 71.
(обратно)137
Гиппиус З. Н. Задумчивый странник. О Розанове. // Розанов В. В.: pro et contra. – СПб.: Издательство Русского Христианского Гуманитарного Института (РГХИ), 1995. Кн. 1. С. 3.
(обратно)138
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 138.
(обратно)139
РГБ (Архив Российской государственной библиотеки). Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 21об-23.
(обратно)140
Иванова Л. Вяч. Воспоминания: Книга об отце. – М.: 1992. С. 32.
(обратно)141
Добужинский М. Встречи с писателями и поэтами.// Воспоминания о серебряном веке. С. 356.
(обратно)142
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 144–145.
(обратно)143
Богомолов Н. Первый год «Башни». // Toronto Slavic Quarterly. 2008. University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies.
(обратно)144
Бердяев Н. А. «Ивановские среды». // Бердяев Н. А. Мутные лики. – М.: Канон, 2004. С. 126.
(обратно)145
Цит. по: Богомолов Н. Первый год «Башни». // Toronto Slavic Quarterly. 2008.
(обратно)146
Сабанеев Л. Л. Воспоминания о России. – М.:Классика-XXI, 2005. С. 137.
(обратно)147
Ходасевич В. Ф. О символизме. // Ходасевич В. Ф. Литературные статьи и воспоминания. – Нью-Йорк: изд. им. Чехова, 1954. С. 155–156.
(обратно)148
Кузмин М. Дневник 1905-1907./ Предисл., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000. С. 159–160.
(обратно)149
Кузмин М. А. Дневник 1905-1907. С. 155.
(обратно)150
Литературное наследство. – М.: 1976. Т. 92, кн. 3. С. 2.
(обратно)151
Белый А. Между двух революций. С. 174.
(обратно)152
Там же. С. 176.
(обратно)153
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 146.
(обратно)154
Добужинский М. Встречи с писателями и поэтами. // Воспоминания о серебряном веке. С. 356–357.
(обратно)155
Там же.
(обратно)156
Там же. С. 139–140.
(обратно)157
Бердяев Н. А. – Гиппиус З. Н. Петербург, 27 марта 1906 г. // Минувшее. Вып. 9. – М.: Феникс, 1992. (Репринт парижского издания «Atheneum», 1990 г.). С. 298.
(обратно)158
Там же. С. 298.
(обратно)159
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 133.
(обратно)160
Бердяев Н. А. – Гиппиус З. Н. Петербург, 2 июня 1906 г. // Минувшее. Вып. 9. – М.: Феникс, 1992. (Репринт парижского издания «Atheneum», 1990 г.). С. 302.
(обратно)161
Цит. по: Вадимов А. Жизнь Бердяева: Россия. – Oakland, Calif., Bercley Slavic Specialties, 1993. С. 90.
(обратно)162
Булгаков С. Н. Книга. № 10. 11 января 1907. С. 14–15.
(обратно)163
Шестов Л. И. Похвала глупости. По поводу книги Николая Бердяева ««Sub specie aeternitatis». // Бердяев: pro et contra. С. 200.
(обратно)164
Там же. С. 202.
(обратно)165
Там же. С. 200–201.
(обратно)166
В своем письме от 3-16 октября 1918 года Э. Ф. Голлербаху Бердяев указал, что «окончательно сделался христианином» в 1905 году. Тем не менее, анализ многих свидетельств знавших Бердяева людей, его собственных писем заставляет признать, то в этом письме Голлербаху он ошибся, указав более раннее время. // Письма Н. А. Бердяева к Э. Ф. Голлербаху. В кн.: Минувшее. Вып. 14. – М.: Феникс, Atheneum, 1993. С. 407.
(обратно)167
Бердяев Н. А. – Философову Д. В. 22 апреля 1907 г. // Минувшее. Вып. 9. – М.: Феникс, 1992. C. 307.
(обратно)168
Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность / Составление и комментарии В. В. Сапова. – М.: Канон+, 1999. С. 6.
(обратно)169
Там же. С. 287.
(обратно)170
Тареев М. М. Религия общественность. // Бердяев: pro et contra. С. 248.
(обратно)171
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 139.
(обратно)172
Религиозно-философское общество в Санкт-Петеребурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907-1917: В 3 т. Том 1. – М.: Русский путь, 2009. С. 45.
(обратно)173
Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907-1917: В 3 т. Том 1. – М.: Русский путь, 2009. С. 187.
(обратно)174
Там же. С. 189.
(обратно)175
Там же. С. 191.
(обратно)176
Там же. С. 200.
(обратно)177
С. К. Маковский. Портреты современников. – М.: 2000. С. 272–273.
(обратно)178
Розанов В. В. На чтениях г. Бердяева. // Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи».
(обратно)179
Розанов В. В. На чтениях г. Бердяева. // Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи». (Опубликовано по автографу, хранящемуся в ОР РГБ, фонд В. Я. Брюсова (386, к. 58, ед. хр. 28. лл. 1-2).
(обратно)180
См.: Серков А. И. Парижская ажанда Зинаиды Гиппиус. //Записки отдела рукописей РГБ. Вып. 51. – М.: 2000.
(обратно)181
Письма Н. Бердяева. Публикация В. Аллоя. //Минувшее. Вып. 9. – М.: Феникс, 1992. С. 320.
(обратно)182
Письма Н. Бердяева. Публикация В. Аллоя. //Минувшее. Вып. 9. – М.: Феникс, 1992. С. 318.
(обратно)183
Там же. С. 325.
(обратно)184
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т. Н. Жуковской, вст. статья М. В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 613.
(обратно)185
Цит. по: Религиозное сознание и революция: Мережковские и Савинков в 1911 году. Предисл. к публ. М. А. Колерова, К. Н. Морозова // Вопросы философии. 1994. N 10. С. 138–139.
(обратно)186
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 149.
(обратно)187
Цит. по: Мочульский К. В. А. Блок. А. Белый. В. Брюсов. – М.: Республика, 1997. С.298.
(обратно)188
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 125.
(обратно)189
Там же. С. 154–155.
(обратно)190
Н. А. Бердяев. Философская истина и интеллигентская правда.//Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. – М.: 1909. С. 2.
(обратно)191
Там же. С. 8.
(обратно)192
Там же. С. 7.
(обратно)193
Там же. С. 13.
(обратно)194
Там же. С. 49.
(обратно)195
Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции).// Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. 2-е изд. – М.: 1909. С. 25.
(обратно)196
М. О. Гершензон. Творческое самосознание.//Там же. С. 85.
(обратно)197
Бердяев Н. А. Самосознание. С. 216.
(обратно)198
Изгоев А. Об интеллигентной молодежи (Заметки об ее быте и настроениях).// Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. 2-е изд. – М.: 1909. С. 113–114.
(обратно)199
Б. А. Кистяковский. В защите права. (Интеллигенция и правосознание).//Там же. С.126.
(обратно)200
Там же. С. 143.
(обратно)201
Франк, С. Л. Умственный склад, личность и воззрения П. Б. Струве. // П. Б. Струве. Patriotica: политика, культура, религия, социализм. – М.: Республика, 1997. – С. 476.
(обратно)202
Струве П. Б. Скорее за дело! / Статьи. М: Библиотека «Огонек», 1991. № 38. С. 9.
(обратно)203
Франк С. Л. Этика нигилизма.//Там же. С. 183.
(обратно)204
Бердяев Н. А. Самопознание. С.
(обратно)205
См.: Д. С. Мережковский. Семь смиренных.// Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч. Т.XV. – М.: Т-во И. Д. Сытина, 1914.
(обратно)206
Цит. по: Коростылев Р. А., Ермишин О. Т. Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): Вехи истории, тематика заседаний, дискуссии. // Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907-1917: В 3 т. Том 1. – М.: Русский путь, 2009. С. 7.
(обратно)207
Герцык Е. К. Воспоминания. – Париж: YMCA-Press, 1973. С.120.
(обратно)208
Белый А. Между двух революций. С. 415.
(обратно)209
Белый А. Центральная станция. // Бердяев Н. А.: pro et contra. С. 62–63.
(обратно)210
Там же.
(обратно)211
Бердяев Н. А. Самопознание. С.170.
(обратно)212
Н. Бердяев и Л. Шестов. Переписка и воспоминания. // «Континент», Париж, 1981, № 30. С. 300.
(обратно)213
Там же. С. 303.
(обратно)214
Н. А. Бердяев. Самопознание. С. 176.
(обратно)215
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 163.
(обратно)216
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т. Н. Жуковской, вст. статья М. В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 572.
(обратно)217
Бердяев Н. А. Опыт философского оправдания христианства». // Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907-1917: В 3 т. Том 1. – М.: Русский путь, 2009. С. 499.
(обратно)218
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 229.
(обратно)219
См.: Бердяев Н. А. Самопознание. С. 182–183.
(обратно)220
Белый А. Между двух революций. С. 271.
(обратно)221
Там же. С. 279.
(обратно)222
Герцык Е. К. Воспоминания. С. 121.
(обратно)223
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 185.
(обратно)224
Герцык Е. К. Воспоминания. С. 123.
(обратно)225
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т. Н. Жуковской, вст. статья М. В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 191.
(обратно)226
Бердяев Н. А. Эрос и личность. Философия пола и любви. – М.: Прометей, 1989. С. 63.
(обратно)227
Там же. С. 45.
(обратно)228
Б. Н. Лосский, например, писал о Лидии Юдифовне: «.. Вспомню себя, пришедшим в 1935 г. на поклон к Вячеславу Иванову в Риме и его восхваление добродетели Л.Ю., доходившей, по его словам, до соблюдения девственности в супружеской жизни, на что я осмелился возразить, что Церковь благословляет христиан на монашескую или на подлинно брачную жизнь» (Б. Н. Лосский. Наша семья в пору лихолетия 1914-1922. // Минувшее. Вып. 12. – М., СПб.: Atheneum, Феникс, 1993. С. 163.)
(обратно)229
В окружении Бердяева, например, сказывалось влияние последовательницы антропософии Р. Штайнера – некой А. Р. Минцловой.
(обратно)230
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т. Н. Жуковской, вст. статья М. В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 514.
(обратно)231
Герцык Е. К. Воспоминания. С. 123.
(обратно)232
Цит. по: Вадимов А. Жизнь Бердяева: Россия. – Oakland, Calif.: Bercley Slavic Specialties, 1993. С. 119.
(обратно)233
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т. Н. Жуковской, вст. статья М. В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 514.
(обратно)234
Н. А. Бердяев. Вера и знание. // «Вопросы философии и психологии». М.: 1910. Кн. 162 (2). С. 216.
(обратно)235
Там же. С. 212.
(обратно)236
Там же. С. 232.
(обратно)237
Шестов Л. Умозрение и откровение. – Париж: 1964. С. 324–325.
(обратно)238
Шестов Л. Самоочевидные истины. – М.: 1917. С.23.
(обратно)239
Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. – Париж: YMCA-Press, 1939. С.20.
(обратно)240
Шестов Л. Соч. в 2 т., т.1. – М.: 1993. С.448.
(обратно)241
Там же. С.451.
(обратно)242
Бердяев Н. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация. – Париж: 1947. С.97.
(обратно)243
Цит. по: Вадимов А. Жизнь Бердяева: Россия. – Oakland, Calif.: Bercley Slavic Specialties, 1993. С. 131.
(обратно)244
Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. // Бердяев Н. А. Константин Леонтьев: Очерки из истории русской религиозной мысли. Алексей Степанович Хомяков. – М.: АСТ Москва: Хранитель, 2007. С. 229.
(обратно)245
Бердяев Н. А. Письма к М. О. Гершензону. (Публ. Колерова М. А.) // Вопросы философии, 1992, № 5 – С. 124.
(обратно)246
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. – Т. 5. Т. 5. – М.: 1902. С. 531.
(обратно)247
Интересно, что Хомяков считал славянский мир наследником и восточной культуры (прежде всего, китайской и индийской).
(обратно)248
Взыскующие града. Хроника русской религиозно-философской и общественной жизни первой четверти ХХ века в письах и дневниках современников. (Вст. статья, публ. и коммент. В. И. Кейдана). – Москва: Школа «Языки русской культуры», 1997. С. 461–462.
(обратно)249
Герцык Е. К. Воспоминания. С. 125.
(обратно)250
Н. Бердяев и Л. Шестов. Переписка и воспоминания. Публикация Н. Барановой-Шестовой. // «Континент», Париж: 1981. № 30. С. 310.
(обратно)251
Теодицея – «оправдание Бога». Практически каждый верующий человек встает перед вопросом: почему в мире умирают невинные дети? Как могут существовать на свете пытки? Почему страдают добрые люди и процветают злые? Как могут продолжаться войны? В конечном счете, эти и бесконечно множество других подобных вопросов сводятся к одному: почему всемогущий и всеблагой Бог допустил в мир зло? Различные мыслители по-разному отвечали на этот вопрос, строили свои собственные теодицеи. Не стал исключением и Бердяев.
(обратно)252
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 164.
(обратно)253
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 161.
(обратно)254
В. В. Зеньковский дает иное деление философской эволюции Бердяева, выделяя четыре периода: этический, религиозно-мистический, историософский и персоналистический. Такое деление не противоречит приведенному выше, так как Зеньковский исходит из другого основания деления, – критерием у него являются не основания миросозерцания Бердяева, а различные аспекты его философии, которым он уделял преимущественное внимание в различные периоды своего творчества.
(обратно)255
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 125.
(обратно)256
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 126.
(обратно)257
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 127.
(обратно)258
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 128.
(обратно)259
Бердяве Н.А. Самопознание. С. 312.
(обратно)260
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 126.
(обратно)261
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т.Н.Жуковской, вст. статья М.В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 603.
(обратно)262
См.: Степун Ф.А. Рецензия на книгу: Н. Бердяев. А.С. Хомяков // Логос 1911-1912, кн. 2-3. – С. 282–284.
(обратно)263
Жуковская Т.Н. Комментарии. // Жур. «Наше наследие». – М.: 1989, N11(8). С.75.
(обратно)264
(обратно)265
«Он думает, что эта дама является второй мадам графиней Бобринской, или просто-напросто женщиной деспотичной и капризной. Она не желает создавать религиозную православную школу, иметь дело с Церковью, по ее замыслу это школа…» (франц.)
(обратно)266
В. Флоренский, Т.А. Шутова. П. Флоренский, А. Ельчанинов. На пути создания православной педагогики. (Вступительная статья к юношеской переписке о. П. Флоренского. По архивам П. Флоренского.) – Новый Журнал. Литературно-художественный журнал русского Зарубежья. – Нью-Йорк, 2005, № 241.
(обратно)267
Жуковская Т.Н. Комментарии. // Жур. «Наше наследие». – М.: 1989, N11(8). С.75 или: ОР. Ф.171, Карт.3, ед. хр.4. – Л.17.
(обратно)268
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 130.
(обратно)269
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т.Н.Жуковской, вст. статья М.В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 605.
(обратно)270
Тургенева А. Андрей Белый и Рудольф Штайнер. // Воспоминания о серебряном веке. С. 206.
(обратно)271
См.: Кузмин М.А. Дневник 1908-1915. Подгот. Текста и коммент. Н.А. Богомолова и С.В. Шумихина. – СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. С. 578.
(обратно)272
Цит. по: Вадимов А. Жизнь Бердяева: Россия. – Oakland, Calif.: Bercley Slavic Specialties, 1993. С. 146.
(обратно)273
Тургенева А. Андрей Белый и Рудольф Штайнер. // Воспоминания о серебряном веке. С. 212.
(обратно)274
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 131.
(обратно)275
Лидия Иванова. Воспоминания. // Н.А. Бердяев: pro et contra. С. 67.
(обратно)276
Линевская Дарья. Футуризм в критике Николая Бердяева. // Coll. Transactions of the association of Russian-American scholars in the USA. Vol. XXXV. Special issue. From Gogol to Victory over the sun. Trajectories of the Russian avant-garde. – New York: 2008-2009. P. 373.
(обратно)277
Бердяев Н.А. Пикассо. // Литературный современник. – Мюнхен: 1954. С. 236.
(обратно)278
Там же. С. 238.
(обратно)279
Письма Н.А.Бердяева к Э.Ф.Голлербаху. // Минувшее. Вып. 14. – М.: Феникс, Atheneum, 1993. С.410.
(обратно)280
Бердяев Н.А. Смысл творчества. // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. С. 306.
(обратно)281
Л.И.Шестов. Николай Бердяев.//Н.А.Бердяев: pro et contra. C. 421.
(обратно)282
Бердяев Н.А. Смысл творчества. // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. С. 312.
(обратно)283
Бердяев Н.А. Смысл творчества. С. 296.
(обратно)284
Бердяев Н. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация. – Париж: YMCA-Press, 1947. С.97.
(обратно)285
Бердяев Н. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация. С.137.
(обратно)286
Там же. С. 126.
(обратно)287
Бердяев Н.А. Смысл творчества. С. 327.
(обратно)288
Там же. С. 328.
(обратно)289
Герцык Е.К. Воспоминания. – Париж: YMCA-Press, 1973. С. 135.
(обратно)290
Бердяев Н.А. Смысл творчества. С. 519.
(обратно)291
Н.А.Бердяев. Самопознание. С. 282.
(обратно)292
Сублимация (от нем. sublimirung) – термин, введенный в научный оборот З.Фрейдом и означающий переключение природной энергии человека на социальные цели и задачи.
(обратно)293
Бердяев Н.А. Смысл творчества. С. 530.
(обратно)294
Там же. С. 532.
(обратно)295
Розанов В.В.Новая религиозно-философская концепция Николая Бердяева.//Н.А.Бердяев: pro et contra. С. 322.
(обратно)296
Розанов В.В. «Святость» и «гений» в историческом творчестве.//Н.А.Бердяев: pro et contra. С. 328.
(обратно)297
Зеньковский В.В. Проблема творчества. //Н.А.Бердяев: pro et contra. С. 356.
(обратно)298
Зеньковский В.В. Проблема творчества. //Н.А.Бердяев: pro et contra. С. 363.
(обратно)299
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 192.
(обратно)300
Зеньковский В.В. Проблема творчества. //Н.А.Бердяев: pro et contra. С. 366.
(обратно)301
Иванов В.И. Старая или новая вера? //Н.А.Бердяев: pro et contra. С. 372.
(обратно)302
Масси Р.К. На защиту Святой Руси // Николай и Александра. – М.: 1996. С. 311.
(обратно)303
Бердяев Н.А. Судьба России. // Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России. – М.: Сварог, 1997. С. 227.
(обратно)304
Там же.
(обратно)305
Бердяев Н.А. Судьба России. // Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России. – М.: Сварог, 1997. С. 223.
(обратно)306
П. Флоренский находился на санитарном поезде недолго, – 2 месяца, одну поездку. Но лишь только потому, что повторную поездку ему запретил («примите мой совет, как послушание») его духовник владыка Антоний (Флоренсов).
(обратно)307
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 133.
(обратно)308
Булгаков С.Н.Русские души //Русские философы о войне. – М.: 2005. С. 312.
(обратно)309
Франк С.Л. О поисках смысла войны //Русские философы о войне. – М.: 2005. С.403.
(обратно)310
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т.Н.Жуковской, вст. статья М.В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 539.
(обратно)311
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 132–133.
(обратно)312
Н.Бердяев. Судьба России. //Н.А.Бердяев. Русская идея. Судьба России. – М.: «Сварог и К», 1997. С. 226–227.
(обратно)313
Там же. С. 227.
(обратно)314
Н.Бердяев. Судьба России. //Н.А.Бердяев. Русская идея. Судьба России. – М.: «Сварог и К», 1997. С. 228, 231.
(обратно)315
Там же. С. 232, 233.
(обратно)316
Там же. С. 243.
(обратно)317
Герцык Е.К. Воспоминания. – Париж: YMCA-Press, 1973. С. 117.
(обратно)318
Письма Н.А.Бердяева к Э.Ф.Голлербаху. В кн.: Минувшее. Вып. 14. М.: Феникс, Atheneum, 1993. С. 410.
(обратно)319
Герцык Е.К. Воспоминания. – Париж: YMCA-Press, 1973. С. 110.
(обратно)320
Там же. С. 111.
(обратно)321
Там же. С. 145.
(обратно)322
Там же. С. 161.
(обратно)323
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т.Н.Жуковской, вст. статья М.В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 241.
(обратно)324
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 212.
(обратно)325
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т.Н.Жуковской, вст. статья М.В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 259.
(обратно)326
Временный Совет Российской республики – Предпарламент, представительный орган Всероссийского демократического совещания, в который Бердяев попал как «общественный деятель».
(обратно)327
Русская свобода. 1917. №№ 24-25. С.5.
(обратно)328
Из глубины. Сборник статей о русской революции. – M.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 19.
(обратно)329
Бердяев Н.А. Духовные основы русского народа.// Народоправство, 1918, № 23-24. С. 61.
(обратно)330
Бердяев Н.А. Духи русской революции. //Из глубины. Сборник статей о русской революции. – M.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 55–56.
(обратно)331
А.Белый. Символизм как миропонимание. – М.: 1994. С. 301.
(обратно)332
Бердяев Н.А. Духи русской революции. //Там же. С.55.
(обратно)333
Н.А.Бердяев. Духи русской революции.// Там же. С. 57.
(обратно)334
Н.А.Бердяев. Духи русской революции.// Там же С. 57.
(обратно)335
Н.А.Бердяев. Духи русской революции.// Там же. С. 60.
(обратно)336
Там же. С. 69.
(обратно)337
Там же. С. 80–81.
(обратно)338
Там же. С. 89.
(обратно)339
Письма Н.А.Бердяева к Э.Ф.Голлербаху. // Минувшее. Вып. 14. – М.: Феникс, Atheneum, 1993. С. 410.
(обратно)340
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 173.
(обратно)341
Там же. С. 408.
(обратно)342
Там же. С. 407.
(обратно)343
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 214.
(обратно)344
Блок А.А. Записные книжки: 1901–1920. М.: Худ. лит-ра, 1965. С. 415–416.
(обратно)345
Гиппиус З.Н. Веселье. – З.Гиппиус. Живые лица. Стихи и дневники. – Тбилиси: Мерани, 1991. С. 149.
(обратно)346
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 211.
(обратно)347
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 217.
(обратно)348
Осоргин М.А. Времена. – Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 1992. С. 580.
(обратно)349
Два выпуска «Скифов» вышли в 1917 и 1918 годах. Авторы выступали за революционность духа, борьбу с обывательством и мещанством, провозглашали всемирную роль России в объединении Востока и Запада.
(обратно)350
Н.Бердяев. Философия неравенства.//Н.А.Бердяев. Собр. соч., т. 4. – Paris: YMCA-Press, 1990. С. 309.
(обратно)351
Там же. С. 301.
(обратно)352
Там же. С. 393.
(обратно)353
Осоргин М.А. Книжная Лавка Писателей. // Наше Наследие, 1988, № 6. С. 124–125.
(обратно)354
Осоргин М.А. Времена. – Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 1992. С. 574.
(обратно)355
Осоргин М.А. Книжная Лавка Писателей. // Наше Наследие, 1988, № 6. С. 128–129.
(обратно)356
См.: Сережников В. 10 лет работы первой русской школы живого слова. 1913–1923. – М.: 1923.
(обратно)357
Сабанеев Л.Л. Мои встречи. «Декаденты». // Воспоминания о серебряном веке. С. 349–350.
(обратно)358
Е. Герцык. Воспоминания. С.138.
(обратно)359
Осоргин М.А. Как мы торговали. // Наше Наследие, 1989, № 6. С.132.
(обратно)360
Цит. по: Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура: «под колпаком» у власти.// Вопросы истории естествознания и техники. – М.: 1994. № 2. С. 71–72.
(обратно)361
Н.А.Бердяев. Самопознание. С. 214.
(обратно)362
Н.А.Бердяев. Самопознание. С. 224.
(обратно)363
Бердяев был знаком с Каменевым и даже обращался к нему несколько раз с просьбами помочь разным писателям, причем отмечал, что Каменев относился к таким просьбам внимательно и по мере сил пытался облегчить положение людей, за которых Николай Александрович ходатайствовал.
(обратно)364
Там же. С. 223.
(обратно)365
Осоргин М.А. Времена. – Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 1991ё. С. 593.
(обратно)366
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т.Н.Жуковской, вст. статья М.В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 261.
(обратно)367
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 139.
(обратно)368
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 140.
(обратно)369
Письмо В.И. Ленина Ф.Э. Дзержинскому. 19 мая 1922 г. РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д.23211. Л.2-2об. Автограф.
(обратно)370
К.И.Чуковский. Дневник (1918-1923). – «Новый мир», 1990, № 7. С. 161.
(обратно)371
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Фонд 17, оп. 3, д. 296, л.6.
(обратно)372
См.: Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура: «под колпаком» у власти.// Вопросы истории естествознания и техники. М.: 1994. № 2. С. 72.
(обратно)373
См.: Волкогонов Д.А. Ленин. – М.:Новости, 1994. С. 179–183.
(обратно)374
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1338. Л. 1.
(обратно)375
РГАСПИ. Ф. 2, оп. 2, д. 1245, л. 2.
(обратно)376
Архив Президента Российской Федерации (АПРФ). Ф.3, оп. 58, д. 175, л. 37-56.
(обратно)377
Victor Serge. Memoirs d’un Revolutionnare. 1901-9141. Paris: 1951.P.166.
(обратно)378
Например, Ф. Степун, на вопрос анкеты ГПУ «Как вы относитесь к эмиграции?» ответил: «что касается эмиграции, то я против нее: не надо быть врагом, чтобы не покидать постели своей больной матери. Оставаться у этой постели – естественный долг всякого сына. Если бы я был за эмиграцию, то меня уже давно не было бы в России».
(обратно)379
М.Раев. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919-1939. – М.: 1994. С.43.
(обратно)380
Цит. по: Виталий Шенталинский. Философский пароход. //Библиотека «Вехи».
(обратно)381
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 225.
(обратно)382
Степун Ф.Бывшее и несбывшеесяю – СПб: изд. «Алетейя», 1994. С. 621.
(обратно)383
Осоргин М. Заметки старого книгоеда. Воспоминания. (Сост., примеч. О.Ю. Авдеевой). – М.: НПК «ИНТЕЛВАК», 2007. С.615.
(обратно)384
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 140.
(обратно)385
См.: Lowrie, Donald A. Rebellious Propfet: A Life of Nicolai Berdyaev. – Harper & brothers: New-York, 1960. P. 158.
(обратно)386
Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. – СПб.: Алетейя, 1994. С. 622.
(обратно)387
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 227.
(обратно)388
Осоргин М.А. Как нас уехали. // Осоргин М.А. Заметки старого книгоеда. Воспоминания… С. 621.
(обратно)389
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 192.
(обратно)390
Б.Н.Лосский. Наша семья в пору лихолетия 1914-1922. // Минувшее. Вып. 12. М.; СПб., Atheneum, Феникс, 1993. С. 129.
(обратно)391
Там же.
(обратно)392
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 230.
(обратно)393
Осоргин М.А. Тем же морем. // Осоргин М.А. Заметки старого книгоеда. Воспоминания. С. 629.
(обратно)394
Рещикова В.А. Высылка из РСФСР // Минувшее. Вып. 11. М.; СПб.: Atheneum, Феникс, 1992. С. 206.
(обратно)395
П.Е.Ковалевский. Исторический путь России. Синтез русской истории с новейшими данными науки. 5-е изд. – Париж, 1949. С. 89.
(обратно)396
С.М.Лифарь. Русский балет в России, на Западе и в Зарубежье. // «Возрождение», Париж, № 205.
(обратно)397
Большую помощь в размещении и трудоустройстве эмигрантов оказал созданный в феврале 1921 г. при Совете Лиги Наций особый комиссариат по делам русских беженцев, возглавил который Фритьоф Нансен. Кроме Чехословакии, Югославии и Болгарии, желание принять определенное количество русских беженцев высказали правительства Перу, Мадагаскара, Бразилии, Аргентины, но большинство русских предпочитало оставаться в Европе.
(обратно)398
Генерал А.И.Деникин в своих «Очерках русской смуты» написал, что заслуги Сербии в деле помощи русским эмигрантам «особенно велики и незабываемы». (А.И.Деникин. Очерки русской смуты. – Берлин: 1926. Т.5. С.311).
(обратно)399
Например, Н. Трубецкой, Г. Флоровский и другие.
(обратно)400
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 5809, оп.1, д. 44, л.128.
(обратно)401
Шлегель К. Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1918-1945). Пер. с нем. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 152–153.
(обратно)402
Шлегель К. Берлин, Восточный вокзал. С. 138.
(обратно)403
См.: Культура России: смысл, символы, ценности. – Томск: изд. Томского университета, 1996. С.160.
(обратно)404
В примечаниях к книге историка русской эмиграции М. Раева приведены таблицы, показывающие распределение неассимилированных русских беженцев в Европе и на Ближнем Востоке с 1922 по 1937 гг. (См.: М. Раев. Россия за рубежом. – М.: 1994. С. 261–262).
(обратно)405
Рещикова В.А. Высылка из РСФСР // Минувшее. Вып. 11. М.; СПб.: Atheneum, Феникс, 1992. С. 207.
(обратно)406
Сестры Герцык. Письма. С. 653–654.
(обратно)407
Б.Н.Лосский. Наша семья в пору лихолетия 1914-1922. // Минувшее. Вып. 12. – М., СПб.: Atheneum, Феникс, 1993. С. 145–146.
(обратно)408
Бердяев Н.А. Конец Ренессанса (к современному кризису культуры). // София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии. – Берлин: Обелиск, 1923. С. 22.
(обратно)409
Бердяев Н.А. Сампознание. С. 193.
(обратно)410
Бердяев Н.А. «Живая Церковь» и религиозное возрождение России. // София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии. – Берлин: Обелиск, 1923. С. 125.
(обратно)411
Письмо Г. П. Струве П. Б. Струве от 16 октября 1922 года; Берлин-Прага. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5912. Оп. 1 Ед. хр. 112. Л. 37.
(обратно)412
Письмо Н.А.Бердяева к П.Б.Струве. ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.137. Л.123-125. (публикация М. Колерова )
(обратно)413
См.: Франк С. Л. Биография П.Б. Струве. – Нью-Йорк, 1956. С. 131–132.
(обратно)414
Бердяев Н.А. «Живая Церковь» и религиозное возрождение России. // София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии. – Бердин: Обелиск, 1923. С. 126.
(обратно)415
Письмо Г.П. Струве к Н.А. Струве. ГАРФ. Фонд 5912. Оп. 2. Ед. хр. 89. Л. 92-93.
(обратно)416
См.: Винник А.В. Германские власти и русский Берлин в 1920-е гг.// Русский Берлин: 1920-1945. – М.: Русский путь, 2006. С. 366.
(обратно)417
В 1921 г. в Пекине состоялся съезд Всемирной Христианской Студенческай Федерации, где принципиально был решен вопрос о возможности создания русской ветви организации.
(обратно)418
См.: Братство Святой Софии: Материалы и документы. 1923-1939 / Сост. Н.А. Струве. – М.; Париж: Русский путь; YMCA-Press, 2000.
(обратно)419
Зеньковский В., прот. О Братстве Святой Софии // Братство Святой Софии: Материалы и документы. 1923-1939 / Сост. Н.А. Струве; Подгот. Текста и примеч. Н.А. Струве, Т.В. Емельяновой. М.: Русский путь; Париж: YMCA-PRESS, 2000. С. 6.
(обратно)420
Сестры Герцык. Письма. С. 656.
(обратно)421
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 235.
(обратно)422
Н.А.Бердяев. Миросозерцание Достоевского. – М.: АВИАР, 1993. С. 19–20.
(обратно)423
Там же. С. 16.
(обратно)424
Там же. С. 72.
(обратно)425
Н.Бердяев. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. – Париж: YMCA-Press, 1969. С. 55.
(обратно)426
Там же. С. 71.
(обратно)427
Философское миросозерцание Н.А.Бердяева. (Автоизложение). Публикация проф. А.П.Оболенского.//Записки Русской Академической группы в США. Том ХХIХ. – Нью-Йорк: 1998. С. 7.
(обратно)428
Н.А.Бердяев. Смысл истории. С. 229.
(обратно)429
Там же. С. 237.
(обратно)430
Н.А.Бердяев. Выдержки из писем к г-же Х.// «Новый журнал», Нью-Йорк: 1946, № 36. С. 192.
(обратно)431
Там же. С. 178.
(обратно)432
Н.А.Бердяев. Смысл истории. – М.: 1990. С. 170.
(обратно)433
Н.А.Бердяев. Выдержки из писем к г-же Х.// «Новый журнал», Нью-Йорк: 1946, № 36. С. 213.
(обратно)434
Н.А.Бердяев. Смысл истории. С. 216.
(обратно)435
Н.Бердяев. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы. – Берлин: Обелиск, 1924. С. 55.
(обратно)436
Там же. С. 19.
(обратно)437
Сакральный (от лат. sacrum – священный) – наделенный священным, высшим религиозным содержанием.
(обратно)438
Секулярный (от лат. saecularis – мирской) – светский, освобожденный от церковного и религиозного влияния. (прим. О.В.)
(обратно)439
Н.Бердяев. Новое средневековье. С. 19–20.
(обратно)440
Левицкий С.А. Очерки по истории русской философской и общественно мысли. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1981. С. 120–121.
(обратно)441
В. Набоков. Собрание сочинений. В 4-х тт. М.: 1990. Т. 2. С. 310.
(обратно)442
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 235.
(обратно)443
Бердяев Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 142.
(обратно)444
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 115.
(обратно)445
Там же. С. 115.
(обратно)446
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 246.
(обратно)447
Marcade, Jean-Claude. Penetration of Russian Thought into Frencj Milieu: N.A. Berdiaev and L.I. Shestov. // Русская религиозно-философская мысль ХХ века. (Сб. под ред. Н.П. Полторацкого). -Univ. оf Pittsburgh: Pittsburgh: 1975. P. 153.
(обратно)448
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т.Н.Жуковской, вст. статья М.В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 656.
(обратно)449
Там же. С. 656.
(обратно)450
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 181.
(обратно)451
Сестры Герцык. Письма. С. 658.
(обратно)452
Карташев А.В., Струве Н.А. 70 лет Издательства «YMCA-Press». 1920-1990. – Париж: YMCA-Press, 1990. С. 12.
(обратно)453
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 239.
(обратно)454
Белый А. Между двух революций. С. 279.
(обратно)455
Герцык Е.К. Воспоминания. С. 154.
(обратно)456
Там же. С. 154.
(обратно)457
Ильин И.А. О русском национализме. //Ильин И.А. О грядущей России. Избранные статьи. – М.: Воениздат, 1993. С. 267.
(обратно)458
См.: И.Ильин. О русском фашизме. // Русский колокол, 1928, № 3.
(обратно)459
Ильин И.А… О русском фашизме. //Русский колокол, 1928, № 3. С. 60.
(обратно)460
Геруа А. Мировой кризис. // Сб. Путь к победе. – Белград: изд. Союза Младороссов, 1934. С. 5–6.
(обратно)461
Райх В. Психология масс и фашизм. – С.-Пб, М.: Университетская книга, 1997. С. 85.
(обратно)462
Ильин И.А. О фашизме. // И.А.Ильин. О грядущей России. Избранные статьи. – М.: Воениздат, 1993. С. 68.
(обратно)463
Ильн И.А. Кошмар Н.А. Бердяева. Необходимая оборона // Бердяев: pro et contra. С. 412.
(обратно)464
Ремизов А. Учитель музыки //Лепта. – 1992, N 3. С. 5
(обратно)465
Сестры Герцык. Письма. (Составл. и коммент. Т.Н.Жуковской, вст. статья М.В. Михайловой). – СПб: ИНАПРЕСС, 2002. С. 660.
(обратно)466
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. (Сост., авт. предисл. и коммент. Е.В. Бронникова). – М.: Молодая гваридия, 2002. С. 27.
(обратно)467
Говорят, что Карл Барт, присутствовавший на лекции Бердяева в Бонне, спросил его в конце: «Откуда Вы это знаете?» В этом вопросе видна разница позиций двух религиозных философов: если Карл Барт целиком и полностью опирался на Библию, то Бердяев выходил в своих построениях далеко за пределы ее текстов, опираясь на интуицию.
(обратно)468
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 234.
(обратно)469
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 248.
(обратно)470
Там же.
(обратно)471
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 249.
(обратно)472
Там же. С. 245.
(обратно)473
Берберова Н. «Курсив мой». – «Russica Publishers, INC»: Нью-Йорк, 1983. Т. I. С. 265.
(обратно)474
Le Studio franco-russe 1929-1931. Textes réunis et présentés par L. Livak. – Toronto: 2005.
(обратно)475
Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994. С. 14.
(обратно)476
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 44.
(обратно)477
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 27.
(обратно)478
См.: Lowrie, Donald A. Rebellious Propfet: A Life of Nicolai Berdyaev. – Harper & brothers: New-York, 1960. P. 171.
(обратно)479
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 32.
(обратно)480
Бердяев Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 73.
(обратно)481
См.: Klaus Bambauer. Personal Reminiscences by Pierre Pascal of N. Berdjajew.
(обратно)482
Berdiaev – l’homme, Colloque Berdiaev, 12 april 1975// Bulletin de l’Association Nicolas Berdiaev, # 5, 1978, pp.17-18. (Цит. по: Н.Бердяев и Л.Шестов. Переписка и воспоминания. Публикация Н.Барановой-Шестовой.// «Континент», Париж, 1981, № 30. С. 308.)
(обратно)483
Н.А.Бердяев. Выдержки из писем к г-же Х.// «Новый журнал». – Нью-Йорк: 1946, № 36. С. 190.
(обратно)484
Там же. С. 192.
(обратно)485
Иером. Иоанн (Шаховской). О назначении человека и путях философа. // Бердяев Н.А.: pro et contra. С. 450.
(обратно)486
Иером. Иоанн (Шаховской). О назначении человека и путях философа. // Бердяев Н.А.: pro et contra. С. 464.
(обратно)487
Н. Бердяев. Письма И.П. Романовой. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. C. 218.
(обратно)488
Н. Бердяев. Письма И.П. Романовой. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. C. 220.
(обратно)489
Lowrie, Donald A. Rebellious Propfet: A Life of Nicolai Berdyaev. – Harper & brothers: New-York, 1960. P. 209–210.
(обратно)490
Н. Бердяев. Письма И.П. Романовой. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. C. 222.
(обратно)491
Там же.
(обратно)492
Там же. C. 227.
(обратно)493
Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994. С. 318.
(обратно)494
Н.А.Бердяев. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. – Париж, YMCA-Press, 1934. С. 40–41.
(обратно)495
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 33.
(обратно)496
Там же. С. 28.
(обратно)497
Там же. С. 60.
(обратно)498
Яновский В.С. Поля Елисейские Книга памяти. – СПб.: 1993. С. 146.
(обратно)499
Там же. С. 148.
(обратно)500
Там же. С. 149.
(обратно)501
В.Н.Ильин. Письма Н.А.Бердяеву. (Публикация Владимира Безносова и Е.В.Бронниковой. Комментарии Е.В.Бронниковой.) // Звезда, № 3, 1997.
(обратно)502
Псевдоним Марии Каллаш.
(обратно)503
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 83.
(обратно)504
Когда Бердяев написал в «Самопознании», что «из русских был обыкновенно я один, а в прежние годы Д. Святополк-Мирский» (Бердяев Н.А. Самопознание. С.255), он или забыл, или покривил душой: Николай Александрович не мог не знать о том, что Шестов тоже там бывал.
(обратно)505
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 242.
(обратно)506
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 251.
(обратно)507
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 252.
(обратно)508
Зеньковский В.В. История русской философии. Т.II. 2-е изд. – Париж: YMCA-Press, 1989. С.309.
(обратно)509
Л.И. Шестов рассматривал историю человеческой культуры через призму противопоставления рационального, принуждающего познания и свободной веры: у культуры два пути – путь Афин и путь Иерусалима. Афины были символом поклонения рациональным истинам, а Иерусалим – «эмблемой» сферы религиозного откровения.
(обратно)510
Цит. по: Баранова-Шестова Н.Л. Жизнь Шестова. Т.2. – Париж: 1983. С. 192.
(обратно)511
Цит. по: Баранова-Шестова Н.Л. Жизнь Шестова. Т.2. – Париж: 1983. С. 187.
(обратно)512
Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. С. 107.
(обратно)513
Там же. С. 108.
(обратно)514
Там же. С. 113.
(обратно)515
Та же. С. 114.
(обратно)516
Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 118.
(обратно)517
Н.А.Бердяев. Новое средневековье. С. 86–87.
(обратно)518
Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 129.
(обратно)519
Н.А.Бердяев. Самопознание. С. 226.
(обратно)520
Н.А.Бердяев. Новое средневековье. С. 123.
(обратно)521
Н.А.Бердяев. Самопознание. С. 87.
(обратно)522
Дж. Оруэлл. Литература и тоталитаризм.// Дж. Оруэлл. «1984» и эссе разных лет. – М.: Прогресс, 1989. С.245.
(обратно)523
Варшавский В.С. Незамеченное поколение. – М.: 1992. С. 45
(обратно)524
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 180.
(обратно)525
Н.А.Бердяев. Самопознание. С. 228.
(обратно)526
22 августа Лидия Юдифовна записала в своем дневнике: «Гитлер заключил пакт о ненападении с СССР! Мое давнишнее предчувствие сбывается, и Россия покрывает себя несмываемым пятном позора. Когда я иногда говорила, что это случится, Ни страшно возмущался, а теперь?» (Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 184).
(обратно)527
Н. Бердяев. Письма И.П. Романовой. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. C. 242
(обратно)528
Этатизм (от франц. etat – государство) – усиление роли государства во всех сферах общественной жизни.
(обратно)529
Н.А.Бердяев. О рабстве и свободе человека. – Париж: YMCA-Press, 1939. С. 169.
(обратно)530
Философское миросозерцание Н.А.Бердяева. Автоизложение. Публикация проф. А.П. Оболенского. // Записки Русской Академической группы в США. Том XXIX. – Нью-Йорк: 1998. С. 9.
(обратно)531
Н.А.Бердяев. Философия неравенства.// Н.А.Бердяев. Собр. соч. Т.4. – Париж: 1990. С. 468.
(обратно)532
НА.Бердяев. Смысл творчества.// Н.А.Бердяев. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: 1989. С. 360–361.
(обратно)533
Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. С. 125.
(обратно)534
Там же.
(обратно)535
Н.А.Бердяев. Судьба России. С. 459.
(обратно)536
Kline, George L. Religious and Anti-religious Thought in Russia. – Chicago & London: The University of Chicago Press. P. 93–102.
(обратно)537
Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 126.
(обратно)538
Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 152.
(обратно)539
Н.А.Бердяев. Новое средневековье. С. 49.
(обратно)540
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 185.
(обратно)541
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 186.
(обратно)542
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 193.
(обратно)543
Берберова Н.Н. Рассказы в изгнании. – М.: Изд. им. Сабашниковых, 1994. С. 182–183.
(обратно)544
Н. Бердяев. Письма И.П. Романовой. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. С.
(обратно)545
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 157.
(обратно)546
Н. Бердяев. Письма И.П. Романовой. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. – М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. С. 243.
(обратно)547
Н. Бердяев. Письма И.П. Романовой. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. – М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. С. 245.
(обратно)548
Н. Бердяев. Письма И.П. Романовой. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. – М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. С. 247.
(обратно)549
Ю.Терапиано. Д.С.Мережковский. // Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. Мемуары. – М.: Республика, 1994. С. 473.
(обратно)550
Мережковский Д.С. Большевизм и человечество. Посмертная статья Д.С.Мережковского. // «Независимая газета». – М.: 23 июля 1993 г. С. 5.
(обратно)551
Там же.
(обратно)552
См.: Ю.С. Цурганов. Русская эмиграция и Вторая мировая война: в союзе с нацистской Германией. // Российский государственный гуманитарный университет, Историко-архивный институт, «Новый исторический вестник». Антибольшевистская Россия (1917 – 1947). – М.: Издательство Ипполитова, 2004. Электр. диск (номер государственной регистрации – 0320401340)
(обратно)553
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 316.
(обратно)554
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 317.
(обратно)555
Там же. С. 318.
(обратно)556
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 319.
(обратно)557
Так («Broken friendships») назвал одну из глав своей книги о Бердяеве человек, лично его знавший, – Дональд Лурье.
(обратно)558
См., напр., Stephen Koch. Double Lives: Spies and Writers in the Secret Soviet War of Ideas against the West. – New York: Free Press, 1994; Stephen Koch. Double Lives: Stalin, Willi Munzenberg, and the Seduction of the Intellectuals. – New York: Free Press, 2004; Ваксберг А. Гибель буревестника. М. Горький. Последние двадцать лет. – М.:1999; Носик Б. «Кто ты? – Майя». // Звезда, 2001, № 4 и др.
(обратно)559
Письма Н.А. Бердяева к кн. И.П. Романовой. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. – М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. C. 255.
(обратно)560
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 319–329.
(обратно)561
Письма Н.А. Бердяева к кн. И.П. Романовой. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. – М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. C. 256.
(обратно)562
Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 204.
(обратно)563
Цит. по: Бронникова Е.В. «Guarda e passa» (О Лидии Бердяевой и ее рукописном наследии). // Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. С. 20.
(обратно)564
РГАЛИ, ф. 1496. Оп.1, ед. хр.533.
(обратно)565
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 404–405.
(обратно)566
Письма Н.А. Бердяева (1945-1948 гг.). //Новый журнал, Нью-Йорк, 1969, № 95.
(обратно)567
Яновский В.С. Поля Елисейские. С. 151.
(обратно)568
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 321.
(обратно)569
Г.П.Федотов. Бердяев-мыслитель.// Н.А.Бердяев: pro et contra. С. 444.
(обратно)570
Николай Петрович Полторацкий (1921 – 1991) – философ, историк русской философии. Родился в семье белого офицера в эмиграции, учился в Софии и Париже, защитил диссертацию в Сорбонне, преподавал в США.
(обратно)571
Левицкий Сергей Александрович (1908 – 1983) – философ, оказался в эмиграции вместе с родителями после революции. Закончил Карлов университет в Праге, защитил там докторскую диссертацию. Долгие годы преподавал в США, был одним из лидеров НТС.
(обратно)572
Н.А.Бердяев. Русская идея. // Н.А.Бердяев. Русская идея. Судьба России. С. 295.
(обратно)573
Н.А.Бердяев. Русская идея. // Н.А.Бердяев. Русская идея. Судьба России. С. 124.
(обратно)574
Там же. С. 125.
(обратно)575
Н.Полторацкий. Русская идея Н.Бердяева.// Н.Полторацкий. Россия и революция. Русская религиозно-философская и национально-политическая мысль ХХ века. Сб. Статей. – Tenafly: Hermitage, 1988. P. 135.
(обратно)576
Н.А.Бердяев. Русская идея. С. 126.
(обратно)577
А.А. Кизеветтер. О «русской душе». // Н.А.Бердяев. Pro et contra. С. 331–332.
(обратно)578
Н.А.Бердяев. Новое средневековье. С. 87.
(обратно)579
Мессианизм – представление о будущем приходе в несовершенный мир Божьего посланника – мессии, который и установит справедливость, мир, избавит от зла. Со временем появились концепции, которые на место мессии ставили нацию, социальную группу, государство и т. п., приписывая им особую роль в истории.
(обратно)580
Н.Полторацкий. Бердяев и Россия. С. 185.
(обратно)581
Н.Бердяев. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. – Париж: YMCA-Press, 1952. С. 219.
(обратно)582
Е.Н.Трубецкой. Старый и новый национальный мессианизм. // Н.А.Бердяев. Pro et contra. Книга 1. – СПб: 1994. С. 251.
(обратно)583
Бердяев Н.А. Русская идея. С. 295.
(обратно)584
Н.А.Бердяев. Русская идея. С. 217–218.
(обратно)585
Бердяев Н.А. Самопознание. С. 327.
(обратно)586
«В четвертом измерении пространства…» Письма Н.А. Бердяева к кн. И.П. Романовой. 1931-1947. Публ. В.Аллоя и А.Добкина. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб.; Atheneum; Феникс, 1994. С.
(обратно)






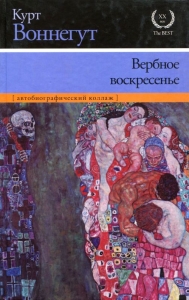

Комментарии к книге «Бердяев», Ольга Дмитриевна Волкогонова
Всего 0 комментариев