Густав Малер Борис Кулапин
Посвящается моей маме Ольге Ивановне Кулапиной
ДЕТСТВО
Летним днем 1910 года, за год до смерти, Густав Малер встретился с Зигмундом Фрейдом. Знакомство их состоялось в курортном городе Лейдене, где Фрейд отдыхал с семьей. Беседа началась в отеле, а затем перетекла в прогулку по спокойным голландским улочкам. Хотя композитор критично относился к «Толкованию сновидений» Фрейда, необходимость заставила его обратиться за помощью к отцу психоанализа. В ходе их единственной, но многочасовой встречи Густав пересказывал самые ранние воспоминания детства, а Фрейд выстраивал из сбивчивых образов и впечатлений единую картину миропонимания выдающегося современника. Так Малер, пораженный психоаналитическим талантом Фрейда, неожиданно для себя открыл тайну собственного творчества. Создатель психологической теории дал ему понять то, о чем он догадывался, но не мог выразить вербально: свою жизнь и музыку Малер воспринимал как одно целое.
В детстве он часто становился свидетелем бесконечных ссор собственных родителей. Гневный голос нетрезвого отца, нередко поднимавшего руку на свою жену, приводил Густава в такой ужас, что он не мог оставаться дома и выбегал на улицу. Полифония проходящих мимо людей и совершавшихся событий отвлекала его: на главной площади города репетировал военный оркестр, из ближайших церквей доносились звуки органа и слышались песнопения. Звуковой мир, окружавший юного Малера, стал для него своеобразной защитой от отцовской тирании. Однажды, не выдержав очередной родительской ссоры, Густав выбежал на площадь и услыхал веселую песенку шарманщика «Ах, мой милый Августин». Эта наивная мелодия буквально оглушила его контрастом с тяжелейшей ситуацией дома и с тех пор стала ассоциироваться в сознании мальчика с ужасом и насилием. Когда Малер стал писать музыку, эта простенькая, хорошо известная песенка почти всегда возникала в его голове в моменты создания наиболее драматических эпизодов произведения…
Отец Густава, Бернхард Малер, — простой еврей из богемской деревеньки Калиште. Зарабатывал гроши разнорабочим на фабрике или извозчиком. В отличие от других таких же парней, привыкших вкалывать за несколько крейцеров, едва хватавших на пропитание да на кружку пива в харчевне, Бернхард имел свои установки, которым руководствовался и в юности, и в зрелом возрасте при воспитании детей. Он был уверен: сколько бы ни трудился простолюдин, ему никогда не подняться выше своего сословия без образования. Малер-старший считал знания, пожалуй, даже важнее религии. По его мнению, именно образование способно укрепить человека в обществе и открыть ему путь в достойную жизнь. Разумеется, денег на собственное полноценное образование у Бернхарда не было, поэтому он компенсировал недостаток знаний чтением книг, иногда сидя на козлах в повозке. Он даже изучал самостоятельно французский язык. За это его в родной сонной деревне в насмешку прозвали «профессором на ко́злах».
Смысл жизни простолюдина во все времена одинаков: подняться на ноги и получить относительную самостоятельность, затем найти работящую жену и вместе с ней обустраивать свой быт. Бернхард Малер не был исключением. К тридцати годам он сосредоточил свои силы на создании собственного хозяйства. В поисках супруги и помощницы в делах он оказался достаточно проницательным. Среди местных девиц ему приглянулась дочь мыловара из соседнего городка Ледеч-над-Сазавой, нежная и послушная Мария Герман. Некоторые биографы Малера пишут, что его мать была немкой. Но английский исследователь Дональд Митчелл ссылается на жену композитора Альму и его друга, музыковеда Гвидо Адлера, утверждавших, что она происходила из еврейской семьи более высокого социального статуса, чем был Бернхард. Причем Альма указывает фамилию Франк, а Адлер настаивает на фамилии Герман. Согласно Митчеллу, дед композитора, мыловар Абрахам Герман, взял в жены кровную родственницу Терезу. Таким образом, факт кровосмешения, не редкий для закрытых общин, оставил определенный генетический след, сказавшийся на физической и психической нестабильности их потомства.
О долгой и страстной любви, предшествующей женитьбе Бернхарда и Марии, речи даже не шло. До свадьбы Мария практически не знала своего будущего супруга и хотела выйти замуж за другого. Однако родители смогли сломить ее волю, и Бернхард быстро получил согласие девушки. Очевидно, на общем фоне он представлял собой неплохую партию для семьи Герман, к тому же Бернхард нес в себе новую кровь для их рода.
Впоследствии Густав Малер описывал своих родителей, как огонь и воду: отец был упрям, мать же, напротив, слишком мягка. При этом Густав часто задумывался, что без этого союза «ни я, ни мои симфонии не могли бы существовать».
У Бернхарда и Марии родилось 14 детей, но до совершеннолетия дожили лишь шестеро — и те имели разнообразные физические и неврологические отклонения, что в той среде при известном отсутствии надлежащей медицины, а также ввиду испорченной генетики было печальной закономерностью. Первый сын, Исидор, умер в раннем детстве, а 7 июля 1860 года в ставшей бездетной семье родился второй ребенок, названный Густавом, которому суждено было стать одной из центральных фигур мирового музыкального искусства рубежа веков. Следует заметить, что 7 июля — день появления Густава Малера на свет — не оспаривается ни одним из его биографов. Но сам Малер считал днем своего рождения 1 июля. Парадокс состоит в том, что документов, подтверждающих или опровергающих его уверения или правоту исследователей его жизни, не сохранилось, и вопрос даты рождения композитора остается одним из тех белых пятен, которых в его биографии насчитывается немало.
Дом отца, в котором родился Густав, был типичной лачугой, переделанной Бернхардом и Марией в целях заработка в постоялый двор. Он стоял на окраине деревни, и любой путник, проезжавший мимо Калишты, мог найти в нем питание и ночлег за умеренную плату. Дом был настолько бедный, что его окна даже не имели стекол. Впоследствии композитор часто вспоминал эти незастекленные окна и большую лужу перед дверью, затрудняющую вход в жилище.
В тот же год, когда Густаву было всего пять месяцев, семья переехала в находящийся неподалеку провинциальный промышленный городок Йиглаву, где Бернхарду удалось, не без поддержки жены, подняться по социальной лестнице от разнорабочего и извозчика до хозяина таверны.
В то время всякое перемещение еврейского населения страны строго контролировалось властями. Однако семья Малер получила разрешение на новое обустройство и проживание в Йиглаве. Здесь Бернхард на заднем дворе дома, где они снимали одну из квартир, устроил винокурню. Более того, через 12 лет после приезда Бернхарду позволили стать гражданином Йиглавы и выкупить в собственность находившийся по соседству дом, в подвал которого со временем переместилась винокурня, а также был открыт магазин спиртных напитков. Городские власти дали согласие на покупку этого дома, даже несмотря на то, что в других его квартирах проживали христиане. По тогдашним правилам, для евреев это было недопустимо. Но, как видно, Бернхард умел обходить законы и ограничения.
Те, кто был знаком с Бернхардом Малером, да в дальнейшем и сам Густав, описывали его как жесткого и сурового человека. Причины такого характера коренились в среде, плоть от плоти которой он был, где бесчувственность, черствость и твердость мужчин являлись нормой. Эти черты вырабатывались самой жизнью, состоявшей в постоянных преодолениях трудностей. Пытаясь найти достойный доход, Бернхард перепробовал массу занятий, вплоть до работы домашним учителем. Поэтому в зрелости, сознавая цену собственного успеха, он стал достаточно консервативным в материальных вопросах, старался не рисковать тем, что имел. Такой жизненный путь простого сельского парня можно было назвать вполне удачным. Бернхард не только добился относительной материальной стабильности, но и смог дать достойное образование своим детям. Начав восхождение в деревне Калиште, название которой переводится как «отстойник», он обеспечил всему своему роду возможности для дальнейшего развития в более благодатных условиях городской жизни. Впоследствии Альма Малер, говоря о Бернхарде, отмечала, что собственное самолюбие он тешил достижениями своих детей; Йиглава для начала их самореализации была весьма неплохим местом.
Семья быстро разрасталась, Густаву не было еще и двух лет, когда у него появился брат Эрнст, на следующий год — сестра Леопольдина. В 1864 году родился Карл, проживший чуть больше года, а в 1865-м — Рудольф, умерший шестимесячным. Эрнст прожил 13 лет, Леопольдина — 26. Родовое проклятие не оставляло их дом. В октябре 1867 года родился Алоис-Луис. К счастью родителей, тяжело переживавших смерть своих детей, мальчик был относительно здоров.
Новая среда с очень красивой природой, без сомнения, оказала на Густава огромное влияние. Первый англоязычный биограф композитора Гэбриел Энджел считает, что атмосфера горной долины, посреди которой лежала Йиглава, холмистые леса, окружавшие город со всех сторон, да и местный фольклор придали своеобразный колорит музыке Малера. В Йиглаве перемешались три великие самобытные культуры чешского, немецкого и еврейского народов, что выражалось и в языке, и в обычаях, и в нравах. В городе работал типичный для провинции небольшой театр, подобный тем, в которых Малер начинал свою дирижерскую карьеру. Тем не менее жители, испытывая особый пиетет к высокому искусству, очень гордились этим театром.
К тогдашним особенностям города можно отнести и тот факт, что в Йиглаву еще не была проложена железная дорога, и город оставался свободным от политических волнений, захвативших окружающий мир. Многие поколения горожан благополучно соседствовали, невзирая на конфессиональную и национальную принадлежность. Если антисемитская кампания в Европе набирала обороты, то в Йиглаве никакой дискриминации евреев, не считая государственных законов, не было. Густав в детстве не слышал ни одного юдофобского высказывания в свой адрес и никогда в дальнейшем не чувствовал себя ущемленным, даже если кто-то впрямую выражал неприязнь к его происхождению. Малер не просто игнорировал такие выпады, он сам подшучивал над ними. Известен, к примеру, такой факт: друг композитора Альфред Роллер, работавший сценографом в Придворном театре Вены, рассказывал, что перед увольнением Густава Малера с поста директора Венской оперы вокруг его персоны разгорелись настоящие страсти. Уставший от интриг и споров, подогретых в том числе и его национальностью, Малер смеялся: «Не странно ли, что единственные газеты, в которых до сих пор, кажется, осталось некоторое ко мне уважение, антисемитские?»
Представления о детстве великих личностей, повлиявших на цивилизацию, как правило, ограничиваются несколькими историями, раскрывающими истоки их талантов. С течением времени эти повествования покрываются слоями мифологизации, за которыми уже неясна их историческая истинность. Биографы Малера, как и биографы Моцарта, Шопена или Шостаковича, в разных вариантах приводят рассказы о том, что феноменальный музыкальный дар у их героя проявился еще в детстве. Естественно, в основе этих мифов лежат действительные факты, однако неясно, где проходит грань между реальностью и мифом. Согласно малеровским историям подобного рода, в двухлетнем возрасте будущий композитор знал и распевал дома огромное количество народных песен, он обожал музыку военного оркестра, доносившуюся из находившихся поблизости казарм, а в четыре года уже подбирал эти военные марши на аккордеоне. Разумеется, биографы приводят эти истории, стараясь показать истоки фольклорных интонаций, богатство ритмического колорита в музыкальном языке малеровских сочинений, а также ранние проявления его музыкального таланта, что, в общем-то, верно. Однако рассказы об одаренном мальчике, зачарованном звуками военной трубы, плохо передают атмосферу его детства, которую необходимо выявить как для документальной правды, так и для понимания условий, в которых формировался будущий композитор.
Немало в жизнеописаниях Малера мифов с «притянутыми» выводами и умозаключениями. К примеру, с целью раскрытия мировоззрения будущего композитора биографы часто приводят следующую историю. Когда маленького Густава спросили, кем он хочет стать, когда вырастет, он ответил: «Мучеником». Этот ответ некоторые музыковеды трактуют в свете конфликта его жизни и окружающей среды либо в духе христианской жертвенности его характера, очевидно, забывая, что ни католической, ни иудейской веры мальчику привито не было. Густав рос в чешско-немецкой среде и в еврейской семье, не отличавшейся особой религиозностью. Тем не менее ребенок слышал от родственников и друзей как католические, так и иудейские «правила жизни», которые, конечно, повлияли на его мировоззрение, но не были определяющими. Поняв, что мученичество является христианской добродетелью, ребенок со свойственной детям простотой решил, что быть мучеником — то же самое, что вести праведную жизнь. Эту историю в семье Малер пересказывали как обычный детский «перл» и не более. Тем не менее некоторые историки музыки представляют ее как осознанный выбор жизненного пути.
Миропонимание юного Малера позволяет разгадать не менее мифологизированная история. Однажды Бернхард взял Густава с собой в лес. Ландшафт Йиглавы был таков, что роща располагалась почти в центре города и походила скорее на парк. Вдруг Бернхард вспомнил, что забыл дома кое-что важное, и решил вернуться. Чтобы не таскать с собой маленького сына, он усадил его на пень и дал наставление: «Оставайся здесь и жди, я вернусь очень скоро». Однако по приходе домой Бернхарда отвлекли нежданно нагрянувшие гости, и он, совершенно забыв о своем мальчике, общался с ними до позднего вечера. Наконец он опомнился и, перепугавшись, побежал в лес за ребенком. Каково же было его изумление, когда он застал своего сына там же, где оставил, сидящим на том самом пне. Густав находился как бы в трансе, его глаза были полны удивления. Со стороны казалось, что мальчик вдохновлен воображаемыми чудесами и видениями. Будущий создатель грандиозных симфонических полотен заслушался звуками леса, звоном колоколов церквей и шумом, доносящимся из города. Гармония этих полифонических наслоений зачаровала ребенка, и он даже не заметил, что несколько часов сидит в лесу один. Биограф Гэбриел Энджел приводит эту историю как наиболее показательную, нежели другие истории этого периода, раскрывающие Малера-композитора. При этом Энджел проецирует случившееся на всё его творчество: «Необыкновенное чудо детского взгляда — это дух всех малеровских симфоний… правда и красота составляют суть каждого творческого вдохновения. Ребенок, который достиг нирваны, находясь в самом сердце леса, вырос, чтобы наделить мир этой несравненной “Песнью Земли”, колыбельной песнью эволюции, воспевшей всю природную жизнь».
Случай, знаменовавший начало музыкального образования юного Малера, описан в предисловии к письмам, опубликованным женой композитора. Эта история произошла, когда в дом Малеров приехали родители матери Густава, Абрахам и Тереза. Пока дедушка и бабушка общались с дочерью и зятем, ребенок исчез. Начавшийся поиск привел Бернхарда и Марию на чердак, где они увидели картину, потрясшую их: там находилось старое пианино, и Густав, поглощенный этим инструментом, будто новой игрушкой, с азартом нажимал на клавиши. Родители были поражены тем, что от его прикосновений раздавались не треньканья, которые привычно звучат, когда за фортепиано сидит маленький ребенок, а самая настоящая музыка. Густав с легкостью подбирал хорошо известные мелодии, хотя этому его никто не учил. В тот день Бернхард осознал, что его сын не просто увлечен музыкой — это что-то несоразмерно большее. По словам Альмы, Густаву тогда было всего четыре года. Историю эту подтверждает австрийский музыковед Рауль Стефан, добавляя, что юного Малера ничто не могло отвлечь от пианино, даже когда его звали поесть сладости. Однако Стефан считает, что этот случай произошел, когда Густаву было шесть лет. Сам же композитор говорил, что сочинять музыку он научился в возрасте четырех лет, и это случилось прежде, чем он смог что-либо исполнить на инструменте. Сегодня хронологические рамки той истории установить трудно, поэтому безошибочно можно утверждать лишь одно: музыкальный талант Малера проявился очень рано.
Родители Густава, осознавшие его способности, решили развивать талант мальчика и задумались о частном учителе. Первые уроки музыки юный Малер получил у чешских музыкантов, которых знал в основном по отцовской пивной. Разумеется, нельзя утверждать, что Бернхард выбирал преподавателей для своего ребенка именно среди своих клиентов. Просто пивная служила определенной средой для общения мало понимавшего в музыке старшего Малера, а также неким инструментом оплаты преподавательских услуг.
Музыкальные основы Густаву помог постичь капельмейстер йиглавского театра Францишек Викторин. Учителями по фортепиано у будущего композитора стали Якуб Сладкий, а потом Ян Брош, под руководством которого Густав настолько быстро добился успеха, что учитель направил его преподавать музыку к мальчику, который был старше Густава. За свои услуги юный педагог получал пять крейцеров в час. Но это длилось недолго: несчастный ученик не соответствовал высоким требованиям учителя-тирана и после нескольких уроков мальчик слезно отказался продолжать учебу у Густава. Также среди йиглавских учителей маленького Малера фигурируют имена Яна Жижки, ученика Антона Брукнера Вацлава Прессбурга, Францишека Штурма. Однако самую большую роль в музыкальном образовании Густава сыграл выпускник Пражской консерватории, хормейстер церкви Святого Иакова Генрих Фишер. Послушав игру мальчика, Фишер понял, что тот — настоящий вундеркинд. Немного поразмышляв, педагог решил, что Густав может начать работать, и пригласил его на хоровые репетиции в церковь, предложив место органиста. Как раз в это время, в 1868 году, у Бернхарда и Марии родилась Юстина Эрнестина.
Когда Густаву исполнилось девять лет, как и полагалось по австрийским законам, отец отдал его в Йиглавскую гимназию. При этом частные занятия фортепиано в доме Малеров не прекращались. За время учебы будущий композитор проявил себя как рассеянный ученик, постоянно отвлеченный собственными мыслями и не проявлявший особого интереса к другим предметам, кроме музыки. Малера не интересовало почти ничего, он равнодушно относился к математике, географии, истории, а физику откровенно недолюбливал.
Однако всё менялось, когда речь заходила о музыке. Юного Малера одолевал азарт, его глаза сверкали, он тотчас вступал в дискуссию, горячо отстаивая свои взгляды. Слушая музыку, он забывал обо всём на свете. Однажды Густав до того замечтался на уроке, что очнулся, немало напуганный собственным насвистыванием какой-то мелодии. Подобные случаи были не редки: учителя постоянно делали ему замечания за музыкальные «посторонние звуки».
Год спустя, 13 октября 1870 года, на сцене городского театра состоялось первое выступление юного Густава как пианиста, после чего вышла рецензия в местной газете «Vermittler», возвестившая общественности Йиглавы о первом успехе «десятилетнего сына еврейского торговца Малера».
Но успехи Густава были омрачены чередой смертей: 15 декабря 1871 года умерли сразу два его брата — двухлетний Арнольд и семимесячный Фридрих, а в мае 1873-го — годовалый Альфред. Повзрослевший Густав впервые сознательно столкнулся со смертью близких, что, естественно, сильно повлияло на его миропонимание.
Одиннадцатого ноября 1872 года на вечере в гимназии будущий композитор исполнил вариации из мендельсоновского «Сна в летнюю ночь» в транскрипции Ф. Листа. На этот раз газеты писали о молодом виртуозе, владеющем отличной техникой и обладающем мощью оригинального интерпретатора. 20 апреля 1873 года в городском театре в его исполнении прозвучала фантазия С. Тальберга на тему из оперы В. Беллини «Норма». Ту же программу Густав повторил 17 мая 1873 года по случаю праздника «Мужского общества певцов», возглавляемого его учителем Фишером.
Родители Густава очень гордились своим талантливым ребенком и не сомневались в его музыкальных перспективах. Они делали всё для ускорения его творческого развития, хотя находились в стесненных обстоятельствах. Отец считал, что сын должен заполучить свой шанс любой ценой. Густав рос, испытывая чувство ответственности и преданности к семье, понимая, что с таким количеством младших братьев и сестер ему придется рано стать самостоятельным. Его первые композиторские опыты неизвестны. Очевидно, эти сочинения сильно разнились с музыкальной эстетикой взрослого Малера, поскольку все детские произведения он впоследствии уничтожил. Однако, несмотря на то, что юные представления композитора были сильно трансформированы, первоначальный опыт, принятый им за неудачный, позже всё-таки отразился на его симфониях. Некоторые авторские стилевые черты, несомненно, укоренились в эти ранние годы.
Здоровье мальчика оставляло желать лучшего. Доктор медицинских наук Леонид Иванович Дворецкий, опираясь на имеющиеся данные, пишет в книге «Музыка и медицина. Размышления врача о музыке и музыкантах»: «…известно, что в детском возрасте композитор перенес ревматический полиартрит и малую хорею, проявляющуюся непроизвольными гиперкинезами и в связи с этим описывающуюся ранее как “пляска Святого Витта”». Нарушения в двигательной функции можно заметить даже на знаменитой детской фотографии композитора, где рука юного Густава, лежащая на стуле, словно поддерживает равновесие тела, при этом на фото видно, что ноги ребенка стоят порознь. Для единственной фотографии, стоившей бедной семье немалых денег, художественная задумка фотографа как «композиция у стула» представляется сомнительной. Скорее всего, без какой-либо опоры ребенок просто-напросто не мог стоять прямо. Тем не менее в сравнении с выжившими родными братьями и сестрами старший сын считался относительно здоровым, хотя с возрастом соматические и неврологические заболевания у него только накапливались.
Не самое лучшее образование, которое мог дать Густаву провинциальный город, всё же предоставило ему почти идеальную свободу мысли. Ум юного Малера был молниеносен, пытлив и аналитичен. Пробелы в музыкальной теории компенсировались его догадливостью. Сенсационная фантазийность, склонность к мистике и символике черпали свою духовную пищу в чтении поэтических и романтических произведений. О его ранней склонности к необычному и сверхреальному свидетельствует отроческий товарищ Малера, музыковед Гвидо Адлер, который говорит о его особой жадности, ощущаемой в чтении сказок Э. Т. А. Гофмана.
Недовольный безразличием Густава к учебе, отец решил сменить гимназию и отправил одиннадцатилетнего сына в Прагу. Однако это привело не к положительным сдвигам в учебе, а к напрасным дополнительным тратам денег, которые в семейном бюджете Малеров были нелишними. Родители понимали: преемником отца в управлении таверной Малер-младший не будет. При этом назрел определенный образовательный кризис: Густава перестали удовлетворять частные уроки с Викторином и Брошем ввиду их малой продуктивности и нерегулярности. Кроме того, уроки требовали денег, с которыми к тому времени в семье Малер стало еще хуже: доход от таверны не рос, а семья увеличивалась. В июне 1873 года у Бернхарда и Марии родился сын Отто, а в 1875-м супруга вновь забеременела и родила в октябре дочку Эмму Марию Элеонору. В апреле 1875 года не стало тринадцатилетнего Эрнста.
Понимая, что Йиглава в музыкальном и образовательном смысле становится тесной для пятнадцатилетнего Густава, и не дождавшись двух лет до его окончания гимназии, Бернхард отвез сына в Вену для профессиональной подготовки в столичной консерватории. Несомненно, это решение было простым и логичным, но и весьма обременительным для семейного кошелька. Родители долго раздумывали, как лучше поступить с занятиями своего одаренного мальчика. Их сомнения развеял старый знакомый, имевший в доме Малеров большой авторитет. Услышав бетховенскую сонату в исполнении Густава, он тотчас написал рекомендательное письмо, направив юного музыканта к знаменитому пианисту и педагогу, профессору Венской консерватории Юлиусу Эпштейну.
Вена того времени была не просто столицей империи, это был город науки и искусства. Венский университет, основанный еще в XIV веке, к 70-м годам XIX столетия превратился в мировой научный центр: активно развивалась Императорская академия наук, приобрела статус высшего учебного заведения и расширила свои площади Венская академия изобразительных искусств. Музыкальная Вена — город Гайдна, Моцарта и Бетховена — ко второй половине XIX века стала настоящей «Меккой» музыкального мира. Любой, кто относил себя к музыкантам, считал своим долгом побывать здесь. А уж учиться в Вене — предел мечтаний всех начинающих служителей искусства, толпы которых постоянно атаковали консерваторских корифеев. Поэтому, когда на пороге дома именитого профессора Юлиуса Эпштейна появился сутулящийся усатый мужчина, рядом с которым стоял невысокий смуглый юноша с серо-голубыми глазами, профессор не рассчитывал на что-то стоящее. Приглашенные в дом отец и сын Малеры робко стояли в гостиной. Бернхард протянул профессору рекомендательное письмо, одно из множества подобных, получаемых из разных концов империи. Эпштейн нехотя предложил молодому человеку исполнить на фортепиано любое произведение, которое тот сочтет нужным. Но когда прозвучали первые такты, всё изменилось: лицо профессора преобразилось, и он воскликнул: «Да это же прирожденный музыкант! Бесспорно, я не могу ошибиться!» Густав сразу же был рекомендован к поступлению в Венскую консерваторию. Йиглавская гимназия была окончена заочно, предметы сдавались в перерывах между событиями бурной венской жизни.
ВЕНА
Привыкший к тихой Йиглаве, Малер был ошеломлен красотой и имперским размахом Вены. Здесь работали Брамс и Штраус-сын. В Придворной опере пели любимицы Европы Паолина Лука и Аделина Патти. На сценических площадках звучали произведения Г. Ф. Генделя, только что ставшего общепризнанным И. С. Баха, венских классиков и романтиков. Музыкальная жизнь города, погрязшая в профессиональных разногласиях, напоминала политически неспокойное государство. Осенью того же года, когда Малер поселился в Вене, в столицу Австрии приехал Вагнер, собиравшийся лично руководить постановками «Тангейзера» и «Лоэнгрина». Это событие не просто сильно всколыхнуло музыкальную жизнь венцев. Со стороны казалось, что оно вызвало легкое всеобщее помешательство.
Известный дирижер Ганс Рихтер в рамках своих концертов тотчас исполнил отрывки из «Тристана» и «Валькирии», Императорский театр поставил все оперы тетралогии «Кольцо нибелунга». Старший сокурсник Малера Феликс Моттль организовал Венское вагнеровское общество. Консерваторский друг Малера Хуго Вольф, как и Густав, недавно познакомившийся с концепцией вагнеровской музыкальной драмы, стал ярым вагнерианцем. Горячая оппозиция в лице приверженцев Иоганнеса Брамса во главе с критиком Эдуардом Гансликом, именовавшая себя «браминами», доводила конфликты до открытых скандалов. Удвоив свои усилия по дискредитации «Великого Рихарда», его недоброжелатели объявили Вагнера противником Вены. Молодое же поколение, увлеченное привлекательностью музыкальной героики, было против целой армии критиков и педантов, выдающих себя за хранителей оскорбленного музыкального искусства. «За… шесть недель все умы помешались на Вагнере», — писал в письме Брамсу один из его друзей-музыкантов.
Все, кто поддался влиянию Вагнера, начинали служить своему кумиру, утрачивая свое «Я». Ганс Рихтер в дальнейшем отдал свою жизнь организации вагнеровских фестивалей в Байройте — мировом центре вагнерианства. Хуго Вольф, в своих резких высказываниях неоднократно уничижавший репутацию педагогов-традиционалистов, был изгнан из консерватории, а ставший дирижером Феликс Моттль прославился исключительно как исполнитель музыки Вагнера. Во время одного из исполнений «Тристана и Изольды», не выдержав перенапряжения, сердце Мотля разорвалось. Из-за охватившей город «вагнерианской лихорадки» многие венцы стали не просто поклонниками музыки Вагнера — их судьбы формировались под влиянием этой неоднозначной фигуры позднего романтизма, споры о которой не утихают и сегодня. Малер был весьма увлечен сочинениями и взглядами великого композитора: он несколько недель штудировал оперные партитуры, изучая технику композиции и драматургию вагнеровских опер. На протяжении всей жизни Густав относился к нему с безграничной любовью и восторгом. Единственным композитором, которому уступал Вагнер в представлении Малера, был Бетховен. Получила известность малеровская фраза: «Когда Вагнер говорит, всем остается только хранить молчание». Однако, соблюдая кредо, унаследованное от отца, — учиться, Густав предпочел держаться в стороне от идеологических конфликтов, сохранив статус-кво. Возможно, что это спасло его от подражательства кумиру, позволив сформировать собственный художественный стиль.
Первый человек, который встретил будущего композитора в Вене и сразу же распознал его талант, профессор Юлиус Эпштейн стал путеводной звездой Малера на протяжении всех его консерваторских лет и помог достичь на учебном поприще немалых высот. Более того, Эпштейна, пожалуй, можно назвать одной из ключевых фигур, оказавших сильное влияние на жизнь композитора.
Маэстро фортепианной игры, забытый после смерти, был выдающимся педагогом своего времени. Поступившему в его класс Густаву уже через пару лет прочили карьеру пианиста уровня Ференца Листа или Антона Рубинштейна. Гэбриел Энджел утверждает, что, несмотря на некоторые технические несовершенства, качество фортепианной игры у Малера было на порядок выше всех консерваторских студентов. Оркестровая мощь, с которой он издавал фортепианные звуки, стала почти легендарной в воспоминаниях коллег по учебе. Сам будущий композитор признавался, что испытывал колоссальное наслаждение от собственного исполнения некоторых произведений, из которых особенно выделялось вступление к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры».
О теплоте отношений Малера со своим педагогом свидетельствует письмо Эпштейну, написанное Густавом в летние каникулы, когда он вернулся в Йиглаву, чтобы сдать заключительный экзамен в гимназии: «Дорогой мой и почитаемый учитель, Вы не можете себе представить, какую радость принесло мне Ваше письмо. Я действительно не знаю, как Вас благодарить за такую доброту. Желая высказать наиболее возвышенный эпитет о чем-либо, я могу исписать целые страницы, но не смогу выразиться точнее, чем кратко произнести “Это так, как Вы”. И Вы можете быть уверены, что это не просто слова, а выражение моего подлинного, истинного чувства. Ваше Хорошо Темперированное Величество должно простить меня за внезапную диссонирующую модуляцию от проникновенного Адажио к резкому Финалу, призывающему к Вашему снисходительному пониманию. Факт в том, что я опоздал с этим Йиглавским экзаменом-концертом, я приехал на несколько дней позже, чем должен был, чтобы его сдать, и теперь придется ждать два месяца. Тем не менее я надеюсь, что смогу полностью до конца каникул подготовить задание, которое Вы мне дали. С искренним уважением и благодарностью, по-прежнему Ваш покорный ученик Густав Малер».
В целом успехи Малера-композитора хотя и не являлись столь же признанными, как Малера-пианиста, были очевидны. Занимаясь с Теодором Кренном, он регулярно побеждал на композиторских конкурсах. Многие из музыкантов, слышавших его песни, в дальнейшем с одобрением отзывались о нем как о «новом Шуберте». Среди сочинений этого периода выделяются скрипичная соната, написанная в течение одного дня, фортепианный квартет и квинтет, удостоенные призов на факультете, сюда же входят как минимум два симфонических произведения, одно из которых опирается на темы народов европейского севера, а также фрагменты двух опер — «Аргонавты» и «Эрнст, герцог Швабрии». Не все эти опусы дошли до наших дней. Что-то послужило музыкальным материалом для будущих произведений, что-то было утеряно, оперы же так и не были закончены. Фортепианные успехи того времени послужили приобретению композиторской «болезни», свойственной начинающим. Введенный в заблуждение универсальностью рояля, Малер начал сочинять за инструментом, однако вскоре с этой привычкой пришлось бороться, так как в его оркестровых партитурах стали появляться ошибки. И эти ошибки ему дорого стоили…
Архивы Венской консерватории свидетельствуют, что контрапункту Густав обучался всего год и в связи с грамотным применением этой техники в своей музыке от дальнейшего прохождения курса был освобожден. Тем не менее в последующие годы композитор явно сожалел об этом. Гэбриел Энджел приходит к выводу, что курс контрапункта был зачтен ему по его собственной просьбе. Развивая мысль, Энджел приводит в пример Вагнера, приобретшего в студенческие годы славу мастера контрапункта. Очевидно, юный Малер, наслаждавшийся фортепианной транскрипцией вступления к «Нюрнбергским мейстерзингерам», почерпнул для себя многое из техники контрапункта именно этого произведения своего кумира — и не только его.
Традиция преподавания полифонии в Вене достойна особого описания. Композитор Симон Зехтер, ученик Антонио Сальери, имел привычку сочинять в день как минимум одну фугу, и к концу жизни их накопилось около пяти тысяч. Помимо фуг, ему принадлежали четыре оратории, 12 месс, квартеты и даже опера, что позволяет отнести его к наиболее плодовитым композиторам, существовавшим когда-либо в истории музыки. Искусство контрапункта, лежащее в основе любой полифонической музыки и фуги как ее высшей формы, Зехтер преподавал в Венской консерватории, выпустив целую плеяду композиторов, лучшим из которых он считал Антона Брукнера. По легенде, Иоганн фон Гербек, один из экзаменаторов, воскликнул: «Это он должен был бы экзаменовать нас!» Именно Брукнер после смерти Зехтера заменил его в консерватории. Как и все великие композиторы, Брукнер подходил к каждому новому своему произведению с наивностью гения, создающего неразрывное единство контекста, вдохновения и расчета. Именно с этой точки зрения он рассматривал методику преподавания контрапунктического искусства.
Однако Малер, поступивший в консерваторию в 1875 году, не застал Брукнера, перешедшего работать в Венский университет. Их встреча состоялась лишь через два года. Энджел проводит параллель между Вагнером, Брукнером и Малером. Профессор Вайнлиг, преподаватель молодого Вагнера, будучи выдающимся педагогом своего времени, был бессилен понимать наиболее выразительные глубины контрапунктического искусства. Брукнер также пошел дальше своего учителя. Малер, учившийся на работах профессора Зехтера у Кренна, нуждался в ином, свежем взгляде, который нашел позднее именно у Брукнера.
Роберт Фукс, читавший Густаву курс гармонии, много лет спустя делился воспоминаниями с его супругой Альмой: «Малер всегда прогуливал уроки; тем не менее, не было такого задания, с которым он был не в состоянии справиться». В отличие от Густава-гимназиста, Густав-студент запомнился как аккуратный и исполнительный молодой человек. Российский музыковед Инна Алексеевна Барсова, исследующая жизнь и творчество композитора, характеризует Малера этого времени как пылкого романтика, чья феноменальная рассеянность и сосредоточенность в себе сочетались с удивительным обаянием и общительностью. Будучи отличным велосипедистом и пловцом, он вместе с друзьями неоднократно устраивал многодневные пешие путешествия по красивейшим горным районам дальней Австрии и Чехии. Малер, постоянно занятый сочинением музыки и анализом композиции музыкальных произведений, формы изложения материала, соотношения оркестровых голосов и прочих элементов музыкальной ткани, совсем не обращал внимания на обстановку собственного жилища, которое выглядело почти нищенским. Его друзья по консерватории были под стать ему — такими же молодыми людьми, неустроенными в бытовом плане, горячо и постоянно спорившими друг с другом об искусстве.
Помимо Хуго Вольфа Густава окружали Ганс Ротт и Антон Криспер, а самым близким его другом в то время можно считать Рудольфа Кржижановского. Малер в разное время разделял с ними студенческую жизнь и жилье. Впоследствии друзья с теплотой рассказывали о доброте Густава, делившегося с ними посылками из дома и скудными заработками. Вольфу Малер как-то оплатил прокат фортепиано, а Кржижановскому отдал новое зимнее пальто, подаренное родителями.
Подчиняясь правилам жизни, требованиям времени, модным течениям и будучи полностью увлеченными художественными тенденциями и идеями, Малер, Кржижановский и Вольф стали посещать известный социалистический кружок Пернершторфера. Стараясь разобраться в политике, друзья изучали труды знаменитых мыслителей, в частности Шопенгауэра и Ницше. Именно Ницше, превозносивший мистерианство Вагнера, являлся неиссякаемым источником творческого вдохновения для Малера на протяжении всей его жизни.
Однако нельзя сказать, что у Густава с друзьями были безоблачные отношения. Хуго Вольф, имевший довольно вздорный характер, умудрился поссориться даже с миролюбивым Малером. Причиной их разлада стало оперное либретто «Рюбецаль», написанное на сказочный сюжет. Они оба работали над этой оперой, притом Малер сочинял тайно, не ставя Вольфа в известность. Хуго, который к тому времени только приступил к сочинению, отнесся к поступку Густава как к чудовищному обману, поскольку считал, что раскрыл другу свою тайную идею, а Малер ее попросту украл. Естественно, правда была не столь категоричной, однако замысел оперы «Рюбецаль» ни Малером, ни Вольфом так и не был осуществлен, разрыв же между друзьями стал окончательным.
Консерваторская атмосфера выглядела отнюдь не оптимистично. Редко когда корпоративная этика академического сообщества музыкальных профессионалов соотносилась с реальным течением музыкальной жизни. Венская консерватория, руководимая Йозефом Хельмесбергером, приверженцем старых музыкальных традиций, исключением не была. Убежденный поклонник классиков, опытный музыкант старой закалки с большим скептицизмом относился ко всему новому в искусстве. Сочинения Малера его особенно не привлекали. О Хельмесбергере, отличавшемся эксцентричным поведением, в консерватории ходили разные слухи, говорили, что его крайнюю неприязнь вызывают три вещи: Якоб Грун, ставший после него руководителем филармонического оркестра, близорукие люди и евреи. Естественно, что некрещеный еврей Малер, с детства испортивший зрение чтением, не относился к числу любимых студентов директора.
Примечателен эпизод, когда Густаву в течение нескольких недель до консерваторского конкурса пришлось сидеть допоздна, переписывая оркестровые партии собственного симфонического произведения. Эта трудная работа, разумеется, должна была быть поручена профессиональному переписчику, но денег на это у Малера не было. Когда задача была выполнена, юноша дрожащими руками передал рукопись директору консерватории для дальнейшего дирижирования. Партии раздали оркестрантам, началась репетиция. Несколько строк шли гладко, однако внезапно возникли невообразимые диссонансы, от которых сердце бедного Малера почти что остановилось. Директор-дирижер остановил оркестр и попросил начать сначала. Но в том самом месте опять всё остановилось. Оказалось, Густав что-то напутал. Хельмесбергер гневно взглянул на несчастного композитора и, крикнув: «Как вы смеете мне давать дирижировать партитуру с таким количеством ошибок!» — швырнул ноты к ногам юноши. Даже исправив неточности в рукописи, добиться еще одной репетиции у директора Малер не смог. Что за сочинение погибло из-за этого печального недоразумения, остается неизвестным, однако исследователи сходятся во мнении, что это была «Нордическая симфония» или одночастная симфоническая поэма на темы народов европейского севера. В итоге юному композитору пришлось срочно сочинять фортепианную сюиту. Позднее он вспоминал: «Я получил за нее первую премию потому, что она оказалась более поверхностной и слабой. В то же время мои хорошие вещи провалились у господ членов жюри».
По сути, молодые таланты, восторгавшиеся современной музыкой, разговаривали с консерваторской профессурой на разных языках. Примеры весьма показательны: два пятнадцатилетних мальчика из провинциальных районов Австрии — Хуго Вольф, мечтавший симфонизировать жанр песни, и Густав Малер, желавший постигнуть принципы самовыражения, — волею судеб оказались в столице музыкального искусства. Вольф, ставший в дальнейшем одним из крупнейших мастеров камерно-вокального жанра XIX века, так и не был оценен педагогами по достоинству, а его неготовность мириться с жесткой консерваторской дисциплиной послужила официальной причиной для отчисления. Малер же, неоднократно возмущавшийся пренебрежительным отношением консерваторских мэтров к современной музыке, избежал угрозы отчисления, написав покаянное письмо Хельмесбергеру. Хуго, сознавая собственный талант, не стал руководствоваться ничем, кроме композиторской интуиции и идей «учителя учителей» Вагнера. Густав, более спокойный и не лишенный академического таланта, терпеливо приступил к формированию собственного творческого кредо, соединяя новое и традиционное искусство. С первых шагов обучения Вольф восстал против консерватории. Его пренебрежительное и бескомпромиссное отношение к ней создало дискомфорт, сделав персоной нон-грата, что, наконец, привело к изгнанию из ее стен. Солидаризировавшись с Вольфом, Малер начал молча претворять свои идеи в собственных произведениях, в течение трехлетнего обучения никогда не переводя это в конфликт. За такую позицию Густав заработал клеймо «высокомерный», однако из консерватории изгнан не был, напротив, он окончил ее с отличием. Пример из жизни Ганса Ротта, встретившего полное непонимание в консерваторских стенах, надломившее его психику, попросту трагичен… Но об этом чуть позже.
Решение Малера стать композитором получило подкрепление в 1877 году, когда в Вене гастролировали Ференц Лист и Антон Рубинштейн. Посетив их концерты, Густав пришел к выводу, что у него нет достаточного мастерства и необходимой масштабности исполнения, важной для концертирующего пианиста. Этим заключением Малер незамедлительно отмел от себя малейшую возможность фортепианной карьеры. Курс дирижирования в консерватории не преподавали, оставалось одно — сочинительство.
Осознавая потребность в наставнике, разделявшем взгляды на современное искусство, которого Малер так и не нашел в консерваторском образовании, молодой композитор обратился к университетской профессуре. Окончив гимназию, в октябре 1877 года семнадцатилетний Густав начал посещать лекции по литературе, философии, истории музыки и гармонии в Венском университете, где курс гармонии вел тот самый Антон Брукнер, о котором Густав был немало наслышан, в том числе от Ротта. Ганс учился у Брукнера исполнительству на органе и нашел в его лице единственного из музыкантов старшего поколения, по достоинству оценившего его дарование.
Вместе с Вольфом и Роттом Малер никогда не упускал возможности посетить необыкновенные лекции этого незаурядного человека. Презираемый ненавистниками Вагнера, застенчивый и скромный профессор контрапункта композитор Антон Брукнер вел бесконечные споры с авторитетными музыкальными критиками, находясь именно в университетской аудитории. К своему удивлению, он нашел там куда более дружелюбное общество, чем в стенах консерватории, отдававшей приоритет старому искусству. Он инстинктивно понимал, что его реальная значимость для молодых энтузиастов была не столько в преподавании контрапункта, сколько в несении нового знамени, символизировавшего знакомство с более широким миром музыкального искусства.
Брукнер был весьма необычным человеком. В его жизни религия всегда стояла на первом месте, а усердие в молитвах порой перерастало в маниакальную идею. Он был неуклюж, незаметен, во многих вопросах по-детски наивен. Его прямота, непосредственность, грубоватый верхнеавстрийский диалект — всё, даже одежда, выдавало в нем провинциала, которым он оставался до конца своих дней. И это несмотря на десятилетия, проведенные в Вене! При этом Брукнер был очень привлекательным человеком: почти все отмечали особое обаяние его наивной, простой и скромной натуры. Дирижер и пианист Бруно Вальтер растолковывает магнетизм Брукнера так: «Для себя я объясняю эту привлекательную силу его странной индивидуальности сиянием высокой, праведной души с величием музыкального гения, просвечивающего через непритязательную обыденность. Если его общество и сложно назвать “интересным”, то оно было трогательным — да, возвышающим… Его невзрачное тело венчала голова римского императора, которую можно было назвать величественной, с внушительными очертаниями бровей и носа, странно контрастировавшими с кротостью в глазах и в складке рта».
Иногда у Брукнера появлялись болезненные идеи: к примеру, он собирался осушить Дунай, сосчитать звезды, песчинки, листья на деревьях… Периодически он вынужден был обращаться к врачам и проводить курсы лечения от этой мании. Часто он не понимал, что пишет, и уничтожал только что сочиненную музыку. Брукнер мог ходить всё лето в пальто, пока ему не начинали напоминать, что зима уже закончилась. При этом в разговорах о музыке Брукнеру не было равных. Он мог несколько часов подряд разбирать мельчайшие штрихи звуковой ткани, сопровождая свое интереснейшее рассуждение занятными примерами из музыкальной литературы. Так, отвечая на вопрос одного из студентов, он на протяжении целого дня рассказывал об обычном мажорном трезвучии. Будучи крайне религиозным человеком, Брукнер видел божественное проявление во всём, включая материю музыки. В своих лекциях он часто обращался к средствам музыкальной выразительности, придавая им некую одухотворенность: «О, грандиозное форте» или «Господин До мажор».
Познакомившись с Брукнером, Малер стал почитать его так же, как Вагнера. Брукнер увлеченно рассказывал о своем паломничестве в 1876 году на открытие театра в Байройте, ознаменовавшееся первым исполнением вагнеровской тетралогии «Кольцо нибелунга». Его живое участие в судьбах молодых талантов с постоянной готовностью бескорыстно их поддерживать, что-то советовать всегда вдохновляло юных музыкантов. В это время он активно работал над новой редакцией своей Третьей симфонии, премьера которой состоялась в декабре того же 1877 года. Однако оркестранты Венской филармонии саботировали это сочинение: по окончании симфонии они немедленно покинули сцену, не дождавшись аплодисментов, и композитор, в одиночестве стоя на опустевшем помосте, кланялся группе энтузиастов, среди которых был и Густав Малер. Восхищенный творением Брукнера, он самостоятельно осуществил переложение этой симфонии для фортепиано, которое вскоре вышло в свет благодаря издателю Раттигу.
Брукнер и Малер нашли друг друга: оба знали, что такое критика и непризнанность, испытывали любовь к Вагнеру и понимали стратегию развития искусства. Позднее дружба их так сплотила, что Брукнера стали называть приемным отцом Малера. Густав со своими друзьями нередко оказывался свидетелем столкновений Брукнера, в частности с критиком Гансликом, который постоянно разжигал страсти, обрушиваясь с беспощадной тирадой на Вагнера, а впоследствии и на Малера. Известно, что Ганслик пытался не допустить Брукнера к преподаванию в университете, но Брукнер всё же читал там гармонию и контрапункт, сделав теорию музыки частью университетской учебной программы.
Дружбу между Малером и Брукнером можно назвать духовным венцом консерваторских дней Густава. Сохранилось много историй, свидетельствующих о их привязанности и взаимном уважении. С другой стороны, чувство молодого Малера к Брукнеру было преклонением перед великим человеком. Он присутствовал на лекциях Брукнера в университете и видел, какой восторг они вызывали у слушателей. Юный и зрелый композиторы были настолько дружны, что вместе входили и выходили из здания университета. Малер являлся одним из немногих привилегированных гостей в доме Брукнера. Старший друг играл ему отрывки из сочиняемой в тот момент симфонии. Как высший знак уважения маэстро всегда провожал Густава, проходя все четыре лестничных пролета, и расставался с ним у двери на улицу. Вопрос, был ли Малер брукнеровским учеником, не столь важен ввиду неопровержимых доказательств существования их более глубокого взаимного чувства. Однако после смерти Малера было обнаружено письмо, отвечающее на этот вопрос: «Я никогда не был учеником Брукнера. Все думают, что я учился у него, потому что в студенческие годы в Вене часто был в его компании и числился среди его первых учеников. На самом деле, я думаю, что в свое время мой друг Кржижановский и я были его единственными последователями. Несмотря на большую разницу в возрасте между нами, веселый нрав Брукнера и его детская доверчивость сделали наши отношения чистой открытой дружбой. Естественно, понимание и реализация моих художественных и человеческих взглядов невозможны без его влияния. Поэтому я считаю, что, возможно, более оправданно, чем большинство других, называю себя его учеником, и всегда буду делать это с глубокой благодарностью».
Достоинство, непреклонность и прежде всего непоколебимая вера в истинность сказанного, которыми Брукнер отвечал на жестокие обвинения, возносили его выше всяческих нападок. Для Малера в этом заключался нравственный урок, который, несомненно, помогал не падать духом в течение многих лет, когда ему — неизвестному композитору отказывали в признании. Как и Брукнер, не уступавший любым попыткам недоброжелателей принизить или изменить его взгляды, Малер впоследствии никогда не шел на творческие компромиссы. Позже, став концертирующим дирижером, Густав всегда навещал Брукнера в Вене. Надпись, сделанная Малером при дирижировании «Те Deum» Брукнера, стала знаменитой. На обложке партитуры вместо привычных слов «Для солистов, хора и оркестра» он написал: «Для ангельских голосов, чистых сердец и душ, очищенных огнем».
Оценивая дарование Малера весьма высоко, Брукнер после занятий часто приглашал его выпить по кружке пива, за которой они обсуждали волнующие музыкальные проблемы. Так студенты Малер, Вольф и Ротт получали ответы на интересующие их вопросы: куда должна развиваться музыка, какова логика строения музыкального произведения, каковы задачи композиторского творчества. Эти ответы звучали не в консерватории.
Однако и занятия у консерваторских профессоров были Густаву необходимы, и он, по-видимому, вел двойную жизнь. Когда педагоги думали, что их ученик сочиняет обычное камерное произведение, он втайне посягал на высшие музыкальные формы: симфонии и оперы. В то время, когда Малер симулировал искусственный интерес к серенадам профессора Фукса, он делал фортепианное переложение Третьей, «Вагнеровской симфонии» Брукнера, что красноречиво свидетельствует о глубоком изучении им принципов симфонической драматургии.
Окончив консерваторию в 1878 году, Малер провел лето как обычно дома, в Йиглаве. Там с родителями он обсуждал планы своего будущего. Бернхард и Мария строили воздушные замки. Эти простые провинциальные люди, любящие своего одаренного сына, но мало представляющие реальный мир, не понимали, почему его карьера строится не так быстро, как хотелось бы. Наивно веря, что их сын вернется осенью в Вену, а престиж его диплома с отличием тотчас привлечет внимание целого мира музыки, родители зарядили оптимизмом самого Густава. Но действительность принесла одно разочарование.
За целый год единственным доходом Густава были деньги, полученные от одного или двух учеников, обучавшихся у него игре на фортепиано. Этих средств едва хватало на карманные расходы. Восемнадцатилетний Малер так и не получил предложений достойной работы. Отчаянное положение, в котором он оказался, усиливало врожденную меланхолию, но дух усердия всё больше закалялся. Густав погрузился в изучение философии и истории в университете, читая шедевры европейской литературной мысли.
В апреле следующего, 1879 года мать композитора родила последнего ребенка — сына Конрада, прожившего чуть больше полутора лет. Не желая злоупотреблять пищей и кровом родительского дома, Густав летом принял предложение состоятельного органиста и органного мастера Морица Баумгартена провести июнь и июль в Венгрии в загородном доме мастера и обучать там его сыновей игре на фортепиано. Из-за желания заработать он даже отказался отмечать с семьей свой девятнадцатый день рождения.
Вдали от дома Малера часто посещали приступы удрученности и тоски по родине. Он искал утешения, сочиняя длинные письма своему другу юности поэту Йозефу Штайнеру. Некоторые из них сохранились до наших дней и представляют собой важные документы этого периода жизни Малера. Яркие страстные повествования о мучивших душу молодого композитора мыслях и сомнениях, по мнению Гэбриела Энджела, могут быть соотнесены с предисловиями к его симфониям, еще не сочиненным на тот момент. Вот одно из этих писем: «Я живу здесь в одной семье, которая наняла меня на лето. Моя обязанность — давать мальчикам уроки фортепиано и время от времени доставлять музыкальные наслаждения всему семейству. И вот я сижу здесь и барахтаюсь, как комар в паутине… Вечерами я выхожу на луг, взбираюсь на одиноко стоящую там липу и с ее вершины далеко смотрю на окружающий мир: перед моими глазами Дунай ведет свой привычный ход, в его волнах пылает жар заходящего солнца… ветви дерева, покачиваясь на ветру, баюкают меня, как дочери Лесного царя… повсюду покой, священный покой!.. передо мной проходят неясные образы моей жизни, а в моих ушах вновь звенит песня тоски». Малер всё еще переживал консерваторское лицемерие и тяжесть первых самостоятельных шагов, внезапную смерть брата и неисполненный долг написать в его память оперу «Герцог Эрнст Швабский».
В сердце Густава попеременно царили противоречия и беспокойства: «яркий огонь» жизненных сил и «снедающая жажда смерти». Он писал: «Если омерзительное лицемерие и лживость, тяготеющие теперь над нами, довели меня до того, что я сам себе кажусь бесчестным, если кабальная зависимость от того положения, в котором оказались и наше искусство, и наша жизнь, смогла посеять в моем сердце отвращение ко всему, что было для меня свято… то какой же еще остается выход, кроме самоубийства?.. Но вот солнце мне улыбнется — и лед в моем сердце тает, я снова вижу голубое небо… и мой язвительный смех разрешается слезами любви. И я не могу не любить этот мир с его обманом и легкомыслием, с его вечным смехом». Новая жизнь, новые обязанности и обстоятельства, несмотря на тяготы прошлого, вели молодого Малера вперед, не оставляя ему времени на пессимизм и уныние.
Вернувшись в августе домой к родителям, Густав впервые по-настоящему влюбился. Объектом его безнадежной любви и страсти стала Йозефина Пойзль, одна из его учениц и дочь начальника местной почтовой конторы. «Новое имя теперь вписано в мое сердце…» — писал он другу Антону Крисперу. Вдохновленный своим чувством, Малер отдался сочинительству. Весной следующего года своей «страстно любимой» Густав отправлял письма такого содержания: «…я ближе, чем когда-либо к цели моих желаний, когда то, что мы (о, я бы мог сказать — мы оба) так горячо желали, скоро будет исполнено. Я никогда не преклонялся ни перед кем. Посмотри, я становлюсь на колени перед тобой!» Все его письма проходили через отца возлюбленной, который, очевидно, заботясь о том, чтобы романтический натиск юноши не вскружил голову Йозефине, в июне лично дал ответ Малеру: «Никогда не было и никогда не будет никакой серьезной привязанности с ее стороны». Стоит заметить, что вплоть до встречи с будущей женой в 1901 году холостая жизнь Густава часто сопровождалась яркими и страстными влюбленностями, не имеющими серьезного продолжения, однако необходимыми его творческой натуре. Продуктом этой несколько нелепой и невинной любви стали три песни.
Сезон 1880 года оказался для Малера не лучше предыдущего. В качестве единственного дохода столица музыкальной Европы могла ему предложить лишь несколько учеников.
Венский досуг юного композитора в среде его товарищей как на протяжении учебы, так и после нее легче понять, учитывая следующее обстоятельство. Поколение Малера — поколение немецкой молодежи, сделавшее своим идеалом Вагнера и предпринимавшее реальные попытки следовать по его стопам. Кумир писал оперы на собственные либретто, поэтому юные таланты, последовав за «учителем учителей», начинали слагать стихи для сочиняемых ими же произведений. Малер был в их числе. Идеалистические идеи Вагнера, состоявшие в желании возродить человечество, уходя от животного начала к надприродному, приводили его последователей чуть ли не к фарсу. Все литературные деяния кумира имели огромный резонанс и обсуждались на сборищах начинающих музыкантов.
Статья Вагнера «Публика и популярность», вышедшая в 1878 году, объясняла молодым талантам причины неприятия их искусства. В ней утверждалось, что люди в своей массе склонны к поверхностному восприятию искусства и скоропреходящему наслаждению, от чего положение настоящего художника всегда трагично. Статья 1879 года «Хотим ли мы надеяться?» посвящена больному вопросу о взаимоотношении искусства и обыденной человеческой жизни. В ней Вагнер вновь говорит об антагонизме общества и искусства. Но тут кумир выражает надежду, что состояние искусства способно улучшиться при «идеальных запросах германской расы», для возникновения которых предлагает реакционнейшую теорию «регенерации». Суть ее сводится к тому, что упадок человечества вызван смешением «неравных» рас. Расовая теория, столь близкая фашизму, была почерпнута им из «Очерка о неравенстве рас» графа Гобино. В статье «Религия и искусство» композитор предложил в качестве средств возрождения, то есть регенерации человечества, вегетарианство, создание союза борьбы с алкоголизмом, «освобождение от мира явлений» и «отрицание воли к жизни».
Особую роль Вагнер приписывал музыке как единственному искусству, способному раскрыть сущность христианства. Собственно, мысли о музыке, как великой созидательной силе, легли в основу христианской мистики его последней оперы «Парсифаль». Все идеи, выраженные композитором, впитывались горячо поддерживающими и дискутирующими друг с другом юными поклонниками, которые пытались следовать предложенной концепции как своду священных текстов. Если культивирование сверхчеловеческих качеств у Вагнера выражалось через соблюдение кодекса этических правил, среди которых особый смысл имел отказ от животной пищи, то его продолжатели стали отказывать себе в мясе, провозглашая некое этическое значение вагнерианского вегетарианства. Не стоит и говорить, что бедный студент Малер даже без приятия идеологии кумира не часто ел мясную пищу ввиду ее высокой цены, поэтому следовать Вагнеру в этом вопросе ему фактически ничего не стоило. В письме другу Эмилю Фройнду 1880 года он описывал свою «травоядную» практику так: «За этот месяц я выходил из вегетарианства. Моральный эффект от этого образа жизни с его добровольным бичеванием тела огромен, так как вызывает похудание… Всё, что я могу сказать тебе сейчас: позволь себе преобразоваться естественным образом жизни, но тот путь преобразования, в котором ты ешь правильную пищу (растительное, семена, хлеб из непросеянной муки), скоро принесет тебе плоды твоих начинаний».
В те же годы сильнейшее воздействие на Густава оказал его товарищ Зигфрид Липинер. В кругу венских студентов этот поэт и мыслитель пользовался особым авторитетом несмотря на свой юный возраст. В 1876 году он опубликовал драму «Освобожденный Прометей», которую прочел сам Вагнер и не просто обратил внимание на молодого литератора, но даже пригласил его к себе в Байройт. И хотя их встреча ни к чему не привела, вдохновленный знакомством Липинер стал горячим поклонником вагнеровских идей и опубликовал доклад «Об элементах обновления религиозных идей сегодня», прочитанный им 19 января 1878 года в «Обществе чтения немецких студентов», на заседаниях которого нередко бывал Малер. Именно этим годом датируется их знакомство, в течение последующих двадцати четырех лет они поддерживали тесные личные отношения. Липинер, будучи старше Густава почти на четыре года, стал его своеобразным учителем и проводником в вопросах философии, во взглядах на искусство. Другим его товарищем из той же компании был Гвидо Адлер — ученый, внесший огромный вклад в музыкальную науку. С ним композитор познакомился еще в Йиглаве, где оба провели детство, и дружил на протяжении всей жизни.
Молодые мыслители общались уютными венскими вечерами за сигарой и чашкой кофе, так как не могли позволить себе ничего более, и обсуждали свои идеологические сражения за музыкальную драматургию. При этом в то же самое время в паре кварталов от места заседаний их провагнеровского общества в здании Венской оперы могла идти постановка «Тристана» или «Мейстерзингеров». В пылу полемики их совершенно не интересовал тот факт, что из-за высокой цены входного билета в вагнеровских оперных постановках им было отказано.
1878–1880 годы композитор посвятил созданию особого вокально-симфонического сочинения. Окончательно оставив попытки положить на музыку либретто о герцоге Швабии своего друга Штайнера, Малер следом за Вагнером решил попробовать себя в литературном жанре, чтобы собственный текст взять за основу музыкального произведения. В результате долгих попыток у Густава родились стихи, стилизованные в старинном балладном жанре и, пожалуй, не уступающие ранним литературным опытам его кумира. Однако его музыкальный труд, известный миру как «Das klagende Lied», в первоначальном виде не сохранился. Будучи изданным лишь через 20 лет, этот опус претерпел множество литературных и музыкальных изменений. Первый вариант произведения вышел из-под пера, когда его автору было всего 19. Сказка для хора и двойного оркестрового сопровождения, где один из оркестров предполагалось разместить за сценой, является уникальным сочинением, показывая искреннюю борьбу юного композитора за собственный музыкальный язык.
Сюжет взят из одноименной сказки Людвига Бехштейна, а также сказки братьев Гримм «Поющая косточка». Фабула, широко известная по фольклору разных народов, вызывает жутковатые мистические ощущения. Флейта пастуха, сделанная из человеческой кости, поет об ужасной истории братоубийства, которое было совершено тщеславным завистником, жаждавшим стать королем. Справедливость в сказке торжествует в тот момент, когда пастух перед злодеем исполняет обличительную песнь флейты, которая становится тем самым голосом воскресшего из мертвых, голосом ангела или голосом некоего трансцендентного начала, карающего зло. Как видно, такая мистическая настроенность была интересна Малеру, поскольку впоследствии часто встречалась в его сочинениях. И если у братьев Гримм песенный текст, заключающий в себе почти гамлетовскую идею, звучит так:
Ах, мой милый пастушок! Ты послушай-ка, дружок: Меня брат мой здесь убил, Под мосточком схоронил. И себе обманом в жены Королевну подцепил…то вариант Малера представляет собой чуть ли не романтическую балладу по мотивам сказки, где акцентируется внимание больше на горе и ужасе от убийства, нежели на разоблачении злодея:
Под ивой в тенистом лесу, Где галки и вороны вьются, Лежит белокурый витязь, Укрытый зеленой листвой…Отдельно следует заметить, что переведенное отечественными музыковедами название произведения — «Жалобная песнь» как минимум — дискуссионно, а как максимум — неверно. Заявленное композитором в названии «Das klagende…» имеет перевод не только «жалобная», но и «оплакивающая», «плачущая». Восходящее к славянскому фольклору название «Плач», или дословно «Оплакивающая песнь» более точно передает авторскую концепцию, в свете чего становится ясен замысел Малера в акцентировании не сюжетной линии сказки, а чувств, вызванных убийством. Несмотря на то, что «Das klagende Lied» стала его заключительным авторским опытом в подобном жанре, впоследствии Малер комментировал свое юношеское сочинение таким образом: «Мое первое произведение, в котором я стал “Малером”, — сказка для хора, солистов и оркестра “Das klagende Lied”. Это сочинение я обозначаю опусом первым».
Над произведением композитор работал в течение нескольких недель и днем и ночью. Энтузиазм молодого человека, а также чувство творческого полета, охватившее его, позволяли Малеру не замечать даже голода. Гэбриел Энджел описывает, как однажды ночью обессилевшим Густавом при создании музыкальной аллюзии к силам природы внезапно овладело крайнее беспокойство. Неведомая сила заставляла его не отрывать глаза от бумаги, и боковым зрением он стал наблюдать в комнате чье-то присутствие. Напрасно композитор пытался сосредоточиться на работе: странная противоборствующая сила была слишком велика, и он, наконец, сдался. Густаву начало казаться, что стена оживает. Кто-то яростно пытался пройти сквозь нее в комнату. Ему стало мерещиться искаженное лицо призрака. Вдруг он понял, что это его собственное лицо! В ужасе Малер выбежал из комнаты. На следующий день он попытался продолжить свою работу. Но с того момента, где сочинительство было прервано, при переходе в тональность, в которой озвучивались образы природы, чувство безнадежности и мучительного угнетения стремительно вернулось мрачной галлюцинацией. Густав снова был вынужден отказаться от сочинения. Лишь через много дней после летнего перерыва он смог справиться с этим ненормальным психическим состоянием.
В поисках постоянной работы, обеспечивающей финансовую стабильность, Густав стал обращаться за помощью к знакомым. Биографы противоречат друг другу в вопросе устройства Малера на летнюю работу. По одной версии, профессор Эпштейн, который долгое время с озабоченностью наблюдал за своим юным протеже, решил поспособствовать Густаву. По другой — издатель Раттиг, для которого Малер ранее подготовил переложение Третьей симфонии Брукнера, свел его с агентом Густавом Леви, согласившимся представлять интересы молодого музыканта на условиях пяти процентов от гонорара. Истина видится посередине: работа, скорее всего, была найдена агентом, а совет Эпштейна: «Вы знаете, я желаю вам только хорошего. Воспользуйтесь этой возможностью» — послужил скорому согласию юного композитора. Как бы то ни было, летом 1880 года Малер работал дирижером театра в курортном городке Верхней Австрии Бад-Халль с весьма скромным жалованьем в 30 гульденов в месяц. Невзирая на возражения родителей и друзей, он послушался именно своего консерваторского профессора, чтобы совершить первый шаг в дирижерской карьере.
Хотя театр был самого низкого уровня, а эстетический голод посетителей удовлетворялся опереттами, фарсами и музыкой к комедиям и драматическим спектаклям, работа для Густава стала опытом, который ему впоследствии пригодился. Незамысловатое название этой местности означало «соль для ванн», однако Малер, впервые столкнувшийся с театральным ремеслом, отзывался о нем не иначе как об ужасном месте или даже перевирал «Hall» — зал в «Holle» — ад. И на то у Густава были особые причины: его труд представлял собой самый настоящий ад для любого дирижера. Помимо основной деятельности, Малеру долженствовало выполнять обязанности разнорабочего — расставлять ноты на пульты, вытирать пыль с инструментов… Конечно, став впоследствии всемирно известным оперным дирижером, он мог абсолютно не стыдиться своего отнюдь не лучшего дебюта, но память о нем он пытался стереть из жизни.
Когда лето прошло, Малер вернулся в Вену и снова впал в уныние, озабоченный поиском средств к существованию. Из письма другу Эмилю Фройнду известно, что 1 ноября 1880 года «Жалобная песня» была завершена. Густав испытывал огромное творческое облегчение, хотя и находился на грани помешательства. В те дни, больше чем когда-либо, он был убежден, что его кредо заключается не в дирижировании, а именно в создании музыки. Он писал: «Сказка, над которой я работаю уже больше года, наконец закончена. Это — настоящее дитя горя. И все-таки она удалась. Теперь моя ближайшая задача — всеми возможными средствами добиваться ее исполнения».
С большой надеждой и уверенностью Густав выдвинул только что сочиненную «Жалобную песню» на организованный в консерватории Бетховенский конкурс. Конкурс сулил композитору, победившему на нем, признание, а также серьезное денежное поощрение — премию, равную двадцати месячным зарплатам в Бад-Халле. Эта сумма позволила бы Густаву на год погрузиться в сочинительство и закончить желанную оперу «Рюбецаль».
В авторитетное жюри под председательством Брамса входили профессор Гольдмарк, критик Ганслик и дирижер Рихтер. Однако именитые судьи превратили конкурс в показательное уничижение молодых дарований, проигнорировав талантливые сочинения и присудив премию заурядному автору Виктору Херцфельду. Следует заметить, что победитель впоследствии забросил сочинительство и посвятил себя игре на скрипке. 6 декабря — день объявления результатов — стал переломным моментом в судьбах многих юных дарований.
Тяжело было не только Малеру, но и его консерваторским однокашникам Гансу Ротту и Хуго Вольфу. Ротт, после того как представил свою симфонию в комитет конкурса, находясь в поезде по дороге из Вены, достал револьвер и направил его на попутчика, раскуривавшего сигару. Он стал кричать, что Брамс подложил в вагон динамит и они от любой сигары могут взлететь на воздух. Скрученный жандармами, Ротт прошел курс лечения в психиатрической клинике, после чего впал в депрессию, а в 1884 году в возрасте двадцати пяти лет, очевидно заразившись в больнице, скончался от туберкулеза. Некоторые биографы настаивают на том, что именно результаты конкурса послужили причиной сумасшествия Ротта. Однако итоги были объявлены после этого случая. Еще 1 ноября 1880 года Малер писал Эмилю Фройнду: «Ганс Ротт сошел с ума! И я поневоле опасаюсь, что то же самое случится с Криспером», тем самым подтверждая, что психическое расстройство Ротта случилось не из-за проигрыша на конкурсе. При этом следует учитывать, что как раз интенсивная подготовка к конкурсу сказалась на здоровье несчастного музыканта.
Современники оценивали композиторский дар Ротта весьма высоко и прочили ему достойное место в музыкальной истории. Музыковед Роб Кован, анализировавший его сочинения, высказывает следующую мысль: «Трудно представить, куда еще мог бы привести нас Ганс Ротт, проживи он достаточно, чтобы совершить свой путь». В 1900 году Малер писал своей подруге Натали Бауэр-Лехнер, что невозможно переоценить, как много со смертью Ротта потеряло искусство: его гений достиг небывалых высот еще в Первой симфонии, написанной в 20 лет и делающей его, без преувеличения, основоположником новой симфонии, как ее понимал сам Густав… В том же письме Малер признавался: «Если бы жюри консерватории… присудило мне 600 австрийских флоринов за Кантату, вся моя жизнь была бы иной. Я просто работал бы над “Рюбецаль”, не пришлось бы ехать в Лайбах, что, таким образом, избавило бы меня от моей проклятой оперной карьеры. Но премию получил господин Херцфельд, а Ротт и я ушли с пустыми руками. Ротт, отчаявшись, сошел с ума и умер, а я был ввергнут в ад театральной жизни (где всегда буду оставаться)».
КРУГИ ТЕАТРАЛЬНОГО АДА
В консерваторские годы финансовые обстоятельства вынуждали Малера во многом себе отказывать. Родители, занятые воспитанием младших детей, могли его поддерживать лишь посылками, которые, естественно, не удовлетворяли даже самые скромные потребности. Чтобы прокормиться, Густав перебивался непостоянными заработками — обучением игре на фортепиано и композиции. Так продолжалось еще два года после окончания консерватории и университета. После неудачи на Бетховенском конкурсе, на победу в котором Густав так надеялся, ему не давали покоя мысли о несправедливости. Только после конкурса он узнал об участии в нем своих друзей и сильно переживал их провал. Получив первую премию, он наверняка столкнулся бы с иной проблемой: угрызениями совести относительно печальной участи Ротта.
Осознавая необходимость двигаться дальше, Густав продолжал искать возможности для заработка. Темная полоса его жизни подходила к завершению. Внезапно ему поступило предложение из Лайбаха возглавить местный театр на один сезон в качестве дирижера. И, понимая, что надежды найти достойную работу в Вене практически нет, к тому же в его помощи нуждалась семья, Малер сразу покинул столицу. Это был ангажемент, которого можно было не стыдиться, к тому же дававший хоть какую-то материальную стабильность. Однако амбиции Густава были значительно выше, и он воспринимал эту работу как временную, впрочем, как и его семья.
Ученик Фрейда, психоаналитик Теодор Рейк, рассказывал такую историю. Отец Юлиуса Тандлера, ставшего впоследствии известным профессором анатомии Венского университета, и Бернхард Малер, прогуливаясь вместе по Вене, оказались у здания Анатомического института. И Тандлер сказал: «Мой сын — студент-медик, но однажды он будет профессором этого института». Через десять минут они дошли до Придворного театра, и Бернхард, указав на впечатляющее грандиозной архитектурой здание, произнес: «Сейчас мой сын дирижер в театре Лайбаха, но однажды он будет директором Императорской оперы». Эта красивая история свидетельствует об отношении родителей к Густаву — они были уверены, что он непременно сделает успешную карьеру.
Сегодня Любляна — столица, главный политический, экономический и культурный центр Словении. В малеровские времена город назывался Лайбах и был обыкновенным провинциальным городишкой. К 80-м годам XIX столетия музыкальная культура дошла и до таких городков. Там организовывались театры, где местная публика проводила свой досуг, посещая оперные представления, балы и прочие светские мероприятия. Такие театры были единственным местом развлечений. Их репертуар составляли беспроигрышные «кассовые» представления, не претендующие на высокое музыкальное искусство.
Театр Лайбаха назывался «Landestheater», то есть «Национальный», но, увы, кроме названия он мало чем мог похвастать. Профессиональная слабость исполнителей была не главным недостатком. Артисты могли без предупреждений попросту не являться на свои выступления, и Малеру, ответственному за исполнение, приходилось выкручиваться из форс-мажорных ситуаций. К примеру, на представлении оперы «Марта» немецкого композитора Фридриха фон Флотова из-за отсутствия певицы Густав сам вынужден был насвистывать песню «Последняя роза лета». А во время «Фауста» Шарля Гуно случился настоящий конфуз: на исполнение знаменитого «Хора солдат» вместо хора пришел всего один хорист, и Малер, очевидно, осознав крайнюю нелепость ситуации, стал неторопливо прогуливаться по сцене, распевая не ожидаемое: «Déposons les armes, dans nos foyers enfin nous voici revenus…» (Пора сдать оружие: мы, наконец, вернулись в наши дома…), а лютеранский хорал «Ein Feste Burg» (Господь — надежный наш оплот). Воспитанный в венской музыкальной культуре, Малер столкнулся здесь с иной, провинциальной реальностью, которая, как ни парадоксально, давала особый жизненный и профессиональный опыт: такая работа ставила перед еще наивным музыкантом проблемы, решению которых не научит ни одна консерватория. К тому же молодой дирижер, крайняя бедность которого не позволяла присутствовать на постановках Венской оперы, в первый раз именно в Лайбахе испытал ощущение творческого полета от интерпретации сценических партитур. Каждая исполняемая под его управлением опера рождала у Густава чувство особого очарования.
Проработав в Лайбахе один сезон, Малер получил новый ангажемент — в Моравию, в город Оломоуц, называвшийся в те годы Ольмюц. Этот симпатичный городок был неплохой стартовой площадкой для карьеры оперного дирижера. Согласие на продолжение работы в таком качестве, по мнению Малера, ставило крест на его призвании быть композитором. Он представлял себе несчастную жизнь, полную бесконечных скитаний, и его охватывали сомнение и страх перед жизненным выбором. В мрачных и тревожных раздумьях Густав провел свой короткий отпуск в Вене. В компании одного из товарищей он часто прогуливался по венскому лесу, опоясывающему город. И хотя Малер имел репутацию блестящего собеседника, эти прогулки проходили в удручающем молчании. Помимо карьеры композитора и дирижера, Густав не отказывался от возможности стать пианистом. Друзья, слышавшие его игру на фортепиано в те дни, говорили, что он изливал совершенно интимное отчаяние в своих интерпретациях сонат Бетховена и фуг Баха, будто прощаясь с ними навсегда. В то время Малер сблизился со своим университетским однокурсником, археологом и филологом Фридрихом Лёром, дружба с которым сопровождала всю его жизнь.
Перед Ольмюцем он провел несколько дней дома в Йиглаве, где его досуг скрашивала новая знакомая. Следующее письмо, адресованное одному из йиглавских друзей, он писал, пожалуй, не без психологического интереса к этой юной особе: «На днях я пересекал площадь, когда вдруг раздался голос сверху: “Герр Малер, герр Малер”. Я посмотрел вверх и увидел в третьем окне фройлен Мораветц (младшую, с которой я познакомился в вашем доме), она от своей наивности и радости видеть меня не могла сдержаться. Я взял ее в подружки в моем пребывании в Йиглаве и показал ей все здешние места, теперь она благодарна мне по уши. Когда я пишу эти строки, она сидит в соседней комнате с моей сестрой. И так как ее нетерпение усиливается, я должен скорее закончить с моим горячим приветом тебе».
Представительницы прекрасного пола всегда благосклонно реагировали на симпатичного молодого человека, располагающего к себе приятной общительностью. Но крайний идеализм Густава заставлял поддерживать лишь строго платонические отношения. Когда какая-нибудь подруга начинала проявлять знаки привязанности, он внезапно исчезал из поля ее внимания. Причина столь сдержанного отношения к девушкам возникла неспроста. Еще будучи студентом университета, восемнадцатилетний Малер в один из приездов домой был в гостях у своего друга по гимназии Эмиля Фройнда. Дом, где Фройнд жил с родителями, располагался в местечке Зелов, находившемся в нескольких часах езды от Йиглавы. Там Густав познакомился с прелестной девушкой, двоюродной сестрой Эмиля, Марией Фройнд, которую смело можно назвать первой влюбленностью юного композитора. Она подпала под очарование молодого музыканта и его игры на фортепиано. Хотя их краткая романтическая связь могла вырасти в куда большее чувство, юный идеалист Густав не переходил черту, стараясь притормозить развитие отношений. Он даже предупредил девушку остерегаться возможной страсти, боясь обречь ее на сильные страдания. Не дав таким образом, как думал Густав, их любви разгореться в полную силу, они в скором времени расстались лучшими друзьями. Однако спустя два года произошло то, чего Малер боялся больше всего. Мария покончила с собой. Причины такого страшного финала ее жизни остались неизвестными для Густава. Известие о ее самоубийстве шокировало юного композитора.
Немецкий музыковед Альфред Матис-Розенцвейг, изучавший жизнь Малера с 1923 по 1948 год в труде «Густав Малер: Новые исследования его жизни, времени и работы», считавшемся до 1997 года утерянным, приводит письмо Малера, написанное Эмилю Фройнду в ответ на трагическую новость: «Эта новость достигла меня одновременно с твоим письмом и в то время, когда я сам нуждался в поддержке. Несчастье находится дома везде и облекается в самые странные формы, как будто издевается над бедными людьми. Если ты знаешь хоть одного счастливого человека на земле, скажи мне его имя, пока я не потерял последние капли бодрости, находящиеся во мне. Любой, кто наблюдал поистине благородную и глубокую натуру, борется против самой мелкой подлости и погибает, едва ли может подавить дрожь, когда он сравнивает шансы спасти свое собственное лицо. Сегодня День Всех Святых. Если ты был здесь в это время в прошлом году, то знаешь, в каком настроении я пребываю в этот день. Завтра День поминовения усопших, он будет первым, когда я буду поминать ту, кого я знал! Теперь у меня тоже есть могила, на которую я должен возложить венок». Неудержимо тянущийся к женщинам Густав после этой трагедии хотя и оставался к ним внимателен, однако, преследуемый мыслями о своем постоянном одиночестве, не выходил за рамки сдержанной вежливости.
К концу 1882 года Малер, надеявшийся, что условия для работы в новом месте будут лучше, чем в предыдущем, прибыл в Ольмюц. Но его первая реакция оказалась больше похожей на крайнее разочарование. Когда-то столица Моравского государства, гордящаяся тем, что здесь в 1848 году отрекся от престола недавно умерший император Фердинанд Габсбургский, прозванный чехами Фердинандом Добрым, Ольмюц был не столь провинциален, как Лайбах. Однако Малер в письме Лёру писал: «Я разбит, как будто упал с небес на землю. С тех пор как я переступил порог ольмюцкого театра, я чувствую себя человеком, который находится в ожидании Страшного суда. Когда благородный конь впряжен в телегу вместе с волами, ему ничего не остается, как тащить ее вместе с ними, обливаясь потом. У меня едва хватает духу показаться тебе на глаза; настолько я чувствую себя оскверненным… За исключением репетиций, я почти постоянно бываю один. До сих пор — слава богу! — я дирижирую только Мейербером и Верди. С помощью всяческих ухищрений мне удалось устроить так, чтобы Вагнера и Моцарта не включали в репертуар, ибо кровавой расправы над “Лоэнгрином” или “Дон Жуаном” я бы не вынес…» Тем не менее он признавал, что постановка оперы французского композитора Этьена Николя Мегюля «Иосиф в Египте» оказалась весьма удачной.
Музыканты и певцы театра смотрели на Малера, как на чудака, искренне не понимая его энтузиазма, — зачем тратить столько энергии на обыденную рутинную репетицию? Иногда ему всё же удавалось зажечь сердца коллег. Но чаще всего их почти враждебная флегматичность вызывала у него желание бросить дирижерскую палочку и уйти. Одним словом, работа в Ольмюце не приносила Густаву удовлетворения.
Несмотря на несложившиеся отношения с обленившимися оркестрантами, Малер расширил репертуар театра на пять опер, включив в него и знаменитую «Кармен» Бизе. Местная пресса, первоначально скептически относившаяся к новому дирижеру, становилась всё более к нему благосклонной. Доход его в целом был немного больше, чем в Лайбахе.
Гэбриел Энджел описывает Малера этого периода как молодого человека, физически не способного не вызывать очарования. В нем еще не было той мрачной решимости, за которую позднее его прозвали «гадким Малером». Когда он стоял за дирижерским пультом, его бешеная энергия распространялась по всему залу. Он был маленького роста, но жилистым, обладал стройной фигурой. Его черные волосы и темно-карие глаза, горевшие почти фанатичным блеском, никого не оставляли равнодушными. В Ольмюце Малер продолжал оставаться вегетарианцем, утверждая, что он ходит в ресторан, чтобы голодать.
Тринадцатого февраля 1883 года скончался Вагнер. Это событие особенно сильно сказалось на настроениях молодого композитора, сделав его пребывание в Ольмюце еще более невыносимым — Вагнер никогда не узнает о Малере, никогда не услышит малеровские постановки своих грандиозных опер. Кумир ушел, общаться с ним теперь возможно лишь через его выдающееся наследие… Малер начал осознавать, что больше не может оставаться в Ольмюце, где встречал непонимание, равнодушие, закулисные интриги… Самым лучшим выходом из этой ситуации Густав счел идею «очищения души», заполнившую его ум, — летнее паломничество в вагнеровский Байройт.
Город, в котором Вагнер провел последние годы и где в саду своего загородного дома был похоронен, потряс Малера. Побывав в знаменитом фестивальном театре, специально построенном для вагнеровских опер, на постановке последнего творения кумира — «Парсифаль», Густав испытал высшее экстатическое чувство, которое обрисовал так: «Я с трудом могу описать мое нынешнее состояние. Когда я вышел из театра, полностью завороженный, я понял, что во мне проявилось то, что является самым большим и самым горестным откровением, и отныне я буду носить его незапятнанным всю оставшуюся часть моей жизни». Находясь под впечатлением грандиозного действа, Малер начал понимать, что его композиторское призвание находится не в оперном, а в симфоническом поле, и, вдохновленный увиденным, задумал большую «Симфонию Воскресения».
Опера, поставленная в Байройте, придавала особый дух соприкосновения с чем-то неземным. Это последнее творение почти обожествляемого композитора — вагнеровское прощание с жизнью. Постановка «Парсифаля» походила на премьеру моцартовского Реквиема, состоявшуюся через два года после смерти венского классика. Среди сотен известных деятелей литературы и музыки, толпившихся в окрестностях Ванфрида, виллы Вагнера, скромный провинциальный дирижер, естественно, остался незамеченным. Увиденное в Байройте вызвало в нем огромный пессимизм. Теперь Малер понимал, что к оперным постановкам необходим иной подход, иные критерии. Это будет реформа, по масштабам сопоставимая с оперной реформой Кристофа Виллибальда Глюка. Она должна изменить понимание самой сути оперных представлений.
Вернувшись в Ольмюц, Густав отпустил бороду и продолжил работать над ранними композиторскими опытами. Однако стоит заметить, что впоследствии ни одно из этих сочинений так и не было завершено. Бесспорно, ему нужен был перерыв, чтобы успокоиться от внутреннего диссонанса, вызванного его театральной карьерой, и понимания того, ради чего стоит художнику тратить свои силы. Его консерваторский соученик Фридрих Экштейн описывает Малера этих лет как человека со странной, нервной и порывистой походкой, в которой проявлялась необычайная возбудимость. Строгое интеллигентное лицо Густава было худым и подвижным. Особо обращала на себя внимание явно австрийская интонация его речи. Малер неизменно носил под мышкой связку книг. Еще с консерваторской юности он посвятил себя служению высокому искусству и со свойственным молодым людям максимализмом требовал того же от всех, кто его окружал.
В студенческие годы Малер перечитал основные труды немецкой философской классики, поэтому категорический императив любимого им Канта — поступать только согласно той максиме, которую ты хочешь видеть всеобщим законом, — стал правилом его жизни. В вопросах нравственности Густав был всегда принципиален и непреклонен, вне зависимости от обстоятельств.
Его неуемная энергия и полная самоотдача в работе дирижером были особенно ценны в провинциальных театрах, где артисты годами относились к своему искусству как к обыкновенному заурядному ремеслу. Малер же побуждал их преодолевать себя во имя этого искусства, раскрывать свой творческий потенциал, и нельзя сказать, что эта способность Густава никем не была замечена. Главный режиссер Дрезденского придворного театра Карл Юберхорст, наблюдавший в то время за деятельностью Малера в Ольмюце, был удивлен его талантом добиваться хорошего результата, занимаясь с весьма заурядными исполнителями. Это явно помогло Густаву при устройстве на новую работу. Несмотря на то, что Юберхорст не был уверен, что Малер достоин занять высокое положение в Королевском Прусском придворном театре в Касселе, он всё же написал ему весьма лестное рекомендательное письмо, которое позволило Густаву занять должность «музыкального и хорового директора». По другой версии, мастерство Малера привлекло внимание музыкального директора из Касселя, который присутствовал на одной из постановок «Кармен». Он сердечно поздравил молодого дирижера и обещал следить за его карьерой. Вскоре после этого появились слухи, что место помощника дирижера в Касселе вакантно. Без малейшего колебания Малер нашел деньги на поездку и получил новое назначение.
Кассель — бывшая столица ныне несуществующего вестфальского королевства, несомненно, был шагом вперед в карьере начинающего дирижера. Но максималист Густав ожидал большего. Музыкальным и хоровым директором он являлся лишь номинально. Кассельским театром руководил капельмейстер Вильгельм Трейбер, известный насаждением военных методов руководства. В театре существовал «черный список», куда заносились все, кто опаздывает или высказывает недовольство, а индивидуальные репетиции разрешались только в присутствии наблюдателя. С одной стороны, жесткие методы управления обеспечивали строгую дисциплину и обязывали музыкантов к ответственности, чего не было, к примеру, в Ольмюце, с другой — лишали определенных свобод, необходимых академическому учреждению искусства. Из-за самодурства капельмейстера Густав всё больше разочаровывался в новой работе.
В июне 1883 года не стало 26-летнего брата Фридриха Лёра, жившего в Касселе, и общее чувство потери связало Густава и его друга еще больше. Именно благодаря активной переписке с Лёром нам хорошо известен этот период жизни Малера. Он вновь пребывал в отчаянии. В надежде на творческое признание композитор отправил ноты «Das klagende Lied» Ференцу Листу и получил неутешительный ответ: «Произведение, которое Вы любезно мне прислали, “Лесная история”, содержит много ценного. Текст, однако, кажется порядком хуже, что не гарантирует сочинению успешность». К тому же художественные мечтания и стремления, которые Густав возлагал на новую работу, в очередной раз оказались необоснованными. С одной стороны, придворный театр в Касселе давал ему бо́льшие возможности: оркестр насчитывал около пятидесяти человек, хор — около сорока, помимо этого, существовал определенный резерв певцов. Репертуар театра также был шире. С другой стороны, всё, что представляло для капельмейстера определенный интерес, исполнялось под его личным управлением. Благо амбиции и вкусовые пристрастия Трейбера касались в основном немецких опер, а итальянские и французские, как второсортные, отдавались Малеру. Он жаловался Лёру на необходимость выполнять глупые распоряжения и на состояние крайней зависимости. Также в обязанности Густава входило сочинение музыки для праздников и торжественных мероприятий.
При этом, пожалуй, единственную его радость составляло то, что он не омрачает жизнь местечковым исполнением оперных шедевров, потому что в кассельском репертуаре их практически не было. Вспоминая Лайбах, где он, к счастью, имел право запретить исполнение опер Моцарта и Вагнера, он вздрагивал, представляя звучание «Свадьбы Фигаро» или «Кольца нибелунга» в Касселе. Малер тосковал по возможности сочинять произведения крупных жанров. Свободного времени хватало лишь на песенные формы. Иностранные биографы выделяют как наиболее значимые события в этот период для Малера — постановку «Вольного стрелка» Вебера и «Музыку к живым картинам» по поэме немецкого поэта и романиста Йозефа Виктора фон Шеффеля «Трубач из Зеккингена», сочиненную Густавом за два дня. Эта музыка стала звучать во многих городах Германии, и тот факт, что малеровское сопровождение «живых картин» считалось лучше самих этих картин, вызывал у Густава гордость, а не привычную самокритику.
К концу 1883 года Малер несколько примирился с недостатками Касселя, но ситуацию усугубил один эпизод, связанный с приездом в город известного дирижера и пианиста Ганса фон Бюлова. Дав два концерта, маэстро произвел на Малера колоссальное впечатление своим исполнительским талантом, и Густав, пытавшийся найти себя, написал письмо Бюлову с просьбой стать его помощником. Это письмо было искренней исповедью, раскрывавшей трагизм внутренней борьбы молодого дирижера, и содержало слова, не предназначенные для передачи третьим лицам: «…Когда я ходатайствовал о свидании с Вами, я еще не знал, какой пожар зажжет в моей душе Ваше несравненное искусство. Без долгих слов: я — музыкант, который блуждает в пустынной ночи современного музыкального ремесла без путеводной звезды и подвергается опасности во всём усомниться или сбиться с пути… Поэтому я здесь, и прошу Вас, возьмите меня с собой — кем Вам будет угодно; позвольте мне стать Вашим учеником, даже если мне придется платить за обучение своей кровью… После злосчастных странствий я устроился в здешнем театре вторым дирижером. Кто лучше Вас поймет, насколько это пустое занятие способно удовлетворить человека, который со всей страстью и любовью верит в искусство и не может стерпеть, видя, как его повсеместно унижают…»
В архивах театра Касселя сохранилась следующая ремарка: «25 января 1884 года — получено от дирижера Трейбера. Письмо написано доктору Гансу фон Бюлову музыкальным директором Малером с объяснением, что оно было передано доктором Гансом фон Бюловом лично». Иными словами, Бюлов отмахнулся от полученного письма и передал его Трейберу, тем самым подставив Густава под удар его начальства. Естественно, капельмейстер сразу же разболтал новость всему театру, не забыв донести на ничего не подозревавшего о судьбе этого письма Малера директору, господину Гильзе. Однако Гильза, осознававший ценность молодого дирижера для театра, не спешил его отпускать. Более того, никаких разъяснительных бесед с ним проведено не было. Очевидно, Гильза понимал реальное положение дел в театре.
Несмотря ни на что, Густав неоднократно пытался перетянуть на себя часть театрального одеяла, и иногда это ему удавалось, за что Трейбер презрительно называл его «Упрямый щенок!». Отношение оркестрантов и хористов к Малеру оставляло желать лучшего. Привыкшие к беспечной небрежности провинциальных дирижеров, они с трудом терпели изнурительно длинные репетиции с Малером, считали его выскочкой и карьеристом, желавшим пустить «пыль в глаза» начальству своим мнимым усердием. Его фанатичная преданность искусству была за пределами их понимания. Однажды они даже предприняли попытку восстать против «юнца». Гэбриел Энджел рассказывает следующую историю. Как-то рано утром один из немногочисленных музыкантов, сопереживавших Густаву, ворвался в его комнату в сильном волнении и стал уговаривать держаться в этот день подальше от театра. Хор и оркестр решили припугнуть палками и дубинками дирижера, измучившего их своими нервными репетициями. С улыбкой презрения Малер надел пальто и поспешил в театр на репетицию. Только после восьми часов «беспощадного террора» со стороны дирижера, в течение которых его безошибочная музыкальность вызывала то враждебность, то восхищение, он с грохотом захлопнул крышку фортепиано и, оглядевшись посреди благоговейного молчания, без единого слова покинул зал. Больше попыток «воспитать» дирижера не было.
Осенью 1884 года, изголодавшись по настоящей музыкальной драме, он посетил Дрезден, чтобы услышать вагнеровского «Тристана». Известно, что высокое качество исполнения его порадовало, но интерпретация дирижера Шуха не вызвала особого восторга. Приговоренный к исполнению таких опер, как «Роберт-Дьявол» Джакомо Мейербера, Малер с нетерпением ждал дня, когда он станет руководителем серьезного театра и сможет, наконец, предложить свое видение оперных шедевров. Тем не менее даже это крайне зависимое состояние было для Малера предпочтительнее тех дней в Вене, когда он еле сводил концы с концами, имея одного-двух учеников по фортепиано.
Кассельский эпизод малеровской биографии примечателен особым событием. В это время у молодого композитора начался роман с Йоханной Рихтер. Голубоглазая светловолосая девушка была одной из сопрано Кассельского театра. Романтичная и отзывчивая Йоханна заметила, каким волнительным и стеснительным становился Малер в ее присутствии.
Поначалу певица отвечала Густаву взаимностью, их отношения развивались, но быть вместе им оказалось не суждено. Очевидно, основаниями для окончания их яркой истории послужил крайний идеализм Малера, хотя письма композитора подводят к иной версии: певица была связана чувством с другим и попросту не смогла в итоге остаться с Густавом. Во всяком случае, девушка решила, что они должны расстаться. Однако это было непросто, ведь они должны были ежедневно встречаться в театре. В общем, их отношения представляли собой бесконечную цепь расставаний и возвращений.
Фридрих Лёр, будучи весьма незаурядной личностью, трепетно относился к эпистолярному жанру. В сохраненных им письмах Малера описаны подробности личных переживаний композитора. Так, вернувшийся в Кассель к началу второго сезона, Густав писал: «Едва я вступил на мостовую… мной овладели прежние страшные чары, и я не знаю, как мне восстановить внутреннее равновесие. Я снова встретился с нею, она загадочна, как всегда. Могу сказать только: Господи, помоги мне!.. Сегодня я иду к ней, “наношу ей визит”, после этого мое положение станет более определенным». В следующем письме еще одно откровение: «В ней для меня всё, что достойно любви в этом мире. Я мог бы отдать за нее каждую каплю крови. И всё же я знаю, что должен уйти. Я сделал для этого всё, но выхода пока не вижу». Очередное расставание пришлось на Рождество. Тем не менее Новый, 1885 год они договорились отметить вместе, после чего было решено разойтись окончательно. Этот эпизод Малер описывал так: «Вчера вечером я сидел у нее один, и мы почти в полном молчании ожидали наступления Нового года. Не тот, кто был с нею рядом, владел ее мыслями, и, когда раздался бой часов и у нее из глаз полились слезы, мне стало страшно оттого, что я — я не имел права их осушить. Она вышла в соседнюю комнату и некоторое время безмолвно стояла у окна, а когда она, тихонько плача, вернулась, невыразимое страдание вечною стеною встало между нами. Мне ничего не оставалось, как пожать ей руку и уйти. Когда я вышел за дверь, звонили колокола и с башни звучал торжественный хорал… всё было так, будто великий режиссер вселенной захотел поставить эту сцену по всем правилам искусства. Всю ночь я проплакал во сне…» Конечно, «новогоднее расставание» оказалось не последним, их отношения продолжались до тех пор, пока Малер не покинул Кассель. Письмо от мая 1885 года свидетельствует: «Когда я писал тебе некоторое время назад, что наше дело подошло к концу, это было только трюком проницательного театрального антрепренера, объявляющего “Последнее выступление! Этого больше не будет”».
Мятежное чувство, раздирающее Малера, нашло выражение в его первом значительном сочинении. Вместо будоражащих мыслей о «Симфонии Воскресения» им овладела идея нового произведения — вокального цикла «Песни странствующего подмастерья». В январском письме 1885 года композитор говорил об этом: «Я написал цикл песен… все они посвящены ей. Она их не знает. Да и что они могут ей сказать, кроме того, о чем ей уже известно?.. Песни задуманы так, будто странствующий подмастерье, настигнутый злой судьбой, выходит в широкий мир и бредет, куда глаза глядят». Малер — автор не только музыки, но и стихов цикла, их содержание берет истоки в вокальных циклах Шуберта и Шумана. Текст — это мысли и внутренние переживания пылкого юноши, его обращение к природе, к прекрасному окружающему миру, его взрывы отчаяния, его смирение — одним словом, весь конгломерат настроений, свойственных романтической натуре. Две мелодии из этого цикла были использованы им впоследствии в Первой симфонии. Странствующий подмастерье — несомненно, сам Малер, он мыслил себя в этот период жизни подмастерьем в мире великой музыки, все его переезды и новые должности — это странствия и скитания, имевшие целью реализовать свой потенциал. Он полностью отдавал себе отчет в том, что остановка в Касселе для него не последняя, за Касселем последуют другие города, другие люди, другие занятия, одно лишь для Малера всегда оставалось прежним: служение искусству.
Хотя в Касселе Малер не был популярен среди музыкантов, любители музыки относились к нему с уважением, граничащим с благоговением. Влиятельные горожане, входившие в оргкомитет большого ежегодного Кассельского музыкального фестиваля, решили вовлечь его в свое дело. Так, в 1885 году директор Гильза предложил Малеру стать музыкальным руководителем фестиваля «Музыкальное празднество», проходившего в городе с 29 июня по 1 июля. К исполнению бетховенской Девятой симфонии и оратории Мендельсона «Павел» привлекли наряду с оркестром театра хоровые общества из Касселя, Марбурга, Мюндена и Нордхаузена. Одну из сольных партий в «Павле» исполняла солистка Венской придворной оперы Роза Папир, знакомство с которой впоследствии сыграло особую роль в жизни Густава. Для него самого это был весьма значимый музыкальный опыт. Вот, наконец, пришло то, чем он мог по-настоящему гордиться, и в Вене о его успехах должны узнать. Во всяком случае, так он полагал. В письме профессору Эпштейну Густав писал: «Для молодого человека это необычайный знак доверия, поскольку это ставит всю страну в мое распоряжение (будут участвовать музыкальные общества Гессена и Ганновера), простите меня за нескромность, но венцы также услышат об этом событии… Не правда ли, я до сих пор высокомерен, как и прежде?»
Естественно, новость о том, что Малера выбрали музыкальным руководителем фестиваля, разорвалась, как бомба. Разъяренный и ревнивый капельмейстер Трейбер пришел в бешенство и потребовал от Густава, чтобы тот отказался от назначения. В ответ Малер лишь рассмеялся. Естественно, была объявлена открытая война.
Конечно, у Малера были особые козыри, позволившие ему пойти на открытый конфликт с начальником. Именно в этот момент, как нельзя кстати, Густаву пришло сообщение от агента Леви о возможности устроиться на работу в Лейпцигском театре с контрактом на несколько лет. Малер с радостью согласился на должность второго дирижера Лейпцигской оперы. Новый ангажемент давал ему полную независимость от незавидного положения в Касселе и возможность принять участие в войне с капельмейстером. Однако до желанного контракта оставалось еще более года.
Трейбер, в свою очередь, начал использовать недостойные приемы, возбуждая у оркестрантов антисемитские настроения против Густава. Сразу же сформировались соперничающие фракции, жаркие споры между которыми часто завершались драками. В результате «подрывной деятельности» капельмейстера оркестр театра отказался от участия в фестивале, и Малер вынужден был искать несколько десятков новых музыкантов по всей Германии. Для того чтобы репетировать с каждым хоровым обществом отдельно, Густаву приходилось совершать поездки в разные города, принимавшие участие в фестивале. Эти поездки требовали больших расходов, но Малер понимал, что иного выхода у него нет, ведь его враги не ограничатся простыми оскорблениями.
Гэбриел Энджел приводит забавный эпизод. Однажды, отправившись на репетицию в соседний город, Малер заблаговременно прибыл на железнодорожную станцию и сел в пустой поезд. Чтобы скоротать время, он занялся изучением партитуры оратории. Оторвав глаза от партитуры и поняв, что прошел целый час, он с удивлением обнаружил, что поезд всё еще стоит на станции Кассель. Ни одной души не было видно. Испуганный Малер вышел из вагона и, к немалому удивлению, увидел на поезде табличку «Зал ожидания». Его настоящий поезд ушел незадолго до этого. Малеру пришлось тотчас телеграфировать, что он не сможет принять участие в репетиции.
Свое волнение по поводу предстоящего фестиваля Густав изливал в письмах друзьям. «Война двух дирижеров» вынуждала тратить силы на отвлеченные от музыки дела, при том что дни Малера в Касселе были сочтены. В одном из писем он прямо говорил, «я теперь покойник в театре».
Стоит отдать должное организаторским способностям Густава: к нужному сроку он собрал весь состав оркестра, одержав, тем самым, полную победу над Трейбером. В итоге музыканты, благодаря дирижерскому таланту Малера, превзошли себя, достигнув на фестивале небывалого для города уровня исполнения. Как только отзвучала последняя нота мендельсоновской оратории, разразилась бурная овация. В качестве благодарности оргкомитет фестиваля наградил Малера лавровым венком. Однако другие дары оказались ему не менее приятны: Густав получил бриллиантовое кольцо и золотые часы в то время, когда его собственные часы были заложены у ростовщика, чтобы оплатить предстоящую поездку в Лейпциг. Слава о молодом маэстро вмиг разнеслась по всей Германии, и Густав по обоюдному согласию расторг контракт с Прусской придворной оперой, ожидая нового ангажемента в Лейпциге. Но и на оставшийся до работы в Лейпциге год у Малера было намечено новое дело.
Когда в начале 1885 года газеты сообщили, что бывший оперный певец и известный импресарио, руководивший Лейпцигским и Бременским театрами, Анджело Нойман приглашен руководить Немецким театром в Праге, ему незамедлительно стали поступать от разных музыкантов ходатайства об ангажементах. Впоследствии Нойман вспоминал об этом: «Одним из первых пришло письмо из Касселя от еще совершенно неизвестного мне по имени хормейстера… он откровенно признавался, что в Касселе не продвигается и что ему дали там дирижировать только “Оружейником” и “Царем и плотником”. Сейчас я уже не могу сказать почему, но форма и содержание его письма произвели на меня такое впечатление, что среди множества запросов, в которых было высказано желание получить дирижерское место, я выбрал именно письмо кассельского хормейстера и дал на него положительный ответ». Нойман ответил Малеру, что переговоры в Праге еще не закончились и, если они приведут к положительным результатам, ему нужно будет явиться и представиться лично. Спустя некоторое время после беседы с молодым музыкантом Нойман ангажировал его на место ассистента знаменитого вагнеровского дирижера Антона Зайдля, которого только что пригласил в театр. Таким образом, на момент предложения организовать кассельское «Музыкальное празднество» Малер, еще не встречавшийся с Нойманом, уже планировал провести следующий сезон в Праге, после чего на несколько лет переехать в Лейпциг. В этот раз расчет Густава оправдался.
После кассельского триумфа Малер поспешил на короткий отдых домой, затем его ожидал месячный испытательный срок в Лейпциге, успешно завершившийся подписанием договора с директором Штегеманом. Затем он прибыл в Прагу, где знаменитый Антон Зайдль уже готовился к новому сезону. О подробностях пребывания Густава в Праге известно благодаря воспоминаниям Ноймана: «Еще до того, как он сам встал за дирижерский пульт, мне представился случай узнать его восторженное отношение к искусству на генеральной репетиции “Лоэнгрина”, которым дирижировал Антон Зайдль. Я сам вел репетицию “Лоэнгрина”, которым должен был начаться период моего директорства, когда вдруг во втором акте во время шествия в собор из партера послышалось восклицание: “Господи боже мой! Я и не думал, что можно так репетировать! Это же бесподобно!”». На следующий день Нойман и Зайдль решили поручить новичку постановку «Водоноса» Керубини, приуроченную ко дню рождения императора. И несмотря на то, что их со всех сторон засыпали вопросами, как они могли решиться доверить молодому человеку спектакль, посвященный императору, Нойман и Зайдль упорно настаивали на своем решении. «Дебют прошел успешно, и после этого молодой музыкант подписал с Немецким театром контракт на один год. Затем, приступив к распределению и замещению ролей в моей предусмотренной на сезон программе, я поручил новому дирижеру разучивание “Золота Рейна” и “Валькирии”, которые впервые были включены в репертуар. Желая задобрить и не совсем вытеснять с должности его коллегу, капельмейстера Сланского, работавшего уже 25 лет в Немецком театре первым дирижером, я дал ему “Дон Жуана” для разучивания и новой постановки», — вспоминает Нойман. Однако после начавшихся репетиций Сланский обратился к нему со следующим вопросом: «Господин директор, неужели вы всерьез хотите давать “Дон Жуана”?.. Подумайте… ведь вы опять приучили публику ходить к нам в театр. Что же, вы снова хотите ее разогнать?.. Мы всегда проваливались с “Дон Жуаном” в Праге». Нойман поинтересовался: «Так, значит, по-вашему, Немецкий театр в Праге может вести репертуар без “Дон Жуана”? Но ведь в этом самом доме “Дон Жуан” увидел свет под управлением Моцарта!» — «“Дон Жуан” никогда особенно не трогал пражан». Тогда Нойман спросил его: «Значит, вы не будете возражать, если я заберу у вас “Дон Жуана” и дам вам взамен какое-нибудь другое произведение?» — «Ну конечно!» — отвечал он со смехом. Так получилось, что постановку «Дон Жуана» передали Малеру, который хорошо зарекомендовал себя в «Водоносе» Керубини. Далее Нойман вспоминает: «Этот пылкий молодой музыкант взялся за “Дон Жуана” с воодушевлением; ставил оперу я сам, и мы создали спектакль, который вызвал восхищение искушенной публики и критики; даже за границей такие знатоки, как Людвиг Гартман из Дрездена, говорили о нем с энтузиазмом». Гартман был до того восхищен, что даже спустя несколько лет вспоминал: «Я никак не могу забыть того “Дон Жуана”, которого слышал тогда у вас, в Праге. Нужно хорошо запомнить имя этого дирижера!»
Пражский сезон, открывшийся «Лоэнгрином», позволил Малеру с блаженным умилением наблюдать за работой Зайдля, чье художественное кредо получило личное благословение самого Вагнера. Передача из первых рук всех тонкостей работы вагнеровского дирижера была бесценным уроком, запомнившимся Малеру на всю жизнь и помогавшим ему в дальнейшей работе над идеальным оркестровым исполнительством. Но посещать репетиции Зайдля Густаву пришлось недолго. В том же году знаменитый дирижер согласился возглавить основанную незадолго до того немецкую оперу в Нью-Йорке, и Малер, пришедший в Пражский театр в качестве ассистента, получил должность ведущего дирижера.
Надо отметить, что Пражская опера долгое время не имела сильного руководства, отчего качество оркестра и солистов оставляло желать лучшего. С приездом Ноймана театр окунулся в атмосферу нового дела, и Малер, приступив к работе ведущего дирижера, сразу понял: успех сезона будет полностью зависеть от энергии человека, под управлением которого осуществляются музыкальные постановки. Такая обстановка, взывавшая к полной самоотдаче, идеально подходила для реализации малеровского потенциала. Гэбриел Энджел в этой связи говорит: «Казалось, искусство было религией для Малера, дирижерский пульт — алтарем, а партитура — книгой, описывающей ритуал. Здесь он чувствовал себя действительно как верховный жрец, несший экстаз от “священного огня”, которым был наделен. В те первые месяцы в Праге он был по-настоящему в своей стихии».
Одним из самых запоминающихся музыкальных впечатлений Малера в Праге была его работа над Девятой симфонией Бетховена. Управлять исполнением этой «музыкальной иконы» должен был дирижер Карл Мук, однако из-за его вынужденного внезапного отъезда за последнюю бетховенскую симфонию взялся Малер. Задача стояла почти невозможная: времени оставалось лишь для одной репетиции, но Густав, даже не имея в руках партитуры и дирижируя наизусть, выполнил ее с таким мастерством, что на концерте чешские слушатели испытали огромную радость и гордость, оттого что за пультом стоял не немец Мук, а их соотечественник. Не менее значимым событием для Густава в пражский период было издание сборника «Песни и песнопения для молодежи», куда вошло несколько его ранних песен, три из которых были исполнены 18 апреля сопрано театра Франк в рамках концертной программы. Похоже, «влюбленная “Fraulein F”», упомянутая Малером в письме, написанном несколько месяцев спустя, и есть эта певица. В той же программе, состоявшей как минимум из двадцати восьми номеров, были исполнены «Императорский марш» Вагнера и Скерцо из Третьей симфонии Брукнера, подтверждавшее обещание Густава распространять славу его старшего друга.
Пражский период оказался для Густава вполне удачным. К моменту его прихода театр нуждался в обновлении не меньше, чем те провинциальные «храмы искусства», где он успел поработать, но, в отличие от них, здесь Густаву была предоставлена полная свобода в рамках вмененных ему обязанностей. Мечты о новых подходах к постановкам оперных спектаклей, появившиеся у Малера еще в Байройте, именно в Праге впервые получили возможность воплотиться. Более того, номинально оставаясь вторым, он реально был первым дирижером театра: руководил императорской постановкой, на «Дон Жуане» стоял на том самом месте, где столетием раньше дирижировал премьерой оперы сам Моцарт. Что уж говорить о работе Густава с вагнеровскими операми, кстати, декорированными и костюмированными реквизитом байройтских спектаклей. Пожалуй, именно в Праге Малер впервые ощутил артистическую свободу. Его яркая манера дирижирования, охарактеризованная Анджело Нойманом как «излишняя подвижность», была вызвана попыткой создать новую профессию — дирижера-интерпретатора, что было весьма необычным в понимании тогдашних музыкантов.
Подобно Данте, странствовавшему по загробному миру, Малер, по собственному выражению, прошел все круги «ада театральной жизни». Начав путь с низшего — «чертовского Бад-Халле» — через перипетии провинциальных интриг и лицемерия, перешел в первый круг, которым оказалась последняя временная должность в Пражском театре. Эти странствия «подмастерья большого искусства» только закалили его и подготовили к настоящей работе.
ПЕРВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
Фанатичный перфекционизм и обостренное чувство справедливости, свойственные амбициозной молодежи, часто приводили Малера к конфликтам с теми, кто стоял у него на пути. С годами эти черты характера изменились несильно, поэтому можно утверждать, что извечное стремление к идеалу сопровождало всю его жизнь, зачастую приводя к разнообразным размолвкам.
Неудивительно, что даже в спокойной Праге, позитивно отнесшейся к молодому дирижеру, нашлись причины для противоборства. В стремлении добиться наилучшего результата Малер был весьма требователен и к музыкантам оркестра, и к солистам, и эта строгость зачастую воспринималась как дирижерская тирания. Нойман, будучи хорошим управленцем, предвидел опасность неприятия властности молодого человека, что могло негативно отразиться на функционировании театра. Но он искренне восхищался талантом Малера и надеялся, что всё обойдется.
К сожалению, Нойман ошибался, и постановка «Фауста» Гуно стала переломной в работе Малера в Праге. Гэбриел Энджел, описывая конфликт, послуживший «яблоком раздора», утверждает, что в силу «посредственного художественного уровня» и некоторой «балетности» музыки это сочинение не было любимым у Густава и всегда приводило его в плохое настроение. Главная балерина театра Берта Мильд, «бесспорная императрица своего королевства», отвечавшая за постановку хореографических номеров, перед спектаклем оставила дирижеру указания относительно темпов балетных сцен. Однако Малер на ее указания почти не обратил внимания, отдав приоритет звуковой, а не визуальной составляющей представления. Анри Луи де ла Гранж — пожалуй, самый авторитетный из биографов Малера — пишет со ссылкой на первоисточник: «Та, кого молодой директор называет “жирная Мильд”, хочет навязать свои слоновьи темпы». Естественно, игнорирование ее указаний привело танцовщицу в ярость, и, бросившись в слезах к Нойману, она потребовала уволить Малера. Служащие театра приняли сторону балерины, поэтому, не желая заострять конфликт, поскольку оскорбленная прима могла подать в отставку, Нойман для приличия отчитал Малера, надеясь, что тот поймет его менеджерский ход. Слова «мой опыт руководства балетом больше, чем у вас!», «вы должны делать то, что она вам приказывает, даже если это не нравится!», «если она говорит вам рвать кишки из Фауста, то делайте это и делайте с улыбкой!» — были восприняты Густавом близко к сердцу, и, несмотря на очевидную нелепость ситуации, он чувствовал себя ущемленным. Естественно, молодой человек потребовал, чтобы Нойман извинился перед ним за слова, которые, по его мнению, поколебали позицию дирижера в глазах актеров и оркестра. Директор уклонился, однако в конце сезона, когда Малер уже собирался покидать Прагу, дал ему самую теплую характеристику, где благодарил за заслуги, что было принято вместо формального извинения. После этого они расстались лучшими друзьями. 15 июля в «Prager Abendblatt» появилась статья, где сообщалось: «Капельмейстер Малер заработал благодарность за то, что защитил свою позицию от капризов певцов и инструменталистов. В Праге об этом молодом человеке останутся самые лучшие воспоминания». 16 июля Густав уже прохаживался по Йиглаве.
Грядущая лейпцигская должность воспринималась Малером двояко. Первоначально его желание заполучить место второго дирижера в городе, считавшемся хранилищем музыкальных традиций, было непоколебимым. Эта работа открывала перспективы, немыслимые в провинциальных театрах. Но с течением времени всё стало не так гладко, как началось. В Праге Густав оказался в атмосфере, где все понимали и разделяли его устремления, отчего он все больше задумывался, не придется ли сожалеть о подписанном договоре с Лейпцигом. Работа помощником грозного и маститого дирижера Никиша подразумевала зависимость, а это воспринималось болезненно. Малер неоднократно обращался к лейпцигскому директору Штегеману с просьбами освободить его от контракта, но всё было тщетно. Перед отъездом из Праги Малер писал: «Здесь мои дела идут очень хорошо, и я, так сказать, играю первую скрипку, а в Лейпциге у меня будет в лице Никиша ревнивый и могущественный соперник. Поэтому я пустил в ход все пружины, чтобы освободиться оттуда, но, к сожалению, мои попытки остались бесплодными, и дело обстоит по-прежнему». У него уже была «синица в руках», в Лейпциге же ждала неизвестность, к тому же Густав не мог представить, что Артур Никиш, будучи одним из самых знаменитых дирижеров того времени, добровольно оставит свой ключевой пост в пользу никому не известного Малера. Только авторитет театра как одного из главных в Германии, самого известного и самого старого в Европе оставляла ему определенные надежды. Роскошный зал, рассчитанный на 1900 мест, имел огромную сцену, приспособленную для выполнения грандиознейших замыслов. Оркестр из семидесяти шести музыкантов, аккомпанировавший всем оперным постановкам, считался одним из лучших в Европе. Он был настолько великолепен, что и по сей день известен как самостоятельный симфонический коллектив, выступающий в концертном зале «Gewandhaus», а потому носящий идентичное название.
Интендант Макс Штегеман, директорствующий в Лейпциге, пристально следил за успехами молодого музыканта и видел его вторым дирижером своего театра. Еще перед Прагой, предрекая возможные метания между двумя театрами, Малер в шутку писал Лёру: «Что же — пусть господа директора подерутся из-за меня». И действительно, после пражского сезона его имя стало довольно известным, о его постановках начинали говорить в музыкальном мире, и как бы ни коробило Густава положение «второго», расторгнуть контракт с лейпцигской оперой было невозможно. К тому же в ходе переписки Штегеман пообещал, что Малер в своей работе подчиняться Никишу не будет.
После десятидневного отдыха в родной Йиглаве Малер появился в Лейпциге. Не успев приехать, Густав узнал о тяжелом сердечном заболевании отца. Фридрих Лёр, находившийся в Йиглаве, по мере возможности стал помогать его родителям, Малер же, осознавая, что единственная помощь, которую он может оказать семье, — денежная, в тоске по дому приступил к работе.
Город встретил Густава вполне благосклонно. Штегеман, понимавший, что музыкант, который неоднократно обращался с просьбами освободить его от должности, не может работать с большим энтузиазмом, всячески пытался настроить Малера на оптимистический лад. Он представил молодого дирижера в своем семейном кругу, познакомил его с авторитетными людьми города, а также всячески способствовал, чтобы условия пребывания Густава в Лейпциге были очень приятными.
Никиш также повел себя весьма любезно. По натуре он был демократичным человеком и доверял музыкантам. Сделав широкий жест, Никиш в течение первых двух месяцев передал новому дирижеру «Риенци» и «Лоэнгрина» Вагнера, «Вольного стрелка» Вебера, «Жидовку» Галеви и даже моцартовскую «Волшебную флейту». Перфекционистская позиция Малера в интерпретации сочинений, против которой возражали многие критики, в том числе в Лейпциге, была одобрена и поддержана Никишем. Благодаря Густаву у Никиша появилось свободное время, которое он стал отдавать симфоническим концертам в других городах. В связи с этим второму дирижеру приходилось выполнять многие обязанности первого. В целом о работе новичка в театре отзывались положительно, более того, к нему относились с пиететом, которого в Лейпциге редко кого удостаивали. Малер не был тривиальной личностью, он олицетворял собой новое понимание искусства, поэтому вокруг него быстро образовались компании про- и антагонистов.
Старый саксонский Лейпциг, которому Иоганн Себастьян Бах отдал половину жизни, получил европейскую известность как музыкальный город в 30-е годы XIX века. Этому способствовал Феликс Мендельсон, который не только возвысил популярность Баха, но и основал здесь первую в Германии консерваторию, а созданный еще при Иоганне Себастьяне оркестр, впоследствии ставший оркестром «Gewandhaus», заслужил под его управлением всеобщее признание. После кончины Мендельсона достойной смены ему не нашлось, да никто и не пытался занять его место, поэтому музыкальная жизнь города сводилась в основном к сохранению когда-то новаторских идей и взглядов.
В свое время консерватория Мендельсона являлась, как бы выразились сегодня, инновационной образовательной площадкой. Она резко контрастировала со старыми итальянскими консерваториями, которые наследовали еще средневековый принцип обучения: «маэстро — подмастерье». Если в Италии маэстро учил своих учеников всем музыкальным предметам, то в Лейпциге обучение происходило по университетскому типу: каждый профессор вел отдельный курс. Это нововведение стало революционным для системы музыкального образования. По окончании консерватории выпускники получали «диплом свободного художника», что давало им определенный социальный статус. Впоследствии нововведения Мендельсона были унаследованы консерваториями Германии, России и других стран. Однако образование и искусство — особые сферы, одной из важнейших характеристик которых является актуальность, то есть соответствие времени. Маргинальные представления претят этим сферам, тормозя их развитие и делая отсталыми. Поэтому, цепляясь за мендельсоновские идеи 1830-х годов и не желая их развивать, Лейпциг с течением времени превращался в оплот отжившего и неактуального.
Одним из главных поборников «заповедей Мендельсона» был профессор консерватории Карл Райнеке, руководивший залом «Gewandhaus». Он слыл человеком робким и находился под большим влиянием Шумана и Мендельсона, которых знал еще в молодости. Авторитет этого «адепта академизма» был огромен, отчего консерватизмом «пахло» во всем городе. Вместе с тем он вел грамотную политику в отношении музыкального руководства, благоволил новым веяниям и во многом симпатизировал Малеру. Но саксонский менталитет Лейпцига гармонировал именно с традиционализмом Райнеке. Поэтому отношение оркестрантов к молодому дирижеру было несколько настороженным. «Что нового может предложить этот юнец, стоя на месте мэтров музыкального искусства?» — говаривали они. Дирижерская требовательность Малера и его упорное стремление к совершенному исполнению часто приводили к конфликтам с оркестрантами. По их мнению, придирки Густава были необоснованными, они даже жаловались на него в городской совет, правда, безрезультатно.
Взгляды Малера были действительно новаторскими для тогдашнего Лейпцига. Его понимание искусства вообще и роли дирижера в частности не соответствовало представлениям многих лейпцигских музыкантов. Критикам, привыкшим к традиционным формам оркестрового исполнительства, не нравилась эксцентричная манера дирижирования Густава, даже визуально. Еще в Праге на это не раз обращал внимание Анджело Нойман, говоривший, что Малеру мешали нервные жесты. К тому же интерпретаторские качества Густава были далеки от общепринятых традиций. Вместе с тем яркость, проникновенность и непредсказуемость трактовок молодого дирижера вызвали живейший интерес. Резкие перепады темпа, динамические крайности исполнения весьма выделялись благодаря его могучему темпераменту. Свою задачу Малер видел не в буквальном следовании за текстом партитуры, а в сугубо интуитивном соответствии собственной интерпретации замыслу композитора. Этот новый, невиданный ранее подход к оркестровой музыке позволял Густаву глубоко проникать в сущность исполняемых произведений, что было для слушателей своего рода откровением. Вот почему публика на его концертах, не оставляя никого в стороне, делилась на приверженцев и противников.
В основном дирижеры того времени являлись лишь «организаторами оркестрового звучания». Их задача состояла в четком следовании нотному тексту, показе музыкантам времени вступления и снятия звука. Дирижер был неким монотонно отбивающим такт помощником, чтобы оркестр не расползался на отдельные голоса. Малер же представлял собой музыканта новой формации: он понимал профессию дирижера не как регулировщика музыкального движения, а как проводника композиторских идей. Дирижер, по его мнению, должен был стать единственным художественным исполнителем и единственным интерпретатором произведения. Музыканты оркестра, в его понимании, должны были превращаться из солистов и исполнителей в инструменты, при помощи которых дирижер выстраивал звуковую вселенную воплощаемого сочинения. Позиция Густава, несомненно, шла вразрез с общепринятыми представлениями того времени. Малер, по сути, создавал новую профессию, которой еще не существовало. Новое всегда привлекает внимание, и иногда даже не важно, получают ли новаторские идеи одобрение, поскольку в частных случаях шумиха, возникающая вокруг чего-то свежего и вырывающегося из привычных норм и правил, оказывается важнее. Вот почему личность Малера на протяжении всей его жизни являлась необычайно притягательной и для музыкантов-профессионалов, и для меломанов.
Сольное интерпретаторское искусство ко второй половине XIX века стало весьма развитым явлением в музыкальной культуре. Давно наблюдался отход от традиций классицизма с его строгим следованием нотному тексту. Эпоха Романтизма показала, что исполнитель столь же ярок, как и композитор. Паганини и Лист это доказали. Романтическая эстетика на протяжении всего XIX века утверждала идею творческой личности, не только личности создателя, но и личности интерпретатора. Поэтому к 50-м годам XIX века любое сольное исполнение музыкального произведения подразумевало не только понимание авторской концепции, но и ее личное истолкование. Малер, считавший себя пианистом в начале консерваторского обучения, осознавал это весьма четко. При этом музыканты оркестра оставались ремесленниками, приходящими каждый день на работу и извлекающими звуки из своих инструментов в соответствии с написанной для них партией. Для Густава было естественным интерпретировать не только сочинения для солиста, но и оркестровые произведения. Это способствовало развитию оркестрового исполнительства, но оставалось совершенно непонятным для маргинальных личностей. Революция, которую совершал Малер, была подготовлена самим временем. Именно дирижер начинал выполнять роль солиста-интерпретатора. Однако если сольное исполнительство подчинялось мейнстриму эпохи, то оперное дирижирование к приходу Густава всё еще наследовало классические традиции. Оркестровая музыка стояла посередине. В Европе было уже немало дирижеров, пытавшихся переломить классицистские устои. Среди них — Ганс фон Бюлов, Ганс Рихтер и Артур Никиш. Но их стремления носили частный характер. Для утверждения системных принципов современного исполнительства требовалась великая фигура, личность вагнеровского масштаба, способная повести за собой. Именно такой фигурой оказался Малер.
Густав был одержим музыкой, он вкладывал всю душу в исполняемые произведения, будто в свои собственные. Пытаясь добиться совершенства, он оттачивал каждую музыкальную фразу множество раз. Проявления малейшего самодовольства у оркестрантов он безжалостно пресекал, такие исполнители становились жертвами его бесчисленных придирок. Позднее малеровская скрупулезность породила огромное количество «страшных» рассказов, распространявшихся противниками Густава, в которых он представал не в лучшем свете. Среди этих мифов, часто имеющих под собой вполне реальную основу, есть один, во многом характеризующий Малера-дирижера. Его приводит в пример российский музыкальный критик и журналист Артем Варгафтик. На одной из репетиций своей Третьей симфонии Малер, недовольный исполнением пассажа в четыре такта, останавливал оркестр 85 раз. Композитора постоянно что-то не устраивало — то темп, то акцентировка. Репетиция, затянувшаяся на полтора часа, продолжалась до полного изнеможения Густава, пока его в холодном поту не увели со сцены. Этот своеобразный дирижерский рекорд, свидетельствующий о крайнем, болезненном перфекционизме его личности, до сих пор не побит. Наряду с этим сторонники Малера рассказывали о его добром, открытом нраве и дружелюбном отношении к оркестрантам, о высочайшем мастерстве исполнения и удивительном, сверхъестественном слухе. Для них его тончайшее восприятие музыки было настоящим откровением.
Малер не желал плыть по течению, поэтому определенные моменты его особого положения в Лейпциге, о которых мечтали многие дирижеры, — заниматься музыкой и не решать организационные вопросы, пользоваться уважением и при этом мало за что отвечать — его не удовлетворяли. Штегеман считался с авторитетом Никиша и из опасения обидеть его отдавал первенство главному дирижеру. Однако прямо отказать Густаву в его просьбах о репертуаре он также не мог. Конфликт с исправно работавшим вторым дирижером ему явно был ни к чему, к тому же публичный интерес к Малеру рос день ото дня, поэтому интенданту приходилось лавировать и зачастую давать ему заведомо неисполнимые обещания.
К примеру, еще до приезда Густава в Лейпциг на его просьбу о передаче ему поздних вагнеровских опер, исполнение которых считалось приоритетным для ведущих дирижеров, Штегеман отвечал, что заниматься тетралогией «Кольцо нибелунга» будут на равных правах оба руководителя оркестра. Естественно, «Кольцом» Никиш делиться ни с кем не собирался, и обещания Штегемана являлись лишь расплывчатой дипломатией, используемой в качестве приманки. Это стало понятно, когда с приближением первого исполнения «Кольца» Малер напомнил директору о его словах. В ответ тот стал специально затягивать с решением, отказывался освободить Густава от других важных дел, и Малер прозрел: особого продвижения в Лейпциге ему не светит.
В целом отношения с Никишем складывались нейтрально. В письме Лёру Густав признавался, что спектакли под его управлением он смотрел так же спокойно, как если бы дирижировал сам, но самое высокое и самое глубокое Никишу, по мнению Малера, было недоступно: «Со мной он холоден и замкнут, то ли из самолюбия, то ли от недоверия — откуда мне знать! Довольно того, что, встречаясь, мы не говорим друг другу ни слова». Тем не менее тесное соседство с первым дирижером томило Густава, он жаждал независимости и настолько болезненно переживал отсутствие возможности для карьерного роста, что даже начал искать новый ангажемент. Нойман, имевший в Праге серьезные проблемы с дирижером Карлом Муком, надеялся, что Малер решит восстать и вернуться к своей прежней должности. Густава приглашали в Гамбург и даже в Придворную оперу Карлсруэ на место его консерваторского однокашника Феликса Моттля, и он уже всерьез начинал задумываться об уходе из театра.
Во время поездки по Европе с циклом «Исторических концертов» Антон Рубинштейн трижды выступал в Лейпциге. В один из вечеров Карл Райнеке пригласил его и Малера к себе, полагая вести разговоры о музыке и заодно познакомить нового дирижера с заезжей знаменитостью. К сожалению, подробности той беседы до нас не дошли. Малер же, будучи весьма скромным, описывал знакомство с мэтром как возможность «смотреть, но не действовать»: «К сожалению, я был ему совершенно неизвестен… При таких обстоятельствах всегда очень горько быть всего лишь одним из многих. В подобных случаях я всегда смолкаю, чтобы не быть в тягость: ведь я знаю, как мне самому докучны и смешны эти восторженные анонимы».
С именем Райнеке связана еще одна примечательная встреча Густава. По рекомендации Брамса в 1886 году к профессору прибыл учиться композиции Ферруччо Бузони. Его знакомство с Малером вскоре переросло в приятельские отношения. Оба музыканта в это время переосмысливали для себя баховское наследие, чему в большой степени способствовал город, в котором они находились.
Свободные часы Густав посвящал сочинительству. Он уже смирился с невозможностью работать в крупных формах, поскольку на них попросту не хватало времени. Отсутствие выходных дней приводило к поиску лаконичных музыкальных форм, способных аккумулировать гигантские эмоции. Малер переключился на камерно-вокальные жанры. Его настольной книгой на протяжении всей жизни оставался сборник немецкой народной поэзии «Волшебный рог мальчика». Песни на стихи поэтов-романтиков Ахима фон Арнима и Клеменса Брентано, подготовивших этот сборник к изданию, он начал сочинять еще в Касселе. Произведения, созданные на этой литературной основе, стали своеобразной творческой лабораторией, где Густав оттачивал композиторское мастерство, а впоследствии использовал некоторые из опусов в качестве музыкального материала для своих симфоний. Каждая песня для Малера составляла своеобразное зерно симфонического развития. Гэбриел Энджел описывает предполагаемые мысли композитора этого периода: «Возможно, однажды, когда он больше не будет рабом в театре, из этих песен он сможет создать симфонии». Так впоследствии и случилось.
Прошло несколько месяцев, и отношения Малера с первым дирижером стали более теплыми и упорядоченными. В письме Лёру, датированном январем 1887 года, Густав сообщает: «При том положении вещей, которое сложилось в последнее время, я сблизился с Никишем, и мы относимся друг к другу, как добрые товарищи». Тогда же первому дирижеру предложили место в Будапештской опере. Малер был счастлив, ведь уход главного конкурента открывал перед ним безграничные возможности. Он тотчас начал хлопотать у Штегемана об устройстве своего консерваторского друга Кржижановского на свою должность, которую вскоре надеялся покинуть, поднявшись по карьерной лестнице. Однако Лейпциг не отпускал не только Густава, но и мэтра Никиша. И работа продолжала идти в прежнем ритме.
В начале 1887 года пошатнувшееся здоровье Никиша и его отъезд на лечение в Италию сделали Малера на полгода единственным дирижером. При тяжелейшей физической нагрузке — дирижировать всеми спектаклями — положение Густава значительно укрепилось. Малер становился независимым и равноправным с Никишем. Работа его поглощала и отвлекала от переживаний за больного отца, которому Густав не в силах был помочь. К маю 1887 года настроение Малера улучшилось: «В глазах общественного мнения я уже изрядно вырос, меня часто “вызывают” и т. д. Отношения с директором у меня самые дружеские, а в его семье я — как родной… перспектива остаться здесь стала мне приятнее, потому что теперь у меня, собственно говоря, нет никаких причин уезжать… я занял во всех отношениях равное положение с Никишем и могу спокойно бороться с ним за гегемонию, которая непременно достанется мне уже благодаря моему физическому превосходству. По-моему, Никиш не выдержит соревнования со мной и рано или поздно сбежит».
Малер был завален работой, и эти шесть месяцев жизни оказались для него периодом цейтнота. Невероятно, но Густаву даже при таком напряжении удавалось сохранять высокий уровень своей работы. Макс Штейнитцер, будущий биограф Рихарда Штрауса и ведущий лейпцигский критик того времени, с которым Малер тесно общался в 1887–1888 годах, писал: «Казалось, что Густав переосмысливал каждый исполняемый под его управлением такт».
Одно из знакомств, устроенных Штегеманом, восторгавшимся молодым дирижером, имело особые последствия не только для Малера, но и для музыкальной жизни. Общение с капитаном Карлом Вебером, внуком композитора Карла Марии фон Вебера, быстро переросло в теплую дружбу. Творчество одного из ранних романтиков было особенно близко Малеру и по настрою, и по тематике. Можно утверждать, что в Вебере Густав видел свое alter ego: старший композитор создал «Рюбецаль», младший предпринял попытки написать одноименную оперу. Старшему принадлежит первенство в немецкой романтической опере, на которую опирался Вагнер и которая отражала взгляды Малера. Наконец, Вебер и Малер являлись дирижерами и реформаторами музыкального театра со схожими идеалами и представлениями, но с дистанцией в две трети века.
Дом капитана стал убежищем для уставшего от трудов Малера. Он любил маленьких детей и с удовольствием проводил свободный час в компании очаровательных малышей Вебера. При этом восхищался обаятельной супругой нового друга Марион. Фрау Вебер вскоре ответила интересному молодому дирижеру взаимностью, и у них скоро разгорелся тайный роман. Очевидно, не имея права афишировать их отношения, именно о ней Густав писал Лёру в октябре 1886 года: «Всё же за то время, что я живу в Лейпциге, мне удалось найти хорошего человека; признаюсь тебе тотчас: это один из тех, с чьей помощью люди устраивают свои глупости. Ты понимаешь, amice? На сей раз, однако, хочу быть осторожным, иначе это для меня очень плохо кончится». Любовная история развивалась стремительно. Густав даже собирался сбежать со своей избранницей, однако в назначенный час она не явилась, отдав предпочтение мужу и детям. Ходили слухи, что однажды во время совместной поездки Малера с четой Веберов на поезде Карл, охваченный приступом ревности, выстрелил из револьвера между головами сидящих напротив него влюбленных. Подтверждений этой истории нет. Скорее всего, это один из досужих вымыслов.
Самым ценным, что досталось в наследство от деда семье друзей Густава, была стопка рукописей, составлявших фрагменты незавершенной оперы Вебера «Три Пинто». После смерти композитора его вдова отдала рукопись Джакомо Мейерберу, желавшему подготовить сочинение к исполнению. Однако, продержав черновики 20 лет, он вернул их нетронутыми незадолго до своей смерти. Семья Вебера многие годы пыталась найти того, кто мог бы взяться за реконструкцию этого произведения. Известно, что среди ознакомившихся с нотным текстом оперы были Луи Шпор, Кароль Йозеф Липиньский, Франц Пауль Лахнер, Эдуард Ганслик и даже Йоганнес Брамс. Но никто из них так и не решился на столь рисковый шаг. Наконец артефакт унаследовал внук.
К столетию со дня рождения композитора театр осуществил постановку всех опер немецкого романтика. Тогда Вебер-младший понял, что именно Малер способен решить их старую семейную проблему, и показал ему те заветные авторские оригиналы. Он был убежден: если имевшиеся фрагменты «причесать» и подредактировать, то продвинутая общественность Лейпцига, несомненно, примет оперу, а колоритная испанская история «Три Пинто», пролежавшая с 1820-х годов, наконец найдет своего зрителя. Город любил музыку Вебера, причем настолько, что его сочинения являлись такой же частью его музыкальной жизни, как и вагнеровские опусы.
Капитан сделал правильный выбор: в Малере он нашел музыканта-романтика большой культуры, обладавшего отменным вкусом и чувством юмора, дирижера с немалым практическим опытом, который не уступал композиторскими способностями его деду. Но на деле работа оказалась не такой простой, как представлялось ранее. Выяснилось, что Вебер вчерне закончил только один из трех актов, и из необходимых семнадцати номеров в рукописи значилось лишь семь. Всего потомкам досталось 1700 тактов разрозненных набросков, из которых оркестрованными оказались лишь 18, то есть приблизительно минута музыки. Те номера, что были в наличии, представляли собой черновики с едва намеченным музыкальным материалом, который с трудом подвергался прочтению. Потомки композитора, очевидно, были введены в заблуждение вдовой Вебера, считавшей, что опера почти закончена. Теперь же стало ясно, почему те, кто смотрел оригиналы, отказывались от «Три Пинто».
Но Густава не смутил объем предстоящей работы. Напротив, с каждым днем занятий с материалами оперы энтузиазм его увеличивался. Вместе с внуком композитора они стали по крупицам восстанавливать авторский замысел. Капитан подготовил новое либретто, поскольку старое не нравилось ни Веберу-старшему, ни Мейерберу. Малер расставил авторские номера по всем трем актам и самостоятельно дописал оставшиеся сцены, базируясь на музыкальном материале неизданных ранее произведений композитора. Известно, например, что в качестве подлинной основы для Третьего акта Густав использовал неопубликованную фортепианную пьесу Вебера. В своей работе он старался максимально сохранить веберовские мелодии, развивая музыкальные интонации и мотивы по принципам, которыми руководствовался когда-то автор.
«Вольный стрелок» и «Эврианта» — классические примеры первых немецких национальных опер в народном духе, наполненных героикой и фантастикой. «Три Пинто» же стилистически должна была стать во временном отношении первой немецкой комической оперой. Малер избрал правильный подход, который позволил ему сохранить чистый романтизм музыки первой половины XIX века, то есть за десятилетие до конца столетия создать первую национальную романтическую комическую оперу, при том что и вторая, и третья уже давно исполнялись.
Летом 1887 года, отправившись в Йиглаву, Густав взял работу с собой и через две недели упорного труда закончил оперу. Оставшуюся часть долгожданного отпуска композитор посвятил наброскам к симфонии, которую планировал написать уже несколько лет. Контраст между своей и чужой музыкой оказался столь значительным, что Малера охватило чувство печали и тоски. Однако ему ничего не оставалось, как в очередной раз подавить внутреннее сопротивление. За несколько недель очертания симфонии приобрели ясность, но для полного окончания требовалось, по малеровским меркам, немыслимое количество времени — целых два месяца.
К осени Густав представил законченную веберовскую оперу Штегеману, который, предвкушая славу и выгоду от «Три Пинто», выразил огромную радость. Режиссировать постановку взялся сам директор, а музыкальное руководство было поручено Малеру.
Тринадцатого октября состоялось знакомство Густава Малера с Рихардом Штраусом, которое положило начало их многолетнему общению и профессиональной дружбе. Еще малоизвестный композитор к тому времени уже пользовался авторитетом у великого Ганса фон Бюлова и слыл его протеже. Штраус прибыл в Лейпциг для исполнения своей симфонии, и персона второго дирижера после того, как он побывал на некоторых постановках опер Вагнера, стала для него настоящим открытием. При личном общении Малер поведал о предстоящей премьере «Три Пинто» и специально для Штрауса исполнил некоторые оперные фрагменты на фортепиано. Индивидуальность Густава околдовала Рихарда, и в письме Бюлову он писал: «Я совершил новое, восхитительное знакомство с герром Малером, который поразил меня как высокоинтеллектуальный музыкант и дирижер: он один из немногих современных дирижеров, кто понимает темповые изменения, и в целом он отличный интерпретатор, но особенно темпов Вагнера (в отличие от современных дирижеров, исполняющих Вагнера). Переработка Малером веберовской “Три Пинто” мне кажется шедевром: Первый акт, который Малер играл мне, я считаю восхитительным… я думаю, Вы тоже будете наслаждаться им». После прочтения штраусовского письма об открытии молодого дирижера Бюлов, незадолго до этого пренебрегавший Густавом в Касселе, должно быть, испытал некоторые угрызения совести и чувство неловкости. Тем не менее маэстро не поддался ярким эмоциям своего протеже, а, напротив, упрямо отстаивал свою позицию, пытаясь его разубедить. И отчасти это ему удалось.
Премьера «Три Пинто», на которой присутствовал весь бомонд, включая королевскую чету Саксонии, состоялась 20 января 1888 года. Гэбриел Энджел описывает это событие так. С одной стороны, зал, полный поклонников веберовского искусства, встретил рождение оперы с триумфом, а Малер и внук композитора многократно выходили на поклон восхищенной аудитории. С другой — газетные статьи, вышедшие на следующий день, критиковали оперу, открывая истинное лицо местных музыкальных критиков и их низкую компетентность. К примеру, номера, сочиненные Вебером, к которым Малер не добавил ни одной ноты, характеризовались фразой «не по-веберовски», а эпизоды, с нуля сочиненные Густавом на материале неизданных произведений, напротив, были признаны образцами типично веберовской музыки. Тем временем Штраус, побывавший на одной из репетиций, написал второе письмо Бюлову, в котором — то ли разочарованный музыкой, то ли переубежденный Бюловом — отказывался от своих слов: «Вчера на репетиции я видел Второе и Третье действия “Три Пинто” и полностью понимаю Ваш ужас, они действительно очень посредственны и утомительны. Малер совершил ужасные промахи в инструментовке… Я знал только Первый акт, который Малер играл мне на пианино с большим энтузиазмом, которым, должно быть, я заразился, так что глубоко сожалею, что сделал Вас, уважаемого мастера, невинной жертвой моего юношеского безрассудства».
Так или иначе, но публика в подавляющем большинстве вынесла вердикт в пользу оперы, и до начала лета в Лейпциге состоялось 15 спектаклей. «Три Пинто» сразу же включили в свой репертуар театры других городов, в том числе столица империи — Вена. Правда, венские критики были не намного лучше лейпцигских и восприняли оперу как коммерческую попытку молодого неизвестного композитора прославиться за счет громкого имени.
Тем не менее проделанная титаническая работа вознаградила Малера первой международной известностью и как композитора, и как дирижера, обеспечив ему особое уважение в мире музыки, даже в лице не принявшего оперу Штрауса. Биограф Константин Флорос рассказывает, что после премьеры «Три Пинто» Густав не без гордости говорил своим родителям, что теперь он «известный человек» для выдающегося дирижера Германа Леви, Козимы Вагнер, жены композитора, и даже для короля и королевы Саксонии. Гордиться действительно было чем: используя несколько веберовских тем, Малер практически заново написал оперу. Видя волнение и радость капитана Вебера — ведь исполнилась главная мечта их семьи, — Густав явно испытывал удовлетворение от случившегося. К тому же на тот момент общественный успех значил для него немного, поскольку он увлекся занятием поважнее, бросив все свои силы на первое главное композиторское дело своей жизни: сочинение симфонии.
Хотя молодой и энергичный дирижер прекрасно справился с «периодом рабства», вызванным болезнью Никиша, и успешно провел половину своего второго театрального сезона, Штегеман с сожалением обнаружил, что Густав внезапно переменился, погрузившись в глубокие тайные мысли. На творческих обсуждениях постановок, встречах с музыкантами или руководством он внезапно бросался в соседнюю комнату, где стояло фортепиано, и спустя некоторое время возвращался в приподнятом настроении, заявляя, что только что записал чудесную мелодию. Иногда без извинений или объяснений Малер оставлял удивленных друзей и знакомых, чтобы в одиночестве работать у себя дома. Гэбриел Энджел пишет, что Густав не имел представления о разочаровании, вызываемом у директора своим поведением, но его долго подавляемая тяга к сочинительству больше не могла молчать. В театре он работал как проклятый и, несомненно, заслуживал короткий отдых от своих обязанностей. Поэтому Малер попросил Штегемана о снисходительности в письменной форме, которую, очевидно, счел более уместной: «Пожалуйста, не сердитесь на меня за то, что я пишу, когда Вы так поблизости. В течение некоторого времени я наблюдаю, что из-за навалившихся на Вас мелких забот и неприятностей Вы находитесь не в духе, но я никак не могу избавиться от ощущения, что я тоже несколько виноват в Вашем состоянии. Я боюсь, что недоразумение, возникшее между нами, в настоящее время может поставить под угрозу дружбу, которая была для меня большим источником радости и сделала мое нахождение здесь таким приятным. Признаюсь без колебаний, что у Вас есть достаточный повод, чтобы жаловаться на меня, я давно уже не осуществляю мои обязанности в том порядке, который Вы ожидаете. Также я знаю, что у меня нет причин, чтобы оправдываться, потому что причина моего некоторого пренебрежения обязанностями достаточно важна, чтобы заслужить Ваше снисхождение. Я прошу лишь немного больше терпения! Пусть пройдут еще два месяца, и Вы увидите, что я снова один».
В течение последующих шести недель Малер напряженно работал. День и ночь перемешались. Густав сочинял с безумным напряжением практически без перерывов, как и десять лет назад, создавая «Das klagende Lied» и принуждая к труду свое полуголодное тело. И точно так же, как тогда, им вновь стали овладевать галлюцинации. Однажды ночью он работал над труднейшим разделом, в котором красочность природы выражалась через образы птиц и лесов. Утомившись, Малер поднял глаза от запутанных нотных записей, сделанных им только что, и огляделся. Его усталый взгляд блуждал по комнате и наконец остановился на цветах, подаренных ему после премьеры «Три Пинто» и в изобилии нагроможденных на столике. Он снова попытался сосредоточиться на музыке, но вдруг им овладело жуткое чувство, будто что-то переменилось, и он снова взглянул на цветы. Теперь столик выглядел иначе, ему стало казаться, будто стол окружен странно мерцающими свечами, а в центре среди венков и букетов лежит труп мужчины. Густав пригляделся к покойнику и узнал в нем себя. В ужасе Малер бросился из комнаты.
Закончить симфонию помог случай. Отведенное время подходило к концу, но сочинение еще не было завершено. 9 марта 1888 года в Берлине скончался кайзер Вильгельм I, оставив трон наследнику, сыну Фридриху. Это событие полностью парализовало культурную жизнь Германской империи, на десять дней закрылись все театры. Это обстоятельство позволило Густаву в освободившееся время успеть дописать свой опус. К середине марта симфония была готова, о чем он сообщил Лёру: «Да, это так! Мое сочинение готово! Теперь мне хочется, чтобы ты стоял у моего пианино и я мог тебе всё сыграть. Быть может, ты будешь единственным, кто не узнает из моего произведения ничего нового обо мне. Все прочие, конечно, немало подивятся! Всё это вырвалось из меня неудержимо, как горный поток!»
Итак, десятилетнее блуждание Малера-композитора, в ходе которого его «перо» оттачивалось на камерно-вокальных сочинениях, оркестровках или переложениях, завершилось монументальным опусом, определившим дальнейшие творческие искания молодого автора, обусловившие в конечном итоге общий вектор развития жанра симфонии.
Надеясь на скорую премьеру, Густав с законченной партитурой предстал перед хмурым Штегеманом. Тот нуждался в преданном исполнителе всех его театральных указаний, но если раньше Малер, рабски выполнявший огромную работу, соответствовал его требованиям, то теперь перестал. Густав понял, что их дружба целиком зависела от его исполнительности. Контракт на предстоящий сезон изменили, и Малер вновь столкнулся с перспективой работы «без обязательств», а как следствие с перспективой бедности. В отличие от студенческих лет, финансовые заботы Густава давно превысили личные нужды — ему надо было помогать больному отцу, а теперь и матери. Визиты родителей в Вену для консультаций с врачами стали неотъемлемой частью бюджета их заботливого сына. Последние недели второго оперного сезона он провел в отчаянии.
Атмосфера в некогда спокойном коллективе накалялась, о чем свидетельствовали взгляды музыкантов, их плохое исполнение музыки, демонстративно-пренебрежительное отношение к Малеру со стороны руководства. Но неутомимый дирижер продолжал работу в полном соответствии со своим девизом: «всегда вперед». Некоторую власть в театре имел Альберт Гольдберг — бывший певец, а на тот момент главный режиссер с приличным опытом и правая рука Штегемана. За спиной музыканты называли его «закулисная власть». Гольдберг стал появляться на малеровских репетициях, чем молчаливо показал окружающим: против Густава намечается заговор с целью избавиться от него даже раньше, чем закончится срок контракта. Все интуитивно понимали, что момент развязки близок, и второй дирижер беспомощно ожидал финала. Одним майским утром, когда Малер работал с певцами над оперой Гаспаре Спонтини «Фернандо Кортес, или Завоевание Мексики», Гольдберг ворвался в зал, и началась перепалка. Повод для словесной дуэли, свидетелями которой оказалась вся труппа, теперь уже доподлинно неизвестен, однако слова главного режиссера приводятся практически всеми биографами Малера: «Сегодня вы здесь дирижировали в последний раз!» После этого грозного высказывания, прозвучавшего от человека, явно превысившего свои полномочия, Густав поспешил к Штегеману, чтобы тот вразумил Гольдберга, однако директор, пожав плечами, угрюмо ответил: «Что делает герр Гольдберг, то делаю и я». На следующий день, 17 мая, дирекция оперы приняла отставку второго дирижера.
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР
Лето началось для Густава Малера не лучшим образом. В довершение всего ухудшалось его здоровье. Семь лет, отданные театральным постановкам, неизменный цейтнот и переутомление постепенно делали его невротиком: он чувствовал непроизвольные мышечные сокращения, которые пока еще мог подавлять усилием воли. Периодически Малер мучился мигренями. Слабым и печальным он вернулся в Йиглаву. Дома Густав увидел отца, уже отмеченного печатью стремительно приближавшейся смерти. Мать же была больной настолько, что ему стало ясно: она ненадолго переживет отца.
Пообщавшись с пятнадцатилетним Отто, Густав обнаружил у него музыкальный дар и желание пойти по пути старшего брата. Натали Бауэр-Лехнер в своих воспоминаниях говорит о самых настоящих «малеровских способностях к музыке» младшего сына Бернхарда и Марии. Освободив мальчика от участия в отцовских делах, Густав отдал его в Венскую консерваторию, потратив на это оставшиеся деньги. Сестра Леопольдина, вышедшая замуж и переехавшая в столицу, приютила Отто на время обучения.
К счастью, появился туманный шанс устройства на работу. Малер радовался любой достойной должности, способной помочь семье. Когда же дымка едва зримой перспективы начала рассеиваться, стало понятно: Густав стоял на пороге небывалого карьерного скачка. Его дирижерские способности и высокие художественные идеалы получили признание многих влиятельных музыкантов. Это позволило бывшему лейпцигскому дирижеру войти в список кандидатур на получение престижной должности.
Ференц Эркель, знаменитый музыкальный деятель, композитор, пианист и дирижер, руководивший с 1838 года Венгерским национальным театром, в 1888 году, несмотря на весьма почтенный возраст, продолжал находиться «у руля» музыкальной жизни. Именно он, основоположник национальной оперы, автор венгерского гимна, в 1872 году вместе с Ференцем Листом инициировал строительство здания Королевской оперы, а в 1884 году стал первым руководителем этого театра, перед зданием которого сегодня обоим Ференцам установлены памятники. Специально спроектированный зал в форме подковы, рассчитанный на 1261 зрителя, по сей день занимает третье место в Европе после миланской Ла Скала и парижской Гранд-опера по своим акустическим качествам.
Эркель пользовался огромным уважением. При этом у 78-летнего руководителя театра отсутствовало представление о потребностях публики, окупаемости постановок, да и об организации собственного руководства. К тому же из-за возрастных болезней театром реально правил интендант, и уже через четыре года работы Королевская опера пришла в такой упадок, что встал вопрос о закрытии театра. Качество репертуара и исполнения снизилось до уровня захудалых провинциальных учреждений. На фоне финансового хаоса процветали должностные махинации. Государство, понимая, что деньги уходят в никуда, отказалось от своего патроната.
В январе 1888 года государственным секретарем, ответственным за все театры Венгрии, стал «необыкновенно умный и обходительный человек», как его описывали современники, барон Ференц фон Беницки. Этот чиновник являлся одной из ключевых фигур всего венгерского политического истеблишмента, и назначение бывшего министра внутренних дел, реального тайного советника, королевского камергера, а также члена верхней палаты, занимавшегося к тому же вопросами внешней политики, на должность «смотрителя за театрами» красноречиво свидетельствовало о невозможности решения этой проблемы иными средствами. Хотя Беницки не имел опыта управления подобными учреждениями, он быстро осознал необходимость кардинального обновления главной оперной сцены страны. Проведенный им краткий аудит сразу же выявил целый комплекс проблем, отчего барон тотчас начал искать нового директора, способного выправить весьма непростую ситуацию.
Будучи достаточно благоразумным человеком, чтобы не устраивать произвол, Беницки вел консультации с авторитетными музыкантами. Одним из них являлся знаменитый венгерский виолончелист и профессор Будапештской академии музыки Давид Поппер. Делегированный государственным секретарем, Поппер обратился к студенческому другу Малера, на тот момент профессору Пражского университета, музыковеду Гвидо Адлеру с просьбой о помощи, и Адлер решительно рекомендовал кандидатуру Густава на вакантную должность. Поппер, будучи уроженцем Праги, уже слышал о молодом дирижере из Немецкого театра, великолепно справлявшемся со своей работой. Тем не менее он хотел уточнить у Адлера исполнительскую и художественную квалификацию Малера, и тот охарактеризовал Густава не просто как талантливого музыканта, а как энтузиаста с сильными волевыми качествами. Их полная переписка не сохранилась, но американский исследователь Эдвард Рэндольф Рейли в книге, посвященной дружбе Малера с Адлером, пишет, что среди бумаг музыковеда оказались найденными три письма Поппера, способные пролить свет на подробности той истории, а также представить, насколько настойчивой была поддержка друга. Во время переписки Адлер находился на летнем отдыхе в деревне Шегенфельд, что в Венском Бадене. Рейли приводит письмо Поппера от 4 июля 1888 года: «Уважаемый господин профессор, в качестве непосредственного ответа на Ваш отзыв, полный добрых слов, позвольте мне сообщить Вам, что я передам основное содержание Ваших слов в отношении герра Г. Малера в нужное место; туда, где окончательное решение о заполнении этой долгосрочной вакансии в Пеште, своего рода “перетягивание старого морского чудовища”, будет, наконец, сделано. Давайте надеяться на лучший исход: я его желаю вместе с Вами. Четырнадцать дней назад я ушел из дела на стадии, когда шли серьезные переговоры, которые, по-видимому, идут хорошо, в настоящее время ведется разговор с очень известным иностранным дирижером. Но всё это может перемениться в течение ночи, как часто бывает в таких делах. В любом случае я буду информировать Вас о результатах моего шага». В дальнейшем Попперу удалось переманить на свою сторону директора Будапештской академии музыки Одона фон Михаловича, а также развеять сомнения Беницки по поводу молодости и неопытности Малера. В результате молодого дирижера пригласили для предварительного общения в Вену.
В это время Малер, не имея конкретных планов, вернулся в Прагу, где вместе с Анджело Нойманом начал готовить к турне веберовскую оперу «Три Пинто» и сочинение Петера Корнелиуса «Багдадский цирюльник». Сначала между Нойманом и Малером царило взаимопонимание. Но наступил момент, когда Густав вновь испытал унижение: во время работы над «Цирюльником» одна из его нервных вспышек привела к спору с Нойманом, который тотчас отказался от его услуг.
Поглощенный сочинительством, сидя в одном из венских кафе, Густав чуть ли не пропустил важнейшую встречу с Поппером. Но личное знакомство всё же состоялось, и впечатления профессора о Малере полностью подтвердили рекомендации, данные Адлером, что, в свою очередь, определило положительный исход переговоров.
Известно, что помимо Густава на пост директора претендовал друг Малера Феликс Моттль, на тот момент дирижер придворного театра и филармонического хора в Карлсруэ. Переговоры с Никишем всё еще продолжались, другие кандидатуры не афишировались, но среди них были многие знаменитые музыканты своего времени.
Тем не менее 2 октября 1888 года, к всеобщему удивлению, новым директором Королевской оперы в Будапеште был объявлен малоизвестный Густав Малер. Контракт, подписанный им накануне, возможно, до сих пор не имеет аналогов в истории музыки и театрального менеджмента. Условия этого контракта удивляют даже сегодня далеких от театрального искусства людей: 28-летний дирижер получил должность абсолютного директора, который в течение целого десятилетия держал под безоговорочным контролем один из крупнейших оперных театров Австро-Венгрии. Годовое довольствие в десять тысяч гульденов являлось целым состоянием по сравнению с прежней зарплатой Малера. При этом договор четко прописывал требования, вызванные особенностями национального театра, в частности новый директор обязывался выучить совершенно незнакомый ему венгерский язык.
Проведя всю молодость в состоянии постоянного финансового голода, Густав часто восклицал: «Эти проклятые деньги!», поскольку больше чем кто-либо знал их реальную цену. Теперь же не Малер, а его друзья, которые нуждались в финансовой поддержке, могли рассчитывать на него как на человека, всегда готового дать в долг нужную сумму. По сути, от всех материальных забот Густав освободился лишь одним росчерком пера.
Мемуары австрийского журналиста и музыкального критика, а на момент назначения нового директора — певца Людвига Карпата содержат его личные впечатления от появления Малера в Будапеште: «Это было в воскресенье 30 сентября 1888 года после полудня. Возвращаясь с прогулки, я проходил мимо Венгерского королевского оперного театра и у артистического подъезда остановился с привратником, чтобы узнать у него какие-нибудь новости. Тут я увидел гладко выбритого маленького человека, который, не оборачиваясь, быстрыми шагами вошел в швейцарскую и стремглав бросился вверх по лестнице директорской канцелярии. “Это и есть новый директор!” — заметил длинный, как жердь, портье. … “Как! Значит, есть новый директор, и об этом не знает ни один человек? Да как же его зовут?” — продолжал я расспросы. “Густав Малер!” — ответил портье. Я слышал это имя впервые в жизни и не хотел верить, что такой молодой на вид человек назначен директором Королевской оперы… Так… я впервые увидел Густава Малера».
Малер приступил к исполнению своих обязанностей с энтузиазмом и уверенностью в успехе. Удивление музыкантов и поклонников театра превысило их домыслы и фантазии. На нового директора смотрели с опаской и непониманием, как всегда начали появляться разнообразные слухи… Одна из газет писала: «Удивился даже сфинкс, установленный у входа в театр». Густав понимал, что уважение и признание он завоюет не раньше первой премьеры, до которой оставалось еще несколько месяцев. Поэтому, чтобы успокоить и расположить к себе взволнованных работников театра, он написал следующее объявление: «…C радостью и гордостью я вижу вокруг отряд артистов, который ни один полководец не постыдился бы повести к победе. Каждого из нас должна преисполнить гордостью мысль, что мы принадлежим к учреждению, которое пользуется столь милостивой и благотворной поддержкой высокого покровителя искусств, его величества императора; к учреждению, которому всегда протягивали щедрую руку высшие власти империи, которое является средоточием всех художественных устремлений Венгрии и в то же время составляет и должно составлять гордость нации. Но с другой стороны: сколь требовательными к самим себе должно сделать нас сознание, что мы — те, кто обязан поддержать и поднять еще выше значение подобного учреждения… Дадим же друг другу обет всей душой посвятить себя той высокой задаче, которая выпала нам на долю. Строжайшее выполнение долга каждым в отдельности, полная и безраздельная преданность нашему делу в целом — таков пусть будет девиз, который мы начертаем на нашем знамени. Не ждите от меня ни обещаний, ни административных мер. Я не выдвину сегодня перед вами никакой программы. Давайте познакомимся друг с другом и сплотимся для трудной работы, которая выпала нам на долю. Я могу пообещать сегодня только одно: всегда подавать вам благой пример радости творчества и доброй воли! Отдадимся же работе и сделаем то, что нам надлежит. А затем и успех увенчает наше дело…» Столь горячее и яркое обращение, полное личностной вовлеченности в успех дела, послужило достойным авансом перед персоналом театра и остудило волнения. Все с нетерпением ждали премьеры, чтобы окончательно понять, является ли Малер тем самым талантливым организатором, который необходим городу.
Венгерское общество того времени было разделено на два противоборствующих лагеря. Первый отстаивал собственный национальный уклад. Многие из мадьяр, как они себя называли, представляли собой либеральных поклонников немецкой культуры, обожавших Вагнера и видевших развитие собственных традиций в диалоге с немецкой культурой. Они приветствовали Малера, символизировавшего для них культуру соседнего народа. Сторонниками этой позиции являлись Ференц фон Беницки, Одон фон Михалович, граф Альберт Аппони, активно продвигавший закон о национальном мадьярском образовании, а также многие другие авторитетные лица. Второй лагерь представлял собой силы внутреннего национального раскола. Этими силами были сторонники католицизма и прословацки настроенные антисемиты, на чьей стороне выступали предыдущий директор Будапештской оперы Эркель, его сыновья Дьюла и Шандор, продолжавшие работать в театре (Дьюлу уволил барон Беницки в марте 1889 года), а также граф Геза Зичи, президент Венгерской академии музыки. Королевский театр являлся национальным символом, и в политически нестабильное время его падение стало бы сильным ударом по национальному самосознанию. Именно поэтому, не имея никаких альтернатив в деле спасения «народного достоинства», оперу доверили столь молодому человеку, богемцу и еврею из ненавистной Вены, причем с правом полной художественной самостоятельности и независимости. В иной ситуации такое, разумеется, не могло бы случиться. Единственным пунктом в договоре с Малером, который потенциально ограничивал его руководящие права, являлись возможные изменения в системе управления государственной политикой в области культуры. Но, несмотря на зыбкость ситуации в стране, такое на момент подписания ангажемента казалось немыслимым.
Факт, что Королевская опера представляла собой раздробленный коллектив, для Густава оказался не таким уж плохим. Напротив, заполучив полные административные и художественные полномочия, он имел возможность создать театр с нуля и придать ему тот вид, который желал. Оперная реформа, задуманная им еще в ходе жарких споров с друзьями в венских кафе, получила шанс реализоваться, и Малер, как только появился в Будапеште, начал работу с весьма радикальных действий. Те, кто считал, что новый директор скоро сдастся устоявшимся традициям и всё пойдет по-прежнему, наивно обманывались.
Поскольку многие музыканты понимали только венгерский язык, Густаву пришлось нанимать переводчика. Первый опыт сразу показал, что самый быстрый способ наладить контакт — это начать говорить на языке своих коллег, и Малер стал учить венгерский, тем более что к этому его обязывал договор.
Старая политика театра состояла в приглашении из разных стран Европы «звезд» оперной сцены, получавших заоблачные гонорары. Приезжие знаменитости, не заинтересованные ни в чем, кроме денег и оваций нанятых клакеров, не хотели утруждать себя разучиванием венгерских текстов, поэтому зачастую на сцене проходили спектакли, полные языковой путаницы: итальянский текст вдруг превращался во французский, затем в венгерский. Единственный язык, отсутствовавший в этой «словесной каше», — немецкий — в Венгрии был запрещен по политическим соображениям. Из-за такого подхода к постановкам художественная ценность произведений терялась, поэтому неудивительно, что опера среди жителей Будапешта пользовалась небольшой популярностью.
Естественным нововведением Малера в этой ситуации стала языковая унификация всех представлений: теперь в национальном театре звучал только родной, венгерский язык. Этот ход оказался весьма дипломатичным, публика восприняла его как проявление патриотизма, хотя позднее Густав, тоскуя по родине, признавался в письмах: «Если бы я мог только услышать поющееся слово на немецком языке!» В своей идее о родном языке для венгерской оперы он зашел так далеко, что на главный язык Королевского театра перевели даже творения Вагнера.
Идеи Малера противоречили устоям прошлого, он четко осознавал: для нормальной работы национальной оперы нужны свои, венгерские певцы. Выход оказался простым: Густав приступил к длинным изнурительным ежедневным репетициям и поискам венгерских талантов. Без каких-либо формальностей он лично прослушивал каждого певца. Попасть на аудиенцию можно было, просто придя к нему в театр. Людвиг Карпат вспоминает свое знакомство с новым директором: «…уже через неделю после его вступления в должность я велел доложить ему о себе и был тотчас допущен. Малер встретил меня словами: “Вы, конечно, хотите что-нибудь спеть мне”. — “Ну да, господин директор!” — ответил я, и дело тотчас началось. “Вражда и месть нам чужды” из “Волшебной флейты”, — заявил я с чувством собственного достоинства, — “и, очень прошу вас, в Es-dur, а не в E-dur”. — “Значит, на полтона ниже”, — сказал Малер, усмехаясь, и тотчас сел за фортепиано. В середине арии Малер на несколько тактов прервал аккомпанемент и уставился на меня своими блестящими глазами, которые горели под сильными стеклами очков. Потом он продолжал аккомпанировать, и когда я, желая показать всю глубину моего сильного бас-баритона, закончил арию низким es, Малер вскочил с кресла и объявил мне: “Вы ангажированы!” Через полчаса контракт лежал уже у меня в кармане, и я получил роль отшельника в “Вольном стрелке”».
Премьеры «Золота Рейна» и «Валькирии», состоявшиеся 26 и 27 января 1889 года, открыли новую, малеровскую страницу Будапештской оперы. До Густава о «Кольце нибелунга» в Венгрии слышали лишь профессионалы, а творчество Вагнера представляли только ранние сочинения. Возможно, боясь избирательного подхода у непросвещенной публики, Малер обязал продавать на оба спектакля единый билет. Успех оказался феноменальным. Публика, отвыкшая от достойных постановок, преисполнилась гордостью за национальный театр, управляемый новым директором, который осуществил сразу две грандиозные постановки всего за три месяца. Факт, что за этот срок Густав провел 80 репетиций, никого не волновал. Как следствие, сборы от оперных спектаклей стали расти. Благодаря усилиям Малера игра артистов приобрела естественность, их образы и действия стали правдоподобными. Театр закупил новое художественное оформление для сцены: стали применяться проекционные фонари и иные технические средства, позволяющие при помощи оптических эффектов создавать иллюзию движения.
Несмотря на то что Малер активно приводил к порядку все сферы театральной жизни, в начале его работы огрехи предыдущего руководства всё еще давали о себе знать. Так, самое первое представление «Золота Рейна» длилось дольше запланированного. Причиной этого послужил небывалый эксцесс. В будке суфлера произошло возгорание, остановившее представление. Полчаса пожарные на глазах у публики тушили пламя, после чего оперу начали заново. Восторг зрителей, побывавших на той премьере, искупил их впечатление от этого технического казуса.
Восемнадцатого февраля, спустя три недели после первого будапештского триумфа Густава, скончался его отец. Теперь Густав ожидал второго удара — смерти матери.
В пасхальные дни Фридрих Лёр гостил у Густава в Будапеште. В кафе «Ройтер», находившемся напротив Королевской оперы, где Малер любил перекусить и поиграть в бильярд, друзья разговаривали о жизни. Прогуливаясь по живописному берегу Дуная, Густав делился планами нового симфонического произведения, над которым работал в свободное время. Задуманная концепция была куда более сложной, чем в Первой симфонии. Она волновала его еще с 1883 года, когда он работал над «Песнями странствующего подмастерья» и побывал на фестивале в Байройте. Услыхав «Парсифаля» недавно скончавшегося Вагнера, Густав задумался о том, что наследие, оставленное композитором, его взгляды и мысли, выраженные в музыке, живы, а следовательно, жив и их автор. Позднее, в 1888 году, Малер сочинил симфоническую поэму «Тризна». Теперь же, испытав горечь утраты собственного отца и готовясь потерять мать, Густав тешил себя мыслями о смысле человеческого существования, и тема смерти с последующим воскрешением в виде наследия, оставленного человеком, стала для него особенно актуальной. К тому же она консонировала с его эстетикой, и хотя несла явно христианскую идею, в экзистенциальном смысле была выше христианства и выше какой бы то ни было религии. Однако, как любая философская тема, сопряженная с антитезой бытия и небытия, она требовала серьезной концептуальной проработки. Лёр, впервые услышавший о новой симфонии Малера еще до ее написания, весьма сочувственно отнесся к идее своего друга.
Первый сезон в опере свидетельствовал о победе малеровской политики. Строгость и требовательность нового руководителя театра компенсировались его дружелюбным отношением к коллегам, что приносило ему особое уважение. Иногда по окончании работы Густав приглашал музыкантов к себе. Они вдоволь ели и пили, а Малер темпераментно делился с ними театральными планами и надеждами на будущее. Постепенно Густав обрастал новыми друзьями, но среди музыкантов находились и те, кто не принял «заезжего дирижера». Его революционные изменения в художественной политике театра не всем были по душе. Гэбриел Энджел рассказывает историю, как один или два темпераментных джентльмена из состава исполнителей, обиженные на «иностранца», потребовали от Густава сатисфакции в южных традициях. Их регулярные вызовы приводили к столь глупым ситуациям, что в итоге Малер объявил в газетах, что не считает дуэль достойным и целесообразным методом выяснения чьей бы то ни было правоты и по этой причине отказывается играть по навязываемым ему правилам.
Переживания из-за потери отца и болезни матери, а также физическое истощение от изнурительного труда привели к обострению геморроя. Летом по рекомендации врачей Густав прибыл для лечения в Мюнхен, где ему сделали операцию. Через несколько недель, оправившись от «подземного недуга», как он называл свое заболевание, Малер поспешил в родную Йиглаву, чтобы провести с матерью ее последние дни.
Новый оперный сезон захватил Густава со всей силой, не оставив ему свободного времени. 27 сентября в Вене умерла 26-летняя сестра Леопольдина. Причиной смерти послужила опухоль мозга, по другой версии — менингит. У нее жил учившийся тогда на втором курсе консерватории брат Отто. Лёр, обзаведшийся семьей и также осевший в Вене, перевез Отто к себе.
Через две недели после смерти Леопольдины, 11 октября, не стало и матери Густава. Из-за занятости в театре он не смог присутствовать на похоронах. За несколько дней до этого, предчувствуя печальный исход, он писал Уде, жене Лёра: «Я завален работой: в воскресенье “Лоэнгрин!” Из дому очень плохие вести: катастрофы можно ждать с часу на час. А я ни при каких условиях не могу уехать отсюда раньше понедельника. Не сумели бы вы, если худшее произойдет раньше, чем я могу быть там, поехать на один-два дня в Йиглаву, чтобы поддержать моих сестер? Я не представляю, что они будут делать одни!»
После случившегося единственный, кто мог помочь сиротам, оказался Густав. Доставшийся ему бесхозный дом в Йиглаве продали, четырнадцатилетняя Эмма Мария Элеонора переехала к Лёру, а двадцатилетнюю Юстину Эрнестину старший брат взял к себе. Биографы умалчивают о судьбе еще одного брата Густава, Алоиса. В книге Петера Франклина «Жизнь Малера» приводятся данные, что 22-летний Алоис, в некоторых источниках Ганс Христиан Малер, к тому времени был призван на военную службу. Старший брат оказывал ему денежную помощь. По данным Анри Луи де ла Гранжа, в семье Алоис считался «белой вороной», лишенный финансовой поддержки он куда-то исчез. По другой информации, Алоис работал бухгалтером на конфетной фабрике «Heller Candy С°» в Вене и умер 14 апреля 1931 года в Чикаго.
Теперь Густав стал единственной опорой для своих родных. Переезд семьи из Йиглавы означал немалые, но необходимые расходы. Малер отдавал семье всю свою большую зарплату. Брат Отто обладал значительным музыкальным талантом, но оказался психически неуравновешенным человеком. Он упорно отказывался учиться, а без образования его будущее представлялось весьма печальным. Юстина из-за долгого ухода за умирающей матерью сильно ослабела сама. Новый «глава семьи» не без сожаления отмечал: «В моей семье всегда кто-то болеет».
В ноябре состоялись два композиторских дебюта Густава. 13-го числа на концерте впервые прозвучали его песни для голоса с фортепиано «Erinnerung» на стихи Леандера и «Scheiden und Meiden» на стихи Брентано и Арнима, а 20-го числа произошло важнейшее творческое событие будапештского периода — первое публичное исполнение его оркестрового сочинения — Первой симфонии. Представленная на суд публики «Симфоническая поэма в двух частях» на самом деле являлась четырехчастной симфонией с перерывом в несколько минут между второй и третьей частями. Музыканты, восхищавшиеся Густавом, сделали всё возможное, чтобы аудитория приняла произведение. Однако за дирижерским пультом стоял не композитор, а Шандор Эркель, поэтому о качестве исполнения симфонии сегодня можно только догадываться. Программа концерта была составлена Эркелем весьма странно. Она включала сочинение Керубини, исполнявшееся перед произведением Малера, арию из моцартовской «Свадьбы Фигаро» с хоралом и фугу Баха, звучавшую в заключении концерта. Большая часть аудитории не оценила странную серьезную музыку, приняв сочинение Малера весьма холодно. Слушатели, воспитанные венскими классиками, не поняли совершенно новый для них музыкальный язык, они оказались не в состоянии распознать ни изысканности пробуждавшейся природы, ни причудливого гротеска. Возможно, симфония не пришлась по вкусу из-за особенностей драматургии, где первые части в целом оптимистичны, третья — внезапный похоронный марш, а зримый конфликт происходит только в финале. Мало кто из слушателей догадался, что тот похоронный марш — это всего лишь ирония, сопровождаемая весьма разнузданной мелодией наподобие тех, что можно было услышать в кабаках. В этой части композитор изобразил популярную картинку Морица фон Швинда «Звери хоронят охотника», где траурная процессия старается всем своим видом показать огромное горе. Но не в силах сдержаться, у зверей вырываются истинные чувства. Финальная бравада сочинения поражает. Малер задумал так, чтобы все валторнисты в определенный момент стоя исполняли свою партию, заглушая весь оркестр. Начинается же симфония с тишины, постепенно наполняющейся шорохом деревьев, интонациями кукушки, призывами горна, доносившегося из йиглавской казармы, и всеми теми звуками, слышимыми Малером в детстве, когда он гулял по лесу. Весь мир первой части — это мир детства композитора.
Однако любители и профессиональные музыканты, для которых творения Бетховена и Брамса представлялись своеобразными симфоническими Евангелиями, оказались эпатированными динамическими сюрпризами малеровского сочинения. Впоследствии Густав с юмором любил вспоминать, как одна пожилая элегантная дама из светского общества, проспавшая в ложе всю третью часть симфонии, от грохота атакующих литавр в первых тактах Финала внезапно проснулась и, ошарашенная звуковым напором, выронила сумочку и очки. Причем грохот от падения этих предметов мог посоревноваться со звуками литавр.
Из критиков, которые опубликовали свои мнения на следующий же день после премьеры, лишь один Август Бер высказал более благоприятное впечатление и даже смог понять основной смысл специального утяжеления инструментовки. «Этот технический перевес легко приводит его к выбору “жестких звучаний” ради усиления выразительности и достижения звуковых эффектов», — писал он. Остальные же отзывы служителей пера, как вспоминал Лёр, присутствовавший в тот вечер на концерте, отталкивали своей «безобразной самоуверенностью». Например, некий Герцфельд с яростью обрушился на симфонию, чем открыл газетную оппозицию творчеству Малера, не прекращавшуюся вплоть до второй половины XX века. Собственно, из-за неприятия критиков положение композитора в музыкальной истории долгое время оставалось спорным. Сам Малер писал спустя некоторое время: почти все «предусмотрительно избегают меня после злополучного исполнения моей Первой».
Густав четко осознавал, что, несмотря на неприятие его симфонии, своим творчеством он вносил необходимый вклад в развитие музыкального искусства. Еще из Лейпцига Малер писал Лёру о своей только что законченной симфонии: «Все прочие, конечно, немало подивятся!» Он знал, что современное общество не в состоянии принять его музыку. Говоря впоследствии, что его сочинения будут долго ожидать признания, Малер понимал, что творит в шкале ценностей и установок нового времени, которое еще не пришло.
Провальное исполнение симфонии — событие грустное. Раскрытие своих сокровенных, облаченных в музыку тайн перед незнакомыми «каменными ушами» не радовало. Одно лишь доставляло Густаву удовольствие — симфония всё же прозвучала. В течение следующих трех лет он держал партитуру у себя и, будто тайный дневник, никому ее не показывал. Очевидно, что сразу после премьеры он вносил в сочинение правки, делал это и в последующие годы. В целом это произведение стало очень важным для Малера, поскольку именно в нем определились особенности его вызревающего оркестрового стиля.
Благодаря умелому руководству Густава ситуация в Королевском театре заметно выправлялась, и только националистически настроенная оппозиция оставалась недовольной. Чем ярче были постановки Будапештской оперы, тем агрессивнее разворачивалась против Малера кампания, затеянная националистами. Его обвиняли в чересчур немецком репертуаре, в пренебрежении венгерской музыкой и прочих «грехах». Газеты выдерживали обличительный тон: «Господин Малер, не считайте венгерскую публику столь наивной, что ее можно ослепить несколькими приветственными словами на венгерском языке, которые Вы выучили и по случаю произносите перед интендантом! Венгерская публика знает, что Вы еще не говорите по-венгерски, и хотя она желает, чтобы Вы, в Ваших же собственных интересах, выучили венгерский язык, Вам не следует думать, что Вас призовут к ответу по этой причине. Призванный венгерской публикой к ответу, Вы будете касательно своего обещания поддерживать венгерскую музыку и искусство. Вам следует проследить, чтобы Ваши честные намерения не разбились, подобно кораблю, об антипатию к венгерской музыке и венгерским композиторам, а Вас не затянуло в глубину». Если принять точку зрения малеровской оппозиции, то ее выводы о работе Густава могут показаться в чем-то верными: за три года руководства театром он поставил лишь одну венгерскую оперу, причем, как видно, под напором противоборствующей стороны. Но, учитывая тот факт, что к моменту прихода Малера в театр там не было даже единого коллектива и он занимался сплочением раздробленной труппы, а также многими другими первоочередными задачами, выводы склоняются в пользу Густава. К тому же венгерская композиторская школа еще только формировалась, и достойных постановок национальных опер пока не появлялось.
Руководство театром, огромное количество репетиций, ежевечерние спектакли — всё это было слишком большой нагрузкой для одного человека. И хотя Малер привык к постоянному цейтноту и внутренне был намного сильнее, чем физически, выдерживать такой ритм жизни он уже не мог. К тому же вскоре стало ясно, что прошлогодняя операция не принесла ожидаемого результата. Появившиеся характерные боли мучили его всё сильнее, причем появлялись они в основном во время концентрации на работе. Чтобы хоть временно их заглушить, Густав начал принимать порошок морфина.
Юная Юстина, наблюдавшая печальный уход матери, к весне стала чувствовать себя лучше, и в начале летних каникул 1890 года Малер с сестрой отправились путешествовать по городам Италии, дышать целебным средиземноморским воздухом. Густав хотел отдохнуть от всего, даже от сочинительства. Гэбриел Энджел, описывая подробности их поездки, отмечает, что Малер сознательно избегал посещения итальянских музеев и соборов. Заботясь о директоре Королевского театра, венгерское правительство оплатило все его транспортные расходы.
После почти месячного беззаботного кочевого отдыха Густав и Юстина решили провести оставшуюся часть лета в Австрийских Альпах. Отвлекали директора лишь частые визиты театральных чиновников из Будапешта, приезжавших для согласования рабочих вопросов.
Новый музыкальный сезон начался с распространения слухов о скором уходе со своего поста авторитетного покровителя Малера Ференца фон Беницки. Назначение нового интенданта таило в себе опасность уменьшения директорского влияния. Казавшийся незначительным пункт договора о возможности изменения «абсолютных полномочий» вследствие перемены культурной политики начал приобретать для Густава реальную угрозу. Научившийся не доверять венгерским националистам и помня о своей финансовой ответственности перед семьей, Малер втайне стал вести переговоры с директором Гамбургской оперы Бернхардом Поллини, который давно жаждал заполучить в свой театр молодого талантливого дирижера. Возможный переезд в Гамбург с формальной стороны означал шаг назад для Густава. Но в реальности город великого Бюлова, будучи одним из центров немецкой музыки, открывал для Малера как оперного дирижера куда большие возможности, чем Будапешт. Однако слухи оставались слухами, и Густав не предпринимал серьезных попыток оставить свою весьма завидную должность.
Одной из лучших малеровских постановок венгерского периода стал «Дон Жуан». Используя пражский опыт работы с шедевром Моцарта, Малеру удалось сделать один из интереснейших спектаклей. Его интерпретация шла далеко впереди существовавших тогда традиций исполнения сценических произведений. С каждой оперной постановкой Густав открывал для себя новые глубины и потаенные смыслы творений, с которыми работал. «Дон Жуан» для него являлся одним из любимых моцартовских сочинений. Певица Мария Гутхейль-Шодер, позднее исполнявшая партию Эльвиры в венском театре, вспоминала: «Очень большое значение Малер придавал неподвижности на сцене, паузам в игре, и это — наука для всех, кто старается неестественной подвижностью оживить происходящее на подмостках. “Только за время паузы, — говорил он, — человеку становится ясно, что он видел и что должно произойти дальше”. Поэтому совершенно “неподвижными” мизансценами Малер добивался невиданного впечатления: пример тому — картина на кладбище в “Дон Жуане”».
Шестнадцатого декабря на спектакле побывал Иоганнес Брамс. 57-летний и уже уставший от всеобщего признания мэтр считался весьма консервативным человеком, он вовсе не собирался посещать в тот день оперу. Лектор Регина Кон в этой связи приводит несколько его реплик: «И не подумаю! Никому еще не удавалось угодить мне постановкой “Дон Жуана”, гораздо больше наслаждения мне доставляет изучение партитуры!» — отвечал он на уговоры профессоров Академии музыки Ханса Кесслера и Виктора Херцфельда. И всё же им удалось убедить композитора посмотреть начало представления. «Извольте… есть ли там в ложе диванчик? Там я и посплю». Но как только затихли последние звуки вступления, из глубины ложи Брамс стал издавать странные звуки, которые переросли в его знаменитый хрип: «Отлично!», «Замечательно!», «Наконец! Это та простая трактовка, которая должна быть!», «Что за дьявол этот Малер!» К концу первого акта именитый композитор пребывал в таком восторге от услышанного, что поспешил за кулисы приветствовать дирижера лично. Приобняв Густава, он произнес: «Это был лучший “Дон Жуан”, что я слышал. Даже Императорская опера в Вене не может соперничать с ним!» Остаток вечера Малер с Брамсом провели вместе, что стало началом их теплых отношений, которые впоследствии помогли Густаву продвинуться по карьерной лестнице. На следующий день Брамс дирижировал своим Вторым фортепианным концертом с оркестром Будапештской филармонии.
В ноябре 1890 года оппозиция устроила очередную провокацию. Подогретая слухами о возможном уходе Беницки, газета «Pesti Hirlap» потребовала отставки Малера: «Программа, которую он при вступлении в должность так гордо и самоуверенно провозгласил, не реализована. Под его руководством художественный уровень нашей оперы не возрос, а, наоборот, решительно упал… Если г-н Малер еще обладает чувством собственного достоинства, то ему ничего более не остается, как отказаться от поста, для которого он, как показала его двухлетняя деятельность, не обладает необходимой квалификацией!»
В январе следующего года переход Беницки на новую должность подтвердился. Место интенданта театра занял граф Зичи. Все музыковеды и историки сходятся во мнении, что по-музыкантски граф был полным профаном, при этом обладал гордыней и снобизмом, как и большими связями в венгерских руководящих кругах. Он имел свои представления, касающиеся будущего Королевской оперы, в рамки которых Малер явно не вписывался. Факт, что Густав превратил театр из дотационного в прибыльный, не убеждал нового руководителя, публично пообещавшего сократить права директора до минимума. Его самые первые распоряжения меняли порядок в опере таким образом, что Густав часто оказывался не у дел. Несмотря на свою дипломатичную речь, сказанную при вступлении в должность, тренд был понятен: в руководстве Королевской оперы назревали очередные изменения. Суть речи сводилась к следующему: «Почтенные дамы и господа, не ожидайте от меня какой-либо программы. Вы знаете мое прошлое, которое всегда было последовательно венгерским. Я хочу, чтобы национальное искусство достигло европейского уровня, пока еще с помощью иностранцев, позже нашими собственными силами».
В эти дни Густав тайно получил от директора Поллини из Гамбурга подтверждение возможности заключить контракт и начал вести свою игру. Он грамотно выстроил диалог с Зичи, согласившись перезаключить контракт и уступить все свои важные полномочия, получив взамен крупную компенсацию, равную его довольствию за два с половиной года. Зичи, обрадованный «капитуляцией» Малера, тотчас согласился с этим предложением и удовлетворил все его денежные требования, правда, увеличив Густаву количество обязанностей. После этого в соответствии с договоренностями интендант начал проводить репетиции лично, репертуарная политика театра теперь определялась его антивагнеровскими взглядами.
Следующим шагом Малера стало незамедлительное увольнение, из-за которого Зичи в глазах общественности оказался негодяем, изгнавшим талантливого руководителя, поднявшего разваливавшийся театр до столичного уровня. Людвиг Карпат описывает обстоятельства ухода Малера из оперы следующим образом: «Было около полудня, я шел из казармы к моей матери обедать, и тут перед расположенным против Королевской оперы кафе “Ройтер” столкнулся с Малером. Явно я был первый, кого он встретил; а ему нужно было передать свою “благую весть” хотя бы первому встречному. “Вы знаете последнюю новость? — заявил он. — Уже полчаса я больше не директор Королевской оперы. Я как раз иду из государственной кассы, там я получил неустойку в двадцать пять тысяч гульденов. А теперь можете узнать и вторую новость: у меня в кармане договор с Гамбургом, и в ближайшее время я уеду из Будапешта. В Королевской опере больше ноги моей не будет, пусть мой письменный стол приводит в порядок секретарь. Я рад, что могу уехать: дальше работать с графом Зичи невозможно”».
Четырнадцатого марта Густав опубликовал официальное обращение: «С сегодняшнего дня я ухожу в отставку с поста художественного директора Королевской венгерской оперы и передаю мне до того доверенное ведомство в руки вышестоящего лица. К сожалению, мне не предоставлена возможность проститься с местом, где я, прилагая усилия, работал почти три года, с будапештской публикой, которая так сердечно оценивала мои устремления, с персоналом Королевской оперы, который был мне предан. Я делаю это сейчас и здесь и связываю с этим мою глубокую благодарность столичной прессе за многостороннюю поддержку и признание, которые находила моя деятельность. Я расстаюсь с моим постом с сознанием верно и добросовестно выполненного долга и откровенным желанием, чтобы Королевская венгерская опера цвела и развивалась».
За время работы в Будапеште Густав получил незаменимый опыт, фактически заново создав театр и воплотив в нем собственные замыслы и идеалы. Под его руководством осуществились разнообразнейшие постановки. Среди них — моцартовские «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан», «Фиделио» Бетховена, вагнеровские «Лоэнгрин», «Золото Рейна» и «Валькирия», «Ловцы жемчуга» Бизе, «Фальстаф» Верди, «Сельская честь» Масканьи и даже малоизвестные «Тамплиер и иудейка» Генриха Маншера, «Царица Савская» Карла Гольдмарка, а также венгерская национальная опера «Банк Бан» Ференца Эркеля. Благодаря Будапешту состоялось весьма важное знакомство Малера с авторитетным бароном Беницки, протекторат которого продолжал сопровождать композитора многие годы. Не стали лишними деньги, доставшиеся ему в качестве отступных. На них Густав приобрел большую квартиру в Вене, куда переехали Отто и Эмма. Теперь можно было перестать злоупотреблять гостеприимством Лёра. Новый ангажемент, заключенный на шесть лет, обещал 14 тысяч марок в год, то есть чуть больше восьми тысяч гульденов или флоринов.
Публика, сознавая незаурядность Малера, была весьма ему благодарна. Его увенчали лавровым венком с вплетенными лентами цветов венгерского флага, а также подарили золотую дирижерскую палочку и вазу с памятной надписью: «Густаву Малеру, гениальному артисту, от его поклонников в Будапеште». А 20 марта на представлении «Лоэнгрина» в постановке Малера публика продемонстрировала свое отношение к его уходу. Первый акт оперы трижды прерывали овации и вызовы Густава на поклон. Для установления порядка на галерее пришлось даже вызывать полицию. Благотворно для Королевского театра деятельность Малера оценил даже входивший в ряды оппозиции Ференц Эркель. Ему принадлежат следующие слова: «Этот немецкий еврей был единственным человеком, который смог преобразовать многоязыкую до недавнего времени Венгерскую оперу в единый национальный театр».
ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ
Двадцать второго марта Густав Малер покинул Венгрию, ровно через неделю состоялось его первое выступление в качестве дирижера гамбургской сцены. Вагнеровский «Тангейзер», исполненный под управлением бывшего руководителя Будапештской Королевской оперы, получил наивысшую оценку: впечатленные критики строчили помпезные рецензии, а присутствовавшие на представлении зрители тотчас стали горячими поклонниками до того момента малоизвестного им Малера. Сам виновник разгоревшейся шумихи, попав в очередной раз в новые условия, стал размышлять о своей дальнейшей работе в этом гостеприимном немецком городе. Имея особые исполнительские задумки, отвечавшие его идеалам, а также богатый опыт оперной практики, Густав стал искать новый путь, позволивший ему адаптировать уклад театра к его замыслам.
Весенний Гамбург был прекрасен и полон жизни. Воцарившаяся отличная погода благотворно влияла на здоровье, и болезненный Малер стал заметно лучше себя чувствовать. Город хранил немецкую музыкальную традицию, при этом не чуждался нового и встречал неординарного дирижера весьма приветливо. Пока Густав обустраивался, директор театра Бернхард Поллини предоставил ему в полное распоряжение свою виллу. Новая руководящая работа и в административном, и в художественном отношениях оказалась не только приемлемой, но и приятной. Всегда сопровождавшее каждый переезд волнение уходило, уступая место творческому вдохновению, что благотворно сказывалось на деятельности Малера. 18 мая под его управлением состоялась премьера «Тристана и Изольды», еще больше подогревшая разговоры о нем.
В городе в то время жил и работал тот самый Ганс фон Бюлов, неблагородно поступивший с Малером в Касселе. Здесь он организовал знаменитые серии своих симфонических концертов. Власть в театре принадлежала не только директору Поллини, но и ему. Именно Бюлов осуществлял музыкальное руководство театром, и благодаря ему слава Гамбурга распространялась на весь мир. Через месяц после приезда Малера Бюлов писал своей дочери: «В Гамбурге сейчас новый первоклассный оперный дирижер Густав Малер (серьезный, энергичный еврей из Будапешта), который, с моей точки зрения, по способностям равен величайшим (Моттлю, Рихтеру и другим). Я недавно слушал “Зигфрида” под его управлением… и был глубоко восхищен тем, как — без единой репетиции с оркестром — он заставлял этих негодяев плясать под свою дудку». Авторитетный музыкант, несмотря на свои антисемитские взгляды, не просто изменил мнение, признав в Густаве высокохудожественную личность, но и сразу сделался его большим приятелем. Старое разногласие безвозвратно ушло в прошлое. Выражая уважение своему молодому коллеге, одобряя и ценя его усилия, Бюлов преподнес Густаву лавровый венок с надписью «Пигмалиону Гамбургской оперы…», имея в виду то, что Малер сумел возродить весь театр. Густав, искренне желавший услышать бюловские музыкальные интерпретации, посещал его концерты так часто, как только мог. При этом, всегда сидя в первом ряду, он испытывал особое замешательство, когда на каждом выступлении знаменитый музыкант, увидев Малера в зале, в знак уважения кланялся ему со сцены. На протяжении всего концерта Бюлов не упускал ни малейшей возможности показать свое восхищение новым дирижером городской оперы. Во время исполнения самых красивых музыкальных сочинений Бюлов поворачивался и кланялся Густаву, как бы спрашивая: «Не кажется ли вам, что эта музыка прекрасна?» или «Почему я не должен этим гордиться?»
Новый гамбургский дирижер обрел поистине сильного друга, не только в сугубо музыкантском плане, но и влиятельного в обществе, который делал всё возможное для пропаганды малеровского исполнительства. Однако отношение к композиторскому творчеству Густава у Бюлова оказалось полностью противоположным. Малер следующим образом описывал в письме Лёру свою неудачную попытку сыграть именитому коллеге «Тризну» — ту самую симфоническую поэму, ставшую впоследствии первым Allegro его Второй симфонии. Услышав музыку, Бюлов впал в состояние крайней нервной раздраженности. Жестикулируя, как сумасшедший, он воскликнул: «Рядом с Вашей музыкой “Тристан” звучит так просто, как симфония Гайдна!» В воспоминаниях Йозефа Богуслава Фёрстера, с которым Малер свел знакомство в гамбургский период, тоже сохранился этот случай в описании самого Густава: «Я заиграл. Потом мне пришло в голову взглянуть на Бюлова, и вот я вижу, что он обеими руками затыкает себе уши. Я останавливаюсь. Бюлов, который стоит у окна, тотчас замечает это и предлагает мне играть дальше. Я играю. Через некоторое время оборачиваюсь снова — Бюлов сидит за столом, заткнув уши, и вся сцена повторяется… в голове у меня мелькают самые разнообразные догадки. Я допускаю, что такому пианисту-виртуозу, как Бюлов, не нравится, возможно, моя манера игры, мой удар; может быть, мое forte слишком темпераментно и грубо для него; я вспоминаю и о том, что Бюлов — человек нервный и часто жалуется на головные боли. Однако играю без остановки дальше… Окончив, я стал молча ждать приговора. Но мой единственный слушатель долго сидел за столом молча и неподвижно. Вдруг он сделал энергичный отрицательный жест и заявил: “Если это музыка, значит, я вообще ничего в музыке не понимаю”».
Естественно, неприятие сочинений сильно печалило Малера. Такие мэтры, как Бюлов и Брамс, не разделяли с ним ни его художественных начинаний, ни понимания идей и смыслов музыкального развития. Из-за этого Густав впадал в отчаяние, подумывая о том, чтобы вовсе забросить композицию. Он стал сомневаться в собственном творчестве, о чем писал Лёру: «…я уже сам начинаю думать, что мои вещи или нелепая бессмыслица, или… Ну, заполни пробел сам и выбери одно из двух! А я от всего этого уже устал!» Причин падать духом было достаточно: прошло 13 лет с момента окончания консерватории, на протяжении этого времени Густав неоднократно встречал людей, способных обеспечить ему композиторский успех, однако эти люди не видели в нем создателя музыки — только интерпретатора. «Я мог бы выдержать всё, что угодно, будь у меня лишь уверенность в будущем моих произведений», — откровенничал он.
Если Малер и казался безразличным к негативной критике в прессе, которая его чем-то даже забавляла, то ревностно относился к общему неприятию его композиторских опусов. Культуролог Михаил Казиник в качестве квинтэссенции малеровского самоощущения приводит фразу: «Ты кричишь, а тебе говорят, что не тем тембром!» При этом внутренняя уверенность в собственном творчестве была не просто важной для Густава, она являлась фундаментом, на котором зиждилась его индивидуальность. Личность творца и создателя музыкальных произведений, а также то, во что он свято верил и воплощал в музыке, — всё было едино и нераздельно. Малер подсознательно цеплялся за веру в свои сочинения, потому что они составляли суть его самого. Никогда на протяжении всей жизни его не покидала надежда на признание. «Пусть они хоть разорвут меня — лишь бы исполняли!» — говорил композитор, подразумевая под словом «они» прессу. Веря в себя, он писал сестре Юстине: «Получил трогательное письмо от Брукнера, в котором чувствуется полнейшее его разочарование. Действительно, тяжело, когда приходится ждать семьдесят лет, чтобы твою музыку исполнили. По всем приметам, если они сбудутся, мне достанется та же судьба, что и ему». Единственным выходом в своей ситуации Малер видел возможность писать «в стол» и ждать времени, когда его искусство будет востребовано, а на жизнь зарабатывать дирижерской карьерой, которая складывалась весьма неплохо. С каждым годом он становился известнее, его интерпретации привлекали всеобщее внимание, а директор Гамбургского театра возлагал на него особые надежды.
Бернхард Поллини, являясь одним из самых талантливых театральных менеджеров своего времени, видел в альянсе с Густавом особую перспективу. Начав свою карьеру в качестве оперного певца, выступавшего на русской сцене, он в 1874 году переехал в Гамбург, где договорился с городским начальством поднять театр на международный уровень за два с половиной процента от дохода оперы. Способность чувствовать вкусы и пристрастия публики его не подвела, и за эти годы Поллини, получивший прозвище Монополлини, добился большого успеха, сумев привлечь в качестве музыкального руководителя театра влиятельного Бюлова. Однако менеджерское начало в нем явно преобладало над музыкальным, и в своей работе он руководствовался в основном коммерческими приоритетами, из-за чего споры с Бюловом не утихали. Малер, прославившийся в последние годы как талантливый организатор и большой музыкант, привлекал Поллини, чутко реагировавшего на незаурядных людей. В результате появилась мысль: назначить Густава художественным руководителем театра, заменив Бюлова.
Как и Бюлову, Малеру явно не нравилась нацеленность Поллини исключительно на прибыль, порой в ущерб музыке. Работая в Будапеште, Густав приложил немало усилий, чтобы уйти от «звездной системы» приглашенных исполнителей. В Гамбурге же основная ставка делалась именно на них, и Малер стоял перед дилеммой: вновь бороться с «ветряными мельницами» или согласиться с существующей политикой. Четко отрегулированная система Поллини состояла в особой градации премий, гарантировавшей приглашение лучших певцов, в постоянном поиске новых талантов, а также в непрерывном обновлении театрального репертуара. На гамбургской сцене практически каждый день шла новая опера, затем репертуар с месячной цикличностью повторялся. Причем в спектаклях предпочтение отдавалось наиболее кассовым: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта» Моцарта, «Фиделио» Бетховена, основные сочинения Вагнера и прочие шедевры музыкальной сцены.
Спустя несколько месяцев после приезда в Гамбург Малер обзавелся кругом друзей, в который помимо сестры Юстины, Поллини и Бюлова входил уже упоминавшийся Йозеф Богуслав Фёрстер, музыкальный критик, преподававший в Гамбургской консерватории, его жена работала солисткой оперы. Поддерживал он отношения и с венским другом Зигфридом Липинером. Ученик основоположника психофизиологии Густава Фехнера и друг философа Пауля Наторпа Липинер, стремительно начавший свою литературную карьеру, после 1880 года не создал ни одного произведения, кроме переводов на немецкий Адама Мицкевича, и это несмотря на личное знакомство с очарованным им Вагнером и восхищенным им Ницше, называвшим его «настоящим гением». Получив в 1881 году скромную должность библиотекаря в Вене, Липинер проработал на этом посту вплоть до самой смерти, являясь одной из «интеллектуальных опор» Густава.
Среди гамбургских друзей композитора можно назвать адвоката и по совместительству отличного музыканта Германа Бена, а также фабриканта Вильгельма Беркана, принимавших активное участие как в материальной, так и в организационной поддержке Малера, особо нуждавшегося в популяризации своих сочинений. Венский актер Карл Вагнер, примкнувший к гамбургской труппе, также стал близким приятелем Густава. Известно, что в сезон 1891/92 года композитор подружился с выдающимся физиком Арнольдом Берлинером, только начинавшим свой профессиональный путь, общение с которым продолжалось всю жизнь. Чуть позже Густав познакомился с ученицей знаменитой Розы Папир певицей Анной Мильденбург, приглашенной Поллини в театр. Слухи о их бурном и продолжительном «служебном романе» будоражили Гамбург несколько лет, пока вслед за влюбленными не перебрались в столицу империи.
Отдельного описания достойно общение Густава с приятельницей по венским годам, скрипачкой Натали Бауэр-Лехнер. Он учился в консерватории с ее младшей сестрой Еленой, а Натали, хотя к тому времени и закончила курс обучения, продолжала общаться со студенческой компанией, в которую входил и Густав. В 1890 году она была одинока, так как ее брак распался, и непритязательное общение с человеком из прошлой жизни быстро переросло в крепкую дружбу. Бауэр-Лехнер часто бывала дома у Малера, с большой теплотой отзывалась о его постановках и сочинениях. Каждое лето они отдыхали вместе с его семьей, где к ним присоединялся и Липинер. В течение десятилетия их близкого общения Натали вела дневник, где фиксировала, причем, по-видимому, дословно, высказывания Густава о музыке, литературе, философии. Их общение прервалось лишь с его женитьбой. В среде биографов композитора записи Натали считаются одним из самых достоверных источников сведений о его жизни и образе мыслей.
Насколько эта дружба являлась платонической, определить затруднительно. Известно, что Бауэр-Лехнер была влюблена в Густава, но он не отвечал ей взаимностью. Однако в 2014 году музыкальные историки Мортен Солвик и Стивен Хефлинг опубликовали шестидесятистраничное письмо Натали, кардинально меняющее прежние представления о их отношениях. В нем Бауэр-Лехнер утверждает, что с композитором ее связывали взаимные чувства, причем, по ее словам, в то время она также находилась в свободных сексуальных отношениях с женатым Липинером. Помимо этого, она упоминает певиц Мари Ренар, Риту Михалек и Зельму Курц, с которыми в гамбургский период Густав якобы состоял в любовной связи.
Несмотря на то, что исследование ее письма претит определенным этическим нормам и затрагивает личные стороны жизни, уйти от изучения свидетельства Бауэр-Лехнер на предмет его правдоподобности невозможно. При том, что письмо выбивается из общепринятых представлений о жизни композитора, не учитывать или счесть его полностью ложным нельзя, ведь эти представления сложились во многом благодаря дневникам автора этого документа.
Вероятно, правда кроется посередине: Липинер и Малер — мужчины, не отвечавшие взаимностью на чувства Натали, однако сильно повлиявшие на ее жизнь. Когда Бауэр-Лехнер писала это письмо, ей было около шестидесяти лет и у нее уже проявлялись симптомы амнезии и психических заболеваний. Она ненавидела ревновавшую к Густаву его сестру Юстину и жену Альму, из-за которой связь с возлюбленным прервалась. К тому же она вполне могла бояться мести Альмы за свои дневники. При всем этом документ Натали заслуживает внимания и не может быть проигнорирован хотя бы по причине ее утверждения, что любовь Малера к ней являлась взаимной и именно она вдохновляла композитора на создание Третьей симфонии и десяти песен. Полагаю, что к письму Бауэр-Лехнер следует относиться как к поэтическому опусу, обладающему элементами правдивости.
В таком свете следующий фрагмент письма имеет особый, романтический оттенок: «Когда дневные радости с прогулками, праздничными блюдами, музицированием и чтением исчезли, время для нас с Густавом только начиналось. После того как мы пересидели ревнивую сестру Юстину, что было нелегко, Густав потащил меня в свою комнату на чердаке, в крошечную каморку с наклонной стенкой и вдохновляющим сердце видом на долину Берхтесгадена и самые высокие ледниковые горы, видневшиеся вдали. То, как мы очутились там, запертые в ограниченном пространстве и отделенные от остального мира, разворачивая друг к другу свои жизни… в шехерезадовской манере повествования; то, как творческая сила Малера, иссякшая в течение десяти лет, из-за моей веры в его гениальность и моей поддержки вернулась снова, более мощная, чем когда-либо, и кончилась только с его смертью после невероятного завершения огромного творчества, включающего десять грозных симфоний и замечательные песни… разве это не чудо, пусть даже греховное, если даже такое преображение и завершение жизни последовало из-за столь высочайшего выражения любви?»
Натали, а также многие другие друзья Густава нередко бывали у него в гостях и наблюдали его гамбургский быт, не отличавшийся богатством, но простой и удобный. Фёрстер, вспоминая знакомство с Густавом, описывает его тогдашнее жилище следующим образом: «Я… на четвертом этаже отыскал указанную мне дверь. Я нажал звонок. Мне открыла приветливая дама с утонченными манерами. Услышав мое имя, она показала мне дверь слева, в конце коридора. Я несколько раз стучался безрезультатно и наконец отважился войти. Комната была пуста. Я увидел кровать, над которой висел наполовину увядший лавровый венок. Листья его приняли уже серо-зеленый оттенок вянущего лавра, их цвет красиво сливался с цветом шелковых лент, на которых можно было прочесть сделанную бледно-золотыми буквами надпись: “Пигмалиону Гамбургской оперы — Ганс фон Бюлов”… В воспоминании я вновь возвращался к его скромной кровати, рисовал себе обстановку комнаты, почти всё пространство которой занимали рояль, книжные полки и письменный стол. Рояль, стоявший посередине, был весь завален нотами, в стороне, у стены, виднелось более любимое Малером пианино, на пюпитре которого стояла раскрытая партитура одной из кантат Иоганна Себастьяна Баха. На стенах — ни следа обычных семейных фотографий. Висела только репродукция “Меланхолии” Дюрера, снимок с неизвестного мне рисунка “Св. Антоний Падуанский проповедует рыбам” и, наконец, “Монах” Джорджоне, рукой касающийся клавиатуры, с лицом, озаренным необычайной красотой».
В Гамбурге «оперный конвейер» поглощал Малера настолько, что его охватывало отчаяние от отсутствия свободного времени, необходимого для композиции. Планы на сочинение Второй симфонии отодвигались. Теперь он больше, чем когда-либо, жаждал свободы от финансовых забот, когда самостоятельная жизнь его братьев и сестер позволила бы наконец получить какую-нибудь спокойную работу, отнимавшую минимум времени и энергии. При этом он никогда не переставал бояться непредвиденного разрыва дирижерского контракта, понимая, что если судьба действительно предоставила бы ему столь желанную отсрочку, то те, кого он любил, стали бы еще большими страдальцами. Даже в «монополлиниевских» условиях работы Густав добивался высоких результатов. Несмотря на сжатый график, он бесконечно назначал репетиции, на которых не щадил никого, требуя от музыкантов виртуозности исполнения, граничащей с пределами технических возможностей инструментов.
В декабре 1891 года в очередной раз в Гамбург приехал Петр Ильич Чайковский. Русский композитор любил бывать в Германии, где его всегда тепло принимали. Гамбург для Петра Ильича являлся особым городом. Он находился в приятельских отношениях с Гансом фон Бюловом, которому как первому исполнителю посвятил свой знаменитый Первый фортепианный концерт. Чайковскому весьма импонировал милый восьмидесятилетний старик, основатель Гамбургского филармонического общества, Теодор Аве-Лаллеман. Именно он организовал для выдающегося автора гастрольную поездку по немецким городам. Русский композитор с благодарностью посвятил ему Пятую симфонию. Впрочем, обстоятельства этого посвящения являлись совершенно иными. Как-то Аве-Лаллеман обратился к Петру Ильичу: «У меня к вам большая просьба и, если позволите дать, совет: не вводите в ваши чудесные сочинения дикие казацкие напевы, разные русские трепаки… Пишите в духе нашей, европейской музыки». Чайковский, будучи весьма деликатным человеком, не стал отвечать на подобное ущемление русской музыки, а просто адресовал старику симфонию, где помимо множества гениально обработанных ненавистных ему русских интонаций виден след Бетховена — композитора, создавшего особенно популярные тогда «русские квартеты».
Имя Малера для Чайковского было отнюдь не пустым звуком. Еще в 1888 году в рамках той самой гастрольной поездки русский композитор побывал в Лейпциге, где 15 января познакомился с Малером и Бузони. О последнем он отозвался как о «необычайно одаренном» человеке. О Густаве в тот приезд Петр Ильич никаких впечатлений не высказал, но известно, что он посещал одну из вагнеровских постановок Лейпцигской оперы, которой управлял второй дирижер, и остался ею очень доволен.
Поллини сделал менеджерский ход. Премьера «Евгения Онегина» с участием композитора могла привлечь больше зрителей. К тому же это давало дополнительную рекламу театру. И, несмотря на то что опера из-за бедных декораций и костюмов, на которых явно сэкономили, не имела ожидаемого фурора, без Чайковского успех спектакля оказался бы еще меньше.
После премьеры, состоявшейся 19 января 1892 года, критика и публика устроили Петру Ильичу самый теплый прием. Работа с Малером, состоявшая в помощи композитора при постановке оперы, произвела на него большое впечатление. Густав, ответственный за репетиции, добился в музыкальном отношении максимума и от оркестра, и от солистов. Хотя генеральный прогон спектакля проходил под руководством самого автора, Петр Ильич, очарованный мастерством гамбургского дирижера и побывав в качестве почетного гостя на «Тангейзере», которым управлял Малер, передал эксклюзивное право на исполнение «Евгения Онегина» именно Густаву. Своим беззаветным трудом он так поразил русского композитора, что высказывание Чайковского о Малере стало весьма популярным среди отечественных музыковедов. В письме племяннику Владимиру Давыдову он писал: «Здесь капельмейстер не какой-нибудь средней руки, а просто гениальный и сгорающий желанием дирижировать на первом представлении». Сам же Густав в письме Юстине описывал не оперу, над которой работал, а самого Чайковского: «Пожилой человек, очень опрятный, с утонченными манерами, который, кажется, довольно богат и почему-то напоминает мне Одона фон Михаловича». Малер на тот момент уже являлся поклонником творчества Петра Ильича и живо интересовался новыми сочинениями русского композитора. Через год в присутствии автора Малер дирижировал оперой «Иоланта».
Пятнадцатого апреля 1892 года Густав исполнил «Те Deum» Брукнера. На следующий день уважаемому другу и композитору он отправил письмо: «Наконец-то мне выпала счастливая возможность написать Вам. Я исполнил Ваше произведение… И музыканты, и вся публика были глубоко захвачены мощью его построения и возвышенностью мысли, и по окончании произошло то, что я рассматриваю как величайший триумф произведения: публика продолжала сидеть безмолвно и неподвижно, и только когда дирижер и музыканты покинули свои места, раздалась буря рукоплесканий». Брукнер, тронутый столь горячим признанием его авторских заслуг, сожалел лишь об одном: признание пришло слишком поздно. Малер же искренне радовался интересу, проснувшемуся к брукнеровским сочинениям, ведь этот интерес неоспоримо утверждал правоту творческих взглядов его друга. Густав стал не только свидетелем признания, но и определенным его организатором, выполнив данное еще в студенческие годы обещание пропагандировать творения того единственного из старшего поколения музыкантов, кто поверил в его, малеровский, талант.
Самое яркое артистическое событие произошло летом 1892 года, когда труппа Гамбургского театра была приглашена на длительные гастроли в Англию. В лондонском Ковент-Гардене в то время проводились отдельные немецкие сезоны, а национальная немецкая опера в Великобритании пользовалась большой популярностью и считалась престижной. Директор королевской сцены Огастес Харрис, вместе с Подлини инициировавший гастроли, предвещал триумф сезону, в котором собирались принять участие бо́льшая часть артистов Гамбургской оперы и, конечно, новый дирижер. Малер, осознав важность пропаганды немецкой культуры, сразу же взялся за изучение английского языка и за несколько недель добился в этом деле немалых успехов.
Главной премьерой летнего путешествия на Туманный Альбион являлась тетралогия «Кольцо нибелунга» Вагнера, исполнявшаяся в Великобритании лишь однажды, десять лет назад. Харрис и Подлини совместно собрали сильную труппу, где, помимо преобладавших гамбургских музыкантов, было несколько певцов из Байройтского театра. Особенно популярный в Англии Ганс Рихтер, приглашенный для постановки вагнеровских «Тангейзера», «Тристана и Изольды», а также «Фиделио» Бетховена, не смог принять участие в этих мероприятиях, и весь репертуар лег на плечи Малера, которого Подлини перед Харрисом расчетливо разрекламировал как, «возможно, самого крупного дирижера современности».
Заграничные выступления имели огромный успех. В своих отчетах из Лондона Густав с гордостью писал своему другу Арнольду Берлинеру: «Спектакли день ото дня посредственнее, а успех больше! Уж я-то “был опять самым лучшим!”… против моей трактовки “Фиделио” и, в особенности, увертюры “Леонора” ополчилась добрая половина здешних критиков. Правда, публика настоящим ураганом аплодисментов дала мне отпущение моего богохульства. Она засыпает меня знаками своего восторга и расположения: фактически после каждого акта мне приходится появляться перед рампой, весь театр ревет “Малер!”, пока я не выйду».
Газетный критик из «The Sunday Times» Герман Клейн, приглашенный на одну из репетиций Густава, писал: «Сейчас Малеру тридцать второй год. Он довольно невысокого роста, худощавого телосложения, смуглолицый, с небольшими пронизывающими глазками, пристально и вполне дружелюбно смотрящими на вас сквозь большие очки в золотой оправе. Он показался мне чрезвычайно скромным для музыканта, одаренного столь редкими талантами и имеющего такую репутацию, как у него… Я начал осознавать удивительную притягательность его дирижерской манеры и постигать, в чем заключается его высокое техническое мастерство. Музыканты, с которыми он проводил репетиции прежде всего по группам, вскоре без затруднений понимали его. Отсюда ощущение единства мысли и ее выражения между оркестром и певцами, отличавшее это исполнение “Кольца” под управлением Малера в сравнении с любыми другими постановками, виденными мною раньше в Лондоне».
За две недели июня Густав дирижировал на восемнадцати спектаклях. Восторг лондонцев от его трактовок оказался настолько велик, что немецкая опера в Великобритании стала в одночасье популярной. Вот какой комментарий Малер дал англо-австрийскому корреспонденту по поводу постановки «Зигфрида»: «“Зигфрид” — это большой успех. Я сам доволен спектаклем. Оркестр — прекрасный. Певцы — превосходные. Аудитория восторгается и благодарит. Я вполне рад сделанному!»
Тринадцатого июля семнадцатилетний провинциальный органист Густав Холст из городка Челтнем специально прибыл в Лондон, чтобы увидеть «Гибель богов». Ошеломленный и самой музыкой, и ее исполнением, юноша тотчас принял решение стать композитором. Девятнадцатилетний Ральф Воан-Уильямс, ставший впоследствии одним из крупнейших деятелей движения «английское музыкальное возрождение», потрясенный малеровским «Тангейзером», после представления не спал двое суток. Среди зрителей того летнего сезона Гамбургской оперы в Лондоне также находился писатель и музыкальный критик Бернард Шоу.
Гамбургские газеты гордо трубили о победе Малера на территории другого государства, однако ожидавшееся триумфальное возвращение было испорчено страшной эпидемией холеры, внезапно поразившей город. Тысячи гамбуржцев в панике прятались в безопасных местах. Среди тех, кто бежал от холеры, было много певцов и оперных чиновников, поэтому планируемое открытие музыкального сезона пришлось отложить на неопределенный срок. Сам Густав по пути остановился в Берлине. Его здоровье резко пошатнулось, и он под наблюдением врачей пережидал исход острого приступа болезни желудка. Постоянные боли и беспокойства, вызванные недугом, сделали Малера более нервным, чем когда-либо. При этом 20 сентября, как только эпидемия пошла на убыль, он решил вернуться, чтобы отчитаться перед гамбургским руководством и составить план нового сезона.
Лондонское лето стремительно завершилось, а Вторая симфония так и оставалась в виде разрозненных набросков, отчего творческий настрой Густава не улучшался. Относительный оптимизм придавала лишь подвергнутая редактуре Первая симфония, гамбургская премьера которой состоялась под управлением автора. Необходимость правок Малер, очевидно, видел в неприятии сочинения будапештскими слушателями. Произведение получило программу и стало называться «Титан: Поэма в форме симфонии». Исполнение в Гамбурге оказалось ненамного успешнее предыдущего: с одной стороны, сочинение не вызвало особого интереса публики, с другой — только один из ведущих критиков города написал о произведении вполне благожелательно. Однако круг единомышленников композитора заметно стал расширяться, и его друзья оценили опус по достоинству. На том концерте присутствовал Рихард Штраус. Как один из новаторов музыкального языка, он, несомненно, понимал значение Первой симфонии и тепло ее поддержал.
Летом 1893 года Малер вместе с семьей и Бауэр-Лехнер отправился на австрийский курорт Зальцкаммергут в деревню Штайнбах, находившуюся у живописного озера Аттерзе. Необыкновенно красивая природа располагала к творчеству и позволяла отключаться от утомительной дирижерской работы. Влюбившись в прекрасные леса, окружавшие озеро, луга и холмы, Малер решил построить в этой местности небольшой домик с минимальными удобствами для занятий композицией, чтобы все отпуска проводить здесь за любимым занятием. Рядом находилась уютная одноэтажная гостиница, пригодная для проживания Густава, его семьи и друзей. Здесь, в маленькой хижине, где слышался только щебет птиц, Малер всецело смог отдаваться творчеству и именно здесь впервые узнал счастье композиторских будней. Теперь он хотя бы два месяца в году — июль и август — посвящал любимому занятию, в шутку называя себя «летним композитором».
Первое лето в Зальцкаммергуте было посвящено Второй симфонии. С начала 1889 года, предвидя уход из жизни родителей, Густав много размышлял о человеческой бренности и спасении, смысле жизни и смерти, их взаимозависимости. Его новое симфоническое произведение, построенное на антитезе бытия — небытия, явилось попыткой найти собственное решение этих извечных вопросов. Поздне́е сочинение получило название «Симфония Воскресения». Здесь он почти завершил свой пятичастный опус, изобилующий жуткими картинами Страшного суда. «Сотрясается земля, разверзаются гробы, мертвые поднимаются из могил и собираются вместе, двигаясь бесконечной процессией. Великие и малые мира сего — короли и нищие, праведные и нечестивые — спешат, обгоняя друг друга, ужасный вопль о милосердии и прощении поражает нас в самое сердце. Вопли и стенания становятся громче — мы лишаемся чувств; сознание теряется при появлении предвечного Бога» — так впоследствии Малер описывал программу симфонии своей жене. Нерешенной на тот момент оставалась лишь трактовка финала. Последняя часть озадачивала его долгое время, Малер никак не мог придумать, каким образом выразить идейную силу воскрешения. Было ясно, что возвещать о воскрешении должен хор, главный выразитель художественной идеи в Девятой симфонии Бетховена, но Густав искал и не находил подходящих стихов, хотя перечитал не только Библию, но и, как сам признавался, перерыл всю мировую литературу. Ответ к нему пришел через полгода.
Вернувшись в город к осени, композитор получил предложение, от которого не мог отказаться. Тяжело заболевший Бюлов был уже не в состоянии продолжать руководить своими знаменитыми Гамбургскими симфоническими концертами. Возникший вопрос о преемнике маэстро, не колеблясь, разрешил, объявив Малера продолжателем своего дела. Оставив ему это своеобразное наследство, Бюлов отправился на отдых в мягкий климат Египта.
Однако едва Густав начал первую репетицию, ведущий состав бюловского оркестра, привыкший к манере прежнего дирижера и удивленный небывалым романтическим характером динамических эффектов, предлагаемых новым руководителем, громогласно выразил ему неодобрение. Задумавшись над возникшей проблемой, Малер сразу понял, что консерватизм музыкантов может быть «вылечен» только принципиально иным подходом к исполняемым произведениям. У него появился новый замысел, трудный по реализации. Он попытался освободить мир музыки от ветхой и глупой канонизации, выраженной общепринятым слепым следованием нотному тексту, что напрочь убивает любую попытку вдумчивой интерпретации. Осуществлением этого замысла Малер занялся незамедлительно и, несмотря на недопонимание, возникшее между ним и оркестрантами, осенью провел серию из восьми бюловских концертов. Успех предприятия оказался настолько большим, что умолкли даже консервативно настроенные члены коллектива.
Решив действовать кардинально и в то же время оставаясь преданным классическим произведениям, а также в желании изменить маргинальные подходы в оркестровом исполнительстве, Малер для проводимой серии концертов переработал партитуру бессмертной Девятой симфонии Бетховена и ряда других музыкальных шедевров. Разумеется, его правки имели целью не «пачкать Мадонну Рафаэля» или как бы «осовременить» классику. Он собирался «стряхнуть пыль» с надуманных традиций, давно затуманивших композиторский замысел, уничтожив тем самым «музыкальное идолопоклонничество».
Двенадцатого февраля 1894 года в Каире скончался Бюлов. Эта грустная весть глубоко опечалила Густава. Его гамбургский друг Фёрстер вспоминал впоследствии: «Когда… мы встретились, он сыграл свою “Тризну” так, что в ней вылились все наши чувства, которые Малер облек в слова: “ Памяти Бюлова”». Полтора месяца город молчаливо ожидал корабль с телом усопшего, 29 марта состоялись похороны.
Скорбя и прощаясь с одной из знаковых фигур музыкального мира, композитор испытал особое экстатическое чувство: находясь на панихиде в переполненной церкви Святого Михаила, он услышал спетый детьми хорал на оду «Ты воскреснешь» поэта Фридриха Готлиба Клопштока, слова которого пронзили сердце Густава. Ему стало казаться, что эти слова адресовал лично ему сам Бюлов.
В воспоминаниях Фёрстер описывает, что произошло вслед за этим: «Во второй половине дня я… поспешил к нему. Открыв дверь, я увидел его за письменным столом; голова его склонена, в руке перо, перед ним нотная бумага. Я стою в дверях. Малер оборачивается и говорит: “Ну, дорогой друг, есть!” Я понял. Словно просветленный какой-то таинственной силой, я отвечаю: “Ты воскреснешь, да, воскреснешь ты после сна недолгого…” Малер глядит на меня с выражением крайнего изумления. Я угадал его тайну, которую он не открыл еще ни единой душе: стихи Клопштока, которые мы утром услышали из уст детей, лягут в основу заключительной части Второй симфонии». Через некоторое время композитор закончил эскиз этой части, а полностью работа над финалом сочинения завершилась во время летних каникул. Его структура полностью соответствовала строению финала любимой Малером бетховенской «Девятой».
Рихард Штраус, оказавшийся к тому времени в Веймаре, решил поддержать композиторский талант Малера и предложил исполнить на фестивале Всеобщего немецкого музыкального союза его Первую симфонию, что вызвало некоторое удивление виднейших музыкантов отчасти из-за не немецкого происхождения композитора. Естественно, Малер согласился с выбором Штрауса, но помня о разногласиях слушателей по поводу предыдущих исполнений, для лучшего понимания концепции сочинения раскрыл его замысел, кратко изложив суть каждого действия в концертной программке. Однако это привело к еще большему диссонансу мнений. Гэбриел Энджел, описывая данный эпизод, утверждает, что многие слушатели читали объяснения композитора, как будто рассматривая билет за проезд. И хотя реакция на музыку оказалась менее критичной, чем ранее, напротив, исполнение было признано весьма удачным, Густав через несколько лет при издании партитуры всё же отказался от программности, и Первая симфония досталась потомкам в качестве сочинения, соответствующего основным принципам «абсолютной музыки». Некоторые исследователи считают, что на успех концерта повлиял авторитет Штрауса. И действительно, Штраус использовал свое влияние настолько эффективно, что симфония придала важность всему Веймарскому фестивалю. Малер, вдохновленный удачным исполнением, писал Берлинеру: «Моя симфония встретила, с одной стороны, ожесточенную оппозицию, с другой — безусловное признание. Мнения самым забавным образом сталкивались прямо на улице, и в салонах… их превосходительства были весьма милостивы, в частности, — при распределении превосходных бутербродов и шампанского… оркестр — благодаря выданной после всего кружке пива — симфонией весьма доволен… мой брат, присутствовавший здесь, весьма удовлетворен тем, что симфония наполовину провалилась, а я — тем, что она наполовину имела успех». Таким образом, третье исполнение сочинения хотя бы частично доказало его глубину и ценность, оставив слушателей и критиков с подогретым вниманием к композитору, имя которого теперь было на слуху у профессиональных музыкантов.
Осенью второй дирижер оперы уволился, а Поллини, занятый решением текущих вопросов или попросту решивший сэкономить, не искал на освободившуюся вакансию никого, удвоив таким образом нагрузку Малера. Густав в очередной раз столкнулся с решением сверхчеловеческой задачи и исправно тянул свою лямку. Его распорядок дня был таков: просыпался в семь утра, принимал холодную ванну, в ожидании завтрака выпивал чашечку кофе и выкуривал сигару. Затем до 10.30 читал какую-нибудь книгу. Густав принципиально не просматривал по утрам газеты, предпочитая начинать день с Гете, Ницше или Достоевского. Когда же он работал над собственными сочинениями, после завтрака в основном подготавливал чистовики симфонических партитур. Затем Густав 40 минут шел пешком до театра, где в 11 часов начиналась репетиция. В половине третьего Малер возвращался домой. Слышавшееся издалека веселое насвистывание бетховенской Восьмой симфонии для Юстины знаменовало его приход, и она тотчас ставила на стол тарелку супа. Во время сытного обеда, а в те дни Густав имел великолепный аппетит, он прочитывал почту. После обеда Малер выкуривал еще одну сигару. Юстина распаковывала ее сама, и по одному лишь выражению лица брата, наблюдавшего этот процесс, определяла, удался ли его день. Завершив курительную церемонию, он ложился немного вздремнуть. Затем либо спешил к переписчику, либо занимался текущей работой, требующей его персонального присутствия в театре. Потом прогуливался по тихим улочкам Гамбурга до шести часов вечера и отправлялся на вечерний спектакль. Домой он возвращался поздно и неизменно в плохом настроении, часто от него слышалось: «Эта опера — авгиевы конюшни, которые даже Геракл не смог бы расчистить!» Причиной этого были бездарные кассовые оперы, которыми он вынужденно дирижировал. Кроме того, после смерти Бюлова отношения с Поллини начали постепенно ухудшаться. В общем-то это было неизбежно для людей, имевших разные цели и ценности. Вследствие этого возникали мелкие неприятности в театре, и общая атмосфера склоняла Густава к желанию поскорее бросить Гамбург и работать в любимой Вене, к которой его успешная дирижерская карьера приблизилась вплотную. Он часто произносил, слыша дверной звонок: «Вот пришел призыв от бога южных широт!» «Богом южных широт» или «землей обетованной», а иногда и родиной он называл Вену. Однако ее призыв не приходил еще долго…
Малер переехал в новую квартиру, находившуюся на Парк-аллее. В этой, как ее окрестили друзья, «тихой гавани» он обретал свежие силы для работы и принимал гостей. О посиделках у Малера Фёрстер отзывался как о неповторимых вечерах, на которых не могла не звучать музыка: «Как правило, там появлялся скрипач Мюльман, концертмейстер Городского театра; всегда в отличном расположении духа, с очередной остротой входил в комнату альтист Шломинг, шаркая ногами, вползал тучный старый Гова, неразлучный со своей виолончелью, на которой он мастерски играл в Зейтц-квартете. Малер всегда занимал место за фортепиано. По установленной традиции, прежде всего играли классиков. Львиная доля принадлежала Бетховену, Моцарту и Шуберту. Затем шли Мендельсон и Шуман… на этих вечерах камерной музыки я познакомился с младшей сестрой Малера — Эммой, ее супругом, виолончелистом и веймарским концертмейстером Эдуардом Розе, и с госпожой Натали Бауэр-Лехнер». Тут Фёрстер допускает небольшую неточность: на тот момент Эмма и Эдуард еще не были женаты.
Примкнувший позднее к этим «домашним концертам» Бруно Вальтер вспоминает специфический музыкальный юмор Густава, которым сопровождалась такая «игра для себя»: «…мы время от времени играли в четыре руки, причем большое удовольствие доставляли нам четырехручные сочинения Шуберта. Немало было и шуток: например, Малер, который сидел справа, левой рукой играл мою верхнюю строчку, и, следовательно, мне приходилось правой рукой играть его нижнюю строчку, и, таким образом, каждый из нас должен был одновременно читать и первую и вторую партию, что очень забавно усложняло нашу задачу. Для многих маршевых мелодий он сочинял тексты и распевал их во время игры. Он очень любил такие ребячливые веселые шутки, ценил острое словечко в разговоре и сам часто оживлял беседу забавными выдумками. И в то же время он мог сразу же после неудержимого смеха неожиданно помрачнеть и погрузиться в молчание, которое никто не осмеливался нарушить».
Первое исполнение оркестровых частей Второй симфонии состоялось с открытием нового сезона. Несмотря на то, что после английских гастролей 1892 года оркестр Гамбурга, руководимый Малером, не приезжал в Лондон, Фёрстер в своих мемуарах рассказывает о закрытом прослушивании частей произведения в Малом зале Ковент-Гардена. На том исполнении присутствовали всего восемь человек: Карл Вагнер, Анна Мильденбург, а также Герман Бен, Вильгельм Беркан и Йозеф Фёрстер с супругами. Несомненно, оркестр театра почитал Малера и всегда шел навстречу его просьбам, поэтому сам факт проведения подобного концерта не вызывает удивления. Однако смущает место, указанное Фёрстером. Скорее всего, в воспоминаниях, написанных много позже произошедших событий, кроется ошибка, и «предпремьера» сочинения состоялась всё-таки в Гамбурге. Тем не менее вне зависимости от концертного зала, ставшего свидетелем рождения опуса, новое творение Малера тотчас нашло отклик у друзей. Первые слушатели отзывались о симфонии весьма лестно, а восторженный Бен спустя некоторое время сделал переложение для двух фортепиано, мотивируя это такой фразой: «Чтобы нам не пришлось ждать следующего исполнения еще долгие годы».
Густав создал невозможное: впервые за всю практику симфонической композиции герой произведения умирает в самом его начале. Музыка наполнена яркими описаниями Страшного суда. При этом концепция сочинения оптимистична, поскольку его кульминация и главная идея — это воскрешение героя. Тем самым смерть побеждается через христианское «смертию смерть поправ». Но Малер мыслил фабулу симфонии «надхристиански»: композитор, увлекавшийся философскими трудами, разработал поистине метафизическую космогонию, равную сократовским вопросам жизни и смерти. Любимый им Ницше называл Сократа «насмешливым влюбленным афинским уродом и болтуном», потому что после него вектор философии сместился к «аполлоническому пути». При этом мыслитель восхищался храбростью и мудростью античного грека лишь за его тезис «Тот, кто подлинно предан философии, занят, по сути вещей, только одним — умиранием и смертью». «Умирание» Сократа — это выработка позитивной жизненной программы. Последняя его фраза перед трагической гибелью: «Я должен Асклепию петуха», — то есть жертвоприношение, полагающееся богу врачевания за исцеление, — означает победу над жизнью и смертью. А малеровский финал с грандиозным хором и оркестровой мощью, «выбивающий» текст «Ты воскреснешь!», и есть тот самый петух для Асклепия.
На одном из музыкальных вечеров, состоявшихся у Малера дома, друзья впервые увидели юношу, которому на вид не было и двадцати. Их удивление от приглашения Густавом столь молодого человека сменилось еще большим изумлением. «Удивил нас интерес и постоянное внимание, с каким относился к нему Малер. Этот черноглазый молодой человек, только что подписавший контракт с Городским театром, был Бруно Вальтер», — вспоминает Фёрстер. За полгода до того Бруно Вальтер Шлезингер, пораженный веймарским исполнением Первой симфонии Малера, восхищался тогда еще неизвестным ему композитором и страстно желал познакомиться с ним. Через несколько месяцев мечта молодого человека исполнилась, и он получил должность концертмейстера в Гамбургской опере, а общение с ее главным дирижером началось уже в первый день его пребывания в театре. В 1911 году Шлезингер взял сценический псевдоним, превратив второе имя в фамилию, отчего появилось краткое Бруно Вальтер. Тем не менее в тот период, когда псевдоним юного коллеги Густава еще не существовал, а в общении, переписке, официальных документах и на театральных афишах значилось имя Бруно Вальтера Шлезингера, традиция жизнеописания Малера всё же именует этого дирижера Бруно Вальтером. Несомненно, это неверно, но прочно вошло в исследовательский обиход.
Быстро продвинувшись по службе и пройдя путь от аккомпаниатора через руководителя хора до второго дирижера, Вальтер стал неотъемлемой частью гамбургского периода жизни Малера, оказавшись не только помощником, но и преемником его взглядов и идеалов по интерпретации музыкальных произведений. Вальтер нашел в своем покровителе великий образец для подражания и наставника, отечески опекавшего его. Благодаря их многолетнему творческому сотрудничеству в музыкальном искусстве образовалась особая — малеровская — школа исполнительства.
Советский музыковед Иван Иванович Соллертинский среди особых черт, свойственных малеровской дирижерской школе, обращает внимание на освобождение исполняемых произведений от всяческих традиционных наслоений, псевдоисторического подхода и стилизации, от чего, к примеру, особенно выигрывает Моцарт, трактуемый как современный композитор. При этом главная заслуга малеровской школы — полное растворение дирижера в музыке, имеющее целью достижение наиболее точного воспроизведения партитуры, «а не фантазирование “по поводу” с демонстрацией собственной индивидуальности». Эта традиция была подхвачена и развита величайшими дирижерами XX века, среди которых Артуро Тосканини, Отто Клемперер, Вильгельм Фуртвенглер, Шарль Мюнш, Герберт фон Караян, Леонард Бернстайн.
В желании перестроить маргинальные и консервативные представления о том, какой должна быть музыка, Густав подготовил следующий этап своей грандиозной революции. За 70 лет, прошедших с момента создания Бетховеном Девятой симфонии, некоторые духовые инструменты сильно эволюционировали, а в составе оркестра оказалось больше струнных. Тем самым задуманные автором тембры к концу века при четком следовании нотному тексту из-за инструментальных изменений приобрели нежелательные оттенки, возник оркестровый дисбаланс.
Работая над партитурой «эталона симфонизма», воспитавшего не одно поколение композиторов, Малер удвоил состав оркестра, хора, кое-где изменил динамику, везде, где прямое или октавное удвоение инструментов было необходимо для прояснения замысла сочинения, сделал соответствующие правки. Идея была проста: Густав представил, как бы звучало сочинение, если бы Бетховен написал его в конце века, располагая современными Малеру оркестровыми и хоровыми ресурсами. Примером для маэстро опять-таки являлся Вагнер, который в свое время не только переложил для фортепиано, но и внес такого рода изменения в ту же бетховенскую симфонию, и общественность приняла его коррекцию. Малер всегда говорил, что если прогресс времени приведет к тому, что в его собственных партитурах будет утрачена выразительность, он поблагодарит любого, кто внес бы необходимые изменения.
На премьере малеровского варианта Девятой симфонии Бетховена, состоявшейся в начале 1895 года, сочинение не раскритиковали. Революция возымела свой положительный эффект. И, несмотря на то, что кое-где слышалось маргинальное: «Как он посмел притронуться к Святыне Бетховена, когда сам не создал ни одной достойной симфонии!» — подавляющее большинство профессионалов и любителей музыки горячо поддержало идею Малера.
Собранный для бетховенского шедевра хор оказался настолько большим, что дирижер на репетициях не смог видеть всех исполнителей. Чтобы наблюдать сцену целиком, Малер распорядился построить специальную платформу для дирижерского пульта. Полная занятость сделала невозможным проверять исполнение всех его мелких указаний, и Густав впервые взглянул на плотницкий «шедевр» рабочего сцены только после того, как перед концертом услышал вызывавшие его аплодисменты. Выйдя на помост, он, к своему ужасу, увидел, что ничего не смыслящий в музыке плотник построил опасную узкую конструкцию высотой в целый этаж. Отказаться или задержать исполнение означало вызвать насмешки и испортить триумфальное событие. Собрав волю в кулак, дирижер решительно поднялся на вершину конструкции. Пьедестал зашатался, но когда ноги нашли опору и равновесие, маэстро поднял палочку, и музыка зазвучала. Очевидцы того вечера рассказывали, что Малер стоял ровно, как статуя, прикованная к одной точке, от начала до конца произведения. Чтобы предотвратить любые выкрики или аплодисменты, обязывающие его повернуться к публике и отвесить поклон, Густав в паузах между действиями держал руки высоко поднятыми и напоминал птицу, готовящуюся взлететь.
Несмотря на свою победу над консерваторами, Малер окончательно разочаровался в творческой атмосфере того времени. Свое отношение к музыкальным кругам он выразил сразу после бетховенского концерта в письме Лёру: «Поверь мне, наша художественная жизнь не привлекает меня теперь ни в какой форме. В конце концов, она всегда и везде так же лжива, отравлена в самой основе и бесчестна. Предположим, я приехал бы в Вену! Что ожидало бы в Вене меня с моей обычной манерой браться за дело? Стоило бы мне хоть однажды попытаться внушить мое понимание какой-нибудь бетховенской симфонии знаменитому оркестру Венской филармонии, воспитанному добропорядочным Гансом, — и я тотчас наткнулся бы на самое ожесточенное сопротивление. Ведь всё это я пережил и здесь, где мое положение незыблемо уже благодаря тому, что меня безоговорочно признали Брамс и Бюлов. Какую бурю мне приходится выносить, едва только я выхожу за пределы обычной рутины и пытаюсь создать что-нибудь новое». Состояние духа, переданное Густавом в этом письме, являлось весьма характерным для него в то время. Любые попытки обновления общепринятых традиций, предпринимавшиеся Малером, получали двоякую оценку, будь это даже переосмысление бетховенского сочинения.
Девятая симфония Бетховена в редакции Малера оказалась одним из первых вариантов в море существующих к сегодняшнему дню попыток разных композиторов и дирижеров интерпретировать ту «священную» партитуру. При этом, в отличие от многих других, малеровская версия часто исполняется и сейчас, заслужив немалую популярность у слушателей. Время показало правоту Густава. Естественно, симфония Бетховена стала не единственным его опытом, он осуществил правки других сочинений прошлого, и некоторые из них в настоящее время считаются эталонными. К примеру, малеровский вариант Рейнской симфонии Шумана в XX веке дирижерская исполнительская практика приняла как основной.
Шестого февраля 1895 года 21-летний Отто Малер, живший в Вене, без объяснения причин пустил себе пулю в сердце. Учившийся у Антона Брукнера и Эрнста Людвига, он подавал большие надежды, но из-за собственного разгильдяйства и определенных психических отклонений в апреле 1892 года бросил консерваторию, так и не получив диплом. Густав помогал брату как мог, устраивая его на музыкальные посты в разных городах, но тот редко задерживался там надолго. Осенью 1893 года Отто даже работал вторым дирижером и хормейстером в Лейпцигской опере, потом переехал в Бремен, позднее вернулся в Вену. Мотивы самоубийства остаются неизвестными, но Альма Малер в одной из книг, написанных о муже, утверждает, что перед смертью юноша заявил: жизнь ему больше не нравится и он «возвращает свой билет». Согласно свидетельству Бруно Вальтера, Отто сочинял песни для голоса с фортепианным и оркестровым сопровождением, а также создал три симфонии. Вторая оказалась непонята и высмеяна публикой, а Третья так и осталась незавершенной. О его способностях Густав был очень высокого мнения. Известно, что в разговоре с Фёрстером он говорил: «У меня был брат, как и я, музыкант и композитор. Он был человеком большого таланта, гораздо большего, чем у меня».
С помощью оркестра Берлинской филармонии 4 марта прозвучали первые три инструментальные части «Симфонии Воскресения». Управлял оркестром сам композитор, хотя некоторые биографы ошибочно считают, что произведением дирижировал Штраус. Это исполнение знаменовало новый этап жизни Малера. Исследователи сходятся во мнении, что именно Вторая симфония послужила толчком к восприятию его как композитора и с этого момента Густав именно как автор музыки мог рассчитывать на некоторое внимание в музыкальных кругах. Пресса встретила симфонию прохладно, только критики Оскар Эйхберг и Оскар Би отозвались о ней весьма положительно.
Несколько месяцев перед берлинским концертом стали для Малера настоящим испытанием на выносливость. Скованный разнообразными обязательствами, он должен был одновременно заниматься подготовкой Девятой симфонии Бетховена для гамбургских концертов, репетировать свою собственную симфонию в Берлине и дирижировать постановками в театре. Вскоре к отягощающим обстоятельствам прибавились тяжелые думы о гибели брата. Густав каждый вечер после спектакля спешил к поезду, ночная поездка в котором позволяла ему выспаться, потом до полудня репетировал в Берлине, второпях добирался до вокзала и незадолго до начала представления прибывал в Гамбург. Это была работа на износ.
Тринадцатого декабря в Берлине состоялась полная премьера Второй симфонии, к которой Малер готовился особенно тщательно. Известно, что 8 декабря он лично ездил к мастеру по литью за подходящими по тембру колоколами, необходимыми для исполнения. Готовясь к репетиции, назначенной на 9-е число, он писал Анне Мильденбург: «Я должен вымуштровать воинства небесные… Этого нельзя выразить словами (ведь иначе я просто не писал бы никакой музыки), но когда наступит то место в последней части, ты, вероятно, вспомнишь об этих словах, и тебе всё станет ясно». С таким настроем проходила вся подготовка к первому полному исполнению этого сочинения. Симфония положила начало большому композиторскому успеху Малера. Бруно Вальтер, вдохновленный услышанным произведением, полностью решил посвятить себя музыке маэстро. Его внутреннее обещание было сходно по искренности с обещанием Малера популяризировать музыку Брукнера.
Авторские объяснения концепции сочинения ограничивались самыми простыми предложениями констатирующего плана: произведение является продолжением симфонии «Титан», герой которой показан мертвым уже в первом действии. По мнению композитора, мы должны понять, для чего стоит жить, и наша смертность — великое таинство, которое обязывает нас к поиску ответов. Позднее Малер писал, что когда рождался замысел произведения, он считал важным передать не событие, а ощущение, и идейная основа сочинения ясно выражена в словах заключительного хора. «Вместе с тем из самого характера музыки легко понять, что за отдельными темами, при всем их разнообразии, перед моим взором, так сказать, драматически разыгрывалось реальное событие», — описывал свой замысел композитор.
Симфоническая поэма Штрауса «Смерть и просветление», схожая по музыкальному языку и тематике с «Симфонией Воскресения», была задумана позже малеровского сочинения, но вышла из-под пера раньше. Идеи Штрауса с открытой программой произведения соответствовали настроениям интеллигенции девяностых годов XIX века, Малер же, напротив, убедившись в жизненном превосходстве симфонического кредо Бетховена с его «чистым симфонизмом», пришел к пониманию, что выражение музыкальных идей должно состоять в прямом обращении к слушателю, а не в заявленной программе.
Высокая оценка Штраусом композиторского творчества Малера нашла недоброжелателей, намекавших ему, что Густав на самом деле считал себя его соперником. Об этом даже в открытую писали некоторые критики. Штраус хотя и был на четыре года моложе Малера, но к середине 1890-х годов завоевал признание, что могло вызывать в его коллеге некоторую зависть. Считая подобные заявления нелепыми, Малер писал: «Я никогда не перестану быть благодарным Штраусу, который так великодушно дал импульс к исполнениям моих сочинений. Никто не может говорить, что я считаю себя соперником ему (хотя я вынужден признать, что эти глупые намеки часто звучали). Помимо того, что моя музыка без штраусовских оркестровых исполнений, проложивших для нее путь, рассматривалась только как чудовищная, я считаю самой большой моей радостью встречу в его лице с товарищем по общему делу и творцом его уровня».
В гамбургский период состоялось еще одно сближение, важное не только для карьеры Малера, но и для музыкального искусства рубежа веков. Жена Вагнера и дочь Листа Козима заочно познакомилась со вторым дирижером саксонской оперы, побывав еще в 1887 году в Лейпциге на постановке «Тангейзера» под его управлением. В другой раз имя этого молодого человека всплыло на премьере «Три Пинто». В последующие годы Густав, осуществивший вагнеровские постановки в Будапеште, стал хорошо известен Козиме и ее сыну Зигфриду. К тому времени Малер приобрел прочную репутацию «вагнеровского дирижера», свидетельством чему может служить хотя бы его первый сезон в Гамбурге. Тогда под управлением Густава состоялось 64 вагнеровских спектакля — это было больше, чем где-либо. Тем не менее Козима воздерживалась от приглашения Малера в Байройтский фестивальный театр. Контакт с ним она ограничивала просьбами тренировать тенора Вилли Бирренковена для партии в «Парсифале» к байройтской постановке и разнообразными творческими советами. Густаву дружба со столь влиятельной «пиковой дамой» была стратегически необходимой, поскольку эта женщина пользовалась большим авторитетом в мире искусства и влияла на принятие серьезных решений. Козима же не могла не считаться с музыкантским талантом Малера и потому относилась к нему нейтрально-благосклонно.
Летние месяцы 1895 года на озере Аттерзе придавали Густаву особый творческий настрой. В Штайнбахе композитор, изголодавшийся по сочинительству, моментально отключился от театральных забот и окунулся в собственный мир чарующих звуков. Каждый день он просыпался в шесть часов и сочинял до обеда. За скромным, но сытным столом, где фантазия поварихи изобретала каждый день новые кушанья, он отдавал предпочтения мучным блюдам. Бывало, глядя на десерт, Густав мог заявить, что это превосходное кушанье понравится каждому, кто не осёл. После обеда он выкуривал традиционную сигару и вместе с гостями совершал променад или музицировал. Еще с юности Малер обожал пешие прогулки в одиночестве и окрестности Аттерзе исходил вдоль и поперек. На велосипеде катался, как правило, в компании. Вечером друзья беседовали или читали. При этом Малер всегда носил с собой небольшую записную книжечку на случай, если в голову придет какая-нибудь мелодия или идея.
Когда Густав был поглощен сочинением музыки, он ни с кем не общался. Малейшее нарушение покоя вызывало в нем гнев. Поэтому Юстина выкупала у соседей самых голосистых петухов и отдавала их поварихе. Деревенские музыканты, прознав о привычках заезжего композитора, частенько прогуливались вблизи его летнего дома, намеренно нарушая его покой. Юстина всегда выбегала им навстречу, чтобы откупиться от их назойливой «какофонии». В таких почти тепличных условиях Густав создавал новое произведение — Третью симфонию.
Замысел, который он собирался осуществить, изобиловал оригинальными идеями. Малер задумал иллюстрировать в музыке космологическую концепцию Ницше, детально описанную в его трактате «Веселая наука». В своем труде философ отстаивает идею цикличности, когда происходит рождение организованного сущего из стихии хаоса. По задумке композитора, симфония должна была воплотить в музыке все ступени развития иерархической структуры бытия по линии постепенного нарастания, начинаясь от «безжизненной природы» и поднимаясь к «божественной любви». Изначально Малер собирался дать названия каждой из шести частей — «Лето шествует вперед», «Что рассказывают мне цветы на лугу», «Что рассказывают мне звери в лесу», «Что рассказывает мне ночь» и др. Предполагалась и седьмая часть «Райское житье», которую автор впоследствии вычеркнул, а ее музыкальный материал послужил основой для Четвертой симфонии. Однако в конечном итоге Малер всё же отказался от открытой программности.
Вместе с тем следует отметить, что отождествлять «Веселую науку» Ницше с произведением Малера, опиравшегося и на другие труды философа, неверно. Например, из трактата «Рождение трагедии из духа музыки» Густав позаимствовал идею природной естественности. Согласно мыслителю, нормальный ход прогресса возможен при соблюдении дионисийского природного и аполлонического искусственного начал. Но по вине Сократа, определившего одноплановый вектор развития культуры, последние две тысячи лет природное ущемлялось в угоду культурному, в итоге европейская цивилизация пришла к кризису. В одном из писем того времени Малер писал: «Большинство людей, говоря о “природе”, думают всегда о цветах, птичках и лесном аромате и т. д. Бога Диониса, великого Пана не знает никто. Итак, вот вам уже своего рода программа, то есть пример того, как я сочиняю музыку. Всюду и везде она — только голос природы». Название «Веселая наука», от которого позднее композитор отказался, имеет другой генезис: именно так провансальские трубадуры обозначали свое поэтическое искусство. Любопытен и иной заголовок симфонии: «Сон в летнее утро», также впоследствии вычеркнутый, отсылающий и к Шекспиру, и к Мендельсону. «Лето принесло мне Третью, — может быть, это самое зрелое и своеобразное сочинение из всего, что я до сих пор сделал», — написал Малер в августе, однако полностью эту симфонию он завершил к концу следующего летнего отпуска.
Загруженность работой в театре окончательно превратила Малера в невротика. Окружающие стали обращать внимание на его походку, сопровождавшуюся подергиванием ноги и сильным топотом. Многие современники описывали маэстро как человека с расшатанной нервной системой, некоторыми истероидными чертами характера и поведения. Мучительные мигрени стали неотъемлемыми спутниками его жизни. К тому же у Малера участились кровотечения, вызванные «подземным недугом».
Со временем концертная политика театра менялась не в лучшую сторону. Директор Поллини тяжело заболел. Хотя сперва он продолжал держать бразды правления в опере, впоследствии же его хватка ослабела, и на сцену начали попадать сомнительные по качеству произведения. Малер всё больше разочаровывался в своей работе. Тем не менее его композиторская известность росла. Благодаря Рихарду Штраусу, а также критику и композитору Максу Маршальку, активно пропагандировавшим творчество Малера, Берлин становился городом его премьер. 16 марта 1896 года там впервые прозвучал оркестровый вариант «Песен странствующего подмастерья».
Отвлекаясь от театральных передряг, новое лето Малер традиционно провел в Штайнбахе вместе с семьей и Бруно Вальтером. В один июльский день Вальтер прибыл туда на пароходе. Малер встречал своего юного друга на причале и, несмотря на его протесты, сам дотащил чемодан гостя до дома. Вальтер вспоминает: «По дороге к его дому, когда мой взгляд упал на горы, достойные преисподней, на суровые утесы, служившие фоном столь уютного в остальном пейзажа, Малер сказал мне: “Вам незачем больше оглядываться вокруг: всё это я уже отсочинил!” И он тотчас заговорил о построении первой части». Вальтер признался, что именно здесь увидел настоящего Густава, свободного от забот о театре и поглощенного мыслями о творчестве, когда «богатства его натуры целыми потоками текли к окружающим». Он описывает хижину композитора — ту самую, в которой появлялись на свет его произведения: «Всю обстановку единственной комнаты этого густо заросшего плющом “домика для сочинения” составляли пианино, стол, кресло и диван; дверь, открываясь, вытряхивала из плюща на голову входящего бесчисленное множество жуков».
К концу лета Малер завершил Третью симфонию, и первым ее слушателем стал, конечно же, Вальтер, который пишет: «Из наших бесед, в которых всегда звучали отголоски его утреннего экстаза, я узнал духовную атмосферу симфонии много раньше, чем ее музыку. И всё же я, как музыкант, испытал неожиданное потрясение, когда услышал саму симфонию, исполненную Малером на фортепиано. Сила и новизна музыкального языка форменным образом оглушили меня, также ошеломили меня творческое горение и подъем, из которых возникло произведение и которые я чувствовал в его игре».
Девятого ноября прозвучавшая в Берлине вторая часть этого произведения была неожиданно благожелательно встречена общественностью и прессой. Целиком сочинение было исполнено позднее.
Также одним из приятных событий этого года стала долгожданная публикация партитуры Второй симфонии. Наибольшее беспокойство Густава всегда вызывал вопрос сохранности его сочинений, поскольку они существовали в единственных экземплярах. Куда бы Малер ни отправлялся, он возил их с собой, а когда это оказывалось невозможным, композитор на время отсутствия оставлял «сокровища» кому-нибудь из верных друзей. Часто Густав жаловался, что является рабом собственного багажа. К тому же он не решался отдавать единственный экземпляр нот дирижерам, желавшим исполнить его музыку. А такие просьбы поступали всё чаще. Узнав об этой проблеме, гамбургский друг Малера фабрикант Вильгельм Беркан предложил оплатить издание Второй симфонии, что, несомненно, способствовало популяризации творчества композитора.
Время неумолимо неслось. Прожитые в Гамбурге годы не только дали Малеру композиторский и дирижерский опыт, но и закалили его. Общаясь с друзьями, строя и реализуя планы, он фактически создавал сам себя — того Малера, которому суждено было остаться в мировой истории. И если, прибыв в театр в 1891 году, он был известен лишь в узких музыкальных кругах, то к концу нахождения на посту дирижера оперы о нем знал не только весь город, но и весь музыкальный мир. Время показало, кому по гамбургскому счету оно отдало свое объективное и бескорыстное предпочтение.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ВЕНУ
В конце века в мире искусства стали распространяться слухи о предстоящих изменениях в Императорской опере Вены. Ее стареющий директор, Вильгельм Ян, весьма уважаемый дирижер и неплохой руководитель, часто болел, и состояние главной музыкальной сцены Австро-Венгрии катастрофически ухудшалось. Вопрос о смене руководства театра стал самым обсуждаемым в кругах музыкальной элиты. Благодаря своим связям Малер одним из первых узнал о грядущих переменах и тотчас стал действовать. Его репутация как некоего «финансового стабилизатора» в снижении театральных расходов, закрепившаяся еще с Будапешта, оказалась весьма кстати. Самые заветные мечты молодости — вернуться в Вену «маршалом, покорившим весь мир», — получили возможность реализоваться гораздо раньше, чем Густав смел надеяться.
Одной из ключевых фигур музыкальной Вены являлся барон Йозеф фон Безечни, тайный советник, генеральный управляющий Придворным театром, возглавлявший авторитетное «Общество друзей музыки». Усилиями этой организации в столице империи появились консерватория, филармония, Венское певческое общество, а также был построен знаменитый зал «Musikverein». С Малером Безечни общался в 1895 году и знал о его венских амбициях. И вот теперь Густав вознамерился расположить к себе столь влиятельного чиновника.
На протяжении нескольких лет во время каникул на озере Аттерзе композитор постоянно приезжал в курортный городок Бад-Ишль, находившийся в десятке километров от Штайнбаха, где гостил у Брамса, поправлявшего свое здоровье. Их недолгие встречи Малер так описывал Анне Мильденбург: «Здесь я поистине могу сказать заодно с Фаустом: “Я рад порой увидеть старика!” Он — словно суковатое, коренастое дерево, приносящее сладкие, зрелые плоды; радостно смотреть на это могучее дерево с обильной листвою. Мы не очень подходим друг к другу, и “дружба” поддерживается лишь потому, что я, как молодой, начинающий музыкант, охотно плачу великому старому мастеру должную дань почета и уважения и показываюсь ему только с той стороны, которая, по-моему, приятна ему». Лето, когда Густав заканчивал Третью симфонию, исключением не стало. Теплым днем он совершил велосипедную поездку в Бад-Ишль, чтобы посетить пожилого слабеющего коллегу.
Авторитет и влияние Брамса в музыкальной Вене были огромными. И хотя старый мэтр скептически относился к Малеру-композитору и знал его как «самого неисправимого бунтаря», не забывая захватывающую постановку «Дон Жуана» в Будапеште, он испытывал к нему как дирижеру большое уважение. В ходе их недолгого разговора Густаву удалось заручиться поддержкой Брамса на случай, если его кандидатура на пост в Придворном театре станет рассматриваться.
Педагог Анны Мильденбург, прославленная Роза Папир, уже несколько лет как закончившая карьеру певицы, пользовалась большим влиянием в Венской опере из-за ее дружбы с надворным советником и художественным руководителем театра Эдуардом Влассаком. Здесь Малеру помогло прошлое. Его организационные способности Папир оценила на музыкальном фестивале 1885 года в Касселе, где она, будучи «звездой» Императорской сцены, исполняла в оратории Мендельсона «Павел» сольную партию. Ее ученица Анна Мильденбург, а также Натали Бауэр-Лехнер, находившаяся с Папир в дружеских отношениях, выступили в качестве лобби в пользу Густава. Заручившись обещанием Натали Бауэр-Лехнер содействовать в положительном решении вопроса, Малер 21 декабря отправил в Венскую придворную оперу письмо с предложением своей кандидатуры на должность дирижера. На следующий день он написал Розе Папир и попросил ее посоветовать Йозефу фон Безечни обратиться в Будапешт к Беницки, чтобы из первых рук узнать у бывшего начальника информацию о персоне бывшего подчиненного. Можно не сомневаться в том, какую характеристику венгерский покровитель дал своему протеже.
Параллельно в австрийской столице действовал старый друг Гвидо Адлер. Его попытки обратить внимание генерального управляющего на Густава как на единственного подходящего кандидата на должность в Придворной опере также возымели свое действие. Важную роль в этом деле сыграла и рекомендация Брамса.
В начале 1897 года Густав втайне получил «призыв от бога южных широт» и сразу же подал директору Поллини прошение об отставке. Во время одного из последних визитов Йозефа Фёрстера композитор признался ему, что получил приглашение в Вену. «На положении третьего дирижера я останусь недолго, — скоро я стану первым, настоящим: я буду директором Придворной оперы», — сказал Малер. Фёрстер вспоминал: «“Мои слова сбываются, — прервал я его. — Ваше искусство побеждает!” Малер улыбнулся: “Вы неисправимый идеалист! Вы верите, что искусство пробило мне дорогу в Вену?” — “А что же?” — спросил я. И получил короткий и ясный ответ: “Покровители в юбках!” Так и было на самом деле. Малер взглянул на меня, обезоруженного, прочел на моем лице остатки недоверия и сказал: “Вы в этом скоро убедитесь!”».
Естественно, Венский театр не хотел рисковать, открыто объявляя поиски нового директора. Густав это понимал, поэтому временную должность третьего дирижера, избранную для него администрацией в качестве испытательной, счел логичной и обоснованной.
Существовала еще одна принципиальная загвоздка, мешавшая Малеру занять главную должность в опере: согласно законам, парившим тогда во всей Европе, некатолику, а тем более еврею, продвинуться выше уровня крупного нестоличного города, такого, каким являлся, к примеру, Гамбург, было попросту невозможно. Концерты в Берлине или Мюнхене, устроенные благодаря Штраусу, были верхом его карьеры. А поскольку столь высокий пост, как директор Императорского театра, не мог занимать человек иной веры, у Малера оставался единственный выход. И ему, рожденному и воспитанному в светской неортодоксальной семье, решение далось достаточно просто.
Двадцать третьего февраля в церкви Святого Ансгара Гамбургского Малер крестился. Однако в консервативном австрийском обществе отказ от собственной веры считался зазорным, и недоброжелатели композитора, впоследствии появившиеся в избытке, часто упрекали его за вероотступничество. По слухам, ходившим в Вене, император, утверждавший приказ о назначении Малера, произнес, что, будучи евреем, он ему нравился больше. Объяснений самого композитора этого поступка не сохранилось. Известно лишь, что за несколько недель до крещения он сказал одному знакомому, что по сути уже обратился в христианство, когда работал в Будапеште.
На следующий день после первого исполнения третьей и шестой частей Третьей симфонии Малера, состоявшегося 9 марта под управлением юного Феликса Вейнгартнера в Берлине и вызвавшего смешанную реакцию публики, композитор выехал в Москву, где 15 марта дирижировал оркестром, особо не впечатлив русских критиков. Зато он сам о том выступлении отзывался положительно, а удивление от первого путешествия в Россию осталось у него до конца дней.
Московская публика, по признанию Малера, оказалась недисциплинированной и не очень внимательной, а концерт, начавшийся в девять вечера, окончился в двенадцать. «Этот город меня совершенно опьяняет! — писал он Маршальку. — Всё так своеобразно и странно-прекрасно! Пожалуй, мне это всё только снится, и когда я проснусь, окажется, что я живу на Марсе!» Особенно композитора удивляло отсутствие экипажей, единственным транспортом на морозе являлись открытые сани. И еще московская еда оказалась неподвластна капризному желудку Густава. Анне Мильденбург Малер писал: «Город на вид очень хорош, только люди почти по-южному оживленные! Но невероятно набожные. На каждом шагу — икона или церковь, и все, проходя мимо, останавливаются, бьют себя в грудь и крестятся по русскому обычаю».
На обратном пути между Москвой и Варшавой перед поездом Малера произошло столкновение двух железнодорожных составов. Композитор несколько часов просидел в вагоне, стоявшем посреди голого поля, ожидая, пока устранялись последствия аварии. Это событие внесло в путешествие по России особый экстрим.
Пробыв несколько дней в Мюнхене, где он также дал концерт и погостил у консерваторского друга Генриха Кржижановского, композитор отправился в Вену. Там 4 апреля Малер подписал договор с Императорской оперой на один год. В столице его приняли без лишнего шума, но с должным уважением, а 8 апреля газета «Wiener Abendpost» уже объявила о новом дирижере Придворного театра. Ненадолго вернувшись в Гамбург, к концу месяца Малер вновь прибыл в Вену, чтобы занять должность, о которой давно мечтал.
«Старые кадры» театра, такие как директор Вильгельм Ян, первый дирижер Ганс Рихтер и второй — Иоганн Непомук Фукс, брат композитора Роберта Фукса, отнеслись к новичку без особого дружелюбия. Готовый к холодному приему Густав, напротив, пытался показать мэтрам свое почтение. К примеру, Рихтеру Малер направил приятное письмо, в котором сообщал, что считает его образцом для подражания, и просил некоторой поддержки при занятии новой должности. Ответ Рихтера оказался обидным: он ясно дал понять, что не желает с ним знаться. «Добропорядочный Ганс» писал, что не уверен, будет ли от Малера какая-либо польза Придворной опере.
Администрация театра, пригласившая Густава на работу, еще беспокоилась о правильности своего выбора и боялась лишней шумихи, поэтому его имя озвучили спокойно, будто прибыл очередной дирижер. Естественно, Вильгельм Ян понимал, что на его место готовят преемника, поэтому решился на некоторую интригу, предложив новичку принять в качестве венского дебюта управление премьерой «Дон Жуана». Но Малер разгадал хитрый план старого директора и не попался в ловушку. Первое представление спектакля, готовившегося без его участия, могло стать особенно опасным, вызвав нарекания, за которые пришлось бы отвечать в конечном итоге ему. Поэтому Малер предпринял менеджерский ход: до своего открытого назначения он не управлял постановками ни одного предварительного прогона.
Первой его оперой на венской сцене стал вагнеровский «Лоэнгрин», прозвучавший 11 мая после единственной репетиции. За эту репетицию Густав сбалансировал оркестр, изменил динамические оттенки во всей опере и, насколько мог, прикрыл исполнительские промахи. Представление имело грандиозный успех. Гэбриел Энджел пишет, что даже для тех, кто случайно услышал малеровский дебют, тот вечер остался одним из самых ярких и захватывающих музыкальных воспоминаний. Никогда раньше слушатели не чувствовали столь сочную палитру звуков, с каждым музыкальным движением передававшую все нюансы. Студенты консерватории, как и подобало поклонникам Вагнера, следя за музыкой по партитуре, не верили своим глазам, поскольку слышали знакомую им музыку в новом звучании, совершенно ином, нежели ранее, и всё, что они знали до того, теперь представлялось сухим и черно-белым. Публика и пресса расточали похвалы новому дирижеру. Вскоре после того спектакля на дирижируемый Густавом «Летучий голландец» пришел управлявший делами императора Лихтенштейна князь Рудольф, в ведении которого находился театр. Увидев самое настоящее «перерождение Венской оперы», он понял, что наступил момент для открытого оглашения фактического статуса Малера.
К концу века благодаря монарху Францу Иосифу столица Австро-Венгрии приобрела законченный имперский вид. Наконец были достроены здания знаменитого четырехкилометрового кольца — парадной улицы, окружающей центр Вены. На Рингштрассе расположились военное ведомство, сад с оранжереей Императорского дворца, парламент, Придворный театр, церковь Благодарения, биржа… Малер, заняв один из значительнейших постов в музыкальном мире, сам стал олицетворением мощи и духа империи Габсбургов. Его триумфальный дебют воспринимался венцами как символ государственного расцвета, чем поспешил воспользоваться Безечни.
Тринадцатого июля барон сообщил Вильгельму Яну, что во время болезни исполнять его обязанности станет третий дирижер, и 1 августа старый директор отправился на лечение. Генеральный управляющий театром, получивший массу авторитетных рекомендаций и теперь лично убедившийся в способностях Густава, а также памятуя о мощи и духе империи, верил, что именно Малер может не только спасти Венскую оперу от окончательного упадка, но привести ее к процветанию. Йозеф фон Безечни почувствовал кредо Малера как директора, озвученное Густавом позднее: «Как человеку мне хочется идти на всевозможные уступки, но как музыкант ни на какие уступки я не иду. Другие директора оперных театров заботятся о себе и доводят театр до истощения; я истощаю себя и забочусь о театре». Поэтому барон уже не боялся огласки и твердо защищал нового руководителя оперы от возможных нападок.
Отдельного рассмотрения достойны отношения Малера с помощником князя Рудольфа, тоже князем, Альфредом Монтенуово. Поскольку Рудольф проявлял больше интереса к лошадям, нежели певцам, по негласной договоренности шефство над всеми придворными театрами осуществлял именно Монтенуово, оказавшись, таким образом, непосредственным начальником Густава. Именно он, внук императрицы Марии Луизы, второй жены самого Наполеона I Бонапарта, при обсуждении кандидатуры Малера на пост руководителя Придворной оперы поддержал гамбургского дирижера. Альфред тонко разбирался в искусстве и полностью разделял взгляды нового директора. Благодаря их союзу на протяжении всего периода нахождения Густава в Вене Монтенуово защищал его и от критики снизу, и от всяческих атак сверху. В таких благоприятных условиях стало возможным введение малеровских новаций.
Демоническая энергия, с которой новичок стал выворачивать наизнанку старый порядок, не оставляла сомнений, что в Придворной опере наступала новая эра и что временный директор — на самом деле совсем не временный, а постоянный. Особо проницательные люди начали догадываться, что эта «временная» рокировка на самом деле являлась не более чем разыгранным спектаклем. Поняли это и Рихтер с Фуксом. Заключив альянс с Козимой Вагнер, лоббировавшей кандидатуру Феликса Моттля, оппозиция вступила в бой, клеймя Малера позором и устраивая скандалы, лишь бы не допустить его высокого назначения. Но они опоздали со своей критикой на несколько месяцев, а подпись императора была всесильной.
Изменения, вводимые новым директором, касались каждого отдела театра, где он видел возможности для совершенствования. Одна из первых реформ, которой Густав уделил особое внимание, коснулась жестикуляции вокалистов во время выступления. К примеру, слово «сердце», произносившееся певицей, непременно сопровождалось выразительным прижатием ладони к груди. Подобные «пантомимы» Малер считал особенно неуместными на главной сцене империи; однако Густав осознавал, что артисты виноваты в этом лишь частично. Решив искоренить причину неуместных движений, Малер обратился в консерваторию и дал поручение, чтобы студентов-вокалистов учили исполнять свои партии со связанными руками. На репетициях в театре он часто настаивал, чтобы певцы исполняли определенные эпизоды без жестов вообще.
Разумеется, как и любое другое нововведение Густава, эта реформа приобрела противников в лице «звезд», придерживавшихся старого порядка. Несмотря на большой авторитет нового директора, некоторые музыканты периодически скандалили, не желая подчиняться его жестким требованиям. Хотя истинная причина их поведения была очевидна: с музыкальной точки зрения эти артисты не соответствовали строгим критериям Малера. Как-то князь Рудольф сказал Густаву, что артисты жалуются на его деспотичные методы руководства. На это директор ответил: «Когда стандарты великого оперного театра снизились до такой позорной глубины, тирания является единственным лекарством. Прошу вас, не реагируйте на эти мелкие жалобы, если я не вызываю по меньшей мере два скандала в неделю».
Позже всем в опере стало ясно, что тирания Малера исходит из его фанатичного идеализма, а не из банального желания услышать похвалу от начальства, и, спустя время, артисты, противившиеся воле директора, осознали, что лучший метод избавить себя от него — это покинуть театр. Их заменили малоизвестными, подготовленными Густавом вокалистами, среди которых оказались ставшие впоследствии знаменитыми Эрик Шмедес, Лео Слезак, Мария Гутхейль-Шодер, Зельма Курц, Рихард Майр, и «метод Малера» больше не оставлял места для сомнений. Великолепные тембры этих исполнителей пленяли поклонников оперы, а Зельмой Курц Густав даже был увлечен.
Как и в Будапеште, здесь, в Вене, он проводил в жизнь принцип, что успешность театра состоит не в приглашенных «звездах», а в объединении талантливых певцов, желающих продолжительное время трудиться в команде и своим творчеством создавать лицо театра. Одной из новых артисток императорской сцены стала Анна Мильденбург, приглашенная им из Гамбурга. И, несмотря на появившуюся «пищу для сплетен» о мотивах этого ангажемента, благодаря выучке Густава певица через несколько лет превратилась в величайшую актрису оперной сцены.
В середине сентября между композитором и его консерваторским другом Хуго Вольфом произошел спор, причиной которого стало желание Вольфа поставить в Венском театре свою оперу «Коррехидор». Хуго утверждал, что Малер за несколько месяцев до того давал ему обещание, о чем Вольф еще 4 июня писал своей матери. Вся эта история походит на фантазии воспаленного воображения несчастного Хуго, к тому же доказательств малеровских обещаний постановки не существует. Известно, что это сочинение Густав называл песенной оперой, а о творчестве Хуго говорил: «Мне известны только триста сорок четыре песни и триста сорок четыре из них мне не нравятся». Постановку «Коррехидора» в Императорском театре Малер осуществил в 1904 году, через год после кончины Вольфа, но этот «долг чести», как впоследствии называла этот спектакль супруга Густава, в Вене не имел успеха.
Многие исследователи сходятся во мнении, что именно событие сентября 1897 года стало толчком к дальнейшему безумию Вольфа — в тот же день он провозгласил себя директором оперы. Видя его странности и неконтролируемое поведение, друзья Хуго приняли меры для его скорейшего помещения в психиатрическую больницу, где он через несколько лет скончался.
Осенью Малер услышал весьма интересное сочинение молодого венского композитора Александра фон Цемлинского. Его Вторая симфония (в некоторых источниках произведение обозначается как Третья симфония), получившая первый приз Бетховенского конкурса, показывала невероятное мастерство композиторской техники. При этом, по мнению Густава, в сочинениях Цемлинского практически отсутствовали оригинальные идеи. Современные же исследователи находят в его творчестве развитие традиций брамсовской музыки, а также черты стиля самого Малера. В результате этого знакомства молодой человек получил покровительство и поддержку директора Императорской оперы. Через два года Густав смог договориться о постановке оперы Цемлинского в Придворном театре и не только лично ее осуществил, но и значительно переработал сочинение с целью сделать действие более динамичным. Их творческий союз без преувеличения стал судьбоносным для обоих композиторов, но случилось это уже в XX веке.
Восьмого октября администрация Императорского театра официально сообщила, что директором назначен Густав Малер. Этот день ознаменовал перерождение Венской оперы. В плане материальных благ новому руководителю помимо статуса теперь полагались личный автомобиль с шофером и телефон в квартире. Малер оказался у всех на виду. Фигура руководителя Придворного театра — одна из главных в музыкальной жизни страны, привлекала всё большее внимание и обыкновенных распространителей слухов, и представителей «желтой» прессы. Любое событие его частной жизни тотчас становилось общественным достоянием, даже если являлось чьей-то выдумкой. Что уж говорить о его профессиональной деятельности…
Следующим шагом нового директора стала борьба с клакерами. Толпы наемных создателей искусственного успеха или фиаско являлись настоящими «паразитами театральной жизни» того времени. Без всякого стеснения эти люди предлагали солистам оперы «купить аплодисменты», шантажируя их тем, что своими выкриками из зала могут устроить провал выступления. Эта коррупционная практика привела к тому, что «звезды» сцены отдавали значительную часть своего гонорара на поддержку «рынка черного пиара». О намерении противостоять армии наемных «крикунов» Малер объявил на собрании коллектива театра, чем вызвал всеобщий восторг. Густав предложил расставлять по всему зрительному залу специальных «поисковиков», которые будут выводить клакеров со спектакля.
На том же собрании труппы Малер выразил озабоченность еще одной проблемой — частыми случаями внезапного недомогания у солистов, из-за чего приходилось скоропалительно вносить изменения в графики спектаклей. Для таких «аварийных» случаев Малер ввел в практику второй состав исполнителей, ранее не применявшийся.
Несмотря на радикальность некоторых решений, Густав сумел завоевать уважение работников театра, о чем доверительно писал одному из друзей: «Сейчас у меня есть только три врага в Вене — Ян, Рихтер и Фукс. Все остальные считают меня очень по душе». Публика же разделилась на приверженцев традиционного, олицетворением чего являлся Рихтер, и сторонников нового, прославлявших имя Малера. Теперь во время аплодисментов слышалось одновременно и шипение. Очевидно, не желая участвовать в этом конфликте, к тому же осознав ошибочность своего первоначального мнения о Густаве, Рихтер вскоре сдался.
В стремлении подчинить исполнительский процесс единой драматургии, Малер задумал еще одну реформу. Очередное нововведение касалось не музыкантов и даже не работы над произведениями. Густав решил реформировать саму аудиторию. Согласно тогдашним правилам, многие слушатели беспечно прогуливались по залу в любое время в течение первого часа спектакля. Оперная увертюра, будучи формальным вступлением, никого не интересовала, и некоторые меломаны приезжали в театр только к любимой арии или чтобы оценить какого-нибудь исполнителя, после чего отправлялись по другим делам. Решение оказалось простым: однажды утром газеты объявили, что по приказу директора театра опоздавшие зрители не будут допущены на спектакль до конца первого акта. Формулировка звучала весьма обоснованно: «Дабы не нарушать ход спектакля, после увертюры запоздалый вход не допускается». Теперь электричество в зале стали гасить перед поднятием занавеса, для чего, правда, потребовалось перестроить оркестровую яму, чтобы оттуда в зал не распространялся свет.
Сегодня такое правило кажется вполне естественным, а в 90-х годах XIX века его смогла оценить лишь сознательная часть публики, которая, увы, не составляла большинство. Многие влиятельные особы высказывали недовольство этим нововведением и жаловались императору, на что тот отвечал, что в опере приказывает Малер. Франц Иосиф строго запретил представителям своего дома вмешиваться в дела театра и передал Малеру, что тот никому не должен угождать. Неудивительно, что вскоре против Малера был настроен весь двор.
Впервые в Придворном театре появился руководитель с твердой рукой, считавший своей прямой обязанностью не потакание вкусам публики, а формирование этого вкуса. Вена получила дерзкого и талантливого реформатора, обладавшего волевым характером и мужеством для реализации своих убеждений. Естественно, такая личность не могла не вызвать к себе интерес, и на малеровские постановки стали стекаться толпы зрителей. В результате сборы театра возросли настолько заметно, что Густав получил личные поздравления от императора и князя. И даже поднятие цен на билеты в театре не повредило популярности нового директора.
Наиболее серьезные преобразования коснулись художественного и сценического оснащения постановок. Несмотря на то что Венский театр в техническом отношении считался лучшим во всей Австро-Венгрии, его огромный потенциал оставался неиспользованным. Костюмы и декорации для спектаклей выглядели не лучше, чем у провинциальных антреприз. Малер тотчас стал исправлять эти недостатки. Имея первое электрифицированное здание в Вене, опера использовала энергию только для освещения. По распоряжению директора в театре была создана специальная система оповещения, предупреждавшая о поднятии занавеса. Для быстрой связи со сценой был установлен телефон…
Композиторские дела Густава также продвигались вполне успешно. В 1898 году Гвидо Адлер благодаря своему влиянию добился издания Богемским институтом по развитию искусства И науки Первой и Третьей симфоний Малера. Незадолго до этого, осенью 1897 года, Малер подписал контракт с венским издателем Йозефом Вайнбергером о публикации вокального цикла «Песни странствующего подмастерья». Его произведения начали активно публиковаться, что свидетельствовало о композиторской востребованности.
Вена быстро разносила сплетни о новом директоре — о его диктаторском характере и мелких театральных стычках. Одним из первых появился слух о конфронтации Малера с композитором Руджеро Леонкавалло.
На самом деле 19 февраля на репетиции венской премьеры «Богемы», состоявшейся на пять лет раньше прославленной одноименной оперы Джакомо Пуччини, итальянец настаивал на включении в состав исполнителей певца Эрнеста Ван Дейка. Густав считал, что он совершенно не вписывается в спектакль. Получив отказ директора, Леонкавалло пошел на открытый конфликт, а позднее прислал письмо с угрозой отозвать свою работу, если Ван Дейк не будет петь в его опере. Малер, ответственный за качество постановки, не сдавался, и тогда итальянец посвятил в подробности их противостояния прессу. Тем не менее премьера прошла без серьезных инцидентов и автор остался доволен результатом, на чем его разногласия с директором завершились. При этом авторитет самого Малера продолжал укрепляться.
Оркестр под его управлением, инстинктивно отвечая каждому импульсу, исходившему от дирижера, постепенно приходил к пониманию особенной малеровской манеры. Человеку со стороны уследить за движениями Густава представлялось весьма трудно. Он всегда подчеркивал мелодическую линию, а не метрику, из-за чего тем, кто не привык к его «почерку», казалось, будто мелодия начиналась с любой доли. Тем не менее стиль дирижирования Малера, судя по результатам, никогда не вызывал вопросов. Он добивался легкого, воздушного звука, все переходы осуществлялись живее и проще, благодаря чему происходил обманный эффект: сольное пение на фоне такого оркестрового тембра становилось широким и внушительным. В результате вагнеровские оперы впервые стали даваться без сокращений, причем их полный вариант был на полчаса короче, чем предыдущие, «урезанные» версии.
Первый сезон оказался весьма тяжелым для Густава: помимо организационной работы он был вынужден часто заменять других дирижеров, пытавшихся спихнуть с себя ответственность за спектакли под видом болезни. Как и следовало ожидать, и без того хилое здоровье Малера не выдержало. 5 июня композитор попросил отпуск, чтобы пройти вторую операцию по удалению геморроя в венской клинике «Rudolphinerhaus».
Лето он как обычно проводил с сестрами Юстиной и Эммой. Вскоре Эмма вышла замуж за Эдуарда Розе и уехала с ним в американский Бостон, а затем — в немецкий Веймар. Непристроенной оставалась лишь Юстина, но для Густава она являлась незаменимой в доме хозяйкой.
К новому оперному сезону 1898 года Малер готовил «Кольцо нибелунга» своего любимого Вагнера. Однако премьеру омрачило трагическое событие — 10 сентября в Женеве была убита итальянским анархистом императрица Елизавета Баварская, супруга Франца Иосифа. Из-за траура эта малеровская постановка увидела свет лишь в конце месяца.
С работой над «Кольцом» связано еще одно театральное нововведение Густава. Перед первым представлением «Валькирии» — второй оперы тетралогии — он потратил много времени на одной из утренних репетиций, чтобы объяснить литавристу особенности его партии в последнем акте. Вечером во время спектакля в нужный момент Малер уверенно дал необходимый сигнал вступления оркестранту, но вместо отрепетированного звукового залпа ухо дирижера услышало лишь слабое постукивание. Сердито посмотрев на виновника, Густав, к своему удивлению, обнаружил, что на месте литавриста сидит другой человек. После того как опустился финальный занавес, Малер потребовал объяснений и узнал, что практика уходить до завершения спектакля, особенно когда представление заканчивалось поздно, была привычной для музыкантов, живущих в пригороде. Малер тотчас послал телеграмму литавристу с требованием прибыть к нему рано утром и из разговора с ним узнал, что оркестранты испытывали немалые трудности от изнурительной работы на повседневных репетициях и выступлениях. Директор видел, что музыкант отчасти был прав. При этом Густаву донесли, что зачастую такие замены являлись следствием частых и внезапных подработок, приносивших оркестрантам неплохие деньги на стороне. Понимая, что строгая дисциплина — залог четкого функционирования всего учреждения, Малер категорически запретил посылать музыкантам вместо себя кого-либо на спектакли или репетиции. А в качестве компенсации за запрет «левых заработков» он добился небольшого увеличения их зарплат, чем те остались вполне довольны.
Хотя в процессе работы Малер и проявлял крайнюю строгость, доходящую до тирании, к сослуживцам он относился как к равным себе и не упускал возможности выразить свою признательность за их преданность искусству. В 1903 году во время срочной подготовки театром постановки «Луизы» Шарпантье кларнетист Франц Бартоломеи показал небывалый образец самопожертвования — будучи абсолютно незаменимым в оркестре, он работал на репетиции и премьере, хотя его ребенок был смертельно болен и вскоре умер. Малер случайно узнал об этой трагедии и тотчас отправил кларнетисту соболезнования со следующим текстом: «От всего сердца благодарю Вас за то, что Вы принесли нам такую большую жертву и приняли участие в репетиции, несмотря на Ваше огромное горе… Я никогда этого не забуду!»
При всей своей крайней требовательности Малер своим человеческим отношением заслужил особую признательность коллег. Оркестр Придворного театра, состоявший из превосходных музыкантов, к 40-м годам XIX века сформировал внутри себя небольшую автономию, известную как филармонический оркестр. По сей день этот коллектив считается одним из лучших оркестров мира, а желающим в него попасть, по установившимся правилам, необходимо проработать в оркестре Венской оперы минимум три года. Этот коллектив уникален тем, что его музыканты сами выбирают себе дирижера на ежегодном голосовании, участвуют в решении финансовых и прочих вопросов. Благодаря Гансу Рихтеру, на протяжении более чем двадцати лет работавшему с этим коллективом, ежегодная серия концертов этого оркестра в Европе к концу века стала истинной вершиной исполнительского мастерства. Престижность работы в коллективе означала мировое признание.
Двадцать третьего сентября произошло весьма важное событие: Рихтер заявил о своей отставке с поста директора Венской филармонии, мотивируя это решение состоянием здоровья. В тот же день оркестр, нуждавшийся в руководителе на текущий сезон, попросил Малера возложить на себя эти обязанности, и тот незамедлительно согласился. Днем позже совет Венской филармонии официально объявил Густава дирижером филармонических концертов на основании единодушного одобрения коллектива.
Хотя флегматичный и добродушный Рихтер считался любимцем музыкантов, а тиранический характер Малера не вызывал у них подобных настроений, в течение короткого времени всё поменялось: восхищенный трепет, который внушил Густав оркестрантам, компенсировал его недостатки. 6 ноября состоялся первый концерт, программу которого Малер составил весьма продуманно: помимо увертюры «Кориолан» Бетховена и Сороковой симфонии Моцарта была заявлена бетховенская Третья — сочинение, которым Рихтер прощался с венской публикой. Тем самым новый дирижер показал свою преемственность. Критик Теодор Хельм писал о том вечере, что при появлении Густава в зале стояла тревожная тишина, однако с каждым новым сочинением реакция аудитории менялась и от скупых аплодисментов дошла до полного восхищения. 4 декабря прозвучала поэма Антонина Дворжака «Героическая песня», а 26 февраля следующего года Малер впервые исполнил Шестую симфонию своего друга Брукнера. Реакция публики была традиционно восторженной.
На каждом концерте нового дирижера зал был полностью заполнен, билеты распродавались задолго до симфонических вечеров, повышенный спрос не могли удовлетворить даже дневные воскресные концерты, назначенные дополнительно. Аудитория однозначно голосовала «за», критика же, всегда двойственно относившаяся к Малеру, искала поводы для придирок. Тем не менее все признавали, что Малер находился в мейнстриме. Более того, он создавал всеобщий мейнстрим. Однако Густав неоднократно жаловался, что его побочная работа стала основным занятием: «У меня уже нет времени на то, чтобы заняться самым важным делом, которое мне поручил Господь. Я нахожу чудовищным жить во всей этой роскоши. Как люди мной восхищаются и унижаются передо мной! Мне так хотелось бы объяснить им, что мне ужасно неловко и что на этой моей службе я не хочу ничего, кроме выполнения профессионального долга!»
Грядущее лето Малер решил посвятить сочинению Четвертой симфонии и во время традиционного отпуска отправился в тихое горное местечко Альтаусзее. Однако снятая им вилла плохо отапливалась, а отдыхающие постоянно узнавали венского директора и, почтенно кланяясь, затевали никчемные беседы. Любивший покой и уединение Густав практически не мог работать и потому решил всецело отдаться отдыху.
Одиннадцатого июля Малер встретился с музыкантом Густавом Гейрингером возле местечка Гойзерн Мюль, что находилось в пяти километрах от его летнего пристанища. Друзья устроили небольшую прогулку на велосипедах, на которой присутствовала девятнадцатилетняя красавица Альма Шиндлер. Гейрингер собирался познакомить Альму с Густавом, но девушка покинула компанию со словами: «Я не чувствую абсолютно никакого желания знакомиться с ним. Я люблю и почитаю его как художника, но как человек он меня не интересует вообще. Я бы не хотела терять свои иллюзии». Ветреная красавица в скором времени изменила свои взгляды на противоположные.
Бауэр-Лехнер и Мильденбург тем временем подыскали новое место для летнего отдыха — в низине озера Вёртер-Зе в деревеньке Мария-Вёрт, где композитор плодотворно провел несколько отпусков.
К августу Ганс Рихтер, находившийся в Байройте, известил Венскую филармонию, что более не сможет работать главным дирижером оркестра. Его письмо официально распахнуло дверь перед Густавом в зал «Musikverein». 24 августа на ежегодном голосовании филармонического оркестра за Малера высказался 61 музыкант, за Йозефа Хельмесбергера, отец которого был директором Венской консерватории еще в годы студенчества Густава, проголосовали 19 человек, а за Феликса Моттля, тоже желавшего занять этот пост, — всего один. Из-за такого разделения голосов Малер, намеревавшийся работать со слаженным коллективом, отказался от поста, и 16 сентября состоялись повторные выборы. Второй раз из девяноста шести оркестрантов директора Придворной оперы поддержали 90 человек. В результате такой сокрушительной победы Малер стал, наконец, официальным и полномочным руководителем Венского филармонического оркестра.
В начале оперного сезона Козима Вагнер, пытавшаяся когда-то не допустить Густава до директорства в Императорском театре, стала добиваться того, чтобы он исполнял оперы ее сына Зигфрида, который, пойдя по стопам отца, тоже стал композитором. Малер понимал, что его отказы не остановят «пиковую даму» немецкого музыкального искусства и на него будут давить сверху. Первое сценическое произведение Зигфрида Вагнера «Медвежья шкура» Густав включил в репертуар текущего сезона, настояв на немалых сокращениях, так как в полном варианте сочинение воспринималось нудно и скучно. Больше Малер не работал с творениями Вагнера-сына, хотя некоторые исследователи ошибочно указывают, что он осуществил еще постановку оперы Зигфрида «Бездельник».
В 1899 году филармонический оркестр исполнил Вторую симфонию Малера. Реакция зала оказалась настолько эмоциональной, что четвертую часть пришлось повторить на бис. При этом венские критики оказались не более дружелюбными, чем берлинские. 14 и 15 января 1900 года состоялись премьеры вокальных произведений Густава. Малер часто задумывался, почему поверхностные сочинения других композиторов пользовались популярностью, когда его собственные оказывались почти полностью отверженными. Вена всегда принимала новую музыку странно. Моцарт, Шуберт, Брукнер и многие другие выдающиеся личности имели здесь дело с особым, столичным снобизмом. Быть может, Густав воспринимал это как неизбежный факт и сам не очень-то старался добиться признания как композитор. Известны случаи, когда у Малера просили разрешения на исполнение его сочинений, но он, хотя его музыка звучала нечасто, отказывал в просьбе.
Вена продолжала оставаться консервативной и не проявляла интереса не только к сочинениям Густава, но и к его непривычным интерпретациям музыки прошлого. Для ежегодного зимнего концерта, традиционно устраиваемого в помощь благотворительному фонду филармонии, Малер выбрал свою интерпретацию Девятой симфонии Бетховена, которую он исполнял еще в Гамбурге. Спрос на билеты оказался настолько высоким, что пришлось организовывать два выступления — 18 и 22 февраля, Густав готовил сюрприз столичным любителям музыки. Венские знатные особы, по обыкновению посетившие столь знаменательный вечер, испытали большое недовольство. Критики долго не могли успокоиться, дав пищу для разного рода сплетен в обществе. Разочарованы оказались даже те, кто относился к Малеру с уважением и почтением. Князь Рудольф после концерта поздравил Густава словами: «Очень хорошее исполнение… однако мне доводилось слышать это в других темпах». На это дирижер ответил: «Неужели Ваше Высочество слышали это произведение раньше?»
Наделав немало шума и желая ответить беспощадным противникам, Малер предварил второе выступление программкой, распространявшейся перед входом в зал. Однако это лишь усилило полемику. Тем не менее слова, написанные Густавом, заставили многих музыкантов и меломанов задуматься: «На основании некоторых опубликованных материалов у определенной части публики могло сложиться мнение, что произведения Бетховена, и в особенности его Девятая симфония, подверглись произвольным изменениям в том, что касается деталей. Поэтому, видимо, будет уместным сделать пояснительное замечание… строение медных духовых инструментов того времени не позволяло исполнять определенные последовательности звуков, необходимые для ведения мелодической линии. Именно этот недостаток в конечном итоге и привел к тому, что инструменты были усовершенствованы; и не воспользоваться этим ради достижения совершенства в исполнении произведений Бетховена было бы неправильным и заслуживало порицания. Рихард Вагнер, который всю свою жизнь словом и делом стремился поправить бедственное положение в исполнении бетховенского наследия, пришедшего почти в безнадежно запущенное состояние, в своей статье “Об исполнении Девятой симфонии Бетховена” показал, как исполнять эту симфонию, сохраняя верность концепции ее создателя и по возможности точнее выявляя его замысел. Последнее время все дирижеры следуют примеру Вагнера; возглавляющий оркестр дирижер, который выступает в сегодняшнем концерте, руководствуется теми же принципами, полагаясь на собственный опыт в исполнении сочинения, но в основном не переступая границ, намеченных Вагнером. О новой оркестровке, изменении или “внесении поправок” в произведение Бетховена, разумеется, не может идти и речи».
Как и раньше, кипучая деятельность Малера никого не могла оставить в покое. На фоне невероятного одобрения его деятельности большей частью общества круг малеровских недругов, сопровождающий жизнь любой выдающейся личности, всё же постепенно расширялся. Недоброжелатели Густава толком не могли представить ни одного вразумительного довода и, как в таких случаях бывает, «извергались» подлыми «приемами ниже пояса». Впервые открыто они заявили о себе 18 марта 1900 года, когда антисемитская венская газета опубликовала статью с нападками на его дирижерство.
В том же году в Париже состоялась знаменитая Всемирная выставка, символизировавшая начало XX века. Одной из ее изюминок являлась летняя серия из пяти выступлений Венского филармонического оркестра, ранее не выезжавшего с концертами из столицы ни в один из городов мира. Несмотря на всеобщее внимание, расширившее мировую известность коллектива и его руководителя Малера, мероприятие оказалось обескураживающе дорогим для австро-венгерской стороны, из-за чего подобные поездки в ближайшие годы более не предпринимались.
Во время летнего отпуска в новом пристанище на берегу Вёртер-Зе Густав окончил свою Четвертую симфонию, хотя Третья пока еще не прозвучала полностью. Его безумно увлекла идея одной из песен «Волшебного рога мальчика», «Das himmlische Leben», повествующая о Царствии Небесном, увиденном глазами невинного дитя. В противовес Третьей симфонии, раскрывающей иерархию бытия, Четвертая описывает некий конечный пункт, сверхмир божественной любви и райской жизни. С этой короткой относительно характерных для него широт партитурой композитор подошел к концу своего метацикла, состоящего из первых четырех симфоний. Концептуально «тетралогия космоса человеческого духа» в Первой симфонии экспонирует героя, ищущего веру, а затем умирающего и воскресающего во Второй. Третья — восхваляет всеобщую любовь и чудо природы, а Четвертая — поет о радости небесного существования. Как и в двух предыдущих симфониях, здесь не обошлось без введения в нотный текст вокальной строки.
Высоты духа мира абсолютных идей в жизни Малера продолжали соседствовать с прозой директорских будней. Дирижеры «старого порядка» медленно уходили: Ганс Рихтер перебрался в Лондон, Иоганн Непомук Фукс скончался в октябре 1899 года, а через полгода не стало Вильгельма Яна. На смену им приходили молодые, активные и амбициозные, которые могли стать последователями малеровского метода руководства постановками. Одним из них являлся ученик Брукнера Франц Шальк, приглашенный Густавом на пост первого дирижера после ухода Рихтера. Ассистентом Малера на ближайший сезон стал протеже Бузони Густав Брехер. Чуть позже к герру директору присоединились итальянец Франческо Спетрино и ученик Цемлинского Артур Боданцки.
Творческое содружество Малера с Рихардом Штраусом активно продолжалось. Когда в 1901 году Штраус возглавил Всегерманское музыкальное общество, он первым делом включил малеровскую Третью симфонию в программу ближайшего фестиваля. Впоследствии сочинения Густава стали появлялись в программах концертов так часто, что некоторые критики нарекли это общество «Всемалеровским».
Густав продолжал отдавать всего себя работе, не щадя сил, которых с каждым годом становилось всё меньше. В директорские обязанности входило решение огромного количества текущих вопросов. Неимоверной самоотдачи требовали ежедневные репетиции, на которых Малер метался между пультом и сценой, по нескольку раз запрыгивая через контрабасы на помост. За это злобные оркестранты прозвали его «еврейской обезьяной». Немалых сил стоили руководство филармонией и управление ежевечерними спектаклями. Бывало, Густав лично обегал трактиры в поисках выпивавшего Эрика Шмедеса, чтобы оторвать его от стойки и притащить на репетицию.
Двадцать четвертого февраля 1901 года во время вечернего спектакля «Волшебная флейта» у Малера началось сильное кровотечение. Тем не менее он героически простоял всё представление, после чего его госпитализировали. Знаменитому венскому врачу Юлиусу фон Хохенэггу, учителю всемирно известного хирурга Ганса Финстерера, удалось купировать болезнь. Он прямо заявил пациенту: «Через полчаса было бы слишком поздно». Смерть, окружавшая композитора на протяжении всей жизни, унося родных и близких, впервые так близко подошла к нему самому. 4 марта в Вене состоялась третья, на этот раз успешная операция по излечению «подземного недуга», потребовавшая длительной реабилитации в городке Опатия, что на побережье Адриатики.
Последние события изменили Малера. Он осознал, что уже не молод, и если хочет успеть реализовать планы, то должен учитывать физические возможности своего организма. 1 апреля он отказался от управления филармоническим оркестром, а также стал просить администрацию оперы назначить ему помощника, которому смог бы передать часть своей нагрузки.
Таким образом, начало апреля ознаменовалось завершением недолгого, но необычайно яркого периода истории Венской филармонии. Три сезона под руководством Малера были насыщены его бунтарским духом, сопровождаемым восторгом изумленной общественности и приправленным «ядом» возмущенной прессы. Аудитория малеровских концертов не раз становилась свидетельницей восхищающих и пугающих, завораживающих и, как писали некоторые критики, «кощунственных» интерпретаций священной классики. Теперь благодаря Густаву филармония полностью переродилась, она не стала лучше или хуже, она стала совершенно иным учреждением, которого еще не знала музыкальная практика. Но именно Малер привнес в Венскую филармонию высокие стандарты симфонического исполнительства для только что начавшегося XX века. На смену Густаву в филармонию пришел Йозеф Хельмесбергер, и он уже работал с совершенно иным оркестром.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Летний отпуск для Малера оказался на редкость плодотворным и ознаменовал, как принято считать в музыковедении, начало нового периода творчества. Помимо работы над Пятой симфонией, композитор создал Пять песен на стихи Рюккерта и несколько — из «Волшебного рога мальчика», а также приступил, пожалуй, к самому тяжелому и печальному циклу «Песни об умерших детях».
Администрация Венской оперы согласилась взять для Малера помощника, и он предложил этот пост своему старому товарищу по Гамбургу Бруно Вальтеру. Ученик и продолжатель малеровского дела с азартом принялся за работу, освободив директора от большей части дирижерской нагрузки. Благодаря этому, а также произошедшему ранее обновлению состава дирижеров Малер смог ограничить свою деятельность почти исключительно подготовкой премьер и надзором за художественным репертуаром.
Осенью композитор решился на важный жизненный шаг — он отказался от своего многолетнего «обета безбрачия». 7 ноября во время ужина в доме своего нового приятеля, венского анатома Эмиля Цукеркандля, Малер во второй раз встретил очаровательную Альму Шиндлер. На сей раз их знакомство состоялось, и дочь покойного художника-пейзажиста Антона Шиндлера прочно заняла место в его сердце. Альма, обладавшая несомненным музыкальным талантом, училась композиции у Александра фон Цемлинского. В те же годы среди его учеников значился Арнольд Шёнберг, с которым первая красавица Вены, как ее называли, находилась в приятельских отношениях.
В гостях у Цукеркандля между Альмой и Малером разгорелся нешуточный спор, причиной которого стала партитура балета Цемлинского, переданная директору оперы еще год назад. Девушку разгневало то, что Густав так и не смог посмотреть те ноты, и она разразилась пламенной речью. Возмущение Альмы не имело оснований, поскольку Малер уважительно относился к Цемлинскому, более того, в 1900 году он поставил его оперу «Это было однажды», а причиной его годовой паузы являлась сумасшедшая занятость. Тем не менее в ответ директор оперы широко и притягательно улыбнулся и, протянув в знак примирения руку, пообещал, что на следующий день обязательно пригласит к себе Цемлинского. В тот же вечер, оставшись с юной красавицей наедине, Густав поинтересовался ее сочинениями и попросил как-нибудь показать одну из работ. Потом он предложил проводить Альму до дома, но получил отказ. Так, околдованный прелестным созданием, Густав в одиночестве отправился домой.
Их роман развивался стихийно. На первом свидании композитор посвятил девушке стихотворение и сразу объявил о своих требованиях к будущей жене: она должна пожертвовать ради его творчества своими личными интересами, разделять его композиторские победы и горести, переписывать сочинения, заниматься домашним хозяйством… Неудивительно, что Альма испытывала шок. Тем не менее плененная вниманием знаменитости красавица вынуждена была признать, что потеряла голову. Друзья Густава с радостью наблюдали, как он наконец сбросил маску одинокого художника и начал делать всё возможное, чтобы выглядеть веселым и общительным в глазах юной фрейлейн.
Восемнадцатого ноября Малер попросил Альму познакомить его с матерью. Случилось это по окончании оперы Глюка «Орфей и Эвридика», исполненной под его управлением. Малер пригласил обеих дам в свой кабинет, где они за чашкой чая приятно беседовали. Итогом их встречи стало ответное приглашение, которое Густав с радостью принял. Через день Альма написала в своем дневнике: «Лицо Малера начерчено в моем сердце».
Авторитет директора Придворной оперы приобрел столь гигантские масштабы, что общество могло видеть рядом с ним только первую красавицу Вены, поэтому его выбор был принят безоговорочно. Для публики личность Густава становилась главнее того, что он делал, примером чему может служить состоявшаяся в конце ноября в Мюнхене премьера Четвертой симфонии. Критики продолжали строчить пакости: «Никаких следов спонтанности, ни одной оригинальной идеи… ничего, кроме технического мастерства, расчета и внутреннего обмана». Прогрессивная общественность, как и раньше, приветствовала композитора. В частности, пораженный сочинением шестнадцатилетний Альбан Берг после концерта прорвался в артистическую комнату Густава, чтобы выразить автору свое восхищение. История умалчивает подробности той встречи, но из комнаты Берг вышел с подаренной Малером на память дирижерской палочкой. Однако и тогда пришедшая в «Kaim Saal» публика по большому счету интересовалась не произведением, а его автором, изящно управлявшим оркестром. Он, словно королевская персона, невольно превращался из композитора и дирижера в самоценность, в некоего «светского льва», пользовавшегося огромной популярностью. Желтая пресса лишь подогревала такой интерес.
В столице же всё было куда серьезнее: оперы или симфонические вечера зачастую посещались только из-за одной фамилии «Малер», напечатанной на афише. Венские извозчики при виде директора Придворного театра взволнованно и благоговейно произносили: «Малер!..» Такая популярность отчасти играла на руку Густаву, ведь с его аншлагами приходилось считаться даже врагам. Если же вдруг композитор во время сезона уезжал, пресса поднимала крик: «Где директор оперы? У нас нет больше оперы!»
Несомненно, и Альме, и даже в большей степени ее матери жених с таким статусом быстро вскружил голову. В начале декабря Густав признался красавице в любви и впервые ее поцеловал. Девушка, испытывавшая схожие чувства, была счастлива, но решила открыть Густаву правду: из-за их внезапного знакомства она мучилась угрызениями совести, ведь ей признался в любви и Александр фон Цемлинский. При этом Альма чувствовала большое давление со стороны друзей и семьи, желавших, чтобы она прекратила отношения с педагогом, который не мог похвастаться ни положением в обществе, как Малер, ни привлекательной внешностью. Так или иначе, 12 декабря Альма отправила письмо бывшему возлюбленному, попросив у него прощения и благословения на решение остаться с Малером. Хотя романтичный Густав предлагал ей пожениться тайно, в их отношениях всё обошлось без крайних мер.
Планы влюбленных складывались вполне благополучно, однако вскоре в них капнула ложка дегтя, которая впоследствии дала о себе знать. В конце месяца композитор предупредил Альму, что ей придется отказаться от каких-либо композиторских амбиций. Ее ответная реакция вначале была преисполнена гнева, но потом она успокоилась, подумала и убедила себя, что для нее это будет даже лучше.
Двадцать третьего декабря Густав и Альма обручились, причем случилось это прежде, чем они предстали перед опекуном девушки Карлом Моллем. Художник Молль, женившийся на овдовевшей супруге своего учителя Шиндлера и будучи на год моложе Малера, являлся яростным антисемитом. Между ним и Альмой не было взаимопонимания, а в дальнейшем он осуждал все ее браки, ненавидел всех ее друзей и мужей. Например, в конце 1930-х годов, когда падчерица с двойной еврейской фамилией Малер-Верфель бежала от нацистов, отчим стал членом партии Гитлера и покончил жизнь самоубийством вслед за своим кумиром в мае 1945 года.
Со стороны родных и друзей Густава отношение к его союзу с Альмой оказалось неоднозначным. В целом все были рады, что на пятом десятке лет Малер нашел себе жену. Но старый друг Зигфрид Липинер отговаривал Густава от женитьбы, из-за чего у Альмы появилась к Липинеру сильная неприязнь. Она часто называла его «фальшивым Гёте в литературе и торгующимся евреем в жизни». Ревнивица Юстина тоже не особо радовалась браку Густава, хотя у нее к тому времени сложились отношения с первой скрипкой Придворной оперы и филармонического оркестра Арнольдом Розе, братом Эдуарда Розе, женившимся на Эмме. Юстина всячески скрывала свою любовь от Густава, пообещав жениху открыть тайну, только когда брат найдет себе жену. Малер, хотя и желал выдать любимую сестру за хорошего человека, узнав о ее союзе с Розе, испытал разочарование и недовольство: Густав боялся неизбежных слухов и упреков в семейственности.
Девятого марта 1902 года Густав и Альма Маргарита Мария Шиндлер обвенчались в венской церкви Карлскирхе. Церемонию решили сделать приватной, ведь невеста уже была беременна. На следующий же день Юстина Малер вышла замуж за Арнольда Розе. Таким образом, две сестры композитора нашли свое счастье с двумя братьями-музыкантами.
Медовый месяц Густав и Альма сочетали с работой, отправившись в путешествие по России. Три холодные, но прекрасные недели в Санкт-Петербурге прошли в череде репетиций и концертов. По пути в столицу Российской империи у Малера начались сильнейшие мигрени, мучившие его на протяжении всей жизни. На каждой остановке он выбегал на мороз без головного убора и метался, как загнанный зверь, с одного края платформы на другой в надежде остудить голову от спазмов, но тщетно. В конце концов, композитор сильно простудился, что несколько омрачило поездку. Понимая, что болеть теперь нельзя, Густав с первых лет семейной жизни стал трепетно относиться к своему здоровью, начал делать зарядку и старался держать себя в спортивной форме.
В творческом плане 1902 год начался стремительно. Четвертая симфония Малера прозвучала в Берлине и Вене. О ее столичной премьере вспоминает Вальтер, подчеркивающий, что в зале бурное противостояние сторонников и противников композитора чуть не дошло до драки. 9 июня наконец состоялась полная премьера Третьей симфонии в немецком Крефельде. Сочинение дождалось своего грандиозного успеха. Публика, среди которой были Рихард Штраус и Энгельберт Хампердинк, аплодировала в течение пятнадцати минут стоявшему за дирижерским пультом автору. Неизбалованная крефельдская пресса отозвалась вполне положительно. Это была безоговорочная победа! Будучи незнакомым с Малером, дирижер голландского королевского оркестра Консертгебау Виллем Менгельберг, пораженный и музыкой сочинения, и работой композитора с оркестром, после концерта подошел к Густаву и пообещал сделать всё возможное для скорейшего его выступления с Третьей симфонией в Амстердаме. Примечательно, что за весь срок пребывания Густава на посту директора ни одна его симфония не имела мировой премьеры в Вене.
В вечер триумфа юная Альма полностью осознала композиторский дар мужа и поняла, что должна посвятить свою жизнь служению этому дару: «Я сидела где-то среди незнакомых людей, потому что мне хотелось побыть одной, и даже отказалась сесть вместе со своими родственниками. Мое волнение было неописуемым; я тихо плакала и смеялась и вдруг почувствовала, как во мне шевельнулся мой первый ребенок. В тот вечер это произведение окончательно убедило меня в величии Малера; плача от радости, я клялась ему в том, что признаю его гением, клялась ему в любви, в своем вечном желании жить только ради него и служить только ему одному».
Так и случилось: летом, окруженный благоухающей природой у озера Вёртер-Зе, композитор завершал Пятую симфонию, в чем ему посильную помощь оказывала любящая супруга, помимо домашних дел занимавшаяся перепиской нот. Распорядок дня был тот же, что и в Штайнбахе: с семи утра и до обеда Малер творил в своей пуританской хижине, а после молодожены гуляли по окрестностям, катались на лодке или плавали. В осенне-зимний период с семи утра Густав занимался оркестровкой сочиненного летом, а в девять часов уже находился в своем кабинете Придворного театра.
Следует заметить, что, несмотря на помощь супруги, над Пятой симфонией Малер работал дольше, чем над другими сочинениями. Окончив на Вёртер-Зе первый ее вариант, Густав до последнего года жизни снова и снова вносил изменения в эту сложную партитуру, написанную новой, ранее не апробированной композиторской техникой. Малер еще не осознавал, что произошедшее год назад событие, когда он впервые почуял дыхание смерти, уже сказалось на нем самом, перестроив стиль его жизни. Пятая симфония явилась некой переходной работой, оставаясь притом традиционным инструментальным сочинением. Адажиетто — самый короткий раздел всех его симфоний, использованный вместо привычных Анданте или Адажио — в этом произведении достигает высшей точки композиторского совершенства. Густав, со студенческих лет штудировавший творения Баха, впервые после знакомства с музыкой великого мастера обратился к полифоническому складу именно в Адажиетто Пятой, доведя до предела баховские принципы развития музыкального материала в рамках законов романтической гармонии.
Жена стала его музой не только в творчестве, но и в жизни. Благодаря Альме Малер сблизился с ее знакомыми и друзьями. В доме ее отчима Карла Молля композитор становился частым свидетелем горячих творческих споров группы художников и скульпторов. С величайшим интересом он слушал и восторгался идеями, схожими во многом с его собственными. В своей сфере искусства эти творцы так же восставали против мнимой традиции, как и Малер в музыке.
Карл Молль наряду с Густавом Климтом являлся одним из основателей группы художников, отошедшей от официального художественного направления и получившей название Венского сецессиона, то есть отступников, считавших официальное искусство несовременным. Объединение, возникшее в тот же год, когда Малер стал директором Придворного театра, по сути, параллельно с Густавом занималось свержением маргинальных идеалов. Примечательно, что в исследовательской литературе Венский сецессион приравнивается к модерну, из чего следует, что приверженцы этого направления и сочувствовавшие им существовали в рамках единого художественного мировоззрения, и, в частности, Малер также может считаться представителем модерна, причем модерна не как направления искусства, а как типа мышления.
Знакомство с сецессионистами — отступниками от традиций — способствовало объединению творцов нового. Один из них, Альфред Роллер, имел неординарные представления о реализации на оперной сцене единства света, цвета и тона. При первой же встрече с Густавом Роллер, не придерживаясь принятого в обществе этикета знакомств, начал рассказывать о своем видении живописующей красоты вагнеровской оперы «Тристан и Изольда». Малер, планировавший заняться изменением шедшего в Придворном театре этого унылого спектакля, воспринял идеи Роллера как откровение и на следующий же день пригласил его для подробного разговора в театр.
Роллер был похож на Малера, их роднили общие идеи, оба, одержимые работой, творили, позабыв о времени. Благодаря Роллеру Густав внезапно увидел великое будущее музыкальной драмы, предсказанное еще Вагнером, говорившим о единстве искусства. Недолго думая директор предложил Роллеру сотрудничать с ним в подготовке серии постановок совершенно нового типа, первой из которых являлась опера «Тристан и Изольда». Ее премьера стала настоящей сенсацией.
Малер, занимаясь театральными постановками, никогда прежде не испытывал столь сильного вдохновения, как теперь. Его преисполненная перфекционизмом мечта об идеальном спектакле наконец начинала реализовываться. Роллер отвечал за фон, отражавший трагическую фабулу произведения. Он не создавал нарочито картинных декораций, а творил некое цветосветовое пространство. Иными словами, эмоции героев отражались в тонких оттенках цвета, а световые изменения вторили сюжету, особенно влияя на восприимчивого зрителя.
После «Тристана» полностью в новом виде предстали «Фиделио», «Дон Жуан» и целый ряд других оперных произведений. Каждая музыкальная деталь этих творений использовалась для психологического выражения действия. Опера становилась столь убедительной, что зрители почти верили, что спектакль создан при участии самого автора. Тем не менее лишь немногие из зрителей осознавали, что на их глазах происходило кардинальное изменение законов оперной режиссуры. Сотрудничество Малера и Роллера знаменовало начало новой великой эпохи в истории постановок, по важности доминировавшей даже над вагнеровскими реформами.
Однако в их сотрудничестве скрывался один отрицательный момент: новые постановки оказались дорогими даже для Придворного театра. Именно этот нюанс дал пищу для всевозможных злопыхателей и ненавистников Густава, умножавшихся сообразно его успехам. Неоднократные просьбы директора сделать новое оформление «Кольца нибелунга» встречали отказы в течение нескольких сезонов, поэтому оперы тетралогии в этот переходный период обновлялись очень медленно. Так, первые творения цикла «Золото Рейна» и «Валькирия», переделанные Роллером, выглядели современно, а следующие — «Зигфрид» и «Гибель богов» — вплоть до 1907 года контрастировали с ними нагромождением нафталинного реквизита.
Работа в театре строилась следующим образом. Герр Малер, оповещенный по внутреннему телефону, прибывал в директорскую ложу, чтобы наблюдать за интересовавшими его репетициями. Иногда Густава сопровождала сестра Юстина. Гэбриел Энджел красочно описывает, как выглядели подобного рода прогоны. Малер, обладавший приятным глубоким баритоном, всё утро мог выкрикивать из своей ложи разные команды измененным голосом, доведенным до тенора. И так он тенорил до тех пор, пока постановка не достигала достойного художественного уровня. Только в таком случае удовлетворенный директор наконец замолкал.
К примеру, на одной из репетиций моцартовского «Дон Жуана» доносилось: «Какой костюм у дона Оттавио?! Он же типичный знаменосец! Нет, испанский дон не может выглядеть так!» Во время знаменитого менуэта, звучавшего в конце первого акта, на сцене находился небольшой оркестр, по сюжету исполнявший музыку на празднике в замке. Увидав это, Малер вскричал: «Почему альтист появился на сцене в пенсне?! Если у него плохое зрение, то пусть надевает очки!» Повернувшись к Юстине, сидящей рядом, Густав произнес: «Если я пропущу такую глупость, то вскоре они будут исполнять “Фиделио” с моноклями». Позже, во время действия на кладбище, знакомый голос восклицал: «Вы это называете статуей?! Командор выглядит, как будто сделан из бумаги, а не из камня! Лицо ужасно накрашено, проследите, чтобы такое не повторилось!»
При всей своей занятости Малер понимал, что никогда прежде не был так доволен жизнью и открывавшимися перспективами, как теперь. Благодаря собранной им команде первоклассных дирижеров, руководивших большинством оперных представлений, у Густава наконец появилось больше свободного времени. Жизнь не могла не удивлять его. Еще год назад он перенес операцию, тогда ничто не предвещало даже малейших изменений, теперь же театр находился в надежных руках, рядом с ним была любящая супруга, носившая под сердцем их ребенка, при этом они пребывали в прекрасном окружении, жили в только что выстроенном чудесном летнем доме.
К концу года семья Малер состояла уже из трех человек. 3 ноября в Вене Альма родила девочку, которую родители назвали Мария Анна. Роды оказались непростыми по причине тазового предлежания плода. Густав по этому поводу шутливо говорил: «Это точно моя дочь — она показывает миру именно ту часть, которую он заслуживает!»
Одно не радовало: приступы мигрени и головокружения не проходили. В марте 1903 года Густав отправился в одиночку в польский Львов, где его ждала работа с местным оркестром. В этой тринадцатичасовой поездке с небольшими остановками ему стало очень плохо. Люди, встречавшие его во Львове, увидели Малера с таким приступом боли, что он даже не мог с ними говорить. 45 минут он брел в мрачном молчании в гостиницу, где принял аспирин и проспал два часа. Затем Густав появился в фойе, как всегда улыбаясь, блестя оправой очков и держа в руке шляпу на австрийский манер. Ему трудно было держаться в обществе, но, превозмогая боль, он пытался казаться жизнерадостным и благополучным.
В конце лета начинающий композитор Арнольд Шёнберг, друг Альмы и ученик Цемлинского, двумя годами ранее женившийся на его сестре, приехал с супругой и ребенком в Вену, где его представили Малеру. Взаимоотношения, возникшие между двумя композиторами, достойны отдельного литературного описания. Начав с абсолютного неприятия искусства Малера и считая его «динозавром XIX века», Шёнберг за короткий срок полностью переосмыслил свой взгляд на творчество старшего коллеги и стал его другом и учеником. Осенью 1903 года, приглашая Цемлинского в гости по просьбе жены, Густав писал: «Не могли бы Вы у нас во второй половине дня выпить кофе? Если получится, приходите около двух. Можете взять с собой Шёнберга». Малер пока еще относился к юному композитору как к «лысому довеску» Цемлинского и приглашал его исключительно по настоянию супруги. Явившись на те посиделки неряшливо одетым, конфронтационно настроенный Шёнберг заявил, что тональность находится на последнем издыхании. Малер попытался возразить, на что юный бунтарь, не дав ему закончить, начал кричать, после чего выбежал из дома с возгласом: «Ноги моей здесь больше не будет!» Густав, повернувшись к Альме, произнес: «Впредь я не хочу видеть этого щенка в моем доме». Тем не менее уже через несколько месяцев оба композитора восхищались друг другом.
В Шёнберге Малер видел себя — молодого, горячего, готового ради принципов терпеть и голод, и бедность. Шёнберг подрабатывал, где мог, сочиняя музыку и рисуя картины на продажу. Хотя он уже стал достаточно известным, с трудом сводил концы к концами, а ведь ему надо было содержать жену и детей. В 1910 году неизвестный любитель искусства, приобретший несколько полотен Шёнберга, буквально спас его семью от голода. В том же году Малер, помня о собственных трудностях в молодости, поддержал юного коллегу, пролоббировав его кандидатуру на пост профессора Венской консерватории. Через полгода после смерти Густава Шёнберг получил письмо от своего ученика и коллеги Антона фон Веберна, в котором тот открыл ему тайну анонимного покупателя тех картин — им оказался Малер.
Летом 1904 года Густав начал Шестую симфонию, которую в силу ее пессимистичной концепции назвал «Трагическая». Позднее «адепт чистого симфонизма» Малер отказался от такого названия. При том что это сочинение не стало популярным даже среди поклонников его творчества, оно в наибольшей степени выражает творческое «я» композитора. Партитура симфонии беспредельно полифонична. Маршевые интонации первой части — мистическая ода человеческой судьбы, некое погребение в идеальный мир, где слышится плач отчаявшейся души. Следующее Скерцо с беспримерным круговоротом жизни, затем — Адажиетто, наполненное философской лирикой и символизирующее голос автора. Грандиозный Финал представляет картину всеобщей баталии, длящейся почти столько же, сколько первые три части, напряжение его кульминационной зоны трудно передать, так она насыщенна. Проникнутое крайней безысходностью окончание произведения воспринимается весьма мрачно. В качестве аллегории, изображающей страшные удары судьбы, Малер включил в партитуру новый инструмент — молот.
Несмотря на интереснейшие новшества, введенные Малером в композицию, его творения встречали открытую враждебность именно в австрийской столице, поэтому признание публики из других городов и стран он принимал с особой благодарностью. Композитор испытал невероятное удовлетворение от блестящего исполнения при свечах его Второй симфонии в соборе швейцарского Базеля, а в Голландии он чувствовал себя поистине счастливым.
Дирижер Менгельберг, ставший преданным поклонником, а впоследствии и проводником творчества Густава, сдержал данное год назад обещание во что бы то ни стало привезти композитора в Амстердам. Заблаговременно получив партитуры, Менгельберг подготовил оркестр к прибытию Малера. Известно, что тот просил его о семи репетициях. Он приехал за день или два до выступления, чтобы взять под личный контроль окончательную подготовку концерта.
Менгельберг, радовавшийся приезду уважаемого гостя, настоял, чтобы композитор жил у него дома. По вечерам Малер сидел у камина и с аппетитом уплетал ароматные кусочки голландского сыра «эдам». В перерывах между репетициями он гулял по Амстердаму, побывал в находящемся поблизости городке Зандам, посетил Дом-музей почитаемого им Рембрандта. Малер подпал под очарование голландских пейзажей, цветочных плантаций, ветряных мельниц, как и самих голландцев, называя их «весьма оригинальными людьми».
Густава поразило высокое исполнительское мастерство оркестрантов. Он писал Альме: «Вчера всё было замечательно… двести школьников под руководством своих шести учителей… и красивейший женский хор из ста голосов! Оркестр великолепен! Намного лучше, чем в Крефельде… музыкальная культура в этой стране дышит, поскольку эти люди способны воспринимать».
Поездки в Голландию стали регулярными, а отношения с Менгельбергом приобретали дружеский характер. Той же осенью в Амстердаме прозвучали Первая и Третья симфонии, в 1904 году — Вторая и Четвертая, причем Четвертая симфония фактически повторялась в одном и том же концерте два раза подряд: первый раз — под управлением автора, а второй — Менгельберга. Известно, что во время репетиции этого сочинения в партитуре обнаружили опечатку. Композитор немедленно телеграфировал венскому издателю, боясь, что «Четвертую мир будет исполнять с ошибкой». Успех у публики оказался грандиозным. Голландец радовался плодам совместной дирижерской работы с Малером, становясь, таким образом, наряду с Бруно Вальтером официальным учеником Густава.
Прошло менее полугода после первого конфликта Малера с Шёнбергом, и 1 марта 1904 года отходчивый и незлопамятный Густав уже шел на венский концерт, в программе которого значился струнный секстет Шёнберга «Просветленная ночь». Оценив несомненный талант юного коллеги, Густав громко приветствовал сочинение, при этом большая часть аудитории отреагировала на музыку незнакомого автора с прохладцей. Известно, что Малер предложил Шёнбергу переработать партитуру для струнного оркестра. Их дальнейшие творческие связи, возможно, напоминали Густаву его дружбу с Брукнером, только теперь он, а не его товарищ являлся старшим в этом дуэте.
Пятнадцатого июня в семью Малеров пришла радость: на свет появилась вторая дочь. Девочка, названная Анной Юстиной в честь матери Альмы и сестры Густава, родилась в дачном доме курорта Мария-Вёрт. Счастливый композитор получил заряд творческого вдохновения, и лето оказалось весьма плодотворным. Вот только сочинения из-под его пера выходили печальные, что очень пугало супругу. Окончив «Трагическую симфонию» и приступив к работе над Седьмой, Густав написал два недостававших номера для завершения «Песен об умерших детях». Этот цикл поражает глубиной композиторского высказывания. Его наполненность уникальна: Малер впервые за всю историю музыки вплотную подошел к тому, чтобы снести колеблющуюся преграду между оркестровой песней и симфонией, что будет им реализовано через пять лет в «Песне о земле».
«Песни об умерших детях» возмущали Альму. От стихов Рюккерта, положенных на музыку цикла, его жену охватывала дрожь: ведь если Рюккерт писал на гибель собственных дочерей, то ужасный смысл текста противоречил малеровской безоблачной семейной жизни. Альма, только что родившая вторую дочку, признавалась: «Я могу понять, когда музыку на такие страшные слова сочиняет человек, не имеющий детей или потерявший их… Но скорбь о смерти детей через какой-нибудь час после того, как ты целуешь и ласкаешь их совершенно здоровых и веселых, — этого я понять не могу».
Действительно, мотивы композитора сложны и неоднозначны. Помимо Рюккерта любимым автором Малера, без сомнений, был Федор Михайлович Достоевский. Как-то Густав, всю жизнь зачитывавшийся его произведениями, произнес, что для композитора «Достоевский важнее, чем контрапункт!». Наверняка тема несчастного детства как выражение крайней несправедливости мира, часто используемая русским писателем, сильно повлияла на Малера. Направленность обоих кумиров со схожей тематикой и сюжетами, как, например, в «Елке сироты» Рюккерта и «Мальчике у Христа на елке» Достоевского, где умирающий ребенок видит в галлюцинациях рождественскую елку, несомненно, консонировала с трагическими мыслями композитора, отразившись в его вокальном цикле. Густав, будучи свидетелем смертей девятерых своих братьев и сестер и видевший горе собственных родителей, никак не мог пройти мимо этой темы, несмотря на упреки жены, просившей его: «Не надо искушать судьбу!» По случаю или роковому предопределению, слова Альмы Густав вспомнит через три года…
«Трагическая симфония», которой композитор ненамного больше «порадовал» супругу в то лето, оказалась наполнена глубоким драматизмом. Когда Малер исполнил жене готовое сочинение, Альма была потрясена. «В тот день мы оба плакали. Музыка и то, что она предсказывала, тронули нас до глубины души», — вспоминала она.
Создавая громадные полотна, затрагивающие вопросы человеческого бытия, композитор хотел поделиться своим творчеством со всем миром, о чем признавался Цемлинскому, с которым очень сблизился в это время. Ставший чуть ли не «правой рукой» Малера и сопровождавший его в различных поездках, Цемлинский испытывал особый пиетет перед Густавом. Известно, что тогда же он сделал фортепианное переложение Шестой симфонии Малера.
Имевшие сходные взгляды Цемлинский и Шёнберг решили организовать музыкальное общество наподобие Сецессиона у художников и обратились за помощью к Густаву. Идея создания композиторской ассоциации, содействующей современной музыке в Вене, нашла горячее одобрение Малера, и он стал заниматься решением организационных вопросов. Густава решено было сделать почетным президентом ассоциации.
В середине октября в Кёльне впервые прозвучала Пятая симфония Малера под управлением автора. Если слушатели испытывали смешанные чувства, то пресса по установившейся «традиции» восприняла симфонию враждебно. Вообще об этом сочинении Густав с печалью говорил: «Пятой чертовски не везет! Она никому не нравится». Этот концерт лишний раз показал Малеру, что организация, которую создавали друзья, могла бы направить аудиторию к правильному пониманию нового искусства.
Двадцать третьего ноября в Вене состоялся первый концерт только что созданного Цемлинским, Шёнбергом и Малером Общества творческих музыкантов. В тот вечер Густав, стоя за дирижерским пультом, исполнил ряд современных сочинений, вызвав одобрение слушателей. Это общество просуществовало всего один сезон, но за это короткое время публика впервые услышала произведения композиторов, находившихся в мейнстриме общественных взглядов и интересов, а Шёнберг, Веберн, Берг и другие составили основу венской композиторской школы первой половины XX века.
Отношения с Шёнбергом достигли апогея дружеской любви и заботы. В декабре, услышав в Вене Четвертую симфонию Малера, пораженный Шёнберг писал композитору: «Я видел обнаженной саму Вашу душу. Я видел, как участок дикого и тайного мира с жуткими пропастями и безднами соседствует с залитым солнцем улыбающимся лугом, прибежищем идиллического покоя. Я чувствовал, как природа… после бичевания нас своими ужасами, рождает радугу в небе… Я видел человека, в муках борющегося за внутреннюю гармонию; я разгадал личность, драму и правдивость, самую бескомпромиссную правдивость». В этих словах тридцатилетнего композитора, помимо уважения и даже поклонения и пиетета перед гением, чувствуется желание наследовать дух малеровской музыки.
Густав отвечал Шёнбергу полной взаимностью. В конце января следующего года под управлением автора в рамках концертов Общества творческих музыкантов впервые прозвучала симфоническая поэма Арнольда Шёнберга «Пеллеас и Мелизанда». Многие возмущенные слушатели прямо во время концерта покидали зал «Musikverein», а Густав оказался весьма впечатлен оригинальным сочинением. Через четыре дня в малом зале «Musikverein» состоялся вечер, посвященный песням для голоса и оркестра Малера. Присутствовавший там юный член Общества Антон фон Веберн был поражен услышанной музыкой. Повтор программы состоялся 3 февраля в зале «Annahof», и после концерта Веберн впервые лично приветствовал Густава, выразив ему свою признательность.
Тот вечер музыканты провели вместе: перед зачарованным Веберном Малер раскрывал свое творческое кредо. Позднее молодой композитор вспоминал: «Это было первый раз, когда я получил непосредственное впечатление от по-настоящему великой личности». Известно, что в то же время Густав познакомился с еще только пробовавшим себя в качестве дирижера Отто Клемперером. Впоследствии Клемперер стал одним из самых оригинальных интерпретаторов наследия Малера.
Передовые умы Вены осознавали новаторство Густава и искали новых встреч с его творчеством. Вся Европа бурлила под влиянием событий первой русской революции в ожидании перемен, и на этом фоне реформаторская деятельность Малера выглядела особенно актуальной. 1 мая 1905 года в Вене после первомайской демонстрации Густав столкнулся с композитором Гансом Пфицнером. Их длительный спор о достоинствах социализма продолжался несколько часов. Пфицнер упрямо отстаивал позицию «против» социализма, Малер же был «за».
Просоциалистические взгляды Густава впоследствии взяло на вооружение советское музыковедение. Иван Иванович Соллертинский пишет о невозможности найти в малеровской «империалистической Европе» великую идею кроме идеи пролетарской революции в качестве стержня симфонии. Тем не менее Густав, будучи бунтарем по духу, приветствовал идеи социализма скорее из-за их свежести и необычности. Революция, переворачивая дряхлые консервативные убеждения, всегда рождает нечто новое, что, несомненно, двигает прогресс и делает востребованными тех творцов, чьи произведения были слишком новы для свергнутого маргинального мира. И не важно, что пришедшее на смену всему старому искусство позже родит своих маргиналов и «непускателей».
В мае в Страсбурге состоялся концерт, в первом отделении которого под управлением автора прозвучала Пятая симфония Малера, а во втором Рихард Штраус продирижировал своей «Домашней симфонией». Тогда же пришла трагическая весть: 14-го числа в Будапеште во время одного из вечерних мероприятий скончался Ференц фон Беницки. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, друзья решили прогуляться по городу. Спускаясь вниз по одной из центральных улиц, супруги Малер с интересом слушали вдохновленный рассказ Штрауса о его новой опере «Саломея», которую к тому времени он практически закончил. Не вытерпев, Штраус затащил Густава и Альму в ближайший музыкальный магазин, где за одним из продававшихся фортепиано устроил импровизированный концерт, исполнив основные фрагменты оперы. У директора Придворного театра не осталось никаких сомнений: это произведение — одно из самых значительных в современной музыке, и он стал договариваться о его постановке в Вене.
Во время летнего отпуска Малер закончил работу над Седьмой симфонией. Таким образом, к середине первого десятилетия нового века выстроились симфонические полотна очередного творческого периода композитора. Сам Малер любил связывать Пятую, Шестую и Седьмую симфонии в трилогию, где Пятая представляет собой «возвращение на землю», Шестую можно охарактеризовать как автобиографический натурализм, а Седьмая стала изысканной «Песнью ночи».
Седьмая симфония, лишенная темы судьбы и трагических настроений, выглядит благоухающим оазисом на фоне общей тематики других сочинений этого жанра. Здесь композитор рисует мир фантасмагорий и волшебного, сказочного звучания. Густав описывал жене творческий процесс работы над этим произведением: «Я решил закончить Седьмую, оба Анданте которой лежали тогда у меня на столе. Я мучился над своей задачей две недели, пока не впал в меланхолию… потом кинулся со всех ног в Альпы. Там те же муки, и в конце концов я махнул на всё рукой и отправился домой… Я сел в лодку и стал грести на другой берег. При первом взмахе весел мне в голову пришла тема (или, скорее, ритм и характер) вступления к первой части, — а через четыре недели первая, третья и пятая части были готовы».
В ноябре 1905 года состоялось событие исторической важности. Находясь в Лейпциге, композитор при помощи нового изобретения — системы Вельте-Миньон — сделал фортепианные записи собственных сочинений. Механическое пианино зафиксировало три песни Малера «Ich ging mit Lust», «Ging heut moigen ubers Feld» и «Das himmlische Leben». В середине 1990-х годов с этих валиков Вельте-Миньона в США была сделана аудиозапись. Таким образом до наших дней дошел единственный звуковой образец малеровского исполнительского искусства.
В декабре в дрезденском театре «Semperoper» состоялась премьера «Саломеи» Штрауса. Слухи об этом сочинении расползлись по всей империи. Следующая ее постановка в Вене обещала стать сверхвостребованной, и многие меломаны следили за афишами Придворного театра в предвкушении услышать нечто новое. Но одноименная скандальная пьеса Оскара Уайльда, легшая в основу оперы, по множеству причин оказалась под запретом, который распространился и на произведение Штрауса. Венский цензор, боявшийся огласки, попросил Малера быть поосторожнее с прессой, и тот, открыто поддерживавший это сочинение, попал в неудобную ситуацию: история с «Саломеей» могла подорвать его авторитет руководителя в глазах тех, кто знал о несостоявшихся планах. Взбешенный Малер пошел на бессмысленный конфликт со своим руководством, дав понять, что не задержится на посту, если его мнением будут пренебрегать. Весной 1906 года в письме Штраусу Густав признавался: «Вы не поверите, насколько эта история мне неприятна и, между нами говоря, какие последствия она может для меня иметь».
Среди причин негласного табу на оперу называли наличие библейских персонажей на сцене, искажение евангельской истории и нарочитую безнравственность Саломеи и Ирода. Официальная формулировка венской цензуры свелась к «религиозным и моральным основаниям». Причина могла крыться и в нежелании императора Франца Иосифа портить отношения с Римской курией, которые он всегда старался поддерживать, несмотря на то, что наложил вето на избрание на папский престол кардинала Рамполлы дель Тиндаро.
Как бы то ни было, 16 мая премьера оперы, обещавшая стать самым громким событием года, состоялась в австрийском Граце. В местных гостиницах практически не оставалось свободных номеров, поскольку в город со всей империи съехались жаждавшие увидеть невероятное действо. Густав и Альма тоже присутствовали на премьере. Примечательно, что среди зрителей находился семнадцатилетний начинающий художник Адольф Гитлер, взявший на поездку в Грац взаймы деньги у родственников.
Альма вспоминала, как в день премьеры Малер и Штраус устроили утренний пикник, отправившись на арендованном автомобиле в горы, потом компания спустилась к местному водопаду и пообедала в таверне. Густав, боявшийся опоздать на спектакль, торопил своего товарища. «Без нас не начнут», — отвечал Штраус. «Если вы не хотите идти, то я поспешу и буду дирижировать вместо вас», — шутил Малер.
Благодаря содействию Штрауса 27 мая в немецком Эссене состоялась премьера Шестой симфонии Густава. После репетиции один из его друзей, шокированный этим произведением, спросил композитора: «Как может человек, добрый как ты, написать симфонию, полную такого мучения?» На что Малер ответил: «Это сумма всех страданий, которые я был вынужден терпеть в течение жизни». Густав сильно взволновался. Альма вспоминала, как после прогона он ходил по артистической комнате взад и вперед, заламывая руки и задыхаясь от рыданий. В этот момент дверь распахнулась, и появившийся Штраус внес своими словами совершеннейший диссонанс в мысли и настроения Густава: «Послушайте, Малер, завтра перед Шестой вам придется продирижировать каким-нибудь траурным маршем или чем-нибудь в этом роде — у них скоропостижно скончался мэр». Штраус выглядел абсолютно спокойным. Одним своим видом он привел Густава в чувство.
Успех симфонии у публики был грандиозный. По окончании концерта композитора вызывали шесть раз, его одарили овациями даже оркестранты. При этом рецензии традиционно оставались в диапазоне от прохладцы до резкого неприятия. Состоявшаяся через полгода венская премьера встретила такую же реакцию: и восторженное одобрение, и громкое выражение неудовольствия. Большинство венских критиков растоптали произведение. В партитуру Малер включил оригинальный инструмент — «коровьи», или «альпийские», колокольчики, чем вызвал насмешки некоторых из них. Этот инструмент представлял собой специально сконструированный набор колокольчиков без язычка, по которым нужно было ударять специальной палочкой. Впоследствии этот набор сопровождал Густава на всех постановках Шестой симфонии, но бывало, композитор брал с собой на постановку первого трубача Венской оперы, чтобы невероятно трудные пассажи прозвучали «с гарантией» — так, как задумывались.
Во время летнего отпуска Малер намеревался восполнить утраченные силы и накопить творческую энергию, столь необходимую для сочинения. Но в первый же день отдыха им овладел дух творчества, который, как писал композитор, «погонял меня в течение следующих восьми недель, пока самое крупное мое произведение не было готово». К августу работа над Восьмой симфонией была завершена, хотя еще не прозвучала Седьмая. Это произведение знаменовало открытие нового периода творчества композитора, который в музыковедении принято относить к позднему. В истории музыки это сочинение получило негласное название «Симфония тысячи» по количеству исполнителей, стоявших на сцене. Малер с восторгом писал Менгельбергу: «Это самое значительное из всего, что я до сих пор написал. Сочинение настолько своеобразно по содержанию и форме, что о нем невозможно даже рассказать в письме. Представьте себе, что вселенная начинает звучать и звенеть. Поют уже не человеческие голоса, а кружащиеся солнца и планеты». Идея произведения, мастерски реализованная в музыке, состоит в искуплении вины силой любви. Малер создал полноценное хоровое симфоническое полотно, соединив жанры симфонии и кантаты. Первая из ее двух частей основана на христианском гимне Пятидесятницы IX века, а вторая — на тексте из заключительной сцены «Фауста» Гёте. Примечательно, что, несмотря на громадный состав исполнителей, композитор редко использует всю мощь звучания, сочетая тембры хора с группами инструментов, благодаря чему образуется особая камерная прозрачность звука.
Малер продолжал покровительствовать Шёнбергу. 5 февраля 1907 года впервые в Вене прозвучал Первый струнный квартет малеровского протеже. На слушателя, пытавшегося освистать сочинение, Густав накинулся так, что дело дошло до рукоприкладства. На следующий день Малер писал Штраусу: «Вчера я слышал новый квартет Шёнберга и нашел его столь глубоким и впечатляющим, что я не могу его описать в письме, самым решительным образом рекомендую его для фестиваля в Дрездене». Днем позже в зале «Musikverein» впервые исполнялась Камерная симфония Шёнберга. На концерте конфликт сторон приобрел еще большие масштабы. В середине исполнения противники новой музыки начали шуметь и двигать стульями. Густав, находившийся в зале, стал кричать на них, дабы не допустить срыв вечера. В конце концов половина публики во главе с Малером рукоплескала сочинению, другая же половина его освистала. Согласно другой версии, при исполнении произведения между его сторонниками и противниками произошла драка, в которой оказался замешан директор Придворной оперы, и только при помощи полиции удалось утихомирить аудиторию.
Примечательно, что, отстаивая сочинения своего друга, Густав, даже не разбираясь в тонкостях, видел в этой музыке будущее искусства. Позднее Альма рассказывала, что по дороге домой после того вечера муж ей признался: «Я не понимаю его музыку, но он молод; возможно, он прав. Я старый, может быть, я больше не имею возможности слышать его музыку».
Из ситуации с противоборством приверженцев современного и традиционного чуть позже был найден оригинальный выход. К 1913 году в Вене построили специальный зал «Konzerthaus», предназначенный в большей степени для нового искусства, а роскошный «Musikverein» оставался верен образцам классической музыки, музыки прошлого.
1907 год стал переломным в жизни композитора. Уже в первые дни января с небывалой силой началась антималеровская кампания, направленная на скорейшее снятие его с должности. В вину Малеру помимо традиционного «подрыва священных принципов искусства» ставились излишне дорогие постановки, фаворитизм, а также частое отсутствие на рабочем месте из-за постоянных дирижерских поездок по другим городам, из-за чего якобы страдал художественный уровень спектаклей. Густав, ставший популярным композитором и желавший лично устанавливать правила исполнения собственных сочинений, по большому счету все эти надуманные обвинения мог бы проигнорировать, если б к ним не прислушивалось руководство.
Князь Альфред Монтенуово, все десять лет совместной работы отстаивавший реноме директора, в вопросе дороговизны постановок, больше касающемся деятельности Роллера, принял сторону оппозиции. Особо важные персоны, всегда настороженно относившиеся к Малеру из-за его излишней самостоятельности, также не вступились за директора. К тому же на неблагоприятную ситуацию сильно влияли подковерные интриги.
Известно, что с 1885 года любовницей императора Франца Иосифа являлась актриса Катарина Шратт, причем их отношения особо не скрывались. Жила она в подаренных самодержцем апартаментах дворца «Konigswarter», стоявшего на Рингштрассе напротив здания оперного театра. Высшая знать не чуралась подобных мезальянсов, и некоторые певицы и балерины охотно шли на тайные деликатные союзы. Фаворитка императора увлекалась азартными играми и любила жить на широкую ногу. Франц Иосиф постоянно погашал ее карточные долги. Иногда в обществе императора и его любовницы в карты играл ее большой друг, тенор, отправленный Малером на пенсию по возрасту. Так что истинные причины нападок на директора Придворной оперы оказались куда прозаичнее: личная неприязнь тех, кто был на него обижен.
Хотя тираническая строгость Густава и его фанатичная преданность искусству позволили поднять Венскую оперу на высокий уровень, те же самые качества в конечном итоге стали причиной его вынужденного ухода из театра. Однажды Малер получил указание от Франца Иосифа восстановить в должности того самого тенора. Поняв, что дальнейшая его работа на посту директора будет сопровождаться постоянными ультиматумами такого рода, и рассудив, что всему рано или поздно приходит конец, композитор подал в отставку. «Всё имеет свой срок, и мое время прошло, закончилась и моя работа в качестве директора здешней оперы. Что касается Вены, я уже не являюсь для нее “чем-то новеньким”. И я предпочитаю уйти именно сейчас, ибо пока еще можно надеяться, что когда-нибудь позже венцы осознают масштаб сделанного мной для их театра», — признавался Малер.
Заявление об отставке, поданное 31 марта, еще долго лежало в канцелярии неподписанным. Придворная опера оказалась в сложной ситуации, и Монтенуово даже просил бывшего директора пересмотреть свое решение. Тем не менее обратного пути Малер не видел, хотя и согласился поработать до конца года, пока не найдется для него замена. Давние друзья композитора, в частности Гвидо Адлер, не первый раз наблюдавшие малеровские «баталии» с руководством, с сожалением узнали, что нынешний его уход из театра был «в никуда». Но они не знали главного: 47-летний Малер жаждал больше чем когда-либо полного освобождения от театральных обязанностей, ставших ему совершенно ненавистными. Густав был готов покинуть Австрию или даже Европу, чтобы предпринять последнюю попытку одержать мировую победу. У него уже не оставалось здоровья для изнурительного труда, и он планировал через три года, когда ему будет пятьдесят, окончательно забросить дирижерскую работу и посвятить себя любимой композиции и нескольким ученикам.
Как только начали распространяться слухи о скорой отставке Малера, ему сразу стали поступать весьма заманчивые предложения. Но из-за сильной усталости он их даже не рассматривал, а избрал самый привлекательный для себя вариант — «облегченное» директорство в Нью-Йорке. В рамках переговоров с директором Метрополитен-оперы Генрихом Конрайдом стороны быстро договорились о трех месяцах работы на ближайшую зиму с огромным гонораром — 20 тысяч долларов, что было чуть больше девяноста тысяч марок. И уже с нового сезона Густав по несколько месяцев трудился в Нью-Йорке в течение следующих четырех лет.
Пятого июня газета «Neues Wiener Tagblatt» опубликовала интервью «Разговор с Густавом Малером», где он рассказал о своей работе директором Венской оперы: «Приходится давать спектакли каждый день. Это значит, что директор должен решить, согласен ли он поступиться всеми своими высшими художественными целями и заклеймить руководимый им театр печатью коммерческого предприятия. Я сложил с себя должность, когда понял, что она несовместима с моею совестью художника. Может быть, и другие обстоятельства сыграли свою роль, ускорив мое решение». В тот же день, когда вышла газета, Малер подписал договор с Метрополитен-оперой (по другим сведениям, это произошло 21 июня).
Однако не следует считать, что основанием для такого решения послужили меркантильные соображения. Позднее в письме Адлеру Густав объяснил свой поступок: «Неужели ты в самом деле думаешь, что человек, привыкший работать, как я, может долго оставаться “пенсионером” и чувствовать себя хорошо? Мне нужно применять на практике мои музыкальные способности, чтобы создать противовес неслыханным внутренним переворотам, сопровождающим творчество… для меня явилось желанным выходом то, что Америка предложила мне не только деятельность, соответствующую моим склонностям и способностям, но и щедрую плату за нее».
Летом семью композитора потрясло страшное горе. Проведя июнь у любимого озера Вёртер-Зе, Малеры в конце месяца вернулись в Вену, где через несколько дней обе дочери Густава и Альмы тяжело заболели. И если младшая, Анна Юстина, смогла-таки выкарабкаться, то для старшей скарлатина и дифтерия с последовавшими осложнениями оказались фатальными. 12 июля Мария Анна ушла из жизни. Композитор был опустошен. Привыкший к детским смертям братьев и сестер, горевавший, но всё же отстраненно наблюдавший печаль своих родителей, Густав ощутил теперь на себе всю боль от утраты собственного ребенка.
Эта трагедия осложнила и без того непростые отношения супругов. Альма не могла простить мужу страшный вокальный цикл, да и он сам признавался друзьям: «Под агонией страха я написал “Песни об умерших детях”, и этому суждено было произойти». Теперь композитор хотел как можно дальше бежать из Европы, чувствуя, что вместе с дочерью умерла и часть его самого. Все заботы родителей сконцентрировались на младшей — Анне Юстине, хотя смерть маленькой Марии Анны звучала мрачным лейтмотивом все оставшиеся годы жизни Густава.
Через два дня после смерти дочери произошло еще одно пугающее событие. Альма почувствовала боль в сердце, и домашний доктор Блюменталь, вызванный к ней, заодно осмотрел Густава и обнаружил у него порок сердца. Врач посоветовал не медлить и срочно обратиться к специалисту, венскому профессору Ковачу, который подтвердил подозрения Блюменталя. Жизнь рушилась на глазах, о многих планах можно было забыть.
Чтобы отвлечься от скорби и бесконечных переживаний, Малеры, не желавшие возвращаться на Вёртер-Зе, где всё им напоминало о дочери, остаток лета провели в южном Тироле, климат которого способствовал улучшению здоровья композитора. В самые трудные дни Густав делал первые наброски нового сочинения «Песнь о земле», а также читал китайских поэтов, тексты которых легли в основу этого произведения. 20 августа Венская опера официально объявила о назначении новым директором Феликса Вейнгартнера, старого знакомого Малера. 5 октября императорским указом Малер был освобожден от обязанностей в театре, получил немалые «отходные» в 20 тысяч марок и ежегодную пенсию в 14 тысяч. Более того, в случае его смерти Альма имела право на пособие для вдовы члена тайного совета. Отставка вступала в силу 1 декабря.
Пятнадцатого октября Малер в последний раз дирижировал в Венской опере. Произведением, звучавшим под его прощальным управлением, стало «Фиделио» Бетховена. Слушатели в зале понимали, что в этот вечер заканчивается целая историческая эпоха Венской оперы, длившаяся десять лет. За это время в театре состоялось более трех тысяч представлений, из которых 645 прошли под личным управлением Малера. Он руководил постановками более чем ста опер, больше трети которых ранее никогда не ставились в театре. Еще 55 опер, шедших в театре, Густав либо полностью, либо частично осовременил.
Время Малера в Вене — это без преувеличения один из величайших периодов в истории этого города. «Малер был абсолютным монархом, державшим в своем плену всю музыкальную Вену. С его несравненной, бесстрашной энергией ему удалось в рекордно короткие сроки восстановить не только весь театр, но и венскую публику» — такую характеристику Густаву дал виолончелист оперного оркестра Франц Шмидт, позднее ставший композитором и педагогом.
Согласно легенде, после ухода Малера в одном из ящиков стола его кабинета служащие обнаружили забытые им ордена и медали, полученные от императора за годы работы в Вене. Когда Густаву сообщили об этом, он ответил: «Я оставил их новому директору».
Девятнадцатого октября Малер покинул Вену, чтобы дать три концерта в Санкт-Петербурге, а 29-го числа прибыл в Хельсинки для единственного выступления и познакомился там с Яном Сибелиусом. Финский композитор, воодушевленный приездом мировой знаменитости, посетил Малера в его отеле. Чисто по-человечески они понравились друг другу, но при всем уважении Сибелиус не испытывал восторга от музыки коллеги, который в этом вопросе отвечал ему взаимностью. Позднее Сибелиус говорил: «Как личность Малер был чрезвычайно скромным и необыкновенно интересным человеком. Я восхищался… эстетическим величием его человеческой и творческой ипостасей». Густав же после их встречи писал, что не имеет времени «для этого национализма», называя при этом своего коллегу очень приятным человеком. Очевидно, в разговоре Сибелиус, будучи рьяным сторонником сепаратизма, затрагивал вопрос о независимости Финляндии от России. При этом из фразы Малера можно сделать совершенно разные выводы, вплоть до попытки финского композитора, являвшегося одним из основателей масонской ложи «Суоми», «завербовать» Густава.
Вернувшись в Вену 24 ноября, Малер участвовал под эгидой Общества друзей музыки в прощальном концерте. На нем прозвучала «Симфония Воскресения». Успех был грандиозным, благодарные слушатели 30 раз вызывали автора на сцену. Композитор растрогался до слез.
На следующий день на доске объявлений оперного театра появилось прощальное письмо Малера, адресованное бывшим коллегам. В нем экс-директор выразил сожаление, что смог осуществить лишь немногие из своих мечтаний. Хотя, по правде говоря, этого «немногого» хватило, чтобы кардинально перестроить представления о музыкальном театре в XX веке. С окончанием триумфального десятилетия собственной власти в Вене Малер еще раз убедился в безнадежности своей мечты об идеальной оперной сцене. Провисев один день, прощальное письмо было сорвано и уничтожено кем-то из ненавистников Густава. Но время его правления в Венской опере осталось в истории навсегда. После него мировая опера уже не могла быть такой, какой она являлась до его прихода на эту должность. Благодарная память о Малере навсегда сохранилась в Императорском театре и в душах истинных любителей музыки.
НА ДВА СВЕТА
Девятого декабря 1907 года композитор с женой и дочерью покинули столицу империи. Ранним утром проводить маэстро на венском вокзале собрались 200 человек, среди которых были Вальтер, Роллер, Цемлинский, Шёнберг и др. Организацией проводов занимался Антон фон Веберн. Прибыв через три дня во французский Шербур, Малеры сели на корабль «Императрица Августа Виктория» и направились в Новый Свет.
Густав еще не ощущал атакующих приступов стенокардии, но первого переезда через Атлантику сильно боялся. Помимо обычных мигреней его страшили головокружения, от которых на качающемся на волнах судне было сложно избавиться. Но морская болезнь его миновала, и путешествие оказалось не таким страшным. 21 декабря корабль причалил к берегу Америки. Семья поселилась в люксе нью-йоркского отеля «Majestic», в котором для композитора специально установили два рояля.
Приезду Малера предшествовал особый ажиотаж прессы, сделавший из этого события сенсацию, а первая опера, исполненная под его управлением в Метрополитен-опере 1 января 1908 года, стала настоящим триумфом. Нью-йоркским дебютом стала излюбленная драма «Тристан и Изольда».
Свободолюбивая и независимая Америка со своим ритмом жизни, футуристическими небоскребами и внутренней свободой, исходившей от ньюйоркцев, не могла не понравиться и вызывала у композитора самые теплые чувства. Можно без преувеличения сказать, что здесь он себя ощущал как дома. Густав обожал метро, любил прогуливаться по центральным улицам, наконец-то пригодился английский язык, который он учил еще в Гамбурге.
Спустя некоторое время новый руководитель вошел в курс дел Метрополитен-оперы. Мет — так лаконично главную оперу США называют и по сей день — переживал не лучшие времена, несмотря на то что в театре в то время работали великие певцы Федор Шаляпин и Энрико Карузо. Директор Конрайд обладал слабым здоровьем и потому не мог полноценно руководить оперой. Кроме того, организованная продюсером Оскаром Хаммерстайном Манхэттенская опера серьезно конкурировала с Мет. Более того, новая труппа начинала его превосходить. Дошло до того, что для противостояния Хаммерстайну Конрайд создал второй оркестр, дабы давать спектакли одновременно в разных городах.
Собственно, конкуренция стала главной причиной приглашения Малера в Америку: только он с его колоссальным талантом и авторитетом мог исправить ситуацию. Но здоровье Густава было немногим лучше, чем у директора, однако сил для «последней схватки», чтобы вернуть Метрополитен-опере утраченный престиж, еще хватало. Финансист Отто Герман Кан, оказывавший меценатскую помощь театру, вел параллельные переговоры о замене самого Конрайда директором Ла Скала Джулио Гатти-Казацца.
В целом некоторая музыкальная отсталость Нового Света способствовала тому, что Малер нашел для себя огромное поле деятельности. Бывший директор Венской Придворной оперы воспринимался в Америке как существо с другой планеты, поэтому Густав за недолгое время, проведенное в Нью-Йорке, нашел огромное количество приверженцев, готовых помочь ему в воплощении своих перфекционистских идей, ставших к тому времени знаменитыми. Он старался не усердствовать в работе, помня о больном сердце, да и вообще после семейной трагедии находился в подавленном состоянии.
Но Малер не был бы Малером, если бы позволил пустить дело на самотек. Поэтому, несмотря на его отказ принять от Конрайда штурвал правления театром, музыкальная жизнь Метрополитен-оперы стала быстро налаживаться. За «Тристаном» последовали «Дон Жуан», «Валькирия», «Зигфрид». При постановке «Фиделио» Малер использовал копии декораций Роллера.
В начале весны Густаву предложили участвовать в нескольких концертах с оркестром Нью-Йоркской филармонии, и он, изголодавшийся по симфоническому дирижированию, тотчас согласился. 14 апреля газета «The New York Times» сообщила, что Малер проведет несколько концертов в Нью-Йоркском симфоническом обществе в будущем сезоне. На следующий же день собрался неофициальный комитет этого общества для организации выступлений в Карнеги-холле. Цель симфонических вечеров была проста: собрать средства на восстановление филармонии. Быстро нашлись импресарио, начавшие заниматься предстоящими мероприятиями.
Двадцать третьего апреля Густав с семьей отплыл на «Императрице Августе Виктории» в Европу. 2 мая Малеры прибыли в Гамбург. Обследовавшись у врачей, композитор с горечью узнал, что если тотчас не откажется от своей кипучей деятельности в пользу отдыха с полным расслаблением, его сердце может не выдержать. Испугавшись, он сильно переменился и стал предельно осторожным. Опасаясь перегрузки, постоянно измерял пульс, передвигался степенно, избегая лишних телодвижений. Отменил многие поездки. Альма позднее вспоминала: «С тех пор, как мы узнали, что у него порок сердечного клапана, мы начали опасаться всего на свете. На прогулках он каждую минуту останавливался и щупал пульс. Часто он просил меня послушать его сердце и определить, что оно работает нормально, ускоренно или замедленно. Раньше я часто умоляла его отказаться от продолжительных катаний на велосипеде, не забираться в горы и не плавать под водой, куда его так страстно тянуло. Теперь ничего этого уже не было. Он носил в кармане шагомер, считал шаги и удары пульса, его жизнь превратилась в пытку». Малер, отличавшийся тщательностью в работе, стал не менее скрупулезно соблюдать предписанный ему режим. Отныне композитор, отправляясь в поездку по Европе один, с каждой станции телеграфировал жене о своем самочувствии.
Для традиционного летнего отдыха Альма подыскала новую летнюю дачу на ферме в Тоблахе — курортном городке южного Тироля, где Густаву быстро сколотили очередную хижину для сочинений, и там он провел три летних сезона. Оттуда писал своему другу Вальтеру, который, по словам Малера, понимал его, как никто другой: «На этот раз мне приходится менять не только место, но и весь мой образ жизни. Можете себе представить, как тяжело для меня последнее. За много лет я привык к непрестанному энергичному движению. Я привык бродить по горам и лесам и приносить оттуда мои наброски, как своего рода добычу. К письменному столу я подходил так, как крестьянин входит в амбар: мне нужно было только оформлять мои эскизы. Даже дурное настроение и хандра отступают после хорошей ходьбы (преимущественно по горам). А теперь я должен избегать всякого напряжения, постоянно проверять себя, не ходить много. И в то же время здесь в одиночестве я становлюсь внимательным к тому, что творится у меня внутри, и отчетливее ощущаю все неполадки в моем организме. Может быть, я гляжу на всё слишком мрачно, но, едва попав в деревню, я стал чувствовать себя хуже, чем в городе, где можно было отвлечься и многого не замечать. Итак, могу сообщить Вам мало утешительного; впервые в жизни я хочу, чтобы каникулы скорее кончились… Я могу только работать: делать что-нибудь другое я с годами разучился. Я — как морфинист или пьяница, которому вдруг сразу запретили предаваться его пороку. Мне остается теперь единственная добродетель — терпение, и я всё время упражняюсь в ней».
Тем не менее в тот летний сезон композитор полностью завершил партитуру симфонии-кантаты «Песнь о земле». По сути она является симфонией в форме вокального цикла, или вокальной симфонией, что фактически говорит о создании им нового жанра. Осознав близость смерти, Малер заново открыл для себя в музыке мир природы, простых радостей и жизненного счастья. Произведение вкратце можно охарактеризовать как созерцательное. В нем автор, находившийся в меланхолической депрессии, размышляет о своем прощании с миром. «Песнь о земле» обращается ко всему человечеству.
Тот факт, что композитор не назвал эту работу Девятой симфонией, хотя по всем законам жанра сочинение вписывается в симфоническую логику, наводит многих исследователей на мысль о некотором суеверии автора, распространенном у творческих личностей. Первым о малеровском страхе перед Девятой сказал еще Шёнберг. В истории музыки многие композиторы-симфонисты так и не смогли перешагнуть через эту роковую цифру. И Бетховен, и Шуберт, и Дворжак, и Брукнер так и не написали своих Десятых. Хотя Малер впоследствии создал Девятую, «Песнь о земле» рассматривается некоторыми музыковедами как его прощание с миром. Причем Девятая симфония начинается с той точки, на которой оканчивается «Песнь о земле».
После завершения основных разделов произведения настроение у Малера улучшилось, письма перестали сквозить пессимизмом. На премьере Седьмой симфонии, состоявшейся 19 сентября в юбилейном выставочном зале в Праге, Густав встретил старых товарищей — Альбана Берга, Отто Клемперера, Артура Боданцки, что вызвало в нем особый внутренний подъем. Концерт оказался успешным, но сочинение было воспринято излишне спокойно.
К этому времени пришли новости из-за Атлантики. Генрих Конрайд по состоянию здоровья покинул Мет, вместо него руководителем театра стал Гатти-Казацца, который пригласил вторым дирижером набиравшего популярность Артуро Тосканини. Дирекция Метрополитен-оперы, зная властный характер Густава, опасалась возможной конфронтации между двумя дирижерами, но Тосканини прямо заявил, что согласен с ведущим положением Малера. Более того, он сообщил следующее: «Я отношусь к Малеру с огромным уважением, и для меня неизмеримо лучше иметь именно такого коллегу, чем какую-нибудь посредственность». Работая впоследствии рука об руку с «титаном», Тосканини прошел целую школу дирижерского исполнительства. Можно без преувеличения сказать, что как дирижер он состоялся во многом благодаря Малеру.
Но начались их отношения с конфликта, что не на шутку напугало дирекцию Мет. Осенью, когда Густав еще находился в Европе, Тосканини попросил разрешения открыть сезон «малеровским» «Тристаном». На это Густав в письме помощнику директора ответил категорическим отказом: «Для меня немыслимо, чтобы новую постановку “Тристана” осуществляли, даже не посоветовавшись со мной, и я не могу с этим согласиться… Я очень много сил вложил в постановку “Тристана” в прошлом сезоне и вполне могу считать, что то, как это произведение теперь исполняется в Нью-Йорке, — моя интеллектуальная собственность». В итоге 16 ноября Тосканини дирижировал вердиевской «Аидой».
Двадцать первого ноября Густав, Альма, их дочь и гувернантка прибыли в Америку вторично, где Малер начал готовиться к концертам с Нью-Йоркским симфоническим оркестром. В том сезоне он осуществил постановки «Свадьбы Фигаро» Моцарта и «Проданной невесты» Сме́таны. Опера «Тристан и Изольда», ставшая своего рода «визитной карточкой» малеровского пребывания в Метрополитен-опере, не имела себе равных. Но после одного спектакля Густав отказался дирижировать «Тристаном».
Концерты с симфоническим оркестром произвели фурор, и 16 февраля 1909 года газета «New York Sun» сообщила: благодаря Малеру, привлеченному в качестве дирижера, три концерта принесли достаточные средства, чтобы возродить Нью-Йоркское филармоническое общество.
Несмотря на грандиозный успех, Густава огорчала ситуация, сложившаяся в коллективе: музыканты игнорировали репетиции, проявляя всяческое безразличие. Причина оказалась проста: лучшие профессионалы, востребованные в обоих оркестрах Метрополитен-оперы и оркестре Манхэттенского театра, не хотели оставаться с терпящим бедствие филармоническим обществом. При этом те, кто остался, организовали систему самоуправления, подобную той, что успешно работала в Вене, и предложили Малеру возглавить коллектив, сменив тогдашнего руководителя, русского дирижера Василия Сафонова. Густава соблазнила эта идея, и он, всегда отдававший симфонической музыке предпочтение в сравнении с оперной, недолго думая, согласился. На двух концертах, организованных теперь уже при официальном участии нового дирижера, первый из которых состоялся 31 марта в Карнеги-холле, больной гриппом Малер смог продемонстрировать всем присутствующим, что оркестр Нью-Йоркской филармонии начал возрождаться. Хотя, конечно, требования Густава были куда выше возможностей музыкантов.
С наступлением зимы композитор вновь начал изобретать разнообразные идеи и строить планы. К нему возвращались энергия и дух. Изменилось всё, даже тон его писем. Вальтеру он писал: «Я теперь жажду жизни больше, чем когда бы то ни было, и нахожу “привычки бытия” слаще, чем когда бы то ни было».
Десятого апреля семья покинула Америку, и спустя две недели Малер уже прогуливался по весеннему Парижу. Там он познакомился с Огюстом Роденом и в течение мая несколько раз приходил к нему, чтобы позировать для бюста, который скульптор изготавливал по заказу композитора. Впоследствии Роден сделал несколько образов Малера, главный из которых по сей день украшает фойе Венской Придворной оперы. Скульптура «Моцарт. Портрет композитора Малера» стала объектом массовой культуры и свободно тиражируется. Одним из роденовских ликов композитора может похвастать и Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
Из-за того что последние годы совместной жизни дались обоим супругам особенно тяжело, грядущее лето Малеры решили провести отдельно друг от друга. Отношения Густава с женой рушились, а тревожная атмосфера в доме явно не способствовала их сближению. Расшатанные нервы Альмы были на пределе, она часто упрекала мужа в том, что он требует от нее слишком больших жертв, что перестал обращать на нее внимание как на привлекательную женщину. К проблемам Альмы прибавилась страсть к алкоголю.
Густав, напротив, чувствовал себя неплохо, казалось, болезнь отступала. В Тоблахе он приступил к сочинению Девятой симфонии. Альма же отправилась на север Италии на озеро Левико, где располагался термальный курорт.
Новая симфония была готова к осени. Сочинение представляло собой величественную картину, облаченную в четырехчастный инструментальный цикл. Леонард Бернстайн трактует его как произведение, в котором композитор четыре раза прощается с миром. К примеру, помимо характерных прощальных интонаций, которыми пронизана музыка произведения, Малер использует два синкопированных ритмических сбоя, символизирующих перебои сердечного ритма. Впоследствии Альбан Берг писал о симфонии: «Как-то я вновь проиграл Девятую Малера: первая часть — лучшее, что написал Малер. Это выражение неслыханной любви к земле, страстное желание жить на ней в мире, еще и еще раз до глубочайшей глубины насладиться ею, природой — пока не придет смерть. Ибо она неудержимо приближается». Премьера симфонии, как и «Песни о земле», состоялась уже после смерти композитора.
В сентябре Густав прибыл в дорогой ему Амстердам, где с оркестром Консертгебау исполнил свою Седьмую симфонию. От долгожданной встречи с Менгельбергом Малер испытал огромное удовольствие. А 13 октября композитор с семьей и в сопровождении гувернантки находился на борту океанского лайнера «Кайзер Вильгельм II» и строил планы на ближайший американский сезон. Вместе с ними на борту находился австрийский скрипач и композитор Фриц Крейслер, которого Густав специально пригласил для совместных выступлений.
К возвращению Малера в Нью-Йорк вовсю шла реконструкция оркестра филармонии и подготовка к открытию шестьдесят восьмого сезона. В коллективе произошли серьезные изменения: сократилась излишне большая группа струнных, усилились деревянные духовые, сформировалась система абонементов, планировались гастрольные поездки. За время короткого руководства Густава оркестр исполнил огромное количество разнообразных сочинений композиторов-классиков и современных авторов. На афишах не раз появлялись имена Моцарта, Бетховена, Берлиоза, Вагнера, Лало, Брукнера, Брамса, Бизе, Чайковского, Шабрие, Массне, Элгара, Стэнфорда, Дебюсси, Р. Штрауса, Дюка, Пфицнера, а также американцев Чедвика, Мак-Доуэлла и Лефлера.
Наиболее значительными событиями музыкальной жизни в тот сезон стали исполнения Фрицем Крейслером скрипичных концертов Брамса и Бетховена. Первый фортепианный концерт Чайковского прозвучал с Иосифом Левиным. В январе 1910 года Ферруччо Бузони солировал в Пятом фортепианном концерте Бетховена. А вскоре состоялся памятный вечер в Карнеги-холле, на котором Сергей Рахманинов исполнил свой Концерт для фортепиано с оркестром № 3. Русский композитор отзывался о Густаве весьма лестно: «Он отдавал всего себя, чтобы довести довольно сложный аккомпанемент в концерте до совершенства, хотя был совершенно измучен после другой продолжительной репетиции. У Малера каждая деталь партитуры оказывается важной, что так редко бывает среди дирижеров».
Взаимоотношения Густава с оркестром, как и в Европе, не были ровными. При этом уважение и трепет, испытываемые музыкантами перед маэстро, не знали границ. Ненавидеть его могли лишь бездарности, которых он не щадил. Раздраженная атмосфера репетиций, сознательно создаваемая Густавом, была, по его мнению, абсолютно необходимой для нормальной работы.
Со временем положение Малера в Нью-Йоркской филармонии становилось всё менее комфортным. Комитет филармонического общества перестал выполнять обещания держать репертуарную политику в руках главного дирижера и начал назойливо лезть в управление художественными процессами, в которых глава комитета госпожа Шелдон толком ничего не понимала. Однако, несмотря на небезоблачные отношения с руководством, сезон оказался для филармонии очень успешным. Имидж оркестра в глазах слушателей кардинально улучшился, можно без сомнения утверждать, что за один сезон Малер сумел полностью восстановить доброе имя коллектива.
Как и в Вене, в Нью-Йорке вскоре начали появляться критические статьи, и этот год, когда Густав осуществил наибольшее количество своих выдающихся интерпретаций, стал, пожалуй, самым скандальным у американской прессы. Знаменитый критик Генри Эдуард Кребиль из «New York Tribune» категорически возражал против малеровских трактовок Бетховена, а по поводу его композиторского творчества был особенно груб, называя Густава «пророком безобразного». В ответ возмущенный композитор запретил критику давать комментарии к его симфониям.
Созданная три года назад «Симфония тысячи» из-за колоссального состава участников сразу же приковала внимание знавших о ее существовании друзей и знакомых Малера. Но лишь к началу 1910 года импресарио Эмиль Гутман смог упросить композитора разрешить ее премьеру. Подбор солистов и хоров, а также длинная серия хоровых репетиций начались еще весной. Густав, состоявший с Гутманом и Вальтером в переписке, был в курсе этой подготовки, однако из-за некоторых почти непреодолимых организационных трудностей убеждал импресарио, что симфония провалится, и просил всё отменить. Тем не менее Гутман упорно сопротивлялся и в итоге отстоял премьеру. Именно он для увеличения количества проданных билетов в качестве маркетингового хода дал произведению название «Симфония для тысячи исполнителей», хотя оно Малеру и не нравилось. Это громкое имя крепко приросло к сочинению.
Двадцать первого марта состоялся знаменательный вечер. Густав в последний раз дирижировал в Мет. Завершала его карьеру оперного дирижера любимая им еще с Вены «Пиковая дама» Чайковского. Волею судеб случилось, что именно эта последняя трагедийная опера русского композитора оказалась последней в жизни Малера. В следующем сезоне он стал выступать исключительно как симфонический дирижер.
Благодаря дирижерскому и менеджерскому талантам Густав в тандеме с директором Метрополитен-оперы Гатти-Казацца за три года смог окончательно победить конкурента. Манхэттенская опера капитулировала, хотя и осталась в плюсе: Мет заплатил Хаммерстайну больше миллиона долларов за приостановку оперной деятельности на десять лет. Хаммерстайн с удовольствием принял предложение и стал экспериментировать с другими музыкальными жанрами, а позднее вышел из бизнеса, продав здание.
Пятого апреля Малеры отправились по знакомому маршруту в Шербур и прибыли туда через неделю, а уже 17-го числа Густав дирижировал в Париже своей Второй симфонией. Организатор концерта Габриель Пьерне устроил в честь Малера прием, на который пригласил французских композиторов Габриеля Форе, Клода Дебюсси и Поля Дюка. Позднее во время исполнения симфонии Дебюсси, Пьерне и Дюка покинули зал, поскольку они сочли музыку чересчур шубертовской, венской и славянской. Их поведение, разумеется, обидело Густава и, несмотря на общий успех, оставило неприятный осадок.
Далее последовала концертная поездка в Рим, где Малер, предупрежденный Менгельбергом, не понаслышке знавшим о лености местных оркестрантов, пытался не давать им спуску, со словарем в руках отчитывая их за праздность. Взбунтовавшиеся в ответ итальянцы сорвали исполнение, и 3 мая Густав с Альмой вернулись в Вену, где обнаружили во всех газетах, мягко говоря, недостоверное описание случившегося.
Расползавшийся брак в очередной раз разъединил супругов на всё лето. Малеру надоели постоянные ссоры, а супруга, недовольная безразличием мужа и его эгоцентризмом, не могла больше это терпеть. Альма, здоровье которой вновь пошатнулось, отправилась на австрийский курорт Тобельбад, специализировавшийся на женских недугах. Никакие медицинские процедуры, прописанные ей, не могли избавить фрау Малер от нервного напряжения, в котором она постоянно пребывала. Однако доктор нашел к пациентке оригинальный подход, порекомендовав ей танцы и познакомив с приятным молодым человеком, внучатым племянником известного архитектора Мартина Гропиуса Вальтером. Этот беззаботный паренек, хвастливо рассказывавший, что проектирует обои, серийную мебель, автокузова и даже тепловоз, произвел впечатление на уставшую от семейных неурядиц Альму. Ей особенно импонировало, что он «вполне сгодился бы на роль Вальтера фон Штольцинга» — молодого рыцаря из «Нюрнбергских мейстерзингеров». Очевидно, себе она отводила роль Евы Погнер, с которой этого персонажа из вагнеровской оперы связывало любовное чувство. Между ними пробежала искра, и Альма, будучи почти на четыре года старше Гропиуса, влюбилась в молодого архитектора и дизайнера. В течение следующих трех-четырех недель они виделись каждый день. Для возвращения к жизни Альма не нашла более действенного средства, чем записать в своем дневнике, что «дорожила бы дружбой с Гропиусом», и покинула Тобельбад.
Со вскруженной от курортного романа головой она вернулась к мужу. Композитор, не подозревавший об измене жены, безмятежно сочинял в Тоблахе. 29 июля Густаву было доставлено письмо, предназначенное Альме. Гропиус ошибся и вместо «фрау Малер» написал «герру Малеру», хотя такая опечатка вряд ли была случайной. Прочитав совершенно интимные мысли молодого человека, адресованные собственной жене, Густав незамедлительно вызвал супругу на разговор. Весь август композитор безумно страдал. При этом, очевидно, единственным письмом Вальтер Гропиус не ограничился: биограф Альмы Сьюзен Кигэн сообщает о продолжении любовной истории, когда от страстного Вальтера потоком текли письма и телеграммы, ежедневно раздавались телефонные звонки, а однажды в Тоблах заявился сам виновник конфликта. Однако при Густаве Альма категорично отказала во взаимности пылкому юноше. По другим сведениям, Малер сам пригласил Гропиуса для разговора и потребовал от жены выбрать, с кем она хочет остаться.
Также известно, что в семейный раздор вмешалась мать Альмы, выступившая миротворцем в улаживании отношений. После появления в Тоблахе Гропиус написал матери Альмы: «Я чувствую себя гораздо спокойнее и теперь могу вздохнуть с облегчением: моя собственная мать вряд ли отнеслась бы ко мне с большей добротой». Несомненно, фрау Молль поддерживала сторону дочери, делившейся с ней печалями своей жизни, и явно вела двойную игру. После выяснения отношений с Густавом Гропиус написал ему, что сожалеет о доставленных обоим супругам мучениях, и за связь с Альмой взял вину на себя. Композитор пришел к выводу, что с письмом Гропиуса эта история наконец завершилась. Во всяком случае, судьба его уберегла, не дав возможности убедиться в обратном.
Свое эмоциональное состояние Малер отразил в Десятой симфонии, которую в европейском музыковедении принято называть по-шубертовски «Неоконченной». Перспектива остаться без любимой жены так напугала чувствительного Густава, что он не мог спать, если дверь, соединявшая их спальни, оказывалась закрытой. Переживания композитора были столь сильны, что по ночам он часто стоял рядом с постелью Альмы и смотрел на нее спящую. Теперь Малер просил жену лично приходить в хижину, где он сочинял, и звать его на ужин. Впоследствии супруга вспоминала, что ее немало удивляли картины, наблюдаемые в том знаменитом домике: композитор часто лежал на полу, и из его глаз текли слезы. Объяснения, что «таким образом он был ближе к земле», вполне удовлетворяли ее, хотя звучали несколько странно.
Расстроенный разладом с женой, Густав обратился к отцу психоанализа знаменитому Зигмунду Фрейду, чтобы выяснить причины проблем их супружества. В пользе фрейдовского лечения Малера убедил Бруно Вальтер. В 1906 году молодой дирижер, страдавший нервными болями правой руки, мешавшими ему играть на фортепиано, брал пять или шесть сеансов у Фрейда и успешно вылечился от недуга. Их разговоры об аудиенции у доктора шли уже несколько лет. Еще в 1908 году Малер просил Вальтера поговорить с «доктором X» о возможности принять его вместе с женой. Также Фрейда рекомендовал дальний родственник Альмы, психоаналитик Непалек, к которому она, очевидно, обращалась за помощью. По разным причинам трижды отменявшийся прием наконец состоялся в Голландии, в самом конце августа. Примечательно, что это была единственная встреча Малера и Фрейда, при том что они практически одновременно учились, а потом жили и работали в Вене.
Прогулка, продолжавшаяся четыре часа, во время которой Густав поведал Фрейду немало подробностей своей жизни, раскрыла перед психоаналитиком полную картину невротического состояния знаменитого пациента. Их общение поначалу походило на монолог композитора, а доктор лишь изредка поддакивал ему и задавал вопросы. Позднее Фрейд время от времени стал сообщать Малеру то, что сумел выяснить из его речи.
Удивительно, но нерелигиозный Густав неосознанно существовал в рамках христианской традиции мышления. Второй человек, обожествляемый христианством после Иисуса, — это его мать Мария. Почитается она не столько за человеческую чистоту, сколько за мученичество. Малер всегда говорил, что самый важный для него человек — его мать, страдавшая от мужа-тирана, смерти детей, хромоногая и нескончаемо любимая, имя которой, как и у Богоматери, было Мария. Влюбленности Густава зачастую связывались с девушками, носящими то же имя, — Мария Фройнд, Марион Вебер, Мари Ренар и, разумеется, Альма Мария Шиндлер. Во всех своих женщинах композитор неосознанно искал черты собственной матери и сам, не желая того, делал их жизнь мученической, поскольку его подсознание требовало видеть их страдалицами. Авторитарность Малера имела генетические истоки, коренящиеся в деспотизме его отца Бернхарда. Собственно из-за того, что жена перестала казаться ему тем самым идеалом, в отношениях супругов и начались сексуальные проблемы.
Более того, Альма обожала своего отца пейзажиста Эмиля Якоба Шиндлера и искала в муже человека схожего типа: творческого, талантливого, авторитетного. Следует заметить, что художник по-немецки — «maler». Малер, видевший проблему в возрастной разнице с супругой, как раз обладал теми достоинствами, которые она искала в мужчинах. Супруги нуждались друг в друге, поскольку не столько они сами, сколько их неврозы идеально походили один на другой.
Фрейд, в который раз продемонстрировав свой талант, смог полностью успокоить и исцелить от депрессии композитора, одномоментно узревшего суть его метода. После той беседы Густав перестал доминировать в отношениях с женой, напротив, всячески стал потакать ее желаниям. У него нормализовалась потенция, однако когда Альма узнала некоторые пикантные подробности их разговора, ее возмущение не имело границ.
Позднее Фрейд рассказывал своему коллеге: «…после обеда в Лейдене я анализировал Малера. И, если можно верить рассказам, многого с ним достиг… Посредством интереснейших экскурсов в историю его жизни мы вскрыли его любовные установки… У меня был повод восхититься гениальной понятливостью этого человека».
Успокоенный Густав возвратился в Тоблах. Найдя старые произведения Альмы, он стал расхваливать ее композиторский талант, понимая, что зря запрещал жене заниматься сочинением. Этот эпизод Альма описывала так: возвратившись домой после прогулки с дочерью, «я окаменела. Мои бедные забытые песни, я десять лет таскала их за собой туда-сюда, на загородную виллу и обратно. Меня охватило чувство стыда и в то же время злости; но Малер встретил меня с таким сияющим лицом, что я не могла промолвить ни слова». Известно, что позже он даже успел их опубликовать. Как-то ночью композитор появился в спальне жены и спросил, не возражает ли она против посвящения ей Восьмой симфонии. Этот поступок для Густава был необыкновенным: он никогда и никому в жизни не посвящал своих сочинений.
К осени семейный быт Малеров наладился. Композитор, предупрежденный о готовности певцов и оркестра исполнить Восьмую симфонию под его авторским руководством, поспешил в Мюнхен, чтобы работать с сочинением, идея которого — искупление вины силой любви — парадоксально совпала с недавним личным событием. Альма же, под прикрытием своей матери, отправилась в Мюнхен позже, встретившись до этого с Гропиусом, о котором грезила целый месяц. Сьюзен Кигэн пишет: «После отъезда Гропиуса в Берлин Альма в письмах умоляла его последовать за ней в Мюнхен, чтобы они могли побыть хотя бы несколько мгновений наедине. Это уверило его во взаимности их любви, и он согласился». А Густав, которого в то время сразила лихорадка, сопровождавшаяся болезнью горла, лежал в мюнхенской гостинице и ничего не знал о похождениях жены.
После нескольких сводных репетиций под руководством автора 12 сентября состоялась долгожданная премьера Восьмой симфонии. Грандиозное сочинение для трех сопрано, двух альтов, тенора, баритона, баса, хора мальчиков, а также смешанного хора и оркестра на тексты Гёте и средневекового гимна «Veni Creator Spiritus» было исполнено в зале «Neue Musik Festhalle». Помимо восьми солистов и органа в выступлении участвовал пятерной состав оркестра из 170 человек и 850 хористов. В аудитории присутствовали Рихард Штраус, Бруно Вальтер, Виллем Менгельберг, Арнольд Берлинер, Камиль Сен-Санс, Зигфрид Вагнер, Антон Веберн, Альфредо Казелла, Поль Клемансо, Томас Манн, Стефан Цвейг, Артур Шницлер, Макс Рейнхгардт, а также молодой Леопольд Стоковский, который впоследствии дирижировал этим сочинением. Реакция слушателей оказалась не просто положительной. Пожалуй, тот концерт стал самым большим успехом и единственным безоговорочным триумфом при жизни композитора, а само сочинение для симфонизма XX века явилось столь же значимым, как для симфонизма XIX столетия — Девятая Бетховена. Вместе с тем тот сентябрьский вечер стал последней встречей Малера и Штрауса. Одряхлевший, с болезненно желтым лицом Густав неподвижно стоял на огромной сцене в то время, как бушевала двадцатиминутная буря аплодисментов. Композитор, наконец, насладился счастливыми минутами от столь долгожданной дани его искусству.
Спустя шесть лет этим произведением дирижировал Стоковский, давший девять концертов подряд в огромных аудиториях Филадельфии и Нью-Йорка. Он писал: «Когда мы исполняли Восьмую симфонию Малера, это произвело впечатление на общественность сильнее, чем всё, что я когда-либо исполнял. Кажется, человечность этой симфонии такова, что она глубоко тронула общественность, и большая часть слушателей была в слезах к концу звучания симфонии. Это происходило на всех девяти выступлениях». После концерта Малер получил от Томаса Манна его новую книгу «Королевское высочество» с надписью «…человеку, выразившему, по моему уразумению, искусство нашего времени в самых глубоких и священных формах».
Восемнадцатого октября Густав отплыл из города Бремерхафена на борту «Кайзера Вильгельма II», через день во французском Булонь-сюр-Мере к нему присоединилась семья с сестрой Альмы, и Малеры отправились за Атлантику. 25-го числа корабль причалил к американскому берегу.
Помимо города своего основного пребывания, до конца года Густав дал серию концертов с Нью-Йоркским филармоническим оркестром в Питсбурге, Кливленде, Буффало, Рочестере, американских Сиракузах и Ютике. Во время этой поездки 7 декабря он с семьей посетил знаменитый Ниагарский водопад. В том же сезоне получили развитие творческие отношения с Ферруччо Бузони, с которым Малер еще в Лейпциге проводил замечательные дни. Они всегда уважали друг друга. Бузони писал Густаву: «Когда находишься рядом с Вами, на сердце становится как-то легче. Стоит только человеку подойти к Вам близко, как он снова чувствует себя молодым».
Несмотря на постоянные аншлаги, к февралю отношения Малера с комитетом филармонического общества окончательно разладились. В середине месяца дирижера вызвали на собрание комитета, где сделали выговор за самовольство, тем самым официально ограничив его прямые обязательства. Это, разумеется, оскорбило Густава, вынужденного отстаивать собственное право на исполнительское искусство. С этого дня он был готов в любой момент всё бросить и вернуться в Вену. Однако в Америке его держали концертные обязательства перед Бузони.
Через несколько дней после того разговора Малера поразила лихорадка, связанная с болезнью горла. Симптомы оказались схожими с мюнхенскими, только в этот раз композитор переносил болезнь тяжелее. Вопреки указаниям врача, 21 февраля он всё же встал с постели, так как не мог пропустить ответственный концерт в Карнеги-холле, на котором планировалась премьера «Элегической колыбельной» Ферруччо Бузони. Судьба распорядилась так, что это сочинение оказалось колыбельной для всей жизни самого Малера. Одним из слушателей того концерта был Тосканини. В тот вечер Густав в последний раз стоял за дирижерским пультом. На следующем выступлении оркестра и на всех последовавших в сезоне больного Густава заменял концертмейстер Теодор Шпиринг, а «Элегической колыбельной» дирижировал сам Бузони.
Двадцать пятого февраля кардиолог Эммануэль Либман, ученик сэра Уильяма Ослера, впервые описавшего инфекционный эндокардит, прибыл в отель «Savoy», где жили Малеры. Проведя консультации с врачом композитора Йозефом Френкелем, он сделал бактериологическое исследование и подтвердил именно это заболевание. В то время подобный эпикриз был равносилен смертному приговору.
Малер просил одного: сказать ему правду о состоянии здоровья. В ответ доктор Френкель, несмотря на безнадежность пациента, посоветовал ему отправиться в Париж и показаться врачам из Института Пастера, тем самым дав надежду на улучшение самочувствия. 11 марта в письме Вальтеру Гропиусу Альма сообщила о состоянии мужа.
Густав, интуитивно осознавая неминуемость своего ухода из жизни, срочно приступил к работе над Десятой симфонией. Меньше чем за месяц умирающий композитор вчерне завершил произведение, понимая, что расшифровывать черновики и заниматься инструментовкой будет уже не он. Известно, что впоследствии Альма предлагала закончить сочинение Шёнбергу, но в итоге симфония увидела свет благодаря английскому музыковеду Дэрику Куку. Премьера его версии состоялась спустя несколько десятилетий — 13 августа 1964 года, а 11 декабря того же года не стало Альмы.
Восьмого апреля Малеры на корабле «SS Amerika» отправились в последнее путешествие через Атлантику. В этом нелегком пути Густава сопровождал его друг Ферруччо Бузони. Доктор медицинских наук Леонид Иванович Дворецкий пишет, что, несмотря на продолжавшееся лихорадочное состояние, композитор постоянно просил выводить его на палубу. Стефан Цвейг, также находившийся на корабле и помогавший Малеру в его прогулках, впоследствии вспоминал: «Он лежал и был бледен, как умирающий, неподвижный, веки его были прикрыты… Впервые я увидел этого пламенного человека таким слабым. Но я никогда не смогу забыть этот силуэт на фоне серой бесконечности моря и неба, бесконечную грусть и бесконечное величие этого зрелища, которое словно бы звучало подобно изысканной возвышенной музыке».
Шестнадцатого апреля судно достигло Шербура, специально для композитора причал закрыли от публики. На следующий день к пяти часам утра Малеры заселились в парижскую гостиницу «Elysee Palace Hotel». К умирающему Густаву прибыли сестра Юстина и Бруно Вальтер. Казалось, композитор стал лучше себя чувствовать. Когда его транспортировали, он даже попросил покатать его по улицам города на машине. Альма вспоминала: «Он сел в автомобиль как человек, оправившийся от болезни, а вышел из него, как человек, находившийся на пороге смерти». Повторное бактериологическое исследование повторило приговор. В клинике на западной окраине города Малеру вводили сыворотку и инъекции камфары, но это не помогло. Вальтер позднее описывал тогдашнее состояние композитора: «Борьба, измучившая плоть, ранила и его душу, его не покидало мрачное, неприязненное настроение. Когда я осторожно упомянул о его творчестве, чтобы направить его мысли на что-нибудь более утешительное, он ответил мне сначала лишь в самых пессимистичных тонах. После этого я избегал касаться серьезных вопросов и ограничился тем, что пытался немного отвлечь и рассеять его разговорами на другие темы».
Одиннадцатого мая Малера осмотрел венский специалист Франц Хвостек, который, осознавая полную безнадежность, предложил Альме отвезти мужа в Вену, где ему будет легче коротать последние дни. При этом Хвостек сообщил Густаву, что сможет его излечить, отчего у композитора появилась ложная надежда, облегчившая ему путь до любимого города. Он снова и снова говорил: «Кто позаботится о Шёнберге, когда меня не будет?»
Увы, в допенициллиновую эпоху никаких шансов на исцеление не было. Александр Флеминг выделил способное помочь Малеру лекарство из штамма гриба Pénicillium notatum лишь в 1928 году.
Следующим вечером Густава привезли в столицу: он пожелал умереть в своей любимой Вене. В Париже и на всех остановках поезда по пути к композитору толпами шли неугомонные журналисты, пытавшиеся выведать правдивые сведения о состоянии его здоровья. Еще неделю Малер находился в специально подготовленной для него палате санатория «Loew», ставшей последним его пристанищем. Специалисты печально качали головами. Он же постоянно повторял: «Моя Альмши». Прогрессировала сердечная недостаточность, интоксикация продолжала усиливаться, для снятия одышки применяли кислородные подушки, постоянно делались инъекции морфина, сознание уходило. Альма вспоминала, как Густав выкрикивал имя Моцарта и делал дирижерские движения: «Он лежал и стонал. Вокруг колен, а потом и на ногах образовался сильный отек. Применяли радий, и отек сразу исчез. Вечером его вымыли и привели в порядок постель. Два служителя подняли его нагое изможденное тело. Это было похоже на снятие с креста. Такая мысль пришла в голову всем нам. Он сильно задыхался, и ему дали кислород. Потом уремия — и конец. Вызвали Хвостека… Малер лежал с отсутствующим взглядом; одним пальцем он дирижировал на одеяле. Губы его улыбались, и он дважды сказал: “Моцарт!” Глаза его казались очень большими. Я попросила Хвостека дать ему большую дозу морфия, чтобы он ничего уже больше не чувствовал… Началась агония. Меня отправили в соседнюю комнату. Предсмертный храп слышался еще несколько часов. Вдруг около полуночи 18 мая, во время ужасного урагана, эти жуткие звуки прекратились».
Ему еще не исполнилось пятидесяти одного. Согласно последней воле композитора его сердце после смерти было проколото. Очевидно, Густава пугали мысли о летаргическом сне. 22 мая Малер был предан земле на нерелигиозном кладбище «Grinzing» в венском пригороде. Погребение состоялось рядом с дочерью в соответствии с его пожеланиями. Он оставил и другие конкретные указания, например, чтобы на похоронах о нем не было сказано ни одного слова и не прозвучал ни один музыкальный звук.
Проститься с композитором, несмотря на непогоду, собрались сотни людей, среди них были Арнольд Шёнберг, Альфонс Дипенброк, Бруно Вальтер, Хуго фон Гофмансталь, Густав Климт, а также представители крупных художественных организаций Австро-Венгрии и других стран. Скорбящие молча стояли с непокрытыми головами под дождем. Никто не верил в уход Малера, а кто-то, быть может, вспоминал «Симфонию Воскресения», ведь для творца его уровня смерти не существует. Он также продолжает пребывать в этом мире, потому что мысли Малера, его взгляды и идеи до сих пор живы, только приобрели форму нотных текстов. Их автор теперь здравствует на два Света — Земной и Небесный. Воскресение состоялось.
Как только тело было предано земле, небо озарила радуга, подарившая благодать скорбящему молчанию собравшихся. На своем надгробии композитор просил указать только «Gustav Mahler»: «Тот, кто придет меня навестить, знает, кем я был, а другим знать это незачем». На следующий день император Франц Иосиф помпезно объявил, что в честь великого усопшего композитора Густава Малера будет исполнена его «Симфония тысячи», и беззаботная Вена вновь погрузилась в привычное движение жизни.
ЭПИЛОГ
Феномен Малера уникален и вместе с тем закономерен. С одной стороны, последние десятилетия XIX века, характеризующиеся закатом романтической эры и возникновением эпохи Модерна, сделали всё для появления творца его направленности. Малер был неизбежен как очередной виток развития искусства. С другой — мало кому в истории удалось столь радикально и революционно проявить себя одновременно в нескольких областях деятельности.
По тривиальному закону «большого, видящегося лишь на расстоянии», эпохальность Малера как одной из уникальных личностей музыкальной истории стала проясняться с течением времени, и побудительным фактором в этом вопросе послужил его уход из жизни. Спустя почти неделю после смерти композитора Антон Веберн писал Арнольду Шёнбергу: «Густав Малер и Вы, именно здесь я вполне отчетливо вижу свой курс. Я не буду отклоняться от него». В середине июня Шёнберг завершил последнюю из «Шести пьес для фортепиано», посвященных памяти Малера, а через несколько месяцев в Мюнхене Бруно Вальтер исполнил «Песнь о земле». Эффект премьеры опуса только что ушедшего автора оказался настолько сильным, что сочинение тотчас было признано шедевром современного искусства. Следующим летом Вальтер организовал премьеру Девятой симфонии своего учителя.
Голландский последователь Густава Виллем Менгельберг всю жизнь демонстрировал служение его искусству. Только за 1911–1920 годы он по всему миру провел 229 вечеров малеровских оркестровых сочинений. Май 1920 года, когда разобщенная Европа переживала последствия Первой мировой войны, благодаря Менгельбергу стал знаковым месяцем для объединения еще недавно противостоящих народов. Дирижер организовал Первый малеровский фестиваль, где в течение девяти концертов исполнил все симфонии композитора. Музыка чешского еврея, жившего и трудившегося в Германии и Австро-Венгрии, зазвучав в Амстердаме, стала символом примирения. В тех вечерах приняли участие многие выдающиеся музыканты начала века. Один из критиков писал: «Это был больше чем музыкальный фестиваль. Это была конференция мира — самая настоящая мировая конференция, которая состоялась через шесть лет после того, как весь мир отправился на войну… здесь впервые вместе стояли французы и немцы, итальянцы и австрийцы, англичане, американцы, бельгийцы, венгры в общем поклонении гению».
К 30-м годам XX века Малер прочно вошел в историю композиции и практику музыкального исполнительства. Перед тем, как его музыку запретили в 1938 году в Третьем рейхе как «дегенеративную», она обрела особую славу в Австрии в среде австрофашизма, выдвигавшего ее автора на роль национального символа, как Вагнера в Германии. Новая волна популярности к композитору пришла в послевоенные годы, когда, как и в 1920 году, его произведения стали считаться олицетворением мира и любви. Столетний юбилей Малера, отмечавшийся в 1960 году по всему миру, способствовал его популярности, и он по сей день остается одним из самых исполняемых композиторов послеромантической эпохи.
Разнообразные слухи вокруг имени Малера появились в 1970-е годы. Парадоксально, но этому способствовала новелла Томаса Манна «Смерть в Венеции» с красивой, по духу во многом декадентской идеей — художник, постигший Бога, разрушает себя. Через неделю после трагического ухода композитора из жизни Манн посетил «город каналов», где впечатленный смертью мэтра и одновременно завороженный собственными любовными переживаниями, задумал новое сочинение. Незамысловатый, но вызывающий сюжет, где писатель Густав фон Ашенбах влюбляется в мальчика Тадзио, стал роковым для восприятия Малера, хотя история имеет манновские биографические основания: прототипом ребенка послужил одиннадцатилетний Владзьо Моэс, с которым Манн общался в Венеции. О произведении автор писал: «На замысел моего рассказа немало повлияло пришедшее весной 1911 года известие о смерти Густава Малера, с которым мне довелось познакомиться раньше в Мюнхене; этот сжигаемый собственной энергией человек произвел на меня сильное впечатление… Позже эти потрясения смешались с теми впечатлениями и идеями, из которых родилась новелла, и я не только дал моему погибшему оргиастической смертью герою имя великого музыканта, но и позаимствовал для описания его внешности маску Малера».
Позднее эти слова общественное сознание трактовало превратно. Режиссер Лукино Висконти, работая над одноименным фильмом, использовал в качестве звукового сопровождения картины Адажиетто из Пятой симфонии Малера и заменил профессию главного персонажа с писательской на композиторскую, из-за чего Малеру стали приписывать патологии Ашенбах. На самом деле Адажиетто создавалось в период ухаживания Малера за Альмой и является его музыкальным признанием будущей супруге. Тем не менее вопрос сексуальных пристрастий композитора, кстати, перед женитьбой признавшегося Альме в своей полной неопытности, стал весьма дискуссионным.
Биографы Эгон Гартенберг, Анри Луи де ла Гранж и Петер Франклин считают, что композитор скрывал от будущей супруги приключения молодости. Апеллируя к реплике Цвейга, исследователи придерживаются взгляда, что фальшивое пуританство в Вене в то время совсем не противоречило приватным вольностям консерваторских студентов, проводивших время в компании жриц любви или девушек из низших слоев общества. В молодости Малер приобрел репутацию ловеласа, и, хотя, как считает Петер Франклин, некоторые факты усиливают подозрение в бессознательных гомоэротических желаниях к близким друзьям, например к Антону Крисперу, нельзя утверждать, что эти стремления нашли прямое выражение. При этом пуританство Малера являлось резко выраженным. Альма, тут уже ей доверять можно, приводит историю, когда Малер прочел одной из певиц Лайбаха нотацию о ее «легком поведении», после чего она, облокотившись на пианино, хлопнула себя по бедрам и заявила, что его излишняя моральность вызвала в ней крайнее неуважение.
Семья композитора оказала немалое влияние на искусство XX века. Овдовевшую Альму, ставшую спутницей художника Оскара Кокошки, архитектора Вальтера Гропиуса и писателя Франца Верфеля, называют музой и символическим образом XX столетия. Дочь Густава и Альмы Анна Юстина выбрала профессию скульптора и за 83 года жизни пять раз побывала замужем, став вдохновительницей дирижера Руперта Коллера, композитора и музыковеда Эрнста Кшенека, издателя Пауля Жолная, дирижера Анатоля Фистулари и голливудского сценариста Альбрехта Йозефа.
Созданию мифологического ореола вокруг Малера и его рода послужила уникальная история, поистине равная мифу об Орфее в аду, но случившаяся на самом деле. Альма, дочь сестры композитора Юстины и музыканта Арнольда Розе, выдающаяся скрипачка своего времени, была арестована в июле 1943 года во время турне по Франции и отправлена в концлагерь Аушвиц (Освенцим). Там она поразила своим искусством офицеров СС и спаслась от смерти, став дирижером женского оркестра заключенных самого большого лагеря Аушвиц II / Биркенау. Помимо ежедневных восьмичасовых репетиций узницы играли по утрам и вечерам у лагерных ворот, встречая и провожая женские рабочие бригады, а по выходным дням давали концерты для служащих подразделения СС «Мертвая голова», охранявших лагерь, и для избранных заключенных.
Альма Розе смогла выпросить у эсэсовцев для музыкантов особые условия — отдельный барак с деревянным полом. Ее оркестр превратился в оплот свободы в самом несвободном месте. Состав исполнителей пополнялся вновь поступавшими способными музыкантами, менее талантливых Альма старалась задействовать в качестве помощников, чтобы дать им отсрочку от газовой камеры. Однажды она спросила коменданта концлагеря Марию Мандель, что ожидает женщин, играющих в оркестре. Та ответила, что Альма может успокоить оркестранток — их очередь наступит «в самом конце», иными словами, после того как все остальные евреи «вылетят в трубу». Руководство Аушвица планировало настоящий «парад смерти», по сценарию которого последними «опустевшую площадь» должны покинуть музыканты оркестра.
Второго апреля 1944 года после концерта, сопровождавшего одну из вечеринок СС, Альме внезапно стало плохо. Она была доставлена в больницу с высокой температурой и болями в голове и животе, а 4 апреля ее не стало. Спекуляции вокруг гибели Альмы Розе не утихают по сей день. В качестве причин выдвигаются как самоубийство, отравление нацистами, так и инфекционное заражение.
Администрация Аушвица, отдавая дань ее вкладу в культурную жизнь концлагеря, разрешила устроить торжественное прощание с Альмой. Это был единственный случай за всю историю концлагерей, когда офицеры СС чтили умершего плененного еврея. Музыканты испытывали горе, смешанное со страхом. Бывший оркестрант Сильвия Вагенберг вспоминала: «Когда она умерла, я подумала: теперь всё кончено — либо нас перераспределят, и тогда нам конец, либо прямо сейчас отправят в газовую камеру. То, что Альма сделала для оркестра, невозможно измерить».
Сакральная сила музыки совершила фактически невозможное. Племянница композитора-еврея разбудила в нацистах чувство уважения и пиетета перед теми, кого они не считали за людей. В сознании масс эта история стала знаковой. Малер, предвосхитивший своей музыкой ужасы XX века, и его род, неистово боровшийся с ними, начали восприниматься во всем величии — озаренные искрой истинного служения искусству.
Сегодня личность Малера находится в авангарде, а разнообразная полемика, развернувшаяся вокруг его имени, приковывает внимание всего культурного сообщества. Композитор становится персонажем литературных произведений. К примеру, писатель Джей Сидни Джонс в детективе «Реквием в Вене» рисует события убийства оперной певицы в Венском придворном театре во времена директорства Малера. Сочинение «Последняя кантата» Филиппа Делелиса, заявленное в жанре триллера, пронизано особой мистикой. Иоганн Себастьян Бах в главной теме «Музыкального приношения», созданного по заказу Фридриха Великого, зашифровал истинное знание о музыке, которое его сын передал юному Моцарту. От него тема перешла к Бетховену, затем Бетховен перед смертью сообщил тайное знание Вагнеру, а тот, в свою очередь, — Малеру, завещавшему его Веберну. Все перечисленные композиторы, благодаря истине, унаследованной ими от Баха, в своем творчестве выразили магистраль всеобщего музыкального развития, а тайна, зашифрованная в нотах, несет смерть любому, кто пытается ее раскрыть. Пример «Последней кантаты» показателен: Малер стал восприниматься в одном ряду с Бахом, Моцартом и Бетховеном.
Среди многообразия художественных и документальных фильмов выделяется картина «Малер на кушетке», посвященная его встрече с доктором Фрейдом. Есть также документальный фильм «Мое время придет», созданный режиссером Беате Тальбертом на основе дневника Натали Бауэр-Лехнер. Фигура композитора запечатлена в пластических искусствах. На один из фрагментов неоконченной Десятой симфонии, озаглавленный «Чистилище», гамбургский хореограф Джон Ноймайер поставил балет о личных потрясениях Малера летом 1910 года. Композитор сделался самым настоящим атрибутом массовой культуры. В Европе появляются молодежные движения, его лик рисуется на майках и кружках с надписью «Малерия», что уж говорить о памятных местах, связанных с его именем…
При этом судьба Малера в России весьма специфична и, как в кривом зеркале, отражает перипетии исторического развития страны в XX веке. В 1920–1930-е годы его музыка была весьма популярна среди русской интеллигенции. В предвоенные годы ее запретили по политическим соображениям (солидаризируясь в этом с Германией), а разрешить попросту забыли, поскольку в 1940-е было не до того. Вновь интерес к Малеру возник после смерти Сталина. Два десятилетия спустя, когда фарцовщики без разбора скупали западные грампластинки, бернстайновские записи симфоний Малера стали неотъемлемыми атрибутами теневых рынков наряду с The Beatles, Rolling Stones и Deep Purple. Увы, на этом знакомство с Малером остановилось, погружаться в его наследие глубже страна не стала. Сегодня на постсоветском пространстве Малер не просто малоизвестный композитор — его знают только утонченные и рафинированные любители музыки. Для массового сознания имя Малера звучит обрывочно — то в висконтиевской «Смерти в Венеции», то в горбачевской книге 1992 года, где музыкой его симфоний «оправдывается» падение СССР, то в криминальном сериале «Бумер»: «— Да выключи ты эту херню! — Петя, эту херню написал Малер».
Примечательно, что в отечественном музыковедении даже сложился стереотип, оправдывающий малую популярность композитора, — при жизни Малер якобы не снискал композиторской славы, а был известен только как дирижер и театральный директор, и лишь близкие Густава знали о его сочинительстве. Но этот миф буквально тонет в статистике: при жизни состоялось более 260 симфонических концертов музыки Малера и в Европе, и в Америке, и в России. Тем не менее именно этим мифом объясняется его непопулярность в нашей стране: якобы везде так.
При отсутствии широкой известности в массах композитор точечно оказал огромное влияние на умы узкого круга просвещенных. К примеру, творчество Дмитрия Дмитриевича Шостаковича сформировалось во многом благодаря наследию Малера. Кирилл Петрович Кондрашин, впервые в Советском Союзе исполнивший все симфонии композитора, по духу был именно «малеровским» дирижером. Альтист и дирижер Рудольф Борисович Баршай не только пошел по стопам Кондрашина в популяризации малеровского наследия, но и создал свой вариант неоконченной Десятой симфонии, над реконструкцией которой трудился 20 лет, вплоть до 2000 года. Российская премьера последнего детища Малера состоялась осенью 2013 года в Санкт-Петербурге, а затем в Москве.
Большого успеха в России достигла современная наука в изучении личности и творчества Малера. Неоценим вклад Инны Алексеевны Барсовой, именно ее книги и статьи составили лучшие образцы отечественной исследовательской мысли в этой области. Удивителен пример Леонида Ивановича Дворецкого — заведующего кафедрой госпитальной терапии Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, посвятившего Малеру главу в книге «Музыка и медицина. Размышления врача о музыке и музыкантах», которая, помимо прочего, имеет немалую музыковедческую ценность.
У Малера и русской культуры много общего, что говорит о благодатной почве для будущего его музыки в России. Иван Иванович Соллертинский говорил, что Малер — это Достоевский, пересказанный Чарли Чаплином. Именно некая притягательность ужаса в гротесковом преломлении с характерной маршеобразностью, сменяющейся необузданным криком, была унаследована Шостаковичем и вообще оказалась близкой русскому сознанию. На основе этого можно сделать прогноз, что полноценное открытие Малера для России — вопрос ближайшего будущего и сегодня мы стоим на его пороге.
Автор выражает глубокую признательность писателю Дмитрию Быкову за идею создания этой книги, Анри Луи де ла Гранжу и Инне Алексеевне Барсовой за их вклад в изучение жизни и творчества Густава Малера, а также музыковеду Елене Борисовне Долинской за помощь в поиске исследовательской литературы.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Мария Малер — мать композитора
Бернхард Малер — отец композитора
Дом в деревне Калиште, в котором родился Густав Малер
Густаву Малеру шесть лет
Дом Малеров в Йиглаве
Анджело Нойман
Антон Брукнер
Антон Зайдль
Артур Никиш
Ферруччо Бузони
Королевский оперный театр в Будапеште
Иоганнес Брамс
Ганс фон Бюлов
Венский придворный театр
Петр Ильич Чайковский
Гамбургский оперный театр
Альма Шиндлер, будущая жена композитора
Густав Малер в здании Венской оперы. 1903 г.
Густав Малер с дочерью Марией
Альма Малер с дочерьми. 1906 г.
Густав Малер с сестрой Юстиной
Домик Малера для сочинения музыки на озере Вёртер-Зе
Карикатура на Густава Малера
Малер на борту парохода пересекает океан
Малер с женой в Риме. 1907 г.
Густав Малер с Бруно Вальтером в Праге. 1908 г.
Малер в секретариате академии «Santa Cecilia». 1907 г.
Прогулка в горах
Домик Малера для сочинений в Тоблахе
Бюст Густава Малера работы Огюста Родена в фойе Венской оперы
Звезда Густава Малера около Венской оперы
Густав Малер
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГУСТАВА МАЛЕРА
1860, 7 июля — в богемской деревеньке Калиште в семье Бернхарда и Марии Малер родился сын, которого назвали Густав.
22 октября — семья Малер переезжает из чешской Калиште в Моравию, в город Йиглаву.
1870, 13 октября — в Йиглаве состоялся музыкальный дебют десятилетнего Густава. Программа его концерта неизвестна.
1871, 2 сентября — первый день занятий юного Малера в качестве гимназиста в Праге.
1873, 24 апреля — в йиглавской газете «Mahrischer Grenzbote» публикуется отчет о концерте, в котором двенадцатилетний Густав исполнил Фантазию Сигизмунда Тальберга на темы из оперы «Норма» Винченцо Беллини. Репортер отмечает особую виртуозность мальчика.
12 июля — достигший тринадцатилетнего возраста Густав проходит иудейский обряд бар-мицва.
1875,13 апреля — не стало брата Густава Эрнста, смерть которого сильно повлияла на юного композитора.
10 сентября — студент Венской консерватории Густав Малер приступает к учебе.
1876, 23 июня — Малер занимает первое место в консерваторском конкурсе пианистов, исполняя сонаты Франца Шуберта.
1 июля — первый композиторский успех Густава. Его Фортепианный квартет (ля минор) получает первый приз в консерваторском конкурсе.
1877, 16 марта — Малер присутствует на венском концерте Ференца Листа, посвященном пятидесятилетию со дня смерти Людвига ван Бетховена, и понимает, что пианизма уровня Листа ему не достичь.
21 июня — Густав выигрывает консерваторский конкурс пианистов, исполняя сочинения Роберта Шумана.
1 октября — семнадцатилетний Малер начинает обучение в Венском университете, где проходит курс гармонии в классе Антона Брукнера.
16 декабря — в Вене впервые исполняется второй вариант Третьей симфонии Антона Брукнера. Оркестранты саботируют сочинение. Аудитория делится на противников и сторонников. Малер задумывает создать фортепианное переложение этого произведения.
1878 — оканчивает консерваторию.
2 июля — Фортепианный квинтет (соль минор) Густава получает первое место на композиторском конкурсе в консерватории.
1880, 12 мая — Малер подписывает контракт с агентом Густавом Леви на пять лет.
Лето — Малер устраивается на время дирижером театра курортного городка Верхней Австрии Бад-Халль.
1881, 24 сентября — Густав впервые управляет оркестром в качестве главного дирижера театра Лайбаха.
1883, 10 января — Малер получает телеграмму о его назначении в качестве капельмейстера театра в Ольмюце.
13 февраля — умирает кумир Густава Рихард Вагнер, кончину которого Малер тяжело переживает[1].
31 мая — 22-летний Малер становится музыкальным и хоровым директором Королевского Прусского придворного театра в Касселе.
21 августа — Густав приступает к обязанностям ассистента дирижера в Касселе.
1884, январь — дирижер и пианист Ганс фон Бюлов дает два концерта в Касселе, которыми производит гигантское впечатление на Малера.
23 июня — в Касселе исполняется только что сочиненная Малером «Музыка к живым картинам» по поэме немецкого поэта и романиста Йозефа Виктора фон Шеффеля «Трубач из Зеккингена».
1885, январь — Малер заканчивает вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья».
1 апреля — Густав просит освободить его от контрактных обязательств в Касселе. В ходе переговоров ему разрешено покинуть пост 1 июля.
С 29 июня по 1 июля — под музыкальным руководством Малера проводится главное культурное событие года Касселя — фестиваль «Музыкальное празднество».
13 июля — Малер прибывает в Прагу, где ему предложено стать капельмейстером Немецкого театра.
17 августа — пражский дебют Густава. Он управляет постановкой «Водовоза» Луиджи Керубини. На опере присутствует император Франц Иосиф.
1886, 25 июля — Малер приезжает в Лейпциг, чтобы занять должность оперного дирижера.
1887, 13 октября — Рихард Штраус, дирижирующий своей Второй симфонией в Лейпциге, знакомится с Густавом Малером.
13 ноября — Малер управляет постановкой оперы «Тангейзер» Вагнера в Лейпциге. В зрительном зале присутствует вдова композитора Козима. После спектакля они встречаются в первый раз.
1888, 15 января — в Лейпциге Петр Ильич Чайковский знакомится с Густавом Малером и Ферруччо Бузони.
9 марта — император и король Пруссии Вильгельм I умирает в Берлине. Десятидневный траур, ставший причиной остановки работы театров, используется Малером, чтобы успеть закончить свою Первую симфонию.
2 октября — к всеобщему удивлению, Густав назван новым директором Королевского оперного театра в Будапеште.
1889, 26 января — состоялось первое выступление Малера в Будапештском театре. Дебютным спектаклем стала опера «Золото Рейна» Вагнера, поставленная на венгерском языке. Зрители пришли в восторг.
18 февраля — скончался отец Густава Малера Бернхард.
11 октября — после продолжительной болезни скончалась мать композитора Мария.
20 ноября — впервые звучит Первая симфония Малера. Реакция будапештской аудитории — в диапазоне от прохлады до неприятия.
1890, 16 декабря — Иоганнес Брамс посещает малеровскую постановку «Дон Жуана» Вольфганга Амадея Моцарта. Брамс восхищен.
1891, 14 марта — в результате личного конфликта с новым директором Будапештской оперы графом Зичи Густав Малер уходит в отставку и принимает пост первого дирижера в Гамбурге.
1892, январь — при подготовке к премьере «Евгения Онегина» Чайковского Густав Малер некоторое время общается с прибывшим в Гамбург русским композитором. Чайковский столь впечатлен Малером, что поручает ему управлять премьерой своей оперы, состоявшейся 19 января.
Лето — труппа Гамбургского театра вместе с первым дирижером Густавом Малером приглашена на длительные гастроли в Англию. Заграничные выступления имеют огромный успех.
1893, лето — Густав обосновывается на летнем австрийском курорте в деревне Штайнбах, где ему впервые приходит идея сочетать отпуск с композиторской деятельностью.
Осень — тяжело заболевший Бюлов объявляет Малера своим преемником по руководству Гамбургскими симфоническими концертами.
1894, 29 марта — Густав на панихиде по умершему Гансу фон Бюлову настолько впечатлен хоралом на оду «Ты воскреснешь» поэта Фридриха Готлиба Клопштока, что приходит к пониманию концепции своей Второй симфонии.
1895, 6 февраля — брат Густава Малера Отто кончает жизнь самоубийством в венской квартире своего друга Нина Гофмана.
4 марта — первые три части Второй симфонии Малера впервые исполняются в Берлине. Полностью сочинение исполняется 13 декабря. Произведение является первым композиторским успехом Густава. Бруно Вальтер вспоминает это событие как истинное начало карьеры Малера в качестве композитора.
1896, 9 ноября — в Берлине состоялась премьера второй части Третьей симфонии Малера. Сочинение получило неожиданный успех общественности и прессы.
21 декабря — Густав Малер отправляет письмо-заявление на должность дирижера Венской придворной оперы.
1897, 23 февраля — Густав Малер принимает крещение как католик в церкви Святого Ансгара Гамбургского.
9 марта — третья и шестая части Третьей симфонии Малера исполняются впервые в Берлине. Реакция на третью часть смешанная, шестая же вызывает бурю негодования.
10 марта — Густав уезжает из Берлина в Москву, где в качестве дирижера дает два концерта.
4 апреля — Малер принимает условия договора с Венской оперой на один год.
11 мая — Малер после единственной репетиции дирижирует дебютным спектаклем Придворного театра, оперой «Лоэнгрин» Вагнера. Представление имеет большой успех.
27 сентября — Густав Малер подписывает контракт с венским издателем Йозефом Вайнбергером на публикацию своего вокального цикла «Песни странствующего подмастерья».
8 октября — Венская Королевская опера объявляет, что в качестве директора назначен 37-летний Густав Малер.
1898, 23 сентября — Ганс Рихтер заявляет о своей отставке с поста директора Венской филармонии, мотивируя уход медицинскими причинами. В тот же день оркестр приглашает на эту должность Малера.
24 сентября — совет Венской филармонии официально объявляет Малера дирижером филармонических концертов на основании единодушного одобрения оркестрантов.
26 сентября — вслед за премьерой «Кольца нибелунга» в Вене комитет Венской филармонии приглашает Малера на пост директора своего оркестра, пока не вернется Ганс Рихтер, что с радостью принято Густавом.
1899, 11 июля — велосипедист Малер встречается с музыкантом Густавом Гейрингером возле местечка Гойзерн Мюль. На небольшой прогулке присутствует девятнадцатилетняя Альма Шиндлер, ставшая впоследствии женой композитора.
1 августа — письмо из Байройта от Ганса Рихтера с извещением об отказе быть главным дирижером оркестра Венской филармонии, что открывает путь для Малера.
16 сентября — на повторном голосовании Венского филармонического оркестра из 96 музыкантов 90 голосов были отданы за Малера. Позже объявляется, что Малер принял руководство оркестром.
1900, 22 февраля — звучит малеровский вариант Девятой симфонии Бетховена и, учитывая отрицательный настрой некоторых оркестрантов и всех критиков, Малер дает письменное объяснение своей трактовки, чем лишь усиливает полемику.
18 июня — Венский филармонический оркестр под управлением Малера дает первый из серии концертов на знаменитой Всемирной выставке в Париже.
1901, 17 февраля — вторая и третья части «Жалобной песни» Малера впервые исполняются в Вене под управлением композитора.
1 апреля — Малер уходит с поста дирижера Венской филармонии.
7 ноября — на ужине в доме венского анатома Эмиля Цукеркандля Малер вторично встречается с дочерью художника-пейзажиста Антона Шиндлера Альмой.
25 ноября — премьера Четвертой симфонии Малера в Мюнхене. Критики сочинение не принимают.
23 декабря — обручение Густава Малера и Альмы Шиндлер.
1902, 9 марта — Густав и Альма женятся в венской церкви Карлскирхе. Церемония приватная — невеста беременна.
9 июня — полная премьера Третьей симфонии Малера под управлением автора в немецком городе Крефельде. Публика аплодирует в течение 15 минут. Отзыв прессы положительный.
3 ноября — в Вене в семье Густава и Альмы Малер рождается девочка Мария Анна.
1904, 15 июня — в дачном доме курорта Мария-Вёрт на свет появляется вторая дочь Густава и Альмы, нареченная Анной Юстиной в честь матери Альмы и сестры Густава.
18 октября — в Кёльне впервые исполняется Пятая симфония Малера под управлением композитора. Слушатели испытывают смешанные чувства, пресса же относится к сочинению враждебно.
23 ноября — в Вене состоялся первый концерт Общества творческих музыкантов, только что созданного Цемлинским, Шёнбергом и Малером.
1905, 9 ноября — Малер, находясь в Лейпциге, делает три фортепианные записи при помощи нового изобретения — системы Вельте-Миньон. Звуковая дорожка этих валиков вышла в свет в США в середине 1990-х годов.
1906, 27 мая — впервые исполнена Шестая симфония Малера под управлением композитора в немецком Эссене. Публика в восторге, критики традиционно настроены скептически.
1907, 31 марта — Густав Малер подает заявление об отставке с поста директора Венской Придворной оперы. Указ о его освобождении император подписал лишь 5 октября.
5 июня — Густав заключает договор с директором Метрополитен-оперы в Нью-Йорке Генрихом Конрайдом о дирижерской работе в течение первых четырех месяцев 1908 года.
12 июля — Мария Анна, старшая дочь Густава и Альмы, умирает от скарлатины и дифтерии в возрасте четырех лет. Малер опустошен.
14 июля — через два дня после смерти дочери Альме становится плохо. Домашний доктор Блюменталь, вызванный к ней, заодно осмотрев Густава, обнаруживает у него порок сердца.
15 октября — Малер в последний раз дирижирует в Венской опере. Прощальная опера, прозвучавшая под его управлением, — «Фиделио» Бетховена.
2 ноября — во время пребывания в Хельсинки Малер знакомится с Яном Сибелиусом.
24 ноября — под эгидой Общества друзей музыки Малер участвует в своем прощальном концерте, на котором звучит его «Симфония Воскресения». Благодарные слушатели 30 раз вызывают автора на сцену. Композитор растроган до слез.
9 декабря — Малер с женой и дочерью покидают Вену. Для прощания, организованного Антоном фон Веберном, на вокзале собираются 200 человек. Среди них Бруно Вальтер, Альфред Роллер, Александр фон Цемлинский, Арнольд Шёнберг и др.
21 декабря — семья Малер прибывает в Нью-Йорк на первый дирижерский сезон Густава.
1908, 1 января — Малер дирижирует своим первым спектаклем на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Под его управлением звучит «Тристан и Изольда» Вагнера. Спектакль вызывает триумф общественности и прессы.
19 сентября — премьера Седьмой симфонии Малера в юбилейном выставочном зале в Праге под управлением композитора.
29 ноября — Малер проводит первый из трех концертов с Нью-Йоркским симфоническим оркестром.
1909, 16 февраля — газета «New York Sun» сообщает, что были получены достаточные средства, чтобы возродить Нью-Йоркское филармоническое общество, и что особую заслугу в этом сыграла фигура Густава Малера, привлеченного в качестве дирижера.
23 апреля — Густав знакомится с Огюстом Роденом в Париже и в течение мая неоднократно позирует скульптору, работающему над бюстом композитора.
1910, 16 января — в Карнеги-холле Сергей Васильевич Рахманинов исполняет свой Третий фортепианный концерт с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, за дирижерским пультом — Густав Малер.
21 марта — Малер последний раз дирижирует в Метрополитен-опере. Опера Чайковского «Пиковая дама» стала последней в оперной карьере Густава.
21 мая — Малер подписывает контракт с издательством «Universal Edition» для публикации Девятой симфонии и «Песни о земле».
4 июня — Альма Малер знакомится с Вальтером Гропиусом на курорте Тобельбад, в которого влюбляется. О их любовной связи узнает Густав.
Конец августа — Малер прибывает в Голландию для встречи с отцом психоанализа Зигмундом Фрейдом с целью расследовать причины разлада с женой. После единственной четырехчасовой консультации композитор меняет свои представления о жизни, приобретая оптимистичный настрой.
12 сентября — премьера Восьмой симфонии Малера в Мюнхене. Это самый большой успех в жизни композитора.
1911, 21 февраля — вопреки указаниям своего врача Малер дирижирует оркестром Нью-Йоркской филармонии в Карнеги-холле, в то время как страдает лихорадкой и болезнью горла. Это выступление становится последним в его жизни.
25 февраля — врач Эммануэль Либман встречается с Малером в нью-йоркском отеле «Savoy» и подтверждает в качестве диагноза эндокардит.
21 апреля — Малера привозят в клинику на западную окраину Парижа.
11 мая — в Париже Густава осматривает венский специалист Франц Хвостек. Врач подозревает худшее и настаивает на скорейшей отправке Малера в Вену, куда композитора перевозят вечером следующего дня.
18 мая, 23.05 — Густав Малер скончался в палате санатория «Loew» в Вене в результате болезни сердца, осложненной бактериальной инфекцией.
22 мая — тело композитора предается земле на нерелигиозном кладбище «Grinzing» в венском пригороде. Погребение состоялось рядом с дочерью в соответствии с его пожеланиями.
БИБЛИОГРАФИЯ
Барсова И. А. Симфонии Густава Малера. М.: Советский композитор, 1975.
Густав Малер. Письма. Воспоминания / Сост. И. А. Барсова, пер. С. А. Ошеров. М.: Музыка, 1968.
Кигэн С. Невеста ветра. Жизнь и время Альмы Малер-Верфель. СПб.: Композитор, 2008.
Михеева Л. В. Густав Малер. Краткий очерк жизни и творчества. Л.: Музыка, 1972.
Нестьев И. В. Густав Малер — последний великий симфонист Австрии // Нестьев И. В. На рубеже двух столетий. М.: Музыка, 1967.
Каратыгин В. Г. Малер //Аполлон. 1911. № 5.
Розеншильд К. К. Густав Малер. М.: Музыка, 1975.
Соллертинский И. И. Симфонии Малера // Соллертинский И. И. Исторические этюды. Л.: Госмузиздат, 1963.
Интернет: /
Adler G. Gustav Mahler. Vienna-Leipzig, 1916.
Bauer-Lechner N. Erinnerungen an Gustav Mahler. London, 1980.
Cummins G. Mahler Re-Composed. Bloomington, IN, 2011.
Grange H.-L. de La. Gustav Mahler: vol. 1: Les chemins de la gloire (1860–1899). Paris: Fayard, 1979.
Grange H.-L. de La. Gustav Mahler: vol. 2: L’âge d’or de Vienne (1900–1907). Paris: Fayard, 1983.
Grange H.-L. de La. Gustav Mahler: vol. 3: Le genié foudroyé (1907–1911). Paris: Fayard, 1984.
Engel G. Gustav Mahler — Song symphonist. N.Y., 1932.
Floros C. Gustav Mahler and the Symphony of the 19th Century. Peter Lang Pub Incorporated, 2014.
Franklin P. The Life of Mahler. Cambridge University Press, 1997.
Karpath L. Begegnung mit dem Genius, Vienna-Leipzig, 1934.
Kuret P. Mahler in Laibach. Wein, Köln, Weimar, 2001.
Lebrecht N. Mahler Remembered. Faber and Faber Ltd, 2010.
Lebrecht N. Why Mahler? How One Man and Ten Symphonies Changed the World. Faber and Faber Ltd, 2010.
Lonsted V. Mahler. Narayana Press, 2006.
Mahler A. Gustav Mahler: Erinnerungen und Briefe. Amsterdam, 1940.
Mahler A. Gustav Mahler: Memories and Letter. London, 1973.
Mahler Studies / edited by Stephen E. Hefling. Cambridge University Press, 1997.
Mitchell D. Gustav Mahler: The Early Years. University of California Press, 1980.
Solvik M., Hefling E. Natalie Bauer-Lechner on Mahler and Women: A Newly Discovered Document // The Musical Quarterly. Oxford University Press. 2014. № 6.
Stefan P. Gustav Mahler, A Study of His Personality and Work. N.Y., 1913.
Stefan-Grünfeldt P. Gustav Mahler: a study of his personality and work. Schirmer Inc., 1912.
Walter В. Gustav Mahler. N.Y., 1941.
Примечания
1
Баритон Ольмюцкого театра Жак Мангейт вспоминает: «По дороге из дома в театр я увидел совершенно растерянного громко рыдающего человека, прижимавшего платок к глазам. Я с трудом узнал в нем Малера… Я подошел к нему с тревогой и тихо спросил его: “Во имя всего святого, что-нибудь случилось с вашим отцом?” — “Хуже, хуже, гораздо хуже. — Он выл со всхлипыванием в голосе: — Худшее, самое худшее произошло, Мастер умер!” … После этого было невозможно разговаривать с Малером в течение нескольких дней. Он ходил в театр на репетиции и спектакли, но был недоступен для общения в течение длительного времени».
(обратно)
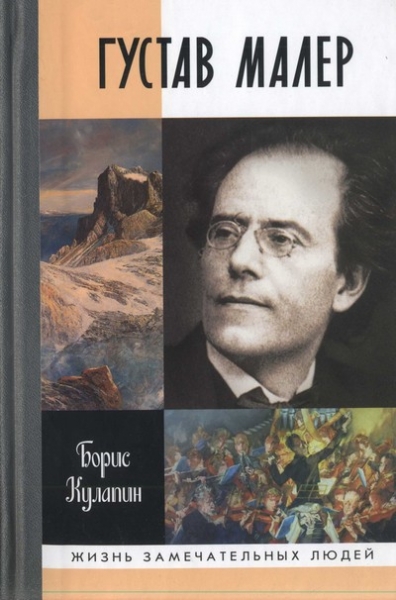




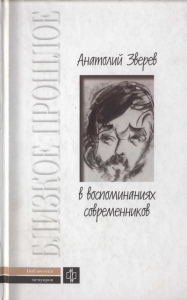

Комментарии к книге «Густав Малер», Борис Вадимович Кулапин
Всего 0 комментариев