Владимир Зелинский Священное ремесло. Философские портреты
Моей жене, с которой мы прожили эту книгу
Вяч. Иванов
Мих. Гершензон
Пётр Чаадаев
Александр Блок
Лев Шестов
Николай Бердяев
Семён Франк
Лев Толстой
Оливье Клеман
Лев Жилле
Мартин Хайдеггер
Г.Ф.В. Гегель
Яков Голосовкер
С предисловием Павла Кузнецова
Предисловие «Священное ремесло» и богословие культуры
У философии в России несчастная судьба. И хотя несчастных судеб у нас много, каждая из них, как известно, несчастна по-своему. Философы, которым по статусу положено быть «властителями дум», на самом деле никогда таковыми не были и не являются сегодня. Чаадаев, славянофилы, Соловьев, Бердяев, Шестов, Франк, Лосев, Бахтин, Мамардашвили – никто из них не обладал таким влиянием на сознание современников, как их западные коллеги: Кант, Гегель, Бергсон, Сартр, Фуко, Деррида или Хайдеггер. Бэкон и Декарт (нравятся они нам или нет) заложили интеллектуальные основы европейской цивилизации – о таком влиянии русским философам невозможно даже мечтать. При всей очевидной философичности русской души в стране, где каждый третий более или менее образованный человек сам себе мыслитель, именно к метафизике как таковой, как автономной сфере интеллектуальной деятельности, существует устойчивое недоверие и достаточно ироническое отношение. Разумеется, следует отличать философию как свободное искание истины, которая, подобно духу, дышит, где хочет и как хочет, и философию как профессию – именно ее, по большому счету, у нас мало кто воспринимает всерьез. Что это значит? Почему?… Дело не только в том, что официальная (академическая) философия в России при многих режимах пыталась (или была вынуждена) обслуживать интересы власти и стремится обслуживать их по сей день, по заказу сверху вырабатывая новую идеологию для «новой России»: философия, по преимуществу, используется в прагматических целях.
Частичное объяснение подобной ситуации можно найти у одного из персонажей книги Священное ремесло. Философские портреты Н. А. Бердяева: «Моралистический склад русской души порождает подозрительное отношение к мысли. Жизнь идей признается у нас роскошью, и в роскоши этой не видят существенного отношения к жизни. В России с самых противоположных точек зрения проповедуется аскетическое воздержание от идейного творчества, от жизни мысли, переходящей пределы утилитарно нужного для целей социальных, моральных или религиозных. Этот аскетизм в отношении мысли и к идейному творчеству одинаково утверждался у нас и с точки зрения религиозной, и с точки зрения материалистической».
Более того: «Русская нелюбовь к идеям и равнодушие к идеям нередко переходит к равнодушию к истине. Русский человек не очень ищет истины, он ищет правды, которую мыслит то религиозно, то морально, то социально, он ищет спасения». (Об отношении русских к идеям, 1917 г.)
Но почему сложилось именно так? В чем причины? К сожалению, Бердяев этого не объясняет. Попробуем развить его мысли. На мой взгляд, это связано со своеобразным преломлением в русской культуре апофатической богословской традиции, пришедшей из глубин византийского православия. Причем из зрелой культуры – в еще только зарождающуюся. Согласно апофатическому мышлению, Истина не постигается метафизическим знанием, не может быть сообщена путем текстов и книг; ее невозможно познать, можно только быть или не быть в ней. Истина невыразима, непостижима, непередаваема, она превосходит все возможные философские, формально-логические определения. Важна не истина, а бытие-в-истине. В конце концов, важно не то, что ты можешь помыслить и сказать, а – кто ты есть. Эта абсолютно антиметафизическая, в западном понимании, установка, вошедшая на бессознательном уровне в плоть и кровь русской культуры, означает, что процесс познания является способом жизни, а не способом мышления. Поэтому Кант совершенно напрасно иронизировал над египетскими монахами, называвшими «философией» свое монашеское житие. В этом смысле, истина – это не столько умозрение, сколько Путь, подчас мучительный и нескончаемый…
Д. Святополк-Мирский в Истории русской литературы писал, что одним из удивительных свойств Достоевского была его способность к «переживанию идей», превращение мертвых абстракций в живые пластические образы. Можно добавить, что это свойство не только автора Братьев Карамазовых, но и в большинстве своем значительной части русских мыслителей. Это характерно и для всех героев этой книги – от Вячеслава Иванова, Гершензона, Блока до Чаадаева, Бердяева, Шестова, Льва Толстого и Якова Голосовкера.
Это же переживание отвлеченных умозрений через личный духовный и жизненный опыт в полной мере свойственно и автору Священного ремесла.
Что же за книга перед нами? Это, прежде всего, авторский путь, начавшийся в конце 1950-х и продолжающийся более полувека. Каждый текст – веха на этом пути, начавшегося со случайных встреч с романтиком-марксистом Э. Ильенковым (его лаконичный и точный портрет дан во Введении), дружбой с выдающимся философом-фило-логом Яковом Голосовкером – а заканчивается он в книге воображаемыми встречами-беседами с замечательным православным мыслителем Оливье Клеманом в Париже. «Ибо истина – это не памятник культуры и тем более не почетный музей многих каменных изваяний, истина – путь, и завершает его тот, кто увенчивает умозрения других и объявляет, что цель достигнута». (Между титаном и вепрем).
И одновременно – это своеобразная опосредованная исповедь (недаром в предисловии говорится о бердяевском Самопознании). И, наконец, Священное ремесло – глубокая и яркая философская проза, где нет и следа «академического равнодушия» или «квазинаучной объективности», а широчайшая эрудиция вплетена в собственный экзистенциальный опыт. С другой стороны, в ней отсутствуют столь часто встречающиеся сегодня религиозный морализм и навязчивая назидательность.
В знаменитой Переписке из двух углов Вяч. Иванова и М. О. Гершензона лично мне всегда была ближе позиция последнего – историка и мыслителя, превратившегося из «культуртрегера» в «культуроборца». Ближе именно благодаря его искренней, выстраданной интонации. Еще бы!.. Катастрофа 1917-го, гражданская война, крушение России, гибель культуры… Среди дымящихся руин как можно продолжать верить в спасительную роль культуры и «всеблагое божество», о которых твердит «Вячеслав Великолепный». Но в действительности прав и его оппонент – sub speciae aeternitatis – Иванов видит чуть дальше.
«Как Греция и Генуя прошли, / Так минет все – Европа и Россия, / Гражданских смут горючая стихия развеется, / Расставит новый век в житейских заводях иные мрежи…» (М. Волошин).
Иванов не забывает об этом и настойчиво напоминает своему другу – пока жив род человеческий и культура, и философия, и поиски Бога пребудут с ним.
Разумеется, в коротком предисловии невозможно охватить и малую часть всех идей, интуиций, точных характеристик, открывающихся читателю Священного ремесла, насыщенного сложной, подчас причудливой диалектикой авторской мысли. Живые философские портреты Вяч. Иванова, М. Гершензона, Блока, Бердяева, апофатическое молчание Льва Шестова или Непостижимое Семена Франка объединены с полемическим письмом к Чаадаеву, с пространным очерком о Хайдеггере, самом сложном философе XX века, в котором автору удается последовательно, хотя и не всегда бесспорно, проследить многие темноты и противоречия хайдеггеровской мысли; а также очерк с необыкновенно оригинальной трактовкой Гегеля и его русского «ученика» Ульянова-Ленина.
В этом тексте, в частности, мы читаем: «Бог не препятствует богоборчеству человека. Он позволяет ему осуществить все задуманное и Сам становится вольной жертвой его замыслов. Он дает себя распять. Себя человеческой свободе и тем самым – изнутри – покоряет ее».
Но особо я бы выделил очерк об «античнике-язычнике» Якове Голосовкере – друге-антиподе А. Ф. Лосева, – в котором трагедия одиночества, жизни и творчества до сих пор недооцененного мыслителя, «античного титана», волею судеб попавшего в унылую советскую реальность, представлена с необыкновенной пластичностью и глубиной. Это подлинный шедевр современной философско-мемуарной прозы.
И последнее. В русской религиозной мысли (да и жизни) на протяжении двух последних столетий мы наблюдаем навязчиво повторяющийся сюжет, который можно назвать драмой отречения, связанной с противоречием между православием и светской культурой. Очень кратко ее можно сформулировать так: между культурным творчеством и «умозрением» («поисками истины») и традиционным христианским «бытием-в-истине» (та самая «философия» византийского монашества, над которой иронизировал Кант) возникает жесткий конфликт, мучительная драма, заканчивающаяся иногда трагедией. Антиномия религиозной аскетики и многообразия светской культуры разрывает человеческое сознание, заставляя делать жесткий и подчас ложный выбор. Эта жажда абсолюта, надрывное желание русской души достигнуть невозможного общеизвестны: Гоголь, сжигающий Мертвые души, Лев Толстой, отрекающийся от творчества во имя моралистической проповеди, поэт Александр Добролюбов, «от мира сего» на десятилетия уходящий в странничество, и многие другие «мученики мысли» XX века. Отголоски этой драмы мы слышим во многих текстах Священного ремесла и одновременно ее преодоление, ибо тема книги – не отречение от культуры, а ее религиозное оправдание, своеобразное богословие культуры в лицах– попытка синтеза в традициях русской христианской мысли конца XIX – первой половины XX столетия.
«Я есмь Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14:6). Путь должен быть не разорван, а завершен, должен быть пройден до конца, и это завершение сложного и долгого метафизического пути мы и находим в книге священника Владимира Зелинского.
Подобные книги крайне редко появляются в современной России: читайте, внимайте и перечитывайте.
Павел Кузнецов
Санкт-Петербург
Введение Возвращение на родину
I
Книга – как дом, куда автор зовет гостей. И первым выходит к ним навстречу.
Собрав вместе эти разрозненные очерки, не могу не задаться вопросом, что связует их воедино? За каждым из этих текстов стоит встреча с давними моими спутниками, учителями, оппонентами, свидетелями того, что было прожито вместе или поодаль. Встреча – это открытие того начала, которое соединяет людей на глубине, соучастие в событии, в котором «невидимость первенствует» (Г. Сковорода). Невидимое – язык искусства, в том числе искусства мысли, которая выносит сокрытое на свет; благодаря слову, смыслу, образу, молитве, воображению, разбуженной памяти мы вступаем в общение друг с другом, приоткрывая то, что в нас живет непроявленным. Непроявленное, не уловленное разумом «граничит с Богом» (как Россия у Рильке), хотя граница, которая отделяет нас от Него, не всегда бывает различима. Она уходит как горизонт, и добираться до нее можно бесконечно долго. Эта книга посвящена мыслителям и поэтам, которые мыслили и жили в этой «пограничной ситуации», осознавали ее, создавали или уходили в страну далече. Речь не идет о «религиозной философии» в привычном ее понимании и не о сумме литературоведческих экскурсов, но еще об одной попытке задуматься над тем, что лежит в истоке мысли и движет словом, пробуждает волю к его воплощению или «вочеловечению» (А. Блок) в художественных творениях или идеях.
Не касаясь множества определений того, что составляет суть творчества, в том числе философского, останавливаюсь на самом емком, ахматовском: «наше священное ремесло»[1]. «Священство» такого ремесла означает и «отправление культа», в глубине своей обращенного к неведомому богу. Всякий человек изначально носит его в себе, ищет его и на пути к неведомому строит культуру из «леса символов» (Бодлер), которыми это неведомое окружает. «Священное ремесло» может помочь служителю культа, которое называется искусством, приблизиться к месту обитания Живого, но скрытого Бога, хотя легко может и подменить его – что часто и происходит – поставив на место неведомого ведомое свое «я» во всех его масках и превращениях.
Книга начинается с исповедального спора о смысле культуры, и этот мотив пронизывает ее с начала и до конца. В споре о тайне, которая скрывается за нашими словами о Боге, зарождается то, что можно назвать «богословием творчества» – не в качестве законченного трактата, расставляющего все по своим местам, но в судьбе мысли каждого из участников этой книги. Здесь собраны очерки, написанные на протяжении многих лет, о людях, очень различных по своему складу, с очень непохожими призваниями и свершениями. Но, встретившись в одном пространстве, они, по воле автора, сроднились между собой. Их родство – в секрете дарения себя в мысли, которая образует сложнейшее переплетение душевных, духовных, словесных волокон, связующих нас с последней реальностью. Эта реальность – прародина каждого из нас, умозрительного, убедительного определения которой никто из философов еще не нашел. Она лежит за пределами нашей мысли, мы наделяем ее именами, несущими какой-то осколок ошеломляющей истины, как «с-нами-Бог» Семена Франка или мучительный отказ от «бога-с-нами» у Льва Шестова, но часто искусственными и своевольными, как «дух музыки» Блока или Абсолютный Дух у Гегеля в его земном, искаженном превращении или истина бытия у Хайдеггера. В этих именах или ключевых терминах ощущается напряженность мысли, которая иногда не в силах прорваться через собственную недоговоренность. Мыслители, о которых пойдет речь в этой книге, каждый по-своему, приближались к Неопалимой Купине, узнавая или не узнавая ее, но всегда оставаясь в ее притяжении. Ее зов, голос, логос живет и движется, пробивая путь или противоборствуя, внутри всякого укорененного религиозного, философского, поэтического мышления. Творчество само по себе нередко служит одним из видов – пусть дальним, косвенным, отраженным – нашей связи с Богом, но эта связь, о чем нельзя забывать, прокладывается в здешнем, падшем мире. Падшесть эту не надо искать на стороне, она в самом нашем «я», вечном сыне противления. Бог зовет нас и оставляет нам свободу действовать, творить, воспроизводить себя самих по собственному усмотрению. «Здесь дьявол с Богом борется…», и противоборство их всегда происходит внутри нашей свободы.
В этой работе мы встретим немало явных и скрытых мучеников мысли: это Гершензон, Шестов, Бердяев, Блок, Толстой. По-своему и Чаадаев с его скорбным вызовом России. По-особому Франк с его прикованностью к Непостижимому. Совсем по-особому Голосовкер, чья радость «честно мыслить» была затоптана – физически, копытами – проехавшему по нему времени. Но и в тех, кого мучениками не назовешь, как столь разные между собой Вяч. Иванов, Гегель, Хайдеггер, Оливье Клеман, о. Лев Жилле, чувствуется огромное напряжение «великой и последней борьбы» (Шестов). Она происходит внутри сокровенного человека (1Пт 3:4), который ищет и создает образы прародины, еще сохранившейся в его интуиции или памяти. «Живая сокровищница даров» у Вяч. Иванова и «Непостижимое» у Франка, «Непотаенное» у Хайдеггера и бердяевская бездна безосновной свободы, как и неслышная песня староверов о Христе, из темных глубин рождающаяся «музыка» Блока и ожившая мифология греков у Голосовкера, нравственный закон у Толстого (русское издание категорического императива) и воды гершензоновской Леты, смывающей все, чем мы наполнили музеи, рукописи и самих себя. Повсюду здесь идет борьба за Бога, обитающего во мгле (ЗЦар 8:12), во мгле внутри нас, борьба, которая часто оборачивается восстанием против Него.
Чем подлинней мысль, слово, образ, тем ближе они подходят к тому, что пребывает по ту сторону человечески выразимого. Поиск невыразимого в самом Откровении владел мыслью Гершензона, Франка, Шестова; неслучайно все они вышли из впитавшейся в них иудейской традиции, где имя Божие не произносится напрасно и окружено молчанием, приблизиться к нему можно только сняв обувь, как Моисей на горе Хорив (Исх 3:5), т. е. отрешившись от наших представлений о Боге. Эти мыслители внесли в русскую культуру ту иконоборческую струю, которая может служить не разрушению, но очищению и обновлению иконы Имени, запечатлевающего священное присутствие. Разве Непостижимое, слово, коим Франк называл то, что бесконечно нас превосходит, но и в нас заложено, не означает принципиального отказа от всего того осознанного и понятного, что связывает нас с Богом? Непостижимое и София – вечный спор между Иерусалимом и Афинами разве не длится и по сей день в пространстве русской и не только русской христианской мысли? Но такому спору лучше дать «высказать себя», чем воздвигать на нем еще одну теорию. «Герои» этой книги, собравшись вместе, по-своему передают драму культуры, как и секрет «поэтического жительствования человека», по словам Гёльдерлина и Хайдеггера. Это жительство – всегда перед Богом, в присутствии Его, даже когда оно настроено противлением.
«Поэтически» – значит в поиске того образа, который возникает не только из выразительных вещественных средств, но и из смысла слов, из кружения мысли, из драмы творчества, пребывающего на границе, в споре противоборствующих сил. Но при этом сами проти-воборцы, как писал Георгий Федотов, «уязвлены Крестом».
Тема каждого из этих очерков, посвященных не столько провозглашенным идеям и миросозерцаниям, сколько людям с их коллизиями, поисками и откровениями – борьба за Бога, близкого или остающегося недоступным. Явно или скрыто эта борьба всегда происходит в творчестве, и прежде всего в той ее области, которая называется мышлением. Благословение и проклятье бродят в самом нашем знании и оспаривают друг друга. Знание, постоянно растущее и умножающееся, несет в себе эту двойственность, оно предлагает небывалые дары и еще не до конца осознанные, но уже исполняющиеся угрозы. Мир гуманизируется, это предчувствовал Блок; становясь все более бесчеловечным, он делается все более субъектным, как утверждал Бердяев; освоенным и пронизанным мыслью (enc cogitatum), как предрекал Хайдеггер, закрытым в человеке. Эта закрытость выступает в интимной сфере искусства, но и в глобальности государства, не знающего ничего, кроме самого себя, о чем, не предвидя последствий, философствовал Гегель. В нем абстрактное мышление, достигнув высочайшего своего уровня и заворожив себя, совершило самое крутое падение, отождествив Дух с чистой самопорождающей мыслью, которая вознамерилась стать владелицей ею покоренной Вселенной…
II
Полет как бы вольной, кажущейся чистой мысли когда-то манил и меня. Но в то время, когда я собирался попробовать расправить свои еще не оперившиеся крылья, мысль, дозволенная к употреблению, менее всего могла звать в полет. То, что называлось тогда мышлением – не на подпольном, придавленном, а на разрешенном, институциональном уровне – было крепко стоявшим на земле министерством-мировоззрением, по типу министерств легкой промышленности или обороны. Философия служила зеркалом, в которое государство, подтягиваясь, часто смотрелось, чтобы увидеть себя разумным, красивым, легитимным, отражающим его научную и справедливую историческую необходимость.
Меньше всего я намеревался рассказывать о себе в этой книге, посвященной великим другим, но так получилось, что эта дюжина очерков соединилась с пройденным мною путем, каким-то своим потоком влилась в опыт моей жизни, а затем, позднее, и отчасти разбудила во мне призвание ко священству. Без малой частицы живого прошлого эта работа была бы, наверное, неполна, точнее, недоговорена.
Самый пространный из представленных здесь текстов относит мою память к весне 1971 года, когда, сидя в библиотеке Института философии в Москве, на Волхонке, я занимался Мартином Хайдеггером, потея мозгом, поглощал его сочинения, намереваясь писать о нем кандидатскую диссертацию. Рядом, под открытым небом мирно шумел бассейн «Москва», и никакое воображение в ту пору не могло предугадать, как уже терявшееся в прошлом предание о когда-то стоявшем на его месте храме Христа Спасителя вскоре станет такой зримой, массивной, торжествующей былью. Диссертация, институт, бассейн, как и книги, которые пробирались к нам из другой половины реальности – все эти привычные декорации советского мира были составными, пусть и не похожими друг на друга частями неподвижного универсума, в котором жизнь устраивалась по неукоснительным, некогда установленным правилам. Правила, известные с пеленок, требовали ритуальных поклонов расставленным на каждом шагу изваяниям. От одной только мысли об этих обрядах, пусть они и не требовали горящих глаз, но лишь ритмично сгибающейся спины, мной овладевала тоска и накатывало ощущение тошноты. Однако тропа, на которую я, было, вступил, требовала попрания брезгливых чувств; в конце концов только она и могла вести юного любителя любомудрия по затоптанным ступенькам не слишком высокой, но четко отмеренной ученой карьеры. Хорошо видимая вершина ее, украшенная пусть небольшим, но академическим рангом и скромным званием, была целью каждого начинающего образованца. Добравшись до нее, обитатель сего Олимпа оставался там до тех пор, пока гроб с его телом не украшали красно-черным полотнищем и не провожали достойной гражданской панихидой в каком-нибудь актовом зале Академии Наук. Широкая дорога туда, которую должен был осилить идущий, вела к унылой зацементированной площадке, напоминавшей тесный прогулочный дворик, разросшийся до границ сверхдержавы. Философия дворика состояла из готовых, сухих словесных полуфабрикатов, которые можно было разжевать, разве где-то чуть размягчая их живыми каплями собственной личности. Саму же личность, явно туда не вписавшуюся, следовало держать от державы поодаль, лучше взаперти, доверяя ее лишь столу или безнадежным беседам с надежными друзьями. Путь был заранее определен и размечен; он пролегал через положенные клятвы, цитаты, уверения и жесты лояльности, даже не слишком обременительные в то время, но без которых никак нельзя было обойтись. Но память мою уже дразнили слова Мандельштама о литературе (к философии куда более применимые) дозволенной и недозволенной. Первая – мразь, вторая – ворованный воздух. В этом определении нет милосердия ко всем большим и малым мыслителям в казенных шинелях Акакия Акакиевича, но уже первый глоток ворованного воздуха – а он тогда уже стал просачиваться отовсюду – вскружил мне голову, опьянив раз и навсегда. Стало трудно дышать иным.
Случилось так, что три самых крупных, настоящих – совсем не в переносном, отнюдь не ироническом смысле – философа той эпохи, сами того не ведая, отвратили меня от пути, на который я уже собирался вступить.
Первым был Эвальд Васильевич Ильенков, мой сосед по подъезду в Камергерском переулке (в ту пору Проезде МХАТа) в доме номер 2, напротив Центрального телеграфа. Мальчиком я нередко оказывался с ним в одном лифте. Он поднимался на третий этаж, я на четвертый. Даже краткое соседство с ним было по-особому интригующим и давящим. Ильенков не был для меня просто одним из жильцов нашего подъезда, он почему-то вызывал симпатию и… неясное сострадание. Словно непонятная, не нашедшая разрешения драма, которая разыгрывалась в нем, заполняла на несколько секунд крошечное пространство лифта. От него часто пахло крепким алкоголем и непонятной бедой, гложущей его изнутри. Для подростка 10 или 12 лет это была ощутимая эманация той отвлеченной мыслительной науки, название которой было не вполне понятно, но внушало почтение, пугая при этом и отталкивая. Насколько я понимаю, сосед-философ был паладином настоящего, верного первозданной чистоте марксизма в системе, где марксизм давно работал лишь в качестве идеологического катка, у руля которого была посажена мумия Маркса. Все играли роль, предписанную заложенным в тот каток механизмом, и партия, и ее генеральный секретарь, и начальник лагеря, и директор института, все, кроме разве марксиста-смыслоискателя, всерьез вознамерившегося мумию оживить. Разумеется, ему было суждено рано или поздно попасть под каток и быть им раздавленным. Его незаурядность, беззащитность, ум, светившийся за очками под взлохмаченной шевелюрой, – все это плотно сосредоточенное в одной личности, часто одетой в видавшую виды шинель без знаков отличия, доносилось из его молчания, которое даже в мгновенном соседстве с ним становилось почему-то напряженным. Только редко-редко, когда губы его бормотали какую-нибудь песенку, а ноги шли не совсем твердо, он, вопреки обычной своей угрюмости, мог сказать что-то приветственно шутливое. Но за первые двадцать лет моей жизни мы не обменялись и полусотней слов. В нем угадывалось что-то надломленное, обреченное, но «полная гибель всерьез» настигла его лишь четверть века спустя, когда я уже давно не был его соседом. От тех запавших в память путешествий в лифте у меня остался осадок трагического предзнаменования, которое, если выразить его по-евангельски, прочитывалось мной, еще не знавшим этих слов, приблизительно так:
На путь язычников не ходите и в город самарянский не входите (Мф 10:5).
Но именно туда я в ту пору и собрался, преодолевая отвращение и тяжесть от нависавшей кругом духоты. В учреждении, служившем мировоззрением, не было, казалось, ни единой форточки, открывавшейся на вольную улицу. И вторым человеком, кто на свой лад предупредил меня об этом, был не кто иной, как Алексей Федорович Лосев, таинственный и великий. Он, впрочем, и философом в те времена не считался, но лишь античником-источниковедом. Я никогда его не видел, но уже тогда и потом много о нем слышал. В ту пору у меня в шкафу хранилась его Античная мифология издания 1954 года, но первым произведением Лосева, которое я прочел, было обширное послесловие к книге Артура Хюбшера Мыслители нашего времени, вышедшей в 1962 году. Мыслители были чисто эссеистическим, ни на какой академизм не притязающим, но живо, свободно, интригующе написанным путеводителем по западной философии XX века, изданным под грифом Для научных библиотек. Гриф означал, что таковое издание предназначалось не для любого читателя, который мог бы при случае купить его в книжном магазине, но предлагалось по закрытой рассылке сугубо своим, идеологическим работникам, к коим относились и члены Союза писателей. Им по должности полагалось быть как-то наслышанными о том, что происходит «по ту сторону баррикад». Книга Хюбшера была как перелетная птица, случайно залетевшая из иного мира и присевшая у моего окна. Ее пение покоряло не мощью голоса, на которую она и не претендовала, но разнообразием замыслов, богатством проектов, цветением «ста цветов» (в книге их было шестьдесят два, но могло быть и много больше), каждый со своим личностным выбором, обильной библиографией, построением и оттенком, изысканным рисунком мыслительных конструкций.
В Послесловии, названном Гибель буржуазной культуры и ее философии (допускаю, что дежурный заголовок был дан редакцией, хотя содержание лосевского текста ни в какое противоречие с заголовком не вступало), Алексей Федорович осудил всех скопом и каждого в отдельности. Причем, с большой эрудицией и даже отчасти по делу. Меня смутили тогда не столько деревянные подпорки из ссылок на Ленина и не ворчливая нотация Хюбшеру, что тот не учел растущей роли марксизма-ленинизма, – это был набор обкатанных словесных колес, без которых, понятно, ни по какой советской дороге было ни проехать, – меня оттолкнуло то раздраженное неприятие, официальное лишь по виду, но – по интуитивной догадке – вполне даже личное по сути, которое вызывало у Алексея Федоровича все это буйно разросшееся многоцветье. Разноголосие, к которому, живи он в другой стране, он вполне мог бы добавить и собственный самобытный голос, казалось ему вульгарным базаром.
Мне было 20 лет, и свобода мысли, чье существование лишь недавно открылось мне, представлялась некой недоступной, но столь желанной в грезах принцессой. Свобода казалась тогда той самой, вдруг обнаруженной жемчужиной, за которую можно было отдать все намечаемое мной устроение в жизни. Родившись, выросши, повзрослев в обществе, где задолго до твоего рождения все существенное было уже выбрано, продумано, запланировано, произнесено, зарифмовано, пропето, выбито в граните, где брак с государственной верой заранее заключался до твоего рождения, я почти физически тяготился этой предрешенностью, исключавшей с самого начала мое, прораставшее сквозь асфальт «я», глухо ропщущее как паскалевский тростник. Для Лосева, так мне казалось, это столь открыто, естественно провозглашенное право на любую вольную речь, на выбранный по своему смотрению стиль, образ, проект, вызов мышления, представало лишь выставкой вывертов и масок индивидуализма, давно себя исчерпавшего. «Экзистенциалистская философия, – учил он советского читателя, который ни вкуса, ни запаха ее не ведал, – как и большинство истеричек, очень любит свою истерию». Ругать то, что нельзя было не то, что хвалить, но о чем не полагалось даже говорить беспристрастно, выглядело не просто социальным заказом, но скорее педантским осуждением всей этой нахальной западной какофонии. Как и ни с того, ни с сего притянутый к тексту пассаж о Г. Г. Шпете, который «в двадцатые годы развивал у нас гус-серлианство в самой истерической и в самой деспотической форме». Мог ли, вправе ли лагерник, выживший и отпущенный, так писать о коллеге расстрелянном, сводя на «большой зоне», выражаясь по-лагерному, когда-то несведенные философские счеты? Именно это слияние частной мысли с генеральной линией, в которую столь органично (казалось) вписался самый оригинальный, еще старый школы философ той поры, почему-то болезненно поразило меня тогда, резко отпечатавшись в моей памяти.
А сам-то что? Думаешь жизнь прожить, никуда не вписываясь? – с пристрастием допрашивала меня старуха совесть. Нет, начав протискиваться вперед, пусть и зубами скрепя про себя, я уже вовсю учился подпевать общему хору. Первую свою статью, она была о Камю, завершил авансом цитатой из Ленина, хотя никто еще от меня ее и не требовал. Я входил в предписанную роль по собственной воле, но во мне занозой сидел какой-то незаглушаемый стыд, с которым я так и не научился договариваться. И, когда можно было, старался как-то выпрямиться и сохранить прямую осанку внутри низенького идеологического коридора. Ведь только по нему и можно было добраться в храм дозволенной, притязающей быть напечатанной мысли. А тот храм, несмотря на всю серость свою, был моим тогдашним соблазном и миражем. Прошло лет восемь, я кончил филфак, но филология особенно не заинтересовала меня, и я начал заниматься философией как бы уже «в системе», в перспективе интересной настоянной на мысли работе, но также – чего уж скрывать? – и научных званий и не совсем нищенских должностей. Для защиты диссертации нужны были публикации, и я, среди прочего, написал рецензию на английскую книгу немецкого философа Фрица-Иоахима фон Ринтелена (он упоминался и в Мыслителях Хюбшера) об истории западной философии XX века, которая редакцией официально престижных Вопросов философии была одобрена. Но перед самым подписанием номера в печать заместитель главного редактора журнала, а им в то время был д.ф.н. Мераб Мамардашвили, потребовал выбросить рецензию из номера как «объективку». «Объективка» – это было меткое, правильное слово. Оно поражало автора, воображавшего, что он может найти себе нейтральное место где-то в своем пространстве «над схваткой». Оно настигало его в тот момент, когда он якобы незамеченным, ползком, собирался пробраться на охраняемую «их» территорию, минуя незыблемых истуканов, у подножия которых нужно было для вида возжечь пучок благовонных трав. Статья-объективка не источала притворно змеиного яда в адрес буржуазной идеологии, не простирала эсхатологических словес к златым берегам будущего; а то и другое непременно должно было присутствовать во всяком тексте, прошедшем цензуру и напечатанном в государственной типографии пленными русскими буквами.
Две роли, функции или маски – одна аспиранта проектируемой карьеры, другая – стоявшего на определенной ступеньке должностного лица, отвечающего за партийную журнальную линию, случайно столкнулись, глухо стукнулись и разошлись. Позднее, уже в перестроечные годы мне довелось однажды встретиться с Мамардашвили, поговорить о русской религиозной философии и легко найти с ним общий язык. Но речь – об осени 1970 года. Через несколько месяцев, летом 1971 (все никак не могу подобрать нужных слов для описания того, что тогда произошло со мной вопреки моим планам и ожиданиям), словно оказавшись на берегу моря, я был настигнут какой-то теплой волной, поднявшейся из глубин, и она накрыла меня и забрала к себе. И не отпускала более. Я вошел в совершенно иной, непривычный мир, легко освоил его словарь, принял крещение в благословенном, оставшемся навсегда родным храме, укрывшемся в переулках рядом с моим институтом. Искушение академической карьерой оставило меня само собой. Больше я никогда ничего не писал, что могло бы пройти по госстандартам. Но теперь, когда мой взгляд задерживается на книгах Лосева и Мамардашвили, собравшихся на моих книжных полках, я испытываю к ним нечто подобное благодарности. За вовремя сделанную прививку и преподанную науку. Мне никогда не приходило в голову осуждать их, говорю лишь о том, что однажды было пережито и осталось со мной. В ту пору я еще не знал, что это были мыслители громадного масштаба, и не думал о том, как они мучились от своего тягла.
Так, недолго потолкавшись на пороге сего языческого святилища, я покинул его навсегда. Рассказываю о том безо всякой апологии бунта, диссидентства или собственной неуместной гордыни. Таков был воздух конца 60-х начала 70-х годов, в эпоху уже заявившего о себе инакомыслия, первого робкого возвращения в Церковь, когда только-только завязывалась и эта книга. Как и более ста лет тому назад, в начале минувшего века, история, как вулкан, дремала, посапывая за бассейном «Москва», досматривая последние сладкие сны, и никто из прозорливцев еще не предполагал, что она вот-вот проснется.
III
Я кончил книгу и поставил точку, И рукопись перечитать не смог. Моя судьба сгорела между строк, Пока душа меняла оболочку. Арсений ТарковскийКнига эта неожиданно для меня по мере возникновения приобретала внутреннюю форму философской автобиографии. Когда-то я собирался написать опыт богословия культуры, но в одно утро утратил все черновики и рукописи вместе с мешками книг в результате обыска, посетившего меня в начале 1985 года. Я полагал их безопасными, не зная, что когда не находят того, что ищут, забирается подряд все, написанное рукой или напечатанное на машинке. С тех пор я не возвращался к этому намерению, попытавшись на свой лад передать интуицию такого богословия, если это слово уместно здесь, через драматический опыт мысли, пережитый другими. Лучше всего познаешь себя и свой замысел, заглядывая в чужую близкую душу, осваиваясь в ней и перевоплощаясь. Нужно обладать харизмой бердяевской раскованности и мощи, чтобы решиться на Самопознание. Тот, кто на такое обладание не притязает, обращается к «вечным спутникам», ибо по их следам мы прокладываем и путь к себе. Мы осознаем их причастность тайне Божией, открывая ее прежде всего в лике Христовом, но также – пусть отдаленно – ив собственном существовании.
Все эти подступы к тайне-родине, узнаваемой сквозь тусклое стекло (1Кор 13:12), были мной на свой лад пережиты. В опыте, сложившемся в них, созревал тот выбор, который ведет меня по жизни и сегодня. Оглядываясь на них, сознаю, что и мое священство, призвавшее меня в поздние годы, отчасти подспудно связано как с этими, так и с другими, не упомянутыми здесь встречами. Так же, как и с обретением корней в русской и европейской, а затем и в святоотеческой мысли. Цель каждого из этих очерков, достигнута она или нет, в том, чтобы по возможности приблизиться к образу Бога Живого, который явлен или скрыт, иногда искажен, но экзистенциально подлинен в судьбах и образах художников мысли или слова, вышедших из разных традиций. Это не произведение «служителя культа» в строго церковном смысле, но несколько попыток «странствований по душам», языком которых рассказывал о себе Шестов. «Странствований», решусь сказать, вослед Христу, странствующему повсюду, во всех культурах, религиях, душах. Там, где Его искал и находил Монах Восточной Церкви (о. Лев Жилле, который стал мне как «брат родной по музе, по судьбам»). Они, по сути, никогда и не прерывались. Я больше вглядывался в лица этих мыслителей, чем в их тексты, в поиске тех следов, которые Бог оставил в каждом из нас.
Осень 2016
I
«На пире Платона во время чумы» (Вяч. Иванов, М. Гершензон. Переписка из двух углов)
Нет, пастернаковская строка – не провоцирующая аналогия, а дружеский спор двух писателей – пока не платоновское пиршество. Да и время их беседы, еще не чума и не конец света. Участников ее рано принимать за пушкинских лихачей: завтра сгинем, ныне же погуляем вдосталь на трапезах духа. Да если бы и были у них основания для такого веселья, разве знали о том пирующие по своим углам сотрапезники? Застолье их выглядит странным, кто-то пришел на него лишь по долгу соседства. Один из друзей приглашает другого к столу, тяжелому от снеди, а тот отводит его руку в сторону и твердит свое: чистой воды мне дайте. И если бы сам он уподобил разговор их пиршеству, то, не считаясь с любезным тоном, заговорил бы о своей тошноте. И о вежливости позабыв, воскликнул: и пития ароматные ваши отравлены. Впрочем, слова эти едва ли не произнесены в полный голос, почти в лицо устроителю трапезы, но произнесены спокойно, нерезко, неоскорбительно. Однако именно этот страстный, монотонный протест настраивает и всю эту тоненькую книгу, что поистине «томов премногих тяжелей».
То, что вызывает благоговение одного, представляется безысходным пленом другому. Там, где европейское человечество веками училось находить свои жизненные ориентиры, он «заблудился в сумрачном лесу». И чуть ли не кошмаром видятся ему платоновские облака идей, оледеневшие водопады непреложных, давящих, незыблемых истин. С таким восприятием, понятно, не хочет согласиться само взрастившее их культурное наследие, отрядившее на таковое прение одного из самых чрезвычайных и полномочных своих послов. Да и тот ниспровергатель основ тоже не похож на варвара; для оспаривания культурного своего наследия европейское человечество нашло весьма искушенного оппонента.
I
Никто эту Переписку не задумывал, она возникла случайно. Ольга Дешарт (Шор), биограф Вячеслава Иванова рассказывает:
«Друзья В.И. выхлопотали для него разрешение провести два месяца в одной из московских здравниц “для работников науки и литературы”. В те годы “буржуазные” особняки были обращены в санатории, где находили приют и отдых замученные и переутомленные люди умственного труда. В скромных, но по тогдашним понятиям роскошных комнатах “здравниц” можно было порою встретить наряду с обычными “работниками” и изысканнейшую элиту русской духовной жизни той поры» (О. Дешарт, Введение к Первому тому Сочинений Вячеслава Иванова).
Они оказались соседями по комнате – Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Шел 1920 год, в Москве третий год новой эры, но вот «здравницы для работников» уже, оказывается, существовали. Революция умела быть и великодушной. Или, скорее, это Буревестник ее, утомившись «гордо реять», взывая к буре, принялся теперь хлопотать о разоренных ею гнездах «науки и литературы».
Вспоминая об этой встрече, Лев Шестов затем напишет:
«Они… стали переписываться после того, как много и долго прежде разговаривали и лишь когда убедились, что дальше разговаривать нельзя. Почему нельзя? Может быть, потому, почему у Достоевского не могли разговаривать меж собой Шатов и Кириллов: ведь большевистская здравница мало чем отличалась от того американского сарая, в котором жили герои “Бесов”» (О Вечной Книге. Памяти М. О. Гершензона).
Но хоть далеко ей было, наверное, до нынешних гостиниц и былых домов творчества, все же понапрасну он о сарае. Если бы новая власть и впредь отбирала для них «работников», не вдаваясь в свои определения того, какой надлежит быть их работе в науке и литературе, не предписывая, как организовать мышление и поэзию, как пользоваться разумом и воображением, разом махнув рукой и на свои каноны и на здравницы, какое же шествие предстояло бы русской культуре? Оно началось уже с первых подступов «религиозного ренессанса», с эпохи великих поисков и экспериментов десятых-двадцатых годов, оно было предвещено поразительным стечением талантов, чьи голоса вот-вот прорезались или уже звучали в полную силу.
Целой страницы, а то и не одной, не хватило бы, пожалуй, на перечисление только имен первого ранга: мыслителей, поэтов, художников разнообразных дарований, которые накатившей на них историей были убиты, уморены, перемолоты или выброшены вон. Речь идет не только о жертвах – узниках и мучениках и не только об изгнанниках, но и о тех, кому предстояло едва ли не худшее: принять насилие или соблазн «исторической необходимости» за веление сердца.
По словам Теодора Моммзена, которые часто вспоминал его ученик Иванов, «мировые события, идя на землю, отбрасывают вперед свои тени». Одна из этих теней легла, несомненно, и на эту Переписку. Мы хорошо видим ее из далека прошедших десятилетий. И потому можем взглянуть на этот спор в перспективе двойного опыта культуры: того, что был осмыслен его участниками, и того, что впоследствии был усвоен нами.
«Мэтр», «вождь», «Вячеслав Великолепный», «король невенчанный», прославленный и ославленный, предмет восхвалений и восторгов, но и мишень сплетен, сказок, нелепых инсинуаций – Вячеслав Иванов поражал, волновал, раздражал, «очаровывал» людей – этот наскоро собранный ворох давних слухов и впечатлений, вынесенный еще из «мирного времени» мы находим у самого благожелательного из его биографов – Ольги Дешарт.
«…единственное в своем роде сочетание и примирение славянофильства и западничества, язычества и христианства, философии и поэзии, филологии и музыки, архаики и публицистики» (Федор Степун).
А вот уже более развернутая оценка, взгляд, брошенный с иного расстояния – Николая Бердяева:
«В России он был человеком самой утонченной культуры. Такого и на Западе не было. Ценила его главным образом культурная элита, для более широких кругов он был недоступен. Это не только блестящий писатель, но и блестящий causeur. Со всеми он мог говорить на тему их специальности. Его идеи по видимости менялись. Он был консерватором, мистическим анархистом, православным, оккультистом, патриотом, коммунистом и кончает свою жизнь в Риме католиком и довольно правым. Но в своих изменениях он всегда оставался самим собой. В жизни этого шармера было много игры. Приехав из-за границы, он привез с собой религию Диониса, о которой написал замечательную и очень ученую книгу. Он хотел не только примирить, но и почти отождествить Диониса и Христа. Вяч. Иванов, как и Мережковский, вносил много язычества в свое христианство, и это было характерно для ренессанса начала века. Поэзия его также хотела быть дионисической, но в ней нет непосредственного стихийного дионисизма… Вяч. Иванов был человеком многосоставным и многоплановым, и он мог оборачиваться разными своими сторонами. Он был насыщен великими культурами прошлого, особенно греческой культурой, и жил их отражениями. Он частью проповедовал взгляды славянофильские, но такая гиперкультурность была не русской в нем чертой. В нем не было того искания правды, той простоты, которые пленяли в литературе XIX века. Но в русской культуре должны были быть явлены и образы утонченности и культурного многообразия. Вячеслав Иванов останется одним из самых замечательных людей начала века, человеком ренессансным по преимуществу» (Русская идея).
Заметим: здесь говорится об Иванове только начала века; он еще переживет Бердяева, былого своего друга, соучастника многих изданий, председателя на знаменитых «средах» – симпозионах, собиравшихся на ивановской «башне», но не странно читать нам написанное им «был человеком». А меж тем за этим прошедшим временем, как и за нашим равнодушием к нему – один из разрывов русской культуры. Живой и пишущий в Риме поэт Иванов для Бердяева из Кламара, для петербургско-парижской России, да и для Русской Идеи в тогдашнем ее, сороковых годов издании – «был».
Бердяевские характеристики точны, трезвы, давно выношены, хотя многолетняя эмигрантская выдержка не всюду пошла им впрок; на ветру прошедших десятилетий они, по правде говоря, задубели и стали несколько жестковаты. Был ли Иванов действительно консерватором, мистическим анархистом, оккультистом или «довольно правым»? Всех этих клейменных слов чешуя как-то совершенно не прилипает к нему; идеи его меняли кожу, зацветали и отцветали; Вячеслав Иванов оставался самим собой.
Когда он пишет статью о неприятии мира (т. е. «мистическом анархизме»), он утверждает свое неприятие не только как «аскетическое» «Доколе?», но и как «жертвенное нисхождение духа в мир, жертвенно им приемлемый, дабы преображен был мир его любовными лобзанием и кротким лучом его таинственного «Да».
Когда после революции он «служил в учреждениях» (кормил семью и «был коммунистом»), а затем четыре года профессорствовал на кафедре классической филологии в Баку, он не переживал каких-либо мировоззренческих ломок и не издавал послушно-восторженных кличей, а словно бы пропустил мимо вдруг бросившуюся бегом бежать историю, ею оставаясь внутренне не задетым.
Он оказался в Баку в конечном счете не только потому, что там отыскалась для него кафедра, но и потому, что туда поманил, там открылся уголок его ивановской эйкумены… «Я люблю Баку, – писал он Брюсову, – с его генуэзскими очертаниями, с его иерусалимскими холмами, с его выжженными высотами и врезанными в камень колеями пригородных дорог, с его скорпионами, фалангами, змеями в расселинах камней и сухими благоухающими травами по теменям скал». Брюсов звал его в Москву для совместной работы, где в то время прокладывалась и пылила столбовая дорога истории, ну а в Баку было, наверное, больше солнца.
Солнце же для Вячеслава Иванова было залогом всех его «да», всех разноречивых «приятий мира».
«Есть поэты от Да и поэты от Нет. В поэзии В. И. Да есть основной звук и первый двигатель. Недаром само имя его – Вячеслав – значит славословие» (О. Дешарт).
В «мистическом анархизме» его славословий одно сердечное Да не создавало в нем тотчас жесткого заслона из многих бескомпромиссных Нет, но зачастую протягивало руку другому Да, не менее ликующему и горячему, сколь бы двусмысленным и изменчивым не казался этот союз славословий. Хотел ли он «отождествить религию Диониса и Христа»? – или же (очарованный Ницше и сын того «двоящегося» времени) слишком долго не мог разделить их? Н поначалу даже нашел какое-то внутреннее примирение между ними – поэтическое и научное одновременно – в Эллинской религии страдающего бога.
«Дионис для эллинов – ипостась Сына, поскольку он “бог страдающий”? Для нас же, как символ известной сферы внутренних состояний, Дионис, прежде всего, правое как, а не некоторое что или некоторый кто, – тот круг внутреннего опыта, где равно встречаются разно верующие и разно учительствующие из тех, кто пророчествовали о Мировой Душе» (,Две стихии в современном символизме).
Тем и характерен Иванов – слитостью и множественностью своих Да. В этом один из истоков его поэзии, но и искус эпохи, весенней и будоражащей. Через хмель ее прошли, так и не переварив его до конца, и Розанов, и Мережковский, и даже Бердяев. У Иванова же и сама добротность и «нагруженность» его познаний, и несколько наигранная утонченность, поражавшие современников, настояны на каком-то хмелю, высокое здание его культуры как будто слегка качает. И если, как говорит Бердяев, «такого и на Западе не было», это значит, что едва ли там, где хмелю и трезвости положены строгие границы, умели так тесно соединять познания с верованиями, так безоглядно бросать их на весы интимнейших убеждений, так органически претворять их в поэзию. Там давно уж, вероятно, не рождалось тех великолепных ученых-поэтов, чья ученость была столь поэтической, что порой уже не хотела и не могла отделить себя от изучаемого ею мифа. Какому еще из исследователей дионисийства, будь то сам Ницше, придет на ум всерьез повести дионисический хоровод, украсив венком лысеющую голову?
Здесь вспоминается еще один отзыв, может быть, и неверный, соблазнительный, но слишком живописный, чтобы им пренебречь – Андрея Белого:
«…золоторунная, изумрудноглазая его голова с белольняной бородкой, которую он отпустил, наклоняясь лоснящейся красной лобиной с загнутым носом, ронявшим пенсне к дамским ручкам, с пугавшей свирепою вежливостью, обрывавшей сборки спотыком о юбку, опускалась перед старцами, впавшими в детство, политикана-ми-мастодонтами, юными девочками, перед пупсами, перед багровой матроной, пред светскою львицей; стадами поэты стекались к доброму пастырю, чаровнику, даже уши дерущими так, что, казалось, щекочет под ухом» (Начало века).
Читатель поймет: танец пера сам себе здесь главный закон, и живописность корыстна в погоне за словом, и внутренний ритм правит смыслом, владеет и водит памятью, но вот одно из признаний неожиданно открывает нам того Вячеслава Иванова, которого мы встречаем как раз в Переписке.
«…совсем перестал я бояться медовости, кажущейся лишь “иезуитической” тонкости: до “чересчур” эта тонкость рвалась; ригорист, фанатический схематизатор с нею таился в приеме: пробраться в чужое сознание, выволочить подоплеку, ее подтащить к себе, очаровать, полонить, покорить, сагитировать, в сложных идейных интригах на версту всем видных, с наивной лукавостью жизнь проводил… все ведь интриги его бескорыстны…»
Бескорыстие следует поставить нам в центр; при всей своей сложности Иванов внутренне целен. При всем избыточном его артистизме не чувствуется в нем припрятанного где-то расчета на впечатление, при всей языковой «котурности» не проступает в его стихах поэтичности сделанной, внешней. Всякий заметит: между его поэзией и прозой нет привычной твердой преграды, они близко соприкасаются в тематике и стиле, они как бы еще не разделились окончательно. Иной раз его стихи как будто хотят убедить, полонить мыслью, завлечь в тонкосплетенную идейную интригу, но тут же он готов бескорыстно поделиться ею в ученой или философской статье, и мы видим: его убеждения и идеи суть те же пласты поэзии, прошедшие переплавку.
Издали Вячеслав Иванов видится, конечно, иным; рельефней выступает его связь с русской культурой, с ее темами и традицией, с ее характером и духовным строем. В нем была та пушкински знаменитая «всемирная отзывчивость» ко всякого рода иррациональным стихиям – стихиям времени, стихиям стиха и мысли, стихиям различных вер и даже стихиям земли. Его верования, как и порождаемые тексты, исходили от него волнами, посылаемыми «духом музыки», по-разному в нем звучавшей. И потому музыкальность – женственная музыкальность – его облика неотделима от его религиозности. Это соединение музыки и религии в неком поэтическом центре называлось им привычно «мистикой».
«Мистика», которая бродила в нем, то и дело прибивала его к островам различных «твердых» мировоззрений, а затем так же легко смывала с них в свой океан. И потому первичной оставалась в нем эта уступчивая покорность ее волнам, ее иррациональным, захватывающим ритмам. Наглядней всего эта черта проступала в поэтах (Блок и Белый), живших под властью лирических волн, у Иванова же, прежде всего, – сознательно выбранная установка. Трудно сказать, что стояло у него в начале: экстатический порыв или решение следовать порыву. Но во всех порывах и решениях своих он неизменно оставался художником, сотворяющим из волн твердые, хорошо ограненные, словесные вещи.
Это единственное призвание, которому он всегда следовал, по-своему хранило его; всю жизнь разговаривая на высоких приподнятых нотах, расхаживая запросто среди им воздвигнутых декораций, нигде не выглядел он нелепо, почти нигде не подводило его чувство меры, каденции, вкуса. И в многообразии вер никогда не нарушал он изначальной связующей верности. И когда вопрос ставился или-или, он умел делать выбор между Дионисом и Христом. На склоне лет, уже будучи католиком (впрочем, не столь уж и правым), он скажет о своей последней окончательной вере и настоящем выборе:
«Мое присоединение (к католической Церкви – авт.) должно было стать безусловным ответом на вопрос, который Революция поставила нашей совести: – “Ты с нами или с Богом?” И вот: если бы я не избрал партии Бога, то уж, конечно, не из-за тоски по прошлому отошел бы я от дервишей вселенской религии навыворот» (Письмо к Шарлю де Босу).
Таким мы встречаем Вячеслава Иванова и в Переписке: художником своего мировоззрения, мыслителем, но верным не умозрительной, а своей сердечной, поэтовой правде, артистом в деле убеждения, спорщиком-гипнотизером, легко меняющим приемы, и даже профессором, выговаривающим плохо поспевающему за его мыслью студенту. Здесь он отстаивает религиозное призвание культуры, то запредельное, скрытое начало в ней, которому всегда служил и как ведомому и как «неведомому» богу. Однако в этом споре бессильным выглядит все его искусство, а доводы и славословие – тщетными. Его собеседник упрямо остается незатронутым ими. Не то, чтобы он был к ним глух и невосприимчив; напротив, голос Иванова – отчасти и его собственный голос, голос его настоящего и прошлого.
II
Лет за десять до встречи из двух углов Вячеслав Иванов посвятил своему будущему корреспонденту стихотворение под притязательным именем: Совесть:
Когда отрадных с вами встреч В душе восстановляю повесть И слышу, мнится, вашу речь, — Меня допрашивает Совесть: «Ты за день сделал ли, что мог? Был добр и зряч? Правдив и целен?..Однако в те времена – в эпоху написания Нежной Тайны (начало десятых годов прошлого века) – Совесть, говорившая тогда устами М. О. Гершензона, устраивала ему не очень трудный экзамен; она допрашивала Иванова лишь о чистоте слога его поэзии. Такую Совесть легко было уговорить, скорее даже поставить на место притворной сдачей и заявкой на поэтическую вольность:
А, впрочем, помолчу. Кто – геометр; кому – быть зодчим… Но не в пример зоилам прочим, Все ж вам понравиться – хочу.И вот ныне, этот давний, наверное, уже полузабытый разговор с совестью возник вновь. Оба собеседника говорят здесь от ее имени. Но спор идет теперь не о слоге, но, собственно, о слове, что оно значит во внутреннем мире человека: бремя или богатое наследство, свое оно там, исконное там или навязанное и чужое? И на этот раз совесть (которую хочет переубедить Иванов) говорит устами и признаниями Гершензона. Она не произносит бесповоротного осуждения, не учиняет суда, но просто исповедуется в своей секретной и смертной усталости от засилья многих важных и омертвевших слов в душе. Она признается в тайной ностальгии по немоте. И вот, интонация совести, столь ясно различаемая в Переписке, обусловила то, что книга сбылась. Хотя никто и не вышел в ней теперь победителем.
Историк русской общественной мысли, издатель ее классиков, крупный ученый, самобытный мыслитель, член множества редколлегий, исследователь многих архивов – какой памятью помянуть нам Михаила Осиповича Гершензона? Он был одним из тех, чьи усилия, часто остающиеся как бы на полях столбовых дорог, проложенных другими, делают возможным само существование культуры как осмысленной исторической памяти поколений, как традиции, как духовной школы или просто сплоченной семьи, хранящей и чтущей свою родословную. Призванием Гершензона было соединять разрозненное, возвращать из забвения. Как и Иванов, он был эрудитом и художником, но художником чужих жизней, чьих-то поисков, путей и судеб. Он мог бы показаться сторонним созерцателем культуры, если бы не то напряженно личное отношение к ней, то внутреннее родство с ее создателями, которое ему было свойственно. Андрей Белый изображает его несколько неожиданно; рядом с умиротворенно светлым обликом гершензоновских книг из-под разбежавшегося пера словно вырастает древний прообраз кочевника, южанина, наследника меченосцев:
«Под очками хмурого, очень строгого лика, с напученными губами, обрамленными курчавой растительностью, – лика, внушавшего страх, когда он откидывался в спинку кресла, – под очками этого лика из глаз вырывались огни; под крахмальной грудью – кипели вулканы, в иные минуты казалось, что будет сейчас тарарах: где устои культуры? Где выдержка мудрости? Только огонь, ураган, землетрясение.
Ученейший культуртрегер явил мне не раз мощь в нем живших природных стихий…» (Между двух революций).
Здесь же встречаем и уловленный опыт восприятия работ Гершензона, вписанный памятью в «рамки эпохи»:
«…стоило перенести данные очерков в зрительное восприятие – вставали полотна, которые были бы лучшими украшениями «Мира Искусства» – таковы исследования о Печерине, братьях Кривцовых, такова Грибоедовская Москва, идущая в паре с лучшими постановками Мейерхольда».
Но далее не идет Андрей Белый – до глубинных душевных истоков им отмеченной зрительности. Зримость, жизненная пластичность фигур, представленных Гершензоном в его очерках, связана, на мой взгляд, с неким секретом его зрения, с тем особым взыскующим вниманием к чужой душевной жизни, которым это зрение направлялось. Хотя и здесь – даже не память, не впечатление, но слово Андрея Белого, которое у него так часто быстрее, догадливей мысли, что-то подсказывает:
«…но главного своего он не выразил в книгах: смутного лепетания над данностью мира – из темного переулка; лепетания напоминали древние руны…»
«У Гершензона отсутствовало чувство собственности: он был бесконечно дарящим, даже не мыслью, но семенами мыслительности».
Мне думается, подлинную его жизнь сопровождала щемящая, куда-то загнанная тоска. В отличие от стольких поэтов, он не мог найти уюта в своих экстазах, не влюблялся в свои видения, боли, зовы и трепеты, он влюблялся в чужие. В противоположность Иванову, который, отдавая себя стихам, не ведал при этом какого-то стороннего, всматривающегося в себя «я», Гершензон, несмотря на столь личную привязанность к образам прошлого, никогда не мог слиться с ними, утратить сокровенный пафос дистанции. Он был участливо вовлеченным, добро завистливым зрителем чужих судеб; отсюда – зримость его биографий. Он искал вечных спутников, с которыми мог бы разделить жар и холод, прекрасные, горькие, невидимые миру порывы души. Вот обращается он к жизнеописанию Владимира Печерина, известного до сих пор лишь по краткой, как будто скользнувшей по нему главе в Былом и думах, вглядывается в его судьбу, ищет разгадать ее смысл: что заставило его, младшего современника Пушкина, романтического поэта и классического филолога (не духовного ли предка Вячеслава Иванова?) с проклятьем бежать из России, что сделало его католическим монахом?
В противоположность Вячеславу Иванову, бывшему – удивительно счастливое его свойство – в разных языках, разных странах, разных мировоззрениях – как-то легко и интимно дома и у себя, никакого вкуса к ностальгии не имевшему, Гершензон даже внутри себя кажется как бы бездомным. И приглядывается к таким же: рядом с «мятущимся» Печериным словно «застывший» Чаадаев – что было ключом его жизни, мысли, учения? Почти десять лет он собирает его письма и рукописи, перелагая свою тягу к человеку в самую добросовестную исследовательскую работу. И вот результат: и по сей день лучшая книга о Чаадаеве, лучшее на то время собрание его сочинений. От этих патентованных «ненавистников» России Гершензон без всяких скачков и изломов (ибо не в мировоззрениях было дело) обращается ко влюбленным в нее славянофилам, к их смятенности и устроенности, к теплу их веры и прочности родовых гнезд. Однако устроенность как будто отталкивает его; скорее его тянет к тем, кто почему-то не успел досказать своего слова, выполнить своей жизненной задачи – словно он хочет досказать и помочь. Поэтому в его галерее славянофилов рядом с братьями Киреевскими (Иваном, так и не довершившим свою философию, Петром, так и не успевшим собрать русских песен) не хватает Хомякова, знаменосца движения, вполне успевшего, в глазах Гершензона, слишком твердо стоявшего на ногах (в этом он, пожалуй, ошибался). И на месте Хомякова, как кто-то заметил, странная пауза в его Исторических записках.
Особой радостью было для него восстановление утраченного, приобщение к безвестному и потерянному, когда речь шла о личности, казавшейся близкой:
«Мы знали бы о И. П. Галахове очень немного, если бы не уцелела пачка писем на французском языке к женщине, которую он любил. В этих письмах сказалась такая полнота жизни, так ярко отразился в них дух времени, что они дают возможность заглянуть не только в душу писавшего их, но и вообще в душу «человека сороковых годов» (История Молодой России).
Так начинается одно из его паломничеств в чужую судьбу, происходит еще одна встреча, за которой следует возвращение к себе, к неутоленной потребности в людях и в духовном очаге, разыскиваемом всегда на чужой земле.
Видимо, в последнее десятилетие своей жизни М. О. Гершензон стал задумываться о внутреннем движущем смысле всех этих странствований по душам. Этот смысл следует искать лишь в том, что выше и глубже душ человеческих и вместе с тем от них неотъемлемо. В одной из последних своих книг Ключ веры, вышедшей через год после Переписки с Ивановым, Гершензон по логике своего пути, но внешне, может быть, неожиданно, обращается к Библии, к Завету своих предков, своих корней.
«Кто хочет понять человека и себя самого, должен бросить лот в самую глубокую идею, какую создал человеческий ум, – в идею Бога. Она поразительна в целом, как предвосхищение единой мирообъемлющей истины, еще и теперь смутно брезжащей перед нами; трудно понять, какой опыт открывал полудиким людям тайну вещей, казалось бы, вовсе недоступных чувственному познанию» (Ключ веры).
«Идея Бога» в Библии, может быть, последняя из его дорог на духовную родину, куда, как мы знаем из его признания в Переписке, ему не удалось вернуться. Закономерно и трагично: он исследует «идею Бога», невольно повинуясь тем навыкам мышления и тому культурному достоянию, на которые так последовательно восстает, от коих с такой ноющей живой болью хочет избавиться. Он находит эту идею в космически правильной, методологически упорядоченной человеческой жизни. Человек раздирается между потребностью в свободе и жаждой благоденствия, «благоденствие дается ему только за отказ от свободы», он мечется между тем и другим, упиваясь то свободой, то благами земными, которые посылаются ему только за рабское, рассудочное послушание. «Мудрость опыта учит его уступать понемногу, то в одном, то в другом; он не в силах отказаться ни от одного из своих желаний – остается примирить их, согласовать в количестве… Трудная и тонкая работа жизни!» (Ключ веры).
Подберем к этому «ключ» Ницше: «Перенесите эти слова, – советовал он, – в душу человека, написавшего их».
Книги о вере, написанные людьми, желающими действительно понять ее, и не вовлеченные в размышления о Боге институциональной профессией или особым призванием, иногда сохраняют в себе какую-то неожиданную свежесть настоящего поиска. Человек, обращенный к Богу, даже если он не принадлежит ни к одной из Церквей, уже в меру своего обращения – свидетель.
Конечно, никакой «внутренней клети» действительно верующей веры мы не отомкнем гершензоновским «ключом». Даже если примем «идею Бога» в качестве «образа мира, познанного как единство действующих в мире сил», или «закономерной объективации человеческого духа». Даже если согласимся с нею как с «регулятивной идеей», исходящей из волящей субъективности нашего миропознания, по Канту и Шопенгауэру, о которых вспоминает Гершензон. Регулятивная или иная «идея» Бога – не Бог Живой, Которого всякая вера знает абсолютно Иным и более Близким к нам, чем мы сами. Разве интуиция веры, которую мы так непосредственно чувствуем в авторе, помирится когда-нибудь с идеей методического урезывания человеческой свободы ради покорности космическим мировым силам, владеющим ключами благоденствия? Покорится ли она своему культурному дедуктивному методу, когда внутри себя знает, древним, родовым чутьем слышит: там, где Бог – кончается рабство, там – неслыханная свобода?
Окончательного возвращения не произошло и теперь. То, что для Иванова освоенная обетованная земля, для Гершензона – мираж над пустыней сорокалетних странствий. В «очарованном страннике» по душам, о котором должна сохраниться благодарная память у читающей и, стало быть, все той же, нестареющей Молодой России, мы узнаем иудея, заблудившегося в диаспоре среди европейских умозрений.
«Я живу подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране…» (Переписка…)
III
«Друзья заняли каждый по углу в их общей комнате и, по старому обычаю, по целым дням что-то рассказывали и спорили. Сказал однажды сосед соседу: «Мы слишком много разговариваем и мешаем друг другу заниматься; давайте лучше обмениваться письмами». «Отлично, – отозвался насельник противоположной стороны общего «квадрата», – у нас получится “Переписка из двух углов”» (О. Дешарт).
Пришло ли им на память, что их Переписка, еще не возникнув, уже вписалась в традицию, оказалась в пространстве русских споров? Конечно, иначе название книги не явилось бы на лету. «Два угла» – геометрические символы общего духовного «квадрата», общего наследия неразрешимых вопросов, отгороженного и все же когда-то вольного жилища русских проблем, всемирных, жестких и угловатых, всплывающих заново чуть ли не в каждом поколении.
«Господа, – говорил Белинский, охрипнув под утро спора, – мы никак не можем расходиться, ведь мы еще не решили вопроса о Боге…» Не расходимся до сих пор.
У небольшой книжечки оказалась неожиданно счастливая судьба. По версии О. Дешарт, рукопись увидел С. М. Алянский и уговорил авторов издать ее в своем издательстве «Алконост», хотя она, впрочем, и без того писалась с расчетом на публикацию. Она, понятно, не печаталась в советской России, но в той, которая пришла ей на смену, переиздавалась несколько раз. В XX веке была переведена на ряд европейских языков, вызвав множество откликов.
Ее ожидали десятки переводов и переизданий.
«Чудесный, волнующий, радующий и болезненно пронзающий документ» (Е. Лундберг).
«В послевоенное десятилетие, – говорится в одном итальянском журнале, номер которого в 1933 году был целиком посвящен Вячеславу Иванову, – появились два кратких размышления о европейской культурной традиции, оба редкостно возвышенные, каждое со своим своеобразием и стилем; одно – «метаполитическое», другое – религиозное… – La crise de l’Esprit Валери и Переписка между Ивановым и Гершензоном» (II Convegno).
Немецкий историк культуры Эрнст Роберт Курциус в книге Deutscher Geist in Gefahr (которую нам не удалось раздобыть) назвал эту переписку «самым важным из всего сказанного о гуманизме после Ницше».
Кризис духа или скорее разума по Полю Валери – «в свободном сосуществовании во всех образованных умах самых несхожих идей, самых противоречивых принципов жизни и познания» (La crise de l’Esprit). Пусть так. Но вправе ли мы всерьез говорить о кризисе, не желая видеть или выбрасывая, как «нечистый метафизический продукт» именно то глубинное начало в человеке, которое только и дает жизнь нашему духу со всеми его принципами и идеями? Вне этого, не обнажаемого мыслью, питающего корня – который глубже нас – кризис духа на рациональной плоскости легко становится комфортом разума, когда «любой мозг известной высоты служит перекрестком для всех видов мнений»; когда «что ни мыслитель, то всемирная выставка идей!» Допустим. Но разве слова и идеи, не высветленные изнутри, утратившие видимую связь со Словом, должны быть сообразными друг другу? Но уже Поль Валери как будто догадывается, что кризис духа, войдя в обиход, завершается интеллектуальным комфортом. Он изображает Гамлета (который есть символ европейского разума), сидящего на огромной террасе Эльсинора (который есть символ Европы) и размышляющего о жизни и смерти истин. Гамлет со скукой перебирает черепа: этот череп знаменит, «когда-то он был Леонардо» (который есть символ европейских изобретений). Вот другой череп – Лейбница, «грезившего о всеобщем мире. А вот тот – был Кантом (который есть символ критики познания)… Kant qui genuit Hegel, qui genuit Marx, qui genuit…» (La arise de l’Esprit).
… помимо скучающего многоточия Маркс в каком-то смысле породил также известные события, которые как раз и могли бы – впрочем, неожиданно для самого Маркса, Гамлета и Валери – стать законным оправданием для той христианской фразы, с которой и начинается Кризис духа:
«Мы, цивилизации, знаем теперь, что мы смертны».
В Переписке, правда, нет этой рассудочной риторики европейского ума, находящего удовольствие в рассуждениях о своем кризисе. Но то, что Валери дано было сказать, Гершензону было дано пережить: смертность культуры, перегруженной истинами и знаниями, чьи духовные родники обезвожены.
Начало этой малой, но плотной книги, по сути, за пределами ее текста. Вероятно, из-за жары, какая иногда бывает летом в Москве, обоим писателям не работалось, и Гершензону, кто знает? – может быть впервые захотелось поделиться ощущением внутренней тяжести и духоты… И в ответ на его признания в Иванове пробуждается дифирамб, порыв к славословию… Начало его бесхитростно и смиренно.
«Знаю, дорогой друг мой и сосед по углу нашей общей комнаты, что вы усомнились в личном бессмертии и личном Боге. И не мне, казалось бы, отстаивать перед вами права личности на ее метафизическое призвание и возвеличение. Ибо, поистине, я не чувствую в себе самом ничего, могущего притязать на вечную жизнь» (Письмо /).
Начало Ивановского письма – человек перед вечностью: исповедание собственной смиренной малости. Но от покаянной или показной нищеты разговор тотчас поворачивается к богатству, оно заключено в личности пишущего, обители Бога невидимого, созидающего все то, что эта личность внутри себя порождает.
«Я знаю Его в себе, как темное рождающее лоно, как то высшее, чем преодолевается самое лучшее и священнейшее во мне, как живой бытийственный принцип, более содержательный, чем я, и потому содержащий в ряду других моих сил и признаков, и признак личного сознания, мне присущий. Из Него я возник, и во мне Он пребывает» (там же).
Развитие и завершение Первого письма – Бог в человеке: исповедание богатства.
Иванов говорит о Боге, открывшемся через личность и память со всем культурным ее достоянием. И потому его слова, как бы они ни были точны, сочны и лично правдивы, остаются словами о содержании его религиозного «я». И потому то, что дано, обращается в то, как оно усвоено. Не сам Бог Откровения, перед Которым всякое «я» умаляется, но наше живое ощущение бытия, принцип, который рождается из этого ощущения, стихия, которая соединяется в нас с этим принципом, или «символ известной сферы внутренних состояний…»
В Первом письме Бог почти сливается с душевной плотью культуры.
… Но для «другого угла» такой бог во плоти символов и «внутренних состояний» – камень вместо хлеба. Нет, собеседник Иванова не усомнился в личном бессмертии и той реальности, залог которой заключен в личности, «но об этих вещах, мне кажется, не надо ни говорить, ни думать». «Заоблачное зодчество», – отвечает он, – праздное и безнадежное дело.
Тема Гершензона: в ответ на предложенное религиозное и культурное богатство, коим его владелец так щедро готов поделиться, – ностальгия о нищете.
«Какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радостным, и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки, помня из прошлого только одно – как было тяжело и душно в тех одеждах, и как легко без них» (Письмо II).
Это еще не спор, но перекресток исповеданий. Они еще не отделились от своего «рождающего лона», не обросли аргументацией, не заострились в полемике. Мы застаем их в состоянии «человеческого документа». И видим: письма из двух углов не доходят друг до друга. Между ними – барьер несообщаемое™. Об этот барьер ударяются два религиозных опыта: символический, облачающий, и разоблачающий, экзистенциальный. Впрочем, слово «религиозный» слишком аморфно, поверхностно и вторично; Гершензону хотелось бы смыть с себя и все «религиозное», чтобы выйти на берег к очищенному от религий и образов Богу – нагим.
Желание вырваться из культурных одежд, которые прилипли к душе, жажда воли и внутренней наготы на берегу реки, текущей из рая, – все это противоположно и пафосу и жизненному делу Вячеслава Иванова. Он всегда трудился над созиданием того храма Памяти, который Гершензону представляется низким, сырым подвалом. Ивановский храм – собор памяти поколений, в котором человеческая душа находит свое подлинное «я», ощущая свою к нему сопричастность. В последующих письмах он будет защищать или, если угодно, пропагандировать свое дело все более тонко, все более напористо и даровито. Это уже не просто дар слова, коим он наделен, но дар прожитой им жизни, который он хочет здесь отстоять и еще раз выразить.
«Я не зодчий систем, милый М. О., – отвечает он Гершензону, – но не принадлежу к тем запуганным, которые все изреченное мнят ложью. Я привык бродить в «лесу символов», и мне понятен символизм в слове не менее, чем в поцелуе любви. Есть внутреннему опыту словесное знаменование, и он ищет его и без него тоскует, ибо от избытка сердца глаголят уста» (Письмо III).
IV
Задолго до Переписки Вячеслава Иванова повелось именовать «декадентом». Упадочником или символистом, что в то время означало, в общем, одно и то же. Для Иванова же это было нечто противоположное. «Будем, подобно Ницше, настороженно следить за собой, нет ли в нас ядов упадка, заразы «декадентства».
Что такое décadence? Чувство тончайшей органической связи с монументальным преданием былой высокой культуры вместе с тягостно горделивым сознанием, что мы последние в ее ряду. Другими словами, омертвелая память, утратившая свою инициативность, не приобщающая нас более к инициациям (посвящениям) «отцов» (Письмо VII).
Лукавая тонкость этого определения заключается в том, что декадентом оказывается именно тот, кто смеет называть Иванова декадентом. Здесь он ссылается на Льва Шестова, опубликовавшего в 1916 году статью Вячеслав Великолепный. (Как и все шестовское, эта статья не столько о «Великолепном», сколько о своем шестовском, но через него острым косым лучом из глубины внезапно извлекается то, что составляет секрет другого). А разоблачаемый им секрет Иванова в том, что: «он, как истинный упадочник, готов верить в кого угодно и во что угодно, только ему было бы обеспечено, что первозданный хаос, как он говорит, не разорвет наложенных на него тысячелетних культурных цепей». Его идеи перестали питаться соками, идущими от жизни, и потому пожелтели, оделись в багрец и золото. Дар Иванова – по Шестову – в том, чтобы выразить пышное увядание культуры, т. е. мировоззрений, идей, «словесных знаменований». Как будто их глубинные корни подрублены у самого основания, и потому так по-осеннему красочен одолженный у Бодлера «лес символов»; над декоративной его красотой уже, как говорится, веет тленный дух.
Спор с Шестовым, да и с Гершензоном, идет по сути об этих уходящих в память веков корнях нашей культурной и религиозной памяти, связующих ее с жизнью или с Источником всякой жизни… Этот Источник питает нас, как он питал отцов наших, они живы в нас, благодаря этой живой, связующей нас нити посвящений (здесь бы Иванову вспомнить о Федорове!), и будут жить в наших отдаленнейших потомках, ибо «ни одна йота новых когда-то письмен, врезанных на скрижалях единого человеческого духа, не прейдет» (Письмо VII).
В том же письме Иванов не оставляет и Шестова без ответа: «Его надлежит предоставить его демону: пусть мертвые погребают своих мертвецов. Поверить ему, значит допустить червоточину в собственном духе…». И далее с несвойственным ему немудрящим оптимизмом провозглашает: «будем верить в жизнь духа, в святость и посвящения, в незримых святых окрест нас, в бесчисленном слитном сонме подвизающихся душ, и бодро пойдем дальше, не ози
раясь и не оглядываясь, не меря пути…»
Но уже нечего было мерить, путь тот был на исходе. Путь русской культуры, которая одевалась «в багрец и золото» в сочинениях Вячеслава Иванова, была ведома и впитана им, едва ли не был тогда завершен. Правда была более жесткой: он был оборван и, может быть, осужден. Поэту предстояли еще мирные, долгие годы жизни, и недаром последняя (лучшая) книга его стихов называется Свет Вечерний. Но она принадлежит уже частной судьбе поэта Вячеслава Иванова, а не тому «предводителю подвизающихся душ» в «монументальном предании культуры», которым он хотел себя ощущать.
Корни «в багрец и золото» одевавшейся культуры были подрублены; исторически Лев Шестов оказался неожиданно прав. Но пока оптимизм Иванова неподделен: «бодро пойдем дальше». Впереди же ему издавна представлялось примирение Поэта и Черни в «умном народном веселии», в соборном действе и большом мифотворческом искусстве. Ибо миф соединяет уединенное бряцание на лире с младенчески бурной Чернью, и Поэт – орган самопознания ее древней души – становится, сойдя с башни, ее «жрецом и иерофонтом, пророком, магом, теургом».
Вся его предшествующая жизнь художника мысли, в стихах или прозе была им задумана, чтобы служить прологом к этой грядущей соборности, вышедшей из свободной словесной игры. Мировая культура, казалось, нашептала Иванову на ухо все свои заветные, невысказанные доселе чаяния, и он со столько же поэтически продуманной и условной, сколь и первозданной наивностью поверил их «веселой науке» своего творческого «веселия». Она, культура, словно призналась ему в своей тайной тяге к материнскому лону культа, и он указал на миф о Дионисе: в начале было «внутреннее состояние» или экстаз. Из экстаза родилось слово, из слова сказание… Из нашептываний мифов, из «сказаний» в поэзии и в прозе не родилось какой-нибудь «культурфилософии» в западном строгом смысле; его тексты должны быть внутренним событием читающего, его символы должны «восхитить» иную, реальнейшую реальность…
«В каждой точке пересечения символа, как луча нисходящего, со сферою сознания он является знамением, смысл которого образно и полно раскрывается в соответствующем мифе» (Две стихии в современном символизме).
«Образ и подобие высших реальностей, отпечатленные в символе, составляют его живую душу и движущую энергию; символ – не мертвый слепок этой реальности, но ее наполовину оживленный носитель и участник. Однако лишь наполовину жив он и хотел бы ожить до конца; с самою реальностью, им знаменуемой, хотел бы он целостно слиться. Символ – слово, становящееся плотню, но не могущее ею стать; если бы же стало, то было бы уже не символом, а самою феургическою действительностью. И этот эрос символизма и действия свят; но дело, которого алчет символизм, не смертное и человеческое, но бессмертное и божественное дело» (Мысли о символизме).
С. С. Аверинцев, наверное, единственный, наследник Вячеслава Иванова, переплавивший и очистивший «дело» его в себе, напишет: «Символизм держался верой, что настоящая жизнь символиста начинается с некой инициации…» (Скворешниц вольных гражданин…)
Непосвященный, который станет доискиваться конкретных смыслов, последних ответов о «бессмертном и божественном», только запутается в изящном, чуть тяжеловатом кружеве фраз. Чтобы почувствовать или понять, нужно быть приобщенным к инициации. При пересечении со сферою познания всякий символ заявляет прежде всего о многоликости и музыкальности своих смыслов. Но это не музыка Блока (сквозящие в душе ритмы времени, вихри страсти), не музыка символистов французских (звонкий разбег стиха), в ивановских символах музыка должна выразить и явить собою нечто платонически вечное: «божественное всеединство последней реальности». Символизм алчет свести эту реальность с неба на землю, одеть ее «плотию» здешних смыслов, слов, красок, которые, собственно, и получают от этой истинной, неисчерпаемой реальности право быть символами. Из символов же «художник ткет драгоценное покрывало Душе Мира, как бы творя вторую природу, более духовную и прозрачную, чем многоцветный пеплос естества» (Заветы символизма).
Душа художника уходит корнями в миф, который ее питает, в Душу Мира (одно из имен для «реальнейшего»); но не есть ли эта «большая» душа только проекция человечески здешней души символиста? Не помещается ли само «реальнейшее» (одно из имен для мифа) в символической душе?
Но Иванов – мастер снимать неуместные вопросы и разговаривать с чернью с маленькой буквы – маловерами, критиками, скептиками и могильщиками символизма:
«Символизм умер? – спрашивают современники. “Конечно, умер!” – отвечают иные. Им лучше знать, умер ли для них символизм. Мы же, умершие, свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на наших поминках, что смерти нет» (Спорады).
В «феургической действительности», которую созидает символический художник, нет ни сомнений, ни смерти. Бессмертие же, как читаем мы в Переписке, достигается преодолением всего обособившегося, «огненной смертью в духе». А точнее сказать – в символе. Грандиозность поставленной задачи все же заставляет усомниться в ее серьезности.
«Огненная смерть в духе», – отвечает Гершензон в последнем письме, – совершенно не нужна для культурной работы; кроме того, она такая же редкость, «как превращение блудниц в святых». Если бы ему пришлось разъяснить свою мысль, он мог бы добавить, что это всего лишь одна из культурных ценностей, рядом с ивановской «огненной смертью» трудно и погреться. Из нее еще могут рождаться только тексты, звенящие символическим многомыслием как сказочные (не скажу: бутафорские) кони, подкованные злато-серебряными подковами. Поэт взлетает на них к вершинам, белеющим сразу же за оградой здешней действительности, и зовет за собой. Я же и с этой земли не в силах приподняться под гнетом навалившихся на меня вечных ценностей, как и символов, – откликается другой угол, – что мне до «огненной смерти».
Не так уж часто художник, жизненное дело которого – созидание новой реальности, дерзает на претворение в своих символах реальности запредельной. Не так уж часто мыслитель – не бесплотно и переносно – но так вольно, как «власть имеющий», посягает умозрениями на бессмертие. Однако такова предпосылка ивановского символизма в его звездный час – созидание новой реальности, прозреваемой им в глубине вещей, эстетическими средствами. Горнилом такого созидания служит для Иванова его мистика. В мистике совершается таинственно сладостное слияние души художника с облюбованным им «реальнейшим» или, может быть, с самою Душой Мира, освобожденной от всяких покрывал.
«Мистика, будучи сферой последней внутренней свободы, есть анархия» (Идея неприятия мира). «В ее волнах движется комочек «безусловно самоопределяющейся волевой монады, утверждающей свою независимость от всего, что не она, будь то воля Божества или мировая необходимость» (там же). Мистика – это замкнутый круг «восхищений» реальнейшего, священных безумств, вещих догадок, тяготений к «полюсам сверхличного», «последних «Да», погребенных в последнем Молчании, и вращающихся вокруг собственного религиозного центра. Иванов любил повторять строку Леопарди: E il naufragar m’è dolce in questo mare. «И сладостно тонуть мне в этом море». Тонуть в иерархии благословений, восходящих к Богу, по мысли Иванова (Письмо III).
Бог, конечно, не водоем, чтобы в нем тонуть. Но на символических подступах к Нему Он по-своему отражается в неких играющих водах. У раннего Иванова Бог предстает чем-то подобным идеальной объективации его «восхищений», крушений и взлетов. Когда художник вглядывается в Него с земли, он видит лишь Очень Большого и Очень Взыскательного Художника:
«… и суд Его, думается, будет взглядом мастера, обманутого в своих ожиданиях ленивым или нерадивым учеником. Кто скажет, что наши добро и зло – критерии божественной критики Художника? И не хочет ли Он только того, что мы назвали бы талантом? И всякий талант – не воспоминание ли о едином Мастере и Его искусстве?» (Спорады).
Так культура, подымаясь от праха к небу, строит и там свой замок. Снизу вверх: от человеческого мастерства – к единому Мастеру, от мистики и художества – к Праискусству. От восхождения – к богостроительству. От эстетической утопии – к символопоклонству.
Если бы Вячеслав Иванов был менее поэтом и более богословом, то выступил бы, наверное, с оригинальной «теологией культуры». Раньше Пауля Тиллиха и, вероятно, куда изысканней, он выразил бы его мысль о том, что «культура – это форма религии, а религия – это субстанция культуры». Но Иванов, как и подобает поэту, захотел воплотить то, о чем другой мог бы только рассказать. Он, не обещав, создал религиозный миф о культуре, символическое сказание о ней.
V
Семена этого мифа рассеяны в строках и между строк Переписки. Здесь уже нет былой его, пышной поросли; что-то стало более строгим и ясным в самом Иванове. Но разговора, по сути, не получается; мы видим с одной стороны проповедь, с другой – аргументированный отказ эту проповедь слушать. Как проповедник Иванов обнаруживает нечто большее, чем искусство, и то, что он говорит, выношено им десятилетиями, осмыслено, взвешено и переговорено, должно быть, сотни раз. Мысль его стала сильнее и тверже без лепных украшений, а речь – менее прихотливой, но более подкупающей. Пахучие, чуть дурманящие цветы, оказывается, то
лько мешали ей.
«Вы сирена, мой друг, – признает Гершензон, – ваше вчерашнее письмо обольстительно. Мне казалось – сама культура, олицетворившись, лукаво прельщает меня своим богатством и с любовью остерегает от разрыва с нею. Да, ее голос неотразим для меня: разве я не сын ее? Не блудный сын, как вы думаете, а что тяжелее, сын блудной матери» (Письмо VIII).
Грех культуры наследственен, Гершензон ощущает его в глубине своего духа как нечто внешнее, привнесенное. Он не столько вооружается против него – ибо «всякий довод, подъемлющий меч, от меча погибает», – сколько ищет слова, чтобы выразить свое подспудное, прятавшееся всю жизнь ощущение несвободы от тех знаний, умозрений и доводов, которые в нем теснятся и преследуют каждое движение души. Он хочет найти предшественников – «Мне мерещится, как Руссо, какое-то блаженное состояние – полной свободы и ненагруженности духа, райской беспечности» (Письмо IV), – и вот он выслушивает от Иванова безукоризненное рассуждение о грехе и об отравленности самых истоков духовно-душевной жизни. Речь Иванова права, но боль Гершензона здесь правее. Потому что Иванов хорошо организованной речью хочет переубедить боль.
Оба говорят о грехе; Иванов даже зовет к принципиальному отречению от грехопадения культуры («Ибо для верующего его вера по существу отдельна от культуры…» Письмо V), но Гершензон твердит о нем тем невысказанным, для которого любые умозрительные слова (в том числе о грехе) должны находиться под запретом. Грех он исповедует болью совести или, как говорит Экклезиаст, «томлением духа». (Это образованная совесть рассудительна; примитивная же, древняя совесть почти безъязыка, она объясняется скорее мычанием). И вот едва ли не мычанием, какой-то кручиной, которая не находит верных и точных слов, Гершензон доносит до нас гнетущую мысль собственной совести. Возьмем на себя смелость перевести эту мысль изречением любимого им Гераклита: «Многознание уму не научает». Не научает уму, не очищает сердца, не делает более свободным и зрячим в мире. И прежде всего не научает быть личностью, т. е. не соединяет человека с тем сокрытым в нем началом, с той тайной его самого, где только и хранится его подлинное, сотворенное для вечности «я». А что есть мировая культура, как не накопленное и навязанное нам знание? Гершензон жалуется не столько на ученость свою, сколько на внутреннюю тесноту своего «я», на его изношенность и закрытость. Многознание закрыло от него какую-то личную правду, которая была ему нужна, или волю, по которой он тосковал; в давке разного рода сведений заглохло то единственное, настоящее, плодоносящее знание, которое в нем пробивалось.
«Я отдал бы все знания и мысли, вычитанные мною из книг, – говорит он, – ив придачу еще те, что я сам сумел надстроить на них, за радость самому лично познать из опыта хоть одно первоначальное, простейшее знание, свежее как летнее утро» (Письмо IV).
Он не верит и в веру: «она делит участь всех его душевных состояний: она заражена рефлексией, искажена и бессильна» (Письмо VI). Над личной – «только моей» – верой клубятся отвлеченные ценности: «громады Богословия, Религии, Церкви» (Письмо VIII). Не верит, но хочет прямого – не опосредованного формулами, не искаженного чужой мыслью (и потому «не-мыслимого») ведения Бога, хочет быть один на один, с глазу на глаз, и тем самым неизбежно остается вне веры, с «религиозным чувством». Но оно столь живо, молодо, сильно, что оказывается в чем-то убедительней теплой, «многознающей» веры Вячеслава Иванова, и тот это чувствует.
В признаниях своего корреспондента Иванов слышит свое, знакомое: соблазн отречения, беспамятное бегство, интеллигентское опрощение. Он подозревает, что идеал Гершензона «есть инстинкт с его имманентной телеологией» (Письмо IX). Многознание отличается домовитым пристрастием к порядку; все должно лежать по местам в его большом ученом хозяйстве. Но за этим пристрастием – тот же инстинкт внутренней целесообразности: те доводы или те «символы сердца», которые у Иванова служат для оправдания культуры – метафизическое достоинство личности, живая историческая память, смысл истории, «посвящения отцов», – все они также слагаются в созерцании некоего порядка идей, и если взглянуть на него издали как на единое целое, ему не откажешь ни в строгости, ни в красоте.
Культура предстанет этому взгляду в виде иерархического строя символов, соответствующих первореальности или пути к ее постижению, на котором все более ясным и творческим для Вячеслава Иванова становится «самосознание человека как «забытого и себя забывшего бога» (Письмо XI). Смысл культуры, как можно разгадать его по Иванову (именно смысл, а не видимое существование ее в произведениях искусства или философии) есть воплощение мысли Творца или самой божественной жизни в символе, способном – как верит художник – ее вместить и выразить. И потому настоящее творчество – в конечном счете всегда обращенное к Богу – понимается Ивановым как движение вглубь или скорее как «…духовное возрастание, лестница небесная, нагорный путь. Довольно выйти в дорогу, найти тропу, остальное приложится само собой» (Письмо V).
Тропа Вячеслава Иванова – то единственное «ознаменование», что ведет от зримого к подлинному, – подымается круто вверх. Образ или мотив этого движения постоянно мелькает в его письмах. «Весь смысл моих к вам речей есть утверждение вертикальной линии, могущей быть проведенной из любой точки, из любого «угла», лежащего в поверхности какой бы то ни было, молодой или дряхлой культуры» (Письмо VII).
«На каждом месте, – опять повторяю и свидетельствую, Вефиль и лестница Иакова…» (Письмо XI).
Для вас культура – «система тончайших принуждений», – пишет он Гершензону уже в Третьем письме, «для меня же она – лестница Эроса и иерархия благоговений».
«Лестница Эроса». О ней в платоновском Пире Сократ приводит рассказ мудрой Диотимы. Эрот, сын Пороса и Пении, обитает где-то посередине между богами и людьми. Он – посредник между ними. Внушая людям любовь к прекрасному, он ведет их от созерцания красоты чувственных вещей к созерцанию чистого и высшего блага. И тот, кто восходит к этому созерцанию, рождает и истинную добродетель, и ему достается удел богов – бессмертие.
Между тем, имя Диотимы было для Вячеслава Иванова ознаменованием любви. Это было домашнее имя Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал. Затем оно как бы по наследству перешло к Вере, дочери умершей Лидии, ставшей женой Вячеслава и внезапно скончавшейся в 30 лет через несколько дней после выхода Иванова из здравницы.
VI
Если Переписка из двух углов не окаменела для нас, не стала одной из литературных реликвий, это случилось благодаря тому, что спор о культуре стал состязанием двух видов любви. У Иванова за его апологией и символикой – «иерархия благоговений», которую ощущаешь за всеми его ассоциациями и образами. Он благоговеет перед собранным до него и в нем отложившемся богатстве посвящений, в котором личное сливается с коллективным, соборным, запечатленным в иконах прошлого. Он живет в восхищенной памяти о культуре как на обетованной земле. «На каждом месте… повторяю и свидетельствую – Вефиль и лестница Иакова» (Письмо XI). Но лестница Иакова, упираясь в землю, подымается к небу, которое возвещает о себе через икону. Небо не принадлежит лишь художнику, находящему для него символы; оно пронизывает собой все творение. Культура становится подлинным посвящением – так я понимаю Иванова – когда прикасается к свету неба и удерживает его в себе.
Этот свет открывается любовью, которая находит его внутри и вне человека, как его начало и средоточие. «Любовью человек исполняет естественный закон, – говорит Гершензон, – ибо любовью «я» растворяется в «не-я» (Тройственный образ совершенства). В ее свете (пусть лишь едва мерцающем для наших глаз) – центр его личности и, стало быть, творчества. Иванов ощущает его в себе неким пришельцем, «светлым гостем» бессмертия. «Этот гость недаром посетил меня, – пишет он в самом начале Переписки, – и во мне «обитель сотворил». Цель его, думается мне, одарить гостеприимца непонятным моему рассудку бессмертием. Моя личность бессмертна…», – потому – осмелимся мы добавить – что двигательное начало, тайну ее составляет любовь как «инициация посвящений», накопленных памятью. Но Гершензон ощущает эту светлую тайну иначе – как недостижимую родину, огражденную со всех сторон чужими «знаниями» и «культурой». Ему все время хочется перебраться через эту ограду и вернуться на совсем другую обетованную землю, которую он смутно различает, но хорошо чувствует. Издали он почти видит ее долины, почти вдыхает ее запахи, он как бы уже касается, осязает ее – любовью. Удача этой книжицы в том, что мы готовы поверить и той и другой любви и следовать за обеими.
«Две любви создали два града», – приводит Вячеслав Иванов слова блаженного Августина в эпиграфе к своей поэме Человек. Но два размышления о любви и создали два пути человека к самому себе. Один из них ведет к утопии здешнего града, построенного из символов, указующих на пока непонятное небо, другой движется к утопии духовного освобождения и раскрепощения, достигаемого ценой отказа или бегства от символов и «инициаций». Культура, полнота которой в этом споре неимоверно возрастает, едва ли не отождествляясь со всяким проявлением нашего разума и духа, в данном случае есть только внешняя тема спора; его суть, ядро – это обретение личности перед Богом. Культура есть только «поле битвы», где решается вопрос о том, как личное может вновь стать глубоко интимным и в то же время восприниматься как всеобщее, но тем самым – и как Божие; ведь Богу принадлежит самое интимное и глубокое в человеке. И как человек во всяком своем проявлении – благодаря культуре или вопреки ей – может узнать, по словам обоих корреспондентов, подобно Марии, «заодно и Свое дитя, и Бога» (Письма X, XI).
Ответы Иванова и Гершензона различны, как различны жизненные пути их, но «обители», сотворенные в них «светлым гостем», пребывают неподалеку друг от друга. Поэтому через душевное и аргументированное их несогласие пробивается нечто объединяющее их, то, в чем соприкасаются обе правды. Две любви, когда они подлинны, могут встретиться и в раздоре. Истина о культуре и человеке едина, хотя имеет два лица или две души.
Тратить себя на «словесные знаменования» или отказываться от них, «как от вещей, полученных взаймы», возводить строительные леса для храмов или уходить в пустыню…
Двойственностью этих решений отмечены уже сами корреспонденты. В те дни, когда Вячеслав Иванов жил в здравнице, рассказывает биограф, он начал цикл сонетов, весьма далеких по звучанию от дифирамбического тона его писем. De profundis amavi – как называется этот цикл по аналогии с началом 129-го Псалма – Из глубины воззвах. В этих стихах рассказывается, как медленно спадает «сновиденье жизни, долгий морок», как любовь, отданная вначале «пожару дремучей плоти», пробуждается и прозревает себя в единственной и настоящей любви, которая дана человеку:
…Расточися ворог! Воскресни Бог!.. Уже давно не дорог Очам узор хитро заткавшей тьму. Что ткач был я, в последний срок пойму; Судье: «Ты прав» – скажу без оговорок…Да и Гершензон в те времена не только не переставал быть членом ученых обществ, но и продолжал задумывать и писать статьи и книги; среди них Ключ веры и Гольфстрем, в которых хотел отыскать себя скорее в пути к истокам своей культуры, нежели в отречении от нее. Его отречение оставалось частным делом, мятежные и мрачные ноты души, поселенной в душной здравнице, заглушались дневной текущей работой; сама резкость его слов объясняется тем, что в момент их рождения (но не записывания) они предназначались не для посторонних ушей, но лишь для одного давнего, понимающего друга.
«Наша речь и слово словно затканы паутиной…»; «Я все время говорю о соблазнах в духе, о яде в крови, которая есть сама жизнь; я говорю именно о самом ценном, что добыто в тысячелетнем существенном опыте…, я говорю, что этот живой источник духовного бытия отравлен и уже не животворит…» (Письмо VIII).
Притвор Царства Небесного. Тяжесть внутренней преисподней. Два опыта культуры начинают свой спор в Переписке. Отзвук этого спора слышен и в нас.
VII
Не расслышим ли мы за этим спонтанным и, должно быть, впервые выговариваемым движением гершензоновской усталости от культуры одно из основных ощущений людей нашего времени? То, что писалось из двух углов, давно провозглашается на кровлях. Ощущение накопленных знаний как отравленных колодцев, дегуманизация искусства, механизация душ, призрачность человеческого существования… «Властители мысли» единодушно вынесли общий диагноз: невозможность человека быть самим собой. Или уход в отчуждение, выражаясь языком классической философии. Если принять этот стершийся от долгого употребления термин, то в ответах Гершензона мы можем прочесть один из самых ранних и достоверных симптомов этой философской болезни.
Есть отчуждение по Гегелю, учившему о несчастном, т. е. раздвоенном сознании, заключающем в себе противоречие с самим собою. Есть отчуждение по Фейербаху, который считал, что человек отчуждает от себя свою реальную сущность, наделяя ее иллюзорным бытием в религии (которую в понимании Гершензона можно считать частью культуры). Ницше видит отчуждение в морали и прежде всего в христианской. Хайдеггер, не столько разоблачитель, сколько художник отчуждения, описывает его как растворение человека в безликости некой стертой социальной усредненности. Марксисты Франкфуртской школы (других не стоит и касаться), связывая отчуждение с теорией товарного фетишизма, углублялись в разыскания о фетишизме идеологическом и культурном в качестве ложного сознания постиндустриального общества. Фрейд прямо указывает на культуру, вырастающую на отчуждении от непосредственных жизненных влечений и основанную на принуждении, объявляя ее таким образом необходимой, но лукавой укротительницей нашей подспудной, темной, рвущейся на волю «звериной» души. («И печальна так и хороша темная звериная душа»). У Гершензона же на волю рвется душа младенческая, которая хочет встряхнуть свою «умную», усталую взрослость. В любом из этих «отчуждений» мы, если захотим, легко отыщем тот или иной ключ к гершензоновской тоске от культуры.
Но попробуем сойти с этих протоптанных троп, повернув к традиции библейского понимания отчуждения – отчуждения от Имени.
Читателя Библии, раскрывающего ее впервые, кажется, не может не поразить одна вещь. Тот, Кто называет Себя «Господом» и «Сущим», Кто так мощно и многообразно проявляет Себя в истории Его народа (Исход из Египта, дарование Закона, завоевание Земли обетованной и т. д.), требует для Себя только одного: веры и верности. Требует беспощадно: почти всякое уклонение наказывается незамедлительно и жестоко. Но если блага земные так щедро посылаются за покорность Закону, – как думал и Гершензон, а непокорность так явно и гневно карается, можно ли в таком случае колебаться? Израиль же – как «трость, ветром колеблемая». Зачем же ему все эти золотые тельцы, все эти капища Ваала, если за них больно били и отцов, и дедов, и прадедов? Зачем? Вероятно, Ваалы и тельцы по-своему удовлетворяли какой-то снедавшей людей мистической или, по-нашему, культурной потребности, которую едва можно было сдержать всеми громами, язвами и нашествиями иноплеменников. Идолы вообще больше соответствовали естественной религиозности, которую люди спешили насытить, как только оставались без видимого присмотра. Они больше «устраивали» языческую душу, в чем-то были ощутимей и понятней, чем тот Неосязаемый и Обитающий во мгле, перед Кем даже шестикрылые серафимы, объятые страхом, закрывали очи. Однако существовала какая-то неоспоримая связь между этим нераскрытым, полным неистовой мощи Именем и всем народом-богоизбранником, как и всякой его частицей. Разрушение этой связи прелюбодейкой-женой, образ которой так часто принимал на себя Израиль, влекло за собой внезапное перерождение безумия любви в неистовство ярости.
Имя Божие охранялось рядом заповедей («не делай себе кумира и никакого изображения…», «не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно…»), а также цепью ритуальных запретов, и все же сохранить его было невероятно трудно. Сама буква Закона могла вытеснить Бога и сделаться идолом. Идол требовал беспамятства. «Се, оставляется дом ваш пуст».
Когда в Первосвященнической молитве Христос произносит слова Я открыл Имя Твое человекам… (Ин 17:6), это означает, что святая святых присутствия Божия распахивается миру. Откровение или раскрытие Имени утверждает новый статус человека: в глубине своего я он может прочитать ставшее предельно близким ему божественное Ты. И отныне сопряженность с Именем – одного или многих – оживает и обновляется. Имя словно выходит из-под спуда, сбрасывает покровы. Человек осознает свое неслыханное призвание – быть носителем и сосудом этого Имени, быть живым изображением его святости, его таинством, словом.
О том же учил Вячеслав Иванов в своей поэме Человек (хоть и странно сказать «учил в поэме», но Иванов действительно «пел» как «учил», излагая затем учение в поэтических размышлениях): человек познает свое «аз есмь» либо как сын – в обращении к Ты ecu, либо как мятежная тварь: «я есмь весь в себе и для себя». Человек подлинный – человек любящий, поднявшийся по ступеням любви к своему другому, к «Ты еси». Так писал Иванов в статье Лик и личины России, служащей теоретическим осмыслением поэмы и одновременно введением к исследованию о Достоевском. (Три тесно переплетающихся побега, выросших из одного корня). Пробравшись через хитросплетенную вязь своих стихов и теологумен, он завершает статью простым исповеданием веры: «В наши дни с особенною проникновенностью звучат, повторенные могильным отзвуком тяжкого ряда веков, старые, а в устах Достоевского так дивно юные, слова Петра (Деян 4:12) о Христе: ибо нет другого имени, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
Отчуждение от спасительного Имени, укрытого в человеке, есть начало замыкания человека в вымышленном или сфабрикованном им мире. (По Иванову: «искуситель исчез, себя же почувствовал человек висящим в пустоте содержимого им мыслимого мира»). Но гершензоновское рабство у культуры – не то же самое? Разве мир остывших, окаменевших ценностей не ограждает со всех сторон источник живого, внутреннего тепла? Отчуждение началось не вчера, но чуткая или нервная современная мысль ощущает его тоньше, острее. И свидетельствует о нем по-своему. Но всего настоятельней заявляет она о безымянности, анонимности, неподлинности окружающего его мира (в том числе и «мира идей»), когда дом ее оставляется пуст и возмездие стоит у порога, когда распадается «связь времен», традиций и верований.
«Гигантская система современной культуры – писал Гершензон в своей пророческой и забытой книге Тройственный образ совершенства (1918), всецело движется на двойственном отвлечении. Отвлечение – специальный метод культуры, другого орудия она не имеет, совершенствуя искусство отвлечения, культура развивается».
Отречение от культуры в Переписке – одно из таких свидетельств. Оно тем более подлинно, что не претендует ни на какую особую трактовку, не берется говорить за будущее, не надстраивает на своем отрицании новой и позитивной культуры. Свидетельство Гершензона тем более весомо, что доходит до самых глубоких корней отчуждения духа, до «самого ценного, что добыто в тысячелетнем опыте существования. Автор нисколько не вменяет его себе в заслугу; напротив, его отказ от «общего культа» с Ивановым и со всеми культурными людьми только мешает его дневному служению «на культурном поприще». «Но в глубине сознания я живу иначе… Неумолчно звучит мне оттуда тайный голос: не то, не то! Какая-то другая воля во мне с тоскою отвращается от культуры… Ей скучно и не нужно все это, как борьба призраков, мятущихся в пустоте…» (Письмо XII).
Но за тем, что прямо говорится в этих письмах, стоит еще и другое. За ощущением чуждости и греховности культуры – неизбежность суда. Человек Библии, Гершензон слышит в себе и то приближение кары, что мучительно созревает во всяком опыте идолослужения. Кары над чем? Над умозрениями и плодами творчества? Неужели суд должен разразиться не только над людьми с их грешными телами и душами, но и над созданиями их рук и изделиями духа, над самой «лестницей Эроса» с ее ступенями платоновских созерцаний?
Вместо ответов нам даны лишь догадки. Задолго до переписки с Ивановым М. О. Гершензон писал в веховской статье Творческое самосознание: («ивановское» именование которой уже говорит о некоторой ее иноприродности духу нынешних писем):
«Все мы, образованные, знаем так много божественной истины, что одной тысячной доли той, которую мы знаем, было бы достаточно, чтобы сделать каждого из нас святым. Но знать истину и жить по истине, как известно, разные вещи» (Вехи).
Не став святыми, мы, однако, научились носить культурные костюмы святости: мораль, мировоззрение, религиозные ценности. Гершензон болезненно ощущал, как горяча «божественная истина» и как холодны ее застывшие в нас осколки и смутные отражения, и мучился этой разницей температур. Вслед за Перепиской, где он жалуется на холод и окаменелость культуры, он пытается через ту подлинную реальность, которую носит в себе, отыскать путь к огню. Вначале в Ключе веры – в «регулятивной идее Бога», затем в Гольфстреме — в огненном образе Бога. Упрекнув Иванова за «сыновнее почтение к истории», он в дневном своем творчестве еще более почтителен и сыновей.
Глубина личности – глубина веков, совсем по-ивановски утверждает он. Там зародилось то вечное течение, которое пронизывает дух человечества и каждую отдельную душу. Эту струю энергии, полную разумности и мощи, лежащую в основе всех мыслимых и материальных вещей, ощущали все древнейшие народы и выразили это знание в своих религиях. На нее впервые указал Гераклит, назвав ее «Логосом» и «Огнем».
Может быть, в другой книге, которую Гершензон не успел написать или опубликовать, он сумел бы рассказать и о своей надежде: раскаленная струя духа расплавит когда-нибудь наши окаменелые знания и мировоззрения, вернет их в первоначальное парение Духа над водой, из которого они выйдут потом – по-настоящему личностными и святыми.
В последней написанной им статье он признавался: «Частичные омертвелости духа пока нужны человеку как отдых и как ободряющее движение того покоя, но они – обман, потому что в них нет движения» (Нагорная проповедь).
В ту эпоху в России раздавались столь несхожие между собой голоса Александра Блока и Льва Шестова. Исподволь нарастающая тема у обоих – неминуемое крушение гуманизма и омертвение его культуры. Оба искали и находили для себя нечто высшее; один – «музыку революции», другой – вопль Иова и озарения пророков. И то, и другое по-своему отозвалось в Переписке. Разумеется, не в детских рассуждениях о пролетариате, «всецело стоящем на почве духовной преемственности». Но через лирическую стихию Блока, философские битвы Шестова, признания Гершензона (столь далекие друг от друга) просачивался общий мотив обреченности – не только «старого мира», но и культурного его наследия, его ценностей, самой красоты его. «В смертный час я вспомню не об этом… – признается Гершензон, – в трудные, роковые минуты в жизни мне это не понадобится…»
И нам становятся вдруг понятны его слова о духоте, о бремени всех умственных достояний, близко и неожиданно затрагивают они нас…
Не носите больше даров тщетных… (Исайя 1:13).
VIII
Смутное пророчество Гершензона – «как некогда жжение и зуд в плечах у амфибии, когда впервые зарождались крылья» (Письмо VI). «Современная культура есть результат ошибки…, человек нашего мира пошел ложным путем и забрел в безвыходную дебрь» (Письмо X). Мы можем строить множество догадок и умозрений об истоках и обстоятельствах этого пути. Но об одном из его этапов мы знаем на собственном опыте, и о нем невозможно не сказать. Ибо если приложить к этому трудному опыту наш столь правдивый и пронзительный спор о культуре, то в нем Иванов окажется по-своему прав против Гершензона, а Гершензон по-своему прав против Иванова.
То, о чем мечталось Иванову – соборное искусство, хоровое начало, мистерия-теургия, в которой Чернь примиряется с Поэтом, а Поэт с Чернью в приобщении к единой сверхреальной реальности – все это время от времени случается в русской истории. Это произошло уже при жизни авторов Переписки — тотальное отчуждение человеческих ценностей и помыслов. Сразу же оговорюсь: если оставить в стороне предзнаменования или неясные «тени будущего», никакого отношения к этому не будут иметь – ни чаяния одного, ни тоска другого.
Говорить о культуре в наш век, начисто позабыв о том, как он распоряжался культурой, значит предаваться умозрительной и непозволительной роскоши.
Гершензон словно предчувствовал: «из системы тончайших принуждений» культура может стать системой принуждений грубейших. Конечно, систему грубейших принуждений мы как-то не привыкли связывать с какой-либо высокой культурой. Последняя чаще всего предстает в ивановских терминах: лестницей в высоту благословений. Недопустимо скандальным представляется нам превращение культуры в орудие диктатуры. Но и то и другое заполняет вместилища нашего духа, занимает соседние этажи души. Да и платоновская лестница может одеревенеть, «иерархия благоговений» – стать государственным культом с человеческими жертвами. Так совсем не по-ивановски и не по-гершензоновски культура может вернуться к своему культовому истоку.
Поэт уже не возвышает душу Черни своими дифирамбами, напротив, Чернь приручает Поэта. Стихосложение служит переложению большого коллективного мифа. Мифа, слившегося с населением, от мифа уже неотличимого.
Идеология вовсе не обязательно вдевается в душу как кольцо в ноздри Левиафана, она способна окольцевать и стреножить и весьма тонкие, почти неуловимые вещи. Чтобы сделать человека чужим самому себе, она отнюдь не всегда растворяет его в толпе. В своем споре с Ивановым психологически Гершензон подстерег и выследил ее у самых корней:
«Как бороться против тех ядов культуры, которые вошли в кровь и отравили самые истоки духовной жизни?» – не риторически спрашивает он у самого себя. «Есть паутинные сети умозрений, из стальной паутины, сотканной вековым опытом: они пленяют ум неощутимо и верно; есть торные пути сознания, куда незаметно вовлекается лень; есть рутина мышления и рутина совести, есть рутина восприятий, трафареты чувств и бесчисленные клише речений. Они подстерегают самое зачатие духовных зародышей, тотчас обволакивают их и как бы в любовных объятиях увлекают на избитые пути. Наконец, есть несметные полчища знаний, страшные своей многочисленностью и непреклонностью; они наводняют ум и располагаются в нем по праву объективной истины…» (Письмо VIII).
Эти слова ложатся как эпиграф к прошедшей эпохе. Все сбылось.
Но тот, кто говорит о внутренней своей неволе и смотрит на нее со стороны, остается еще на свободной земле. Идеология эту землю забирает себе; она отдает ее в пользование коллективному хозяину, который поселяется в нас и вместо нас мыслит, чувствует, даже испытывает муки совести, ею прирученной. Все, что мы привыкли считать неотъемлемым и своим, может быть им захвачено, а нами отдано добровольно, если не с радостью. Ибо легче быть не собой, – быть собой значит находиться в страшной близости Бога, но – другим, укрывшимся в невидном и безопасном месте. Все же наше, находящееся в этой близости – нравственный инстинкт, сокровенная жизнь духа – наделяется чужим и всеобщим смыслом, становится некой ценностью. «Мир почуял в ценности первородную силу, заложенную в нее творцом, и хочет использовать эту силу для своих нужд; его отношение к ней – корысть, а корысть всегда конкретна» (Письмо VIII).
В потемках души миф оплодотворяет и творческую память, и она рождает ему детей: не только песни и лозунги, но и признания в любви к новой соборности, коллективности, системе, ценности, вождю, полиции и невесте.
Отчуждение (или отвлечение – на языке Гершензона), которое исподволь накапливалось в культуре Мыслителей и Поэтов, вдруг взрывается в массовом сознании Вождей и Черни. Все, что в этом сознании было выращено и взлелеяно культурой, становится только сырьем, материалом, глиной, из которой лепится идеологический колосс.
Прежде всего, он овладевает теми ценностями, которые пошли на его изготовление, и прибирает к рукам их создателей. Он бросается на культуру и топчет ее или же дрессирует, хватает ее за горло или же торгуется с ней, но при этом, апеллируя к ее культурному разуму, к ее традиционной, религиозной или гуманной морали, он вынужден, пародировать ее и вместе с тем и копировать. Ибо как-никак он выношен культурой или «культурным инстинктом», и ей, в отличие от беспамятной идеологии, не следует забывать об этом.
Если принять идеологию за конфигурацию корыстных ценностей, то именно тот, кто создает ее (в собирательном смысле), и становится первой ее добычей. Она порождает свой вымышленный «ценностный» мир и помещает в него человека. Устраивается ли человек «с Богом» или «без Бога» (по слову Достоевского), в «системе ценностей» он так или иначе замыкается от Него в кругу своих замыслов, конструкций и переживаний. Потому что Бог открыт нам и беспределен; Он не вмещается в идеологические «модели мира», но обитает на той далекой духовной родине, доступ куда бывает закрыт для нас «рутиной мышления» и «трафаретами чувств». И все же подлинная культура – ив этом прав Иванов – может стать лестницей Иакова и найти по ней дорогу домой. Она живет впитанным, отраженным светом этого дома, который есть «обитель Отца», и потому «культурному сознанию» или, если хотите, сердцу художника так часто бывает знакомым ощущение чужбины. По-настоящему творческий дух иногда ощущает до странности чужими свои плоды.
Существует круговая порука отчуждений ума и духа, и «сети умозрений из стальной паутины», «рутина совести» и «трафареты чувств», бывает, материализуются на фабриках идеологии. Из них изготавливается тот порядок, который называется тотальной властью. Тотальная власть строится не только на полиции, но и на традиции. Традиция опирается на согласие в системе ценностей. Вчитываясь в письма Гершензона, пытаясь его понять, я вспоминал часто повторяемые, давно разоблаченные и высмеянные за радикализм, но по-прежнему загадочные слова Теодора в. Адорно: «Всякая культура вместе с настойчивой критикой таковой после Освенцима – только прах» (Negative Dialektik).
Прах, по логике Адорно, потому что не могла ничего сделать, ничему помешать. Оказалась безделушкой. Однако она могла и внести свою весомую лепту. Культура, обернувшись идеологией, может выпить всего человека, заменив его изнутри ценностями-фетишами. Фетиш-оборотень живет своей собственной, полнокровной жизнью, ставит и решает большие национальные и исторические задачи. В XX столетии культура поняла то, что знала и раньше: она может быть и материализованным фетишем, корыстным захватом человеческого духа. В этом захвате душа, сознание, руки – только средства, цель же идеологии лежит вне ее. Сила, которая вызывает ее к жизни, не может быть ею осмыслена. Цель эта может быть понята только в культуре, осмыслившей опыт своего отчуждения, вырвавшейся на свободу, чтобы искать пути на родину.
Смысл культуры теперь, после пережитого ею опыта извращения и автопародии, – не в творчестве как таковом, но в опыте самопознания в Боге. Самопознание открывает нашу двойственность, трагизм ценностей, взрывчатость смыслов. Оно приводит иногда к тому истоку, в котором проясняется «рождающее лоно» культуры в Слове и Имени, к тому благословению, которое было дано некогда Адаму – давать вещам их подлинные имена. Однако благословение культуры и всяческого человеческого созидания не должно отрываться от памяти о возможном проклятье, всегда подстерегающем их, о грехе, вздымающемся из человеческих низин и отвердевающем в отчужденных «идеологических продуктах».
Переписка из двух углов удивительна тем, что утверждает правоту обоих корреспондентов: изначальность благословения и возможность проклятья. Она передает нам духовный и человеческий экзистенциальный опыт того и другого. Надежда на благословение не покинет нас, коль скоро не оставит нас «память смертная» – память о грозящем омертвении культуры.
Омертвение всегда начинается у самых корней. Но там же происходит и воскрешение. Пока мы ощущаем тяжесть и грузность культуры, нам дано будет ощутить легкость ее и святость. Хуже всего бывает тогда, когда ощущение тяжести забирается от нас – вместе с душою.
«Где опасность, однако, там и спасенье», – говорит любимый Ивановым Гельдерлин.
IX
Книга, по сути, не завершена. Читатель неохотно расстается с ней, хотя все аргументы споривших высказаны не по одному разу. Но нас не покидает ощущение, что этот спор продолжается, что самим его участникам, как и потомкам их, еще предстоит в нем участвовать. Сама Переписка – лишь перекресток двух разных путей.
Для Гершензона – это был момент лично им выношенной и долго скрываемой истины, которая вдруг вылилась в аскетическое отвержение культуры («в смертный час я вспомню не об этом…»). Смертный час не заставил себя долго ждать (он умер в 1925 году, не дожив до 56), но если бы ему были отпущены полные годы жизни, то, может быть, поверх умозрений, чужих и своих, он переступил бы порог Евангелия. Как некогда Нафанаил, тот самый «израильтянин, в котором нет лукавства», он, отвергнув тяготившие его теории и предпосылки («из Назарета может ли быть что доброе?»), когда-нибудь должен был спросить у Христа: «почему Ты знаешь меня?» Весь строй его ищущей дом души, честность и пытливость мысли предвещали такую встречу. Именно в те годы, когда старая «ивановская» культура была сметена разъяренным идеологическим варварством, и лик Божий открывался многим тогда как раз на руинах «иерархии благословений» – «в полях и в лесу, в пении птиц и в крестьянине, идущем за плугом, в глазах детей и порой в их словах, в божественно-доброй улыбке…» (Письмо XII). На той первозданной, только что сотворенной земле, по которой тосковал Гершензон, была своя «лестница Иакова», и ангелы восходили по ней к небу.
«И в культуре есть сокровенное движение, влекущее нас к первоистокам жизни», – вторил ему Иванов в предыдущем письме (XI).
Вяч. Иванову было дано продолжать осмысление культуры и после Переписки. В Письме Шарлю дю Босу, в котором он объясняет свой переход в католичество, он говорит о вере, которая стала «утверждаться на развалинах моего языческого гуманизма». Нельзя сказать, что его переход был вызван изменой тому, чему он не был особенно верен с самого начала; то православие, из которого Иванов уходил, было слишком литературным, «символическим» и едва ли церковным. Для него обретение новой веры было углублением верующей памяти. Иванов пошел дальше вглубь тем путем, который был проложен его письмами: к культуре как к человеческому звучанию Логоса. «Всякая большая культура, поскольку она – эманация памяти, воплощает важное духовное событие, а воплощение такое является актом и аспектом откровения Слова в истории; вот почему всякая большая культура есть не что иное, как многовидное выражение религиозной идеи, образующей ее зерно» (Там же).
Для такого события – явления Слова в истории – Иванов находит словесную икону: «Вселенский анамнесис во Христе – вот, значит, цель гуманистической христианской культуры, потому что такова историческая предпосылка осуществления всемирной соборности». (Письмо Аллесандро Пеллегрини о «Docta Pietas», 1934, Павия).
Можно ли евангельское Сие творите в Мое воспоминание распространить на все, что добывается человеком из вод Слова, текущих, по словам Христа, в жизнь вечную? Как говорит св. Иустин Философ, этим Словом осеменен весь род человеческий. Им, по догадке преп. Максима Исповедника, пронизана всякая тварная вещь. Слово звучит и в камне, и в бабочке, и в реке. Может быть, дело художника именно в этом и состоит, чтобы это Слово слышать, Его «вспоминать», придавать Ему тот образ, который был некогда вложен во все, что сотворено?
Бог сохраняет всё, – напишет Бродский к столетию Анны Ахматовой, взяв один из ее эпиграфов (Deus conservat omnia):
Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры остриё и усечённый волос Бог сохраняет всё; особенно – слова прощенья и любви, как собственный свой голос.Не есть ли эта сохранность в необъятном, непостижимом запасе Памяти Божией то, что Иванов подразумевал под вселенским анамнесисом? Бог сохраняет все, и человек ищет и находит частицы этого клада. Он соприкасается со Словом, вступает в замысел Бога о твари, и Слово, через которое все приходит в мир, отдает, дарует себя нашим словам, интуициям, образам. Мы делаем их формой нашего опыта, вещей мира и «вещей души». «Есть внутреннему опыту словесное знаменование, и он ищет его, и без него тоскует, ибо от избытка сердца глаголят уста» (Письмо III). Но «культурные сокровища» незаметно берут в плен сердце, которое «глаголит» в культурных ценностях, ставших самодовлеющими. Всякое богатство – это внутренний плен, и пафос Гершензона – ностальгия по свободе, жажда общения с Богом без посредничества того, что создано человеком.
И потому этот спор ностальгии по tabula rasa и радости от «полных житниц», библиотек, музеев, тезаурусов, пирамид, в сущности, нескончаем. И происходит он не только между двумя углами комнаты, но и двумя углами глаголющей от избытка культуры души. «Критическая культура, – пишет Иванов в немецком докладе О Русской идее – культура сынов Каиновых, ковщиков металла и изобретателей мусикийских орудий. В ней прорастают ростки зависти и ревности, возмущения духа и братоубийства».
Критическую культуру он в ту пору противоставлял органической.
И все же всякий спор – всегда какая-то неправота. Истина окружена радостным безмолвием. Не спорит ли здесь мир воображения с усталостью «плоти и крови»? Или – прельщение интеллекта с обольщением подавленной им языческой души? И не завершается ли это вечное состязание дня и ночи в истории европейского гуманизма жестокими конвульсиями, а затем долгим-долгим твердым порядком? Оба начала сбрасывают свои благородные и культурные обличья и предстают в примитивном виде. С одной стороны, напористый, хамоватый, плохо грамотный рационализм, с другой – «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». И пока на просвещенном верхнем этаже маститый вождь русского символизма патетически убеждает замечательного историка русской культуры, подспудные силы как-то находят и познают друг друга и сплетаются воедино.
Бердяев говорил, что в то время, когда «внизу» клокотала Первая Русская революция, «наверху», на ивановской башне, велись утонченные прения о символизме, о поэзии и, наверное, о России. И не было никаких связей между «башней» и «улицей». Тени будущего как раз вырастали из того разрыва, хотя сверху, из башни, их труднее было заметить. Даже тогда, когда они начинали материализоваться.
Пока теурги ставили свои драмы и на воображаемых подмостках братались с Чернью, история следовала своей широкой, «исторически необходимой» дорогой. Еще не стал музеем Освенцим, уже плел (на десятилетия!) стальную паутину ГУЛаг – земные, весомые плоды отвлеченного и превращенного духа, когда вели свой спор два возвышенных мыслителя, случайно встретившиеся в здравнице.
Бог сохраняет все.
1975,1986, 2014.
П. Я. Чаадаеву. Частное письмо
Monsieur,
Jadis vous avez écrit une lettre à une dame que vous avez simplement oublié d’envoyer. La lettre, devenue célèbre de manière inattendue après sa publication sept ans plus tard, est restée sans réponse jusqu’à nos jours, car, comme on pouvait le soupçonner dès le début, votre vraie intention était de prêcher vos idées à tous, à commencer par vous-même, plutôt qu’à une femme quelconque. Et pourtant, le choix d’une lettre privée (ou au moins qui parait l’être), n’était pas une pure formalité, mais une sorte d’invitation à la discussion ouverte non seulement à celle qui aurait pu devenir à l’époque votre interlocutrice, mais aussi à vos contemporains et à leurs descendants. Surtout à eux qui s’engageront avec flamme dans cette controverse passionnelle et inйpuisable. Votre pensйe, en fait, ne voulait s’exprimer qu’en échange d’idées ou en affrontements d’opinions. Permettez-moi donc, d’y participer de cette manière directe et personnelle que vous-mêmes avez choisie pour exposer vos pensées et les rendre publiques[2]
Однако позвольте все же перейти с чужого, хотя и обязательного в Вашем кругу средства общения и взаимопочтения, на наш туземный, но отнюдь не менее прекрасный язык, хотя европейский Вам, по Вашему признанию[3], и роднее. Но мысль, которая таится за Вашим французским, все же очень русская, и в ней разрешите процитировать неизвестного Вам поэта, «кончается искусство, и дышит почва и судьба». Все же нельзя не подивиться судьбе той почвы, на которой философы, бившиеся над ее загадкой, включая того, кого в России теперь называют «наше все»[4], чувствовали себя более дома в европейском языковом платье, чем в своем, природном, почвенном. Именно в таком одеянии, случайном ли, промыслительном, даре Французской Революции с ее изгнанниками, Вы бросили Ваше послание в реку времен, и всякий, кто впредь захочет его выловить, вправе решить, что оно отправлено лично ему. Автор сих строк не решился бы прибегнуть к столь странной форме отклика, если бы однажды его не навела на эту мысль небольшая книжица католического патриарха Венеции Альбино Лучиани Illustrissimi[5], в вольном переводе «Досточтимейшие», составленная из писем к известным покойникам, с коими, будь они живы, будущий папа Иоанн Павел I хотел бы общаться. Простите за дерзость, досточтимейший Петр Яковлевич, но живи мы с Вами в одном времени, я почел бы за великую честь стать одним из многих Ваших корреспондентов.
Милостивый Государь!
Вы тоже оказались среди Illustrissimi, и парадокс колючей Вашей славы не перестает поражать меня. Весьма не чуждый честолюбия, Вы ничуть не добивались столь видной позиции в Пантеоне русской мысли; кроме писем и афоризмов для себя, почти ничего не писали и едва ли заботились об архиве. После первого травматического опыта Вы уже не пробивались в печать, сохранив себя для потомства лишь благодаря усилиям чьего-то самоотверженного гусиного пера, не познавшего чуда пишущей машинки. Но достаточно было Вам на совсем немногих страницах Первого Философического Письма вызвать на очную ставку Россию и Европу, чтобы оказаться на вершине пирамиды, у подножия которой осталось столько интересных умов, ныне известных лишь специалистам[6]. Помню, в Московском Университете на заре туманной нашей юности профессор в. Н. Турбин, из тех, кого назовут потом «шестидесятниками», читавший лекции по литературоведению, слегка ошарашил нас, первокурсников, дерзкой фразой о том, что нельзя, мол, называться образованным человеком в России, не прочтя письма Вашего, мало кому в то время доступного. Годы спустя, Иоанн Павел II с высоты своей кафедры поставил Вас в ряд первых наших мыслителей, наряду с Соловьевым, Флоренским и Лосским (не философом, а богословом) Владимиром[7]. Никакой путь русской мысли уже не минует ни Вас, ни письмо Ваше.
Перечитал его вновь, не помню уж в какой раз. Признаться, нашел его чрезмерно страстным, хотя и прикрытым маской холодности, а для читателя Истории Государства Российского, Вашего старшего друга Карамзина, несколько даже провокационным. Это скорее увещевание к миру, безусловно умное, жесткое, цельное, но отнюдь не беспристрастный подход рассудительного аналитика. Но дело было не столько в упреках Ваших, бывали они и погорше и поядовитей, дело в нашей ими раненности, непреходящей оскорбленное™ ими, в нашей возобновляющейся от тех ран лихорадке. Мы с нею как бы уже рождаемся и передаем по наследству. Разбираясь с Россией в себе, уничижив ее при сравнении со столь осмысленным, иконописным обликом Запада, Вы, сударь, невзначай проникли в ее коллективное бессознательное, сумев разбудить в современниках Ваших то, что и в потомках уже не заснет никогда. П потому читатели Вашего письма ощутили себя задетыми лично и сочли нужным публично о том заявить. Высочайшей волей Вы были объявлены сумасшедшим, что, несомненно, было мягкой репликой в споре: «что ж, мол, с юродивого взять?» – ибо царский гнев сорвался тогда на горемычном издателе Вашем[8]. Так Вы оказались в роли зачитывающего приговор России, причем тогда, когда уже переменили обличительное течение своих мыслей. Но главным итогом Вашего письма было появление первого поколения славянофилов. Оно еще годы, наверное, сидело бы по своим родовым усадьбам, ездило бы друг ко другу на охоты, на свадьбы, на хлебосольные тезоименитства, кабы Вы, не прицеливаясь, не попали в них разом своим, как скажет Герцен, «выстрелом, раздавшимся в темную ночь». С тех пор и до сего дня мыслящая часть России стала мучительно рефлектировать о самой себе, то влюбленно – над сиянием славы своей, то язвительно – над темной неизбывной бедой. Ваш выстрел отозвался горько-жалобным эхом у нее внутри, но всякому эху положено слабеть, а Ваше с тех пор все нарастает. Его бросились заглушать, тем самым только усиливая.
Вы не просто разбудили, Вы невзначай раскололи Россию на «наших» и «ненаших», часовых, стоящих на страже незыблемых устоев, и радетелей о неслыханных вольностях, устои шатающих, ревностных патриотов и национал-предателей во множестве их вариаций. В России, как говорит писатель Борис Акунин[9], живут два разных народа, люто враждующих между собой, но разделение это пошло, можно сказать, от Вас. Отсюда и беспощадная известность Ваша; столько лет не печатавшийся, целиком не очень и прочитанный, Вы разожгли смертный спор, ставший той самой «почвой и судьбой». Само имя «Чаадаев» вобрало в себя память о прицельном ударе, о ссадине, которая не зарубцевалась, о трещине, которая пошла вглубь и вызвала боль, которую все не унять.
«Окиньте взором все прожитые нами века, все занятые пространства – и вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы говорил о прошедшем с силою и рисовал его живо и картинно»[10], проповедуете Вы, однако «ночь», которую Вы потревожили выстрелом, сомкнулась с русским рассветом, оповестившим о себе столь разными голосами: то петушиными рифмами Языкова про плешивого аббатика с набатиком, целующего туфлю пап, то теорией сердечно-восточного познания Ивана Киреевского вместе с первым собранием русских песен его брата Петра, потоком стихов, богословских этюдов и записок о русской истории Восточной Церкви рыцаря Хомякова, курсом русской словесности Шевырева, публицистикой Самарина, обоих Аксаковых, Тютчева, Дневником писателя Достоевского, вплоть до чудесной Поэтики древнерусской литературы академика Лихачева, яростной полемики Солженицына с западниками-плюралистами и плодом их – мартом 17-го, ими порожденным. Вплоть до статьи моего покойного друга Вадима Борисова[11] о нации как личности, более 40 лет назад вышедшей в сборнике Из-под глыб[12]. Вплоть до «Изборского клуба», на весь честной Русский мир исповедующего «простую как мычание» антиевропейскую свою державность. Столь разные по уровню, стилю и запросам, которые вызвали их к жизни, они возражали и тем и другим, но держали в уме, в сущности, Вас, Петр Яковлевич, хотя имя Ваше и редко мелькало в их полемике. Но в них занозой сидела мысль, Вами вынесенная как диагноз: «Мы живем в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя»[13]. «Мы живем под собою не чуя страны…», – откликнется через сто лет один из великих Ваших читателей. Жизнь была, конечно, не та, и страна несравнимо другая, но непреходящая интонация «русской боли» все та же. «Надежда и вера борются с отчаянием, – цитирую Вадима Борисова, – или глухим злорадством; в завязавшемся споре о России все явственно слышится подлинно апокалиптическая тревога. Кто мы – проклятое и развратное племя или великий народ?»[14]. За этим вопросом – весь немыслимо кровавый карнавал XX века, но задается он в упор Вам, дорогой г-н Чаадаев, потому что от хлопка Вашего выстрела в частном письме некой сударыне обрушилась давно нависшая лавина слов и идей. И до сих пор сыпется, и шум от ее падения все катится по земле.
И вот что примечательно: ледяная глыба известности Вашей, которую Вы сдвинули бесстрастно вежливым своим голосом, в первую очередь Вас и накрыла, утопив на целый век все прочие Ваши построения и прозрения. Не нашлись бы они вообще никогда, Вы бы остались тем же прославленным судией и невостребованным религиозным метафизиком. Но на процессе против России, как бы выпавшей из истории, который Вы затеяли, Вы не исключили и себя из числа анонимных обвиняемых. «Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий вас воздух? – кого, собственно, допрашиваете Вы столь пристрастно во Втором Философическом письме? Одну лишь даму, которую уже успели забыть? «Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово «раб»!» Оно, это полное стыдоб и насилий слово, было постоянным вызовом и лично Вашему образу жизни, немым вопросом, повисшим над самой Вашей, как сегодня говорят, идентичностью. По мнению друга Вашего С. А. Соболевского, Вы не подали бы руки самому Пушкину, если бы он пожал руку Ивану Яковлеву, крепостному домашнему человеку[15], и, разумеется, никакой проблемы для Вас не составляло раскланиваться, приятельски улыбаясь, с любезными друзьями из Английского клуба, платившими за свои ужины собственными людьми, продавая, нередко и в розницу, мужа одному, жену другому, а девчонку их пятилетнюю ценой в полтину – в подарок третьему. Той, «игом рабства клейменной»[16] России, кажется, и в помине нет, только клеймо ее въелось и все никак не сотрется. «В один прекрасный день, – как пишете Вы[17], – одна часть народа очутилась в рабстве у другой просто в силу вещей…, вследствие непреложного хода общественного развития…». И что особенно уязвляло Вас – и справедливо – то, что в России «рабство родилось на глазах христианского мира»[18]. С молчаливого его согласия, если не гласного одобрения. Рабовладельческий мир, как и христианский, был растоптан в ХХ-ом веке, но внес ли этот урок радикальные перемены в тот «непреложный ход», проложенный когда-то в России? А едва начавшийся XXI-ый с его возродившимся православием? Стал ли существенно иным наш быт, образ мыслей, стиль общения очень важных, высших персон с неважными, низшими? Повлияло ли как-то на христианское наше отношение к ближнему – спросим от себя – святоотеческое богословие личности, столь замечательно описанное Владимиром Лосским?
Украсив своим именем «обломки самовластья», Вы, однако, колко прошлись по бывшим армейским коллегам, тем, кто между трубкой и стаканом лафита вознамерился, с самовластьем покончив, перевернуть Россию. Как благословили Вы и удушение Польши, восхитились растоптанием Венгрии, и в то же время у себя во флигельке на Басманной, в том же самом, французском, венгерском, 48-ом смутьянском году Вы сочинили буйно-забавное воззвание к братьям православным и горемычным: «Дошла ли до вас весточка, – взываете Вы к людям русским, – весточка громогласная, что народы вступили, народы крестьянские взволновались, всколебались, аки волны окиана-моря, моря синего!.. Не хотим, говорят, своих царей, государей. Долго они нас угнетали… не хотим царя другого, окромя Царя Небесного». Впрочем, думаю, попадись эта заложенная в книжку бумажка графу Бенкендорфу, он едва ли принял бы ее за покушение на бунт, скорее за упражнение в фольклоре.
Две любви оспаривали Ваше сердце; отсюда одна, обращенная к Западу, упрекает Россию в неисторичности и немоте, другая, как бы противоположная, – исповедует патриотизм крутого раствора имперского. Взывая к социальной мистике, коей открыты пути Промысла Божия, Вы овеяли каким-то холодком само слово «Бог», которое то и дело попадается в Ваших строках. Сухими слезами оплакав историческое небытие России, в Апологии сумасшедшего Вы обещали ей невиданное будущее, которое должно возникнуть из исторической пустоты; поклонник средневекового католичества, Вы никогда не порывали и с православием на Вашей улице и уж ни при каких обстоятельствах не ссорились с властью. Говорят, было два Чаадаева: один выдуманный, а другой настоящий[19]. Но, может быть, дело проще: скорее всего, чаадаевская любовь к родине избегала на людях конфликтов с чаадаевской же любовью к свободе?
Весь облик Ваш отмечен резко очерченным нарциссизмом[20]и гордым несением своего «я», пафосом дистанции по отношению к другим, как людям, так и религиям (оттого, думаю, Вы и не перешли в католичество, что Гершензон считал Вашей непоследовательностью). При этом философия Ваша всегда настаивает на том, что мысль отдельного человека есть мысль всего рода человеческого, что отдельное сознание лишь часть мирового, которое есть некий «океан идей», вплоть до заявления, что идеология индивидуализма ложна и что цель человека – уничтожение личного бытия и замена его бытием вполне социальным или безличным»[21]. Не приблизились ли Вы здесь, идя по мечтательной этой тропе, к толпе пророков Ваала, тех строителей тоталитарных систем, от одного вида, запаха, языка которых у Вас развилась бы не только чудовищная хандра, но и желудочные колики? Нет, Вас не заключить в капсулу лишь одной идеи, но репутация не спрашивала Вас, куда Вы хотели быть заключенным, Петром Чаадаевым она распорядилась по-своему.
Но давайте все же вырвемся из того плена «Запад и мы», «мы и они», «Россия и Европа», куда невзначай Вы заманили нас гневно прогремевшим Вашим письмом и прочими отосланными вослед ему частными письмами[22]; все об этом уже было сказано, и будет сказано еще все. Оставим в покое пророчества, комплексы, приговоры; нечто подлинно философическое возникает в прожилках Первого и разрастается во Втором и всех последующих, на сто лет потерявшихся Философических письмах, опубликованных Дм. Шаховским в Литературном Наследстве 1935 года (Но кто их тогда читал и мог обсудить?). Согласен с о. Василием Зеньковским: «его (Чаадаева) взгляд на Россию совсем не стоит в центре его учения, а, наоборот, является логическим выводом из общих его идей в философии христианства»[23]. Но это подлинно философическое начало непросто вычленить; еще Пушкин[24] отметил у Вас отсутствие плана и системы, что, впрочем, вполне допускается эпистолярным жанром, не предполагающим системы и плана. «Мы являемся в мир «со смутным инстинктом нравственного блага»[25], утверждаете Вы, отсылая нас к отпечатку Высшего Разума или Слова. Слово Божие обращается к нам в говорящей ошеломительной прямоте Нагорной Проповеди, но перекликающейся, как Вы утверждаете, в данном случае, с мудростью Ветхого Завета: поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. «Божественный Разум, – гласит Четвертое письмо, – есть причина всему, разум человека есть лишь следствие, что же может быть общего между тем и другим? Разве что, – прибавляете Вы, – что между Созвездием Пса, сияющим на небе, и тем псом, который бежит по улице, – одно и то же имя»[26].
Эту аналогию от Спинозы изберет потом излюбленной своей мишенью Лев Шестов, ибо тема противостояния или гармонии Бога и разума как бы изначально заложены в русской философии. Установки Ваши и Шестова противоположны, но при этом находятся в общем поле, и если бы Вы не договорились, то хотя бы поняли друг друга. Это мысль о безусловном первенстве и превосходстве Божественного начала над человеческим. «В человеческом духе нет никакой другой истины, кроме той, которую Своей рукой вложил в него Бог, когда извлекал его из небытия, и человек творит, исходя из этой истины, с которой взаимодействует наш разум». О, если бы Вы могли это доказать, философ с Басманной, развить, подтвердить живым, собственным опытом! Но достаточно и такого удивительного прозрения. Истина дана изначально; это одно из тех малых семян, которое потом принесет много плода в системах последующей русской философии. Ибо Господь дает мудрость, и от уст Его – знание и разум, – сказано в Притчах (2:6). Мудрость заключена в истинах, усваиваемых человеком, в них-то и открывает себя Разум, который Вы называете Высшим. У Вас нет разрыва между разумом Божиим и человеческим, как у Шестова, напротив. «Истины Откровения доступны всякому разумному существу»[27], и этот тезис вполне католической теории познания протягивает руку к другому, настаивающему на единстве двух миров, материального и духовного. Вы верите в единый закон, который незримо управляет тем и другим, и Ваше черно-белое полотно под названием «Россия и Европа» родилось из созревавшей в Вас, но так и не сложившейся теории познания. Познание единого закона, управляющего небом и землей, историей и природой, говорите Вы, требует «логического самоотречения», аналогичного с отречением нравственным[28]. Здесь, если развивать эту мысль, она укажет дорогу напрямую к возможной чаадаевской этике, в сторону которой Вы делаете первые шаги, чтобы провозгласить нашу ответственность за всякую мысль или движение души или для того, чтобы «с презрением и отвращением» осудить Гомера почти со всей цивилизацией греков[29].
Но отречение должно быть свободным, свобода же неотъемлема от образа Божия[30], однако сама суть свободы для Вас – послушание тому же закону, внушенному Высшим Разумом. Т. е. Логосом или Словом, бывшим в начале у Бога. «В день создания человека Бог с ним беседовал и человек слушал и понимал», – эта удивительная интуиция словно вырастает из откровения 138-го Псалма, в котором Давид «вспоминает» о своем утробном предсуществовании и благодарит за то, что Бог создал его, – «таково истинное происхождение человеческого разума; психология не отыщет объяснения более глубокого»[31]. «Даже утратив этот дар восприятия голоса Божия, человек не потерял воспоминания о нем. Глагол Бога, обращенный к первому человеку, передаваемый от поколения к поколению, посещает человека в колыбели, он-то и вводит человека в мир сознаний и превращает его в мыслящее существо»[32]. Таков закон воздействия Бога на человека, проявляющийся в творении. И потому Вы утверждаете, что в человеческом духе нет истины, помимо собственноручно вложенной в него Богом, «когда Он извлек человека из небытия»[33].
«Ты от небытия в бытие приведый всяческая…», – гласит, исповедуя нашу веру, крещальная молитва. Ваша теория врожденных истин, идущая еще от Платона и часто оспариваемая, находит свои корни в Благой Вести. Она дарована нам в образе Божием, который мы в себе носим, и сама истина живет в нас как оттиск или отсвет этого образа, как икона, которой благословили нас при творении. Но на этой глубине изначальной связи человека с Творцом истина молчит; затем, когда наше сознание начинает осваивать ее на уровне рационального, она выражает себя определением, ограничением в знании, существующем только в языке.
Здесь я не излагаю всей Вашей философии, Петр Яковлевич, лишь пытаюсь идти по едва намеченным Вами следам: от внешнего, от конструкции Высшего Разума, который нисходит свыше, вкладывая в нас свои истины, к истине как таковой, заключенной в образе Божием, изначально живущем в нас, и этот дар возобновляется в каждом человеческом существе. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, – вспоминаете Вы евангельские слова, и они, собственно, составляют неделимое ядро глубинной «философичности» Ваших мыслей. Роль Откровения подобна благословению, проливающему свет разуму и той работе, которая совершается в нем. Вы вплотную подступаете к философии Откровения, оставшейся у Вас в загадочном наброске, но великолепно развитой затем в 40-х годах в Берлинском университете Вашим великим другом Шеллингом; у Вас же, кроме московских гостиных и друзей, коим Вы дарили свои письма, не было кафедр, где бы Вы могли уложить свои интуиции в тот порядок, коего Вы же и были всегда поклонником. Вера и знание, Откровение и разум, Бог и человек – все это рассыпано удивительной россыпью в потерявшихся на сто лет Ваших письмах, из которых Вы так и не успели, не захотели, не смогли собрать законченную византийскую мозаику или сложить готический витраж. Кто знает, какой путь Вы могли бы еще пройти, если бы не оборвали его Вашим Первым диссидентским письмом; после Вас до Соловьева, кажется, никто не начинал философии с Откровения.
Итак, главные нравственные истины вложены в нас изнутри и извне, и они требуют повиновения себе; здесь философское ухо различает мотив учения о категорическом императиве, а богословское Послание к Римлянам, провозглашавшее действие закона в сердцах язычников независимо от веры. Но сама вера почему-то не привлекает Ваш пытливый ум, она воспринимается скорее как нечто само собой разумеющееся, Вы как бы полагаетесь на «естественное Откровение», которое дается извне как закон «из отдаленной и неведомой области»[34]. Отдаленной ли? Весьма близко к тебе Слово Мое, оно в устах твоих и в сердце твоем, – говорит Господь Моисею (Втор 30:14). Внимание Слову Божию и есть исток веры. Но для Вас она – не столько то, что открывают в сердце и обретают в общине, сколько то, что находят в вольном полете философского ума. Впрочем, никто не осудил бы Вас за такое смешение сердца и разума, ведь вера может строить себе разные жилища: в пении хора или молчании алтарей, шелесте трав или незыблемом храме греческих терминов. Религия Чаадаева совсем не похожа на исповедание митрополита Филарета или служение доктора Гааза, Ваших святых современников, это не та вера, которая рождается на войне, где Вы побывали, или в каторжной больнице, которая Вас миновала, и не та, что находит себя в храме, если только храмом не считать Вашу богатейшую библиотеку. Однако и философская вера, как ее назовет потом Ясперс, и по сей день не очень-то востребована обществом, которое в религиозных делах доверяет больше почве и крови, обряду и быту, приходскому батюшке и умилению, чем собственной совестливой мысли, желающей «во всем дойти до самой сути».
Много тугих мысленных волокон пронизывают Ваши письма, но нигде они не связываются в узлы, остаются разобщенными, пребывая в каком-то уникальном, беспорядочном и все же по-своему гармоничном переплетении. Причем не в идеях только, но и в мыслях, интуициях, в Ваших, только Вам ведомых, «беседах» с Богом. Этот и по сей день нераспутанный клубок, где Россия и Европа ведут свой спор не только в истории, но и в теории познания, где западное начало (познание Бога разумом) и восточное (внимание Слову, данному при творении) противостоят друг другу и сливаются в одно неделимое целое. Такова судьба всей мыслящей послепетровской России, в которой Запад, как напишет Мандельштам, иногда становится «сгущеннее, конкретней самого исторического Запада»[35]. Две любви сотворили два града, припомним слова бл. Августина, у Вас же тот град, который сотворила любовь к родине, то и дело ссорится с градом любви к истине, и почти вся последующая русская мысль с той поры окажется вовлеченной в этот конфликт. Но для Вас оба эти града суть предместья Божьего Царства, мерцающего за их стенами.
Да приидет Царствие Твое, – часто, даже в письмах к друзьям Вы цитируете слова молитвы Господней. И останавливаетесь на их пороге. Но откуда оно приидет? В каком облике явится? Станет ли оно завершением земной истории, которая пролагает путь в людях, повинующихся Промыслу и Божественному закону, как полагали Вы? А что если люди вдруг возьмут и изобретут свой собственный промысел и в манифесте о том объявят, и массами овладеют, и погонят их штурмовать само Небо? Идея Царства Божия на земле всегда скользит по краю пропасти, а в России однажды – Бог сохранит Вас увидеть это – она сорвется в багровый мираж. «Есть великая славянская мечта о прекращении истории», – писал Мандельштам в статье Чаадаев, и, возможно, симулякр Царства Божия на земле со слиянием (принудительным) всех душ человеческих в одну[36], и явился у нас еще одной попыткой ее, истории, прекращения. Мечта воплотится в утопию, подожжет полмира, но потом сдуется, осядет, рухнет, рассыплется, уступив место видению ушедшего на дно царства, откуда нас когда-то изгнали, но куда мы вернемся под расписными парусами плывущих вспять истории кораблей.
«Мое пламеннейшее желание, – писали Вы Пушкину в 1831 году, – видеть Вас посвященным в тайну времени». Откройте же нам Вы, тайнозритель, где спрятана эта тайна? В том, что «река времен в своем теченьи»[37] впадает в Божие Царство, и русло ее проложено не где-нибудь там, а в России? Вы лишь едва коснулись ее, но, коснувшись, задели струну, которая надсадным пением своим зовет, молит, требует эту тайну разгадывать. Не умом, не статьями разгадывать, а Востоком и Западом, спорящими внутри нас. И уже два века почти, как разгадывать, Петр Яковлевич, вместе с Вами, коль скоро вольно или невольно, Вы первый и начали тот разговор.
2016
О музыке и смерти (Александр Блок)
I
Присутствие Блока начинается во мне с непроизвольной пушкинской ноты, с отзвука «веселого имени» или ритма, невзначай просыпающегося в памяти. Словно гармония в истоке едина и нерасчленима, самое сокровенное в ней есть всегда и самое близкое. Судьба и тема одного поэта могут преломиться в звучании другого, словно выплыть из неразличимой глубины. Нередко я пытаюсь разгадать их в каком-нибудь, как бы случайно возникшем мотиве.
Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, лучше посох и сума; Нет, лучше труд и глад. Не то, чтоб разумом моим Я дорожил; не то, чтоб с ним Расстаться был не рад: Когда б оставили меня На воле, как бы дерзко я Пустился в темный лес! Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался бы в чаду Нестройных, чудных грез. И я б заслушивался волн, И я глядел бы счастья полн, В пустые небеса. И силен, волен был бы я, Как вихорь, роющий поля, Ломающий леса; Да вот беда: сойди с ума, И страшен будешь, как чума, Как раз тебя запрут, Посадят на цепь дурака, И сквозь решетку как зверка Дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я Не голос яркий соловья, Не шум глухой дубров — А крик товарищей моих Да брань смотрителей ночных, Да визг, да звон оков.В пушкинской поэзии и, может быть, только в ней существует эта завершенная, незримая слаженность породивших ее стихий. Между той областью, где стихи пребывают еще в нераскрытом, расплавленном виде, и той, где они облекаются в речевые потоки, созидаются ремеслом и застывают в культуре, нет не только противостояния, нет и трещины, шва. Мы не отыщем здесь концов, уводящих в неосязаемое или в сочиненное, рукотворное, и, куда бы мы ни пошли, к космосу или логосу, мы встретим то, что называется гармонией, и означает воплощенную человечность. По мысли Блока, гармония соединяет в себе разнородные стихии – слова и звуки – и лишь чудом они могут полностью слиться. Но чудо всегда единственно; чаще всего невидимые звуковые волны не находят верных им слов, словам не хватает звуковой влаги, корни и смыслы их как бы не достают до подземного тока музыки; само словесное их совершенство бывает докучно и немо. У Блока иное: его стихи еще слишком тесно прилегают к «пламенному бреду», они как бы еще не вполне обособились от той музыки, что вынесла их к слову; к ним пристали отголоски невнятной тамошней речи, их населяют те туманно-болотно-предрассветные существа, что странно смотрятся в человеческом мире. «Его стих был не камень, – говорит Корней Чуковский в Книге об Александре Блоке, – но жидкость, текущая гласными звуками». «Они (стихи) – повторяет тот же критик слова Шекспира, – из того вещества, из которого сделаны сны».
Сны застигнуты поэтом в момент их наивысшей ясности и наибольшей власти над душой. Они открыты и облечены в стихи, те пристанища русской речи, кровом которых мы привыкли пользоваться случайно, сентиментально, без мысли о благодарности. Сама жизнь поэта есть одно из таких пристанищ, запросто обживаемых во всяком читательском воображении. Жизнь и поэзия Блока настежь распахнуты – «здесь ресторан, как храмы светел, и храм открыт, как ресторан». Жизнь каждого стихотворения доступна и в глубине недостижима – «как тайна приоткрытой двери в кумирню золотого сна». Попробуем – вслед за гуляками, богомольцами, усердными работниками поэтических музеев – еще раз подойти к этой тайне, отыскать отражения ее в пушкинском слове…
Блок всегда был дорог мне совсем не мистический, не изысканный, не петербургский, не как ресторанный «бог» (Галич), «с каменным лицом красавца и поэта» (Бунин), а уже как бы бывший – «писать стихи забывший Блок» (Блок о себе), все существенное уже написавший, все понявший, обреченный, оглушенный, прикованный к «бессмыслице заседаний», «обтянутый паутиной» (свидетельства очевидцев), тянущийся только к смерти и замедливший перед ней лишь за тем, чтобы напоследок вольно попрощаться с искусством, Россией, Пушкиным, самим собой.
С того знаменитого прощания мы и начнем наш путь к нему.
II
Его речь О назначении поэта, произнесенная в последний год жизни и посвященная Пушкину, звучит ностальгически. Когда-то Блок предчувствовал гибель отчизны своей вселенной. Предчувствие сбывается: звуковая отчизна умирает в нем самом. Те же бездны и видения вызываются этой речью – хаос, космос, безначальный туман, устроенная гармония – и та же терпкая блоковская прямота в рассказе о них. Но Блока там уже нет. Собственный мир он видит как бы с другого берега, по контрасту с оставленным. И слова его ясны и смелы.
«На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, – катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир.
Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более, чем от других людей…»
Ныне она заслонена и от него.
«Плохая физика, но зато какая смелая поэзия!» (Пушкин) – она ведет свое происхождение от тех же волн, что объемлют вселенную, воздвигают горы, управляют мировой жизнью, «состоящей в непрестанном созидании новых видов, новых пород…».
«Поэт – сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать форму; в-третьих, – внести эту гармонию во внешний мир».
В первом деле своем поэт – медиум, духовидец; во втором – он – мастер, мастеровой своего таланта; в третьем – литератор, окруженный чернью.Ибо чернь господствует в том внешнем мире, куда вносится гармония. Она, как водится, озабочена лишь пользой. Разговор о поэзии редко обходится без поношения того или иного образа черни. Она попирается в духе классицизма: поэт рассеянно бряцает на лире, а чернь по тупости своей требует от него пользы и поучений. Она презирается романтически: душа, завороженная звездами, не желает слышать того, что кругом «о злате иль о хлебе народы шумные кричат». Она обличается социологически и нравственно, и для Блока, следующего теперь хорошо протоптанной и неподкупно-демократической традиции, всякая чернь непременно «светская» – скажем, остряки в котелках, жеребцы-кавалергарды, чиновники из жандармско-цензурного ведомства. Но какой бы ни видел поэт свою чернь и куда бы ни помещал ее, он воспринимает ее как некую противоположность поэзии. Чернь для того и существует, чтобы оттенять собой то, что не-чернь. Тот мир, где поэт по заданиям черни должен «просвещать сердца собратьев» или «сметать сор с улиц», бесконечно далек от безначального «родимого хаоса», откуда посылаются ему звуковые волны…
Когда б оставили меня На воле! Как бы дерзко я Пустился в темный лес…Но поэт не только тоскует о символическом бегстве от черни и не всегда рвется прочь от нее. Изредка, в моменты какого-то опьянения земли, когда сдвигаются породы, когда ритмические колебания, идущие из темных недр, передаются обществу и государству, поэту кажется, что из глубин хаоса хлынула сама поэзия.
И тогда – к ужасу друзей и посвященных в таинства прежнего его искусства – он неожиданно братается с чернью, ищет разделить с нею три главных дела своих. Не лес и не роющий поля ветер становятся теперь зримыми выразителями стихии, но запорошенные метелями улицы и люди на них. Отсюда поэт добывает звуки и слова, которые преобразует в гармонию.
«Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни». Для возникновения гармонии нужно, чтобы «поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова…»
Потом опьянение спадает, и поэт еще острее, чем раньше, начинает тяготиться окружением черни. Но гармония, созданная в момент недолгого упоительного братства со стихией, остается.
Ведает ли он какую-то общую меру между жизнью стихии, звуками из глубины и организованной мастерством человеческой речью? Что есть гармония – облечение плотью, словами, звуками, красками чего-то хаотического, донесшегося из волн, «где человек перестает быть человеком»? Мы вправе предположить, следуя размышлениям Блока, что слух поэта может различить в этой подспудной мировой стихии какой-то внятный нам, обращенный к человеческому миру музыкальный строй и, более того, – некий замысел, вложенный в эту стихию, может быть, ее направляющий. Вероятно, человек с сердцем менее музыкальным, прочнее защищенным от стихий, но более чутким к замыслу, ими повелевающему, был бы более озабочен его истинностью, его соответствием Первообразу всякого смысла, но поэт целиком поглощен своим «вслушиванием», своим посредничеством между хаосом и воздвигаемым им космосом. Притяжение хаоса неодолимо, музыкальная власть его завораживающа, и тому, кто изведал ее на себе, не чужд должен быть и соблазн навсегда с ней остаться, раствориться в блаженной стихии, заслоненной для черни «явлениями внешнего мира».
Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался бы в чаду Нестройных чудных грез.Влекущую к себе даль бреда поэт готов признать своей страной. Искушение навеки туда вернуться никогда не оставляет его; только там может он вполне исполнить свое призвание. Здесь же достигается оно чаще всего вопреки требованиям черни, в отречении от срединного общечеловеческого мира с его «пользой» и пошлостью и достигается тайно.
Тайно сердце просит гибели, Сердце легкое, скользи… (Снежная Маска)Почему «тайно»? Да потому, что самое невысказанное, несказанное – ив этом поэт, конечно, не может не признаваться – то, что стихия грез, «пламенного бреда», катящихся «звуковых волн», безначального «родимого хаоса» есть стихия гибельная, притягивающая не только музыкой, но и смертью, и даже делающая их обе – музыку и смерть – равно повинными в рождении гармонии…
III
Всякий поэт постоянно оборачивается на себя, вглядываясь в то, что он делает. Блок при всей его медиумической настроенности на восприятие лучей и звуков «оттуда» (из неназванной пока страны) более, чем кто-либо, был заворожен истоком своей поэзии. Самым точным, частым, устойчивым указанием на этот исток стало в его словаре слово «музыка».
«Музыка потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего… Каждый оркестровый момент есть изображение системы звездных систем – во всем ее мгновенном многообразии и текучем…
Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира… Дойдя до предела своего, поэзия, вероятно, утонет в музыке».
Мысли эти были вызваны впечатлениями от музыкальной драмы Вагнера. Запись в Записной Книжке (1909) начинается словами: «Вагнер в Наугейме – нечто вполне невыразимое: напоминает anamnesis».
Анамнесис – слово, которым Платон обозначает воспоминание об истине, некогда сопричастной человеку, но затем утраченной. Воспоминание даруется смертью, но может быть даровано и философией, задача которой – научить умирать. То, что понимал под философией Платон, по-своему близко к тому, что мы понимаем под поэзией. Он относит философию к «мусическим искусствам», а философов в диалоге Федон называет «вакхантами». Истина окончательно открывается лишь в смерти, и потому умирать и предаваться воспоминанию и познанию – в «мусическом» истоке своем – не есть ли одно и то же?
Музыкальное воспоминание лежит за строчками многих стихотворений Блока. Ритм, в них вложенный, достигает своей колдующей силы тем, что доносит до нас голос не воспринимаемой нашим слухом, но обступающей нас стихии. Поэт связует нас с нею, ей повинуясь. Повиновение ей составляет блаженную волю, «тайную свободу» его. «Духовное тело мира» он одевает осязаемой, зримой, речевой гармонией. Только в «тайной свободе», означающей и пленение темной стихией и одновременно – благословенное исполнение «замыслов Зодчего», совершается таинственное – «первое дело» его – обнажение покровов, освобождение звуков. Ритмический рисунок стихотворения при этом и предопределяет и созревание смыслов. Ритм и смысл у Блока – два полюса одного звукового поля. Всякое стихотворение для него – «покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдаленнее эти слова от текста. В самом темном стихотворении не блещут эти темные слова, оно питается не ими, а темной музыкой пропитано и пресыщено…» (К. Мочульский, Александр Блок).
Но даже и там, где слова светлы, где значения их прочны и прозрачны, где они укреплены притяжением земных реалий, даже и там за видимым текстом стихотворения ощущается недалекий прибой «темной музыки», «бредовой» стихии, и самый текст то и дело заливают волны его. Это не просто подтекст, это внутренний звуковой строй – анамнесис – который выбрасывает на поверхность свои смыслы, свои образы или тревожно, властно заставляет угадывать их. Вдохновения Блока, то скользящие, то несомые чем-то, как будто выводят вовне глухую, затаенную музыку мира, освобождая ее из оков, чтобы выразить ее бег из хаоса к гармонии, а из гармонии к гибели, в родное лоно… И потому в стихах Блока не иссякает движение – не умолкают ветры, не стихают метели, а в ресторанах его – «и скрипки, тая и слабея, сдаются бешеным смычкам». Даже в исторической дали – при воспоминании о битве с татарами на поле Куликовом, воспоминании, оттолкнувшемся от лениво раскинувшейся реки и грустящих стогов, из ритмического потока, из музыкального тайника стихотворения вырывается вдруг проносящаяся сквозь кровь и пыль степная кобылица, и этот древний бег ее передает собой все беспокойство, весь строй и дух блоковской звуковой памяти…
На поле Куликово приводит Блока музыкальная память о России. Но в соприкосновении с историей она становится пророческой, ибо обращена к будущему. В отшумевшей когда-то битве он слышит отклики битвы грядущей. Но уже там, в «Руси далече», в глубине памяти начинает для Блока двоиться образ России и два разных голоса ее то перебивают друг друга, то сливаются в один. Родина кличет его издали – «за туманной рекой», но «стрела татарской древней воли» пронзила его душу, и она томится странным притяжением пожара и гибели. Музыка и смерть, темный огонь и молитва смешались в его стихах, и вой «вековой тоски» заглушает светлый оклик «издали». «Дух беспокойства и мятежа поэт уже прочно связал с татарской стихией. Это против него бросает он свое последнее заклятие: “Молись!”» Но до конца остается темным: когда настанет час последней битвы…, в чьем он будет стане, в русском или татарском?» (Г. Федотов. На поле Куликовом).
Но вот – иная Русь и пейзаж иной, намеренно прозаический. Петербургская окраина, ипподром, «толпа зевак и модниц» и на их глазах – внезапная смерть жокея. Иной ритм, иной слог, иной бег, но дух музыки, отзвук памяти поэта – прежний, глубинный, древний. Смысловое соприкосновение воли и смерти, ритмическое постижение стихии и гибели, их музыкальный союз…
Так хорошо и вольно умереть. Всю жизнь скакал – с одной упорной мыслью, Чтоб первым доскакать. И на скаку Запнулась запыхавшаяся лошадь, И утлые взмахнулись стремена, И полетел, отброшенный толчком… Ударился затылком о родную, Весеннюю, приветливую землю, И в этот миг в мозгу прошли все мысли, Единственные, нужные. Прошли — И умерли… Так хорошо и вольно (Вольные мысли)Блок – не посторонний зритель этой смерти. Он – тайный и страстный соучастник ее. Он прозревает в ней внезапное постижение искомого ритма, к которому всю жизнь спешил, блаженное озарение истиной, – анамнесис – и мгновенный конец. И передается – даже сквозь трезвые мысли и размеренные строки – как манит его эта вспыхивающая на миг и гаснущая бездна, как музыкально умирать в ней – «так хорошо и вольно». И мгновенные мысли – «единственные, нужные» – словно обещают и подсказывают Блоку его последнее стихотворение, стихотворение-смерть. И все же он только зритель пока, мечтатель, поэт. Смерть-музыка проносится где-то мимо. Он может лишь издали смотреть на нее с «улыбкой рассудительной». До времени он может лишь ностальгически тянуться к ней, бродить и весело тосковать в ее поэтических окрестностях «и песни петь! И слушать в мире ветер!»
И силен, волен был бы я, Как вихорь, роющий поля…«Люблю я только искусство, детей и смерть», – говорит Блок в одном из писем к матери (1909 г.)
Двумя годами ранее он пишет Андрею Белому после несостоявшейся дуэли с ним: «Драма моего миросозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я – лирик . Быть лириком – жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь, и ничего не останется. Веселье и жуть – сонное покрывало. Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет только моя душа, я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение».
IV
Блоковедение едва ли заглядывало в блоковскую бездну; в критике не приняты экскурсы такого рода. Но если, следуя допущению апостола Павла о человеке, мы и в произведении искусства попытаемся различить тело, душу и дух, то обычные суждения наши нечасто распространяются дальше телесной стороны произведения, его плоти. О прочем же пространно или лапидарно мы чаще всего можем высказать лишь поношенную, хотя и не линяющую истину, что чужая душа, мол, потемки. О духе же и вовсе не смеем судить. Нерешительность эта, конечно, не исключает нашей лирической готовности запросто поболтать на мистические темы с привлечением всех насельников запредельного: демонов, серафимов. Но мы, как правило, избегаем ответственных и точных слов о духовной сути художественных творений, о соотнесении их с реальностью, стоящей за ними и их превосходящей.
Вот почему так дерзновенно и остро звучит всякое слово «власть имеющего» к различению духов. Таким словом прозвучал опубликованный анонимно импровизированный доклад священника Павла Флоренского О Блоке (Вестник РХД № 114). По сути, доклад этот явился одним из первых и весьма радикальных опытов того, что может быть названо богословием искусства на русской почве. Но богословие означает здесь – суд. Священник от лица культа судит поэта, деятеля культуры. И суд его прав, скор и немилостив. Предпосылка его проста и неумолима: культура может быть правильно понята только в рамках строго-монистической системы, правомочной культуру оценивать. «Мир расколот религиозным принципом: антитезис марксизму – только христианство (т. е. православие), религия человекобожия – религия богочеловечества». С православной точки зрения истоки тем и плодов культуры должны быть найдены в тематике культа, т. е. в богослужении. «Творчество культуры, от культа оторвавшееся, по существу – ПАРОДИЙНО.
Пародийность предполагает перемену знака, при тождестве тем».
Итак, пародия – вот слово, что должно послужить церковным ключом ко всей поэзии Блока. Блок великий поэт в силу того, что он – одаренный мистик, ибо говорит он о подлинной реальности. Потому что «и слов кощунственных творец» есть уже поэт значительный, ибо кощунственные слова – неправда, сказанная о Правде; «кощунство всерьез» обязывает быть причастным глубине, предполагает укорененность в «глубинах сатанинских».
И остается только подобрать примеры.
Есть в напевах твоих сокровенных Роковая о гибели весть. Есть проклятье заветов священных, Поругание счастия есть.То, что некогда явилось открытием, ныне спонтанно становится едва ли не общим местом. Так стихотворение К Музе оказалось судимо и в статье Наума Коржавина Игра с дьяволом (Грани № 95). Но здесь за процессом, где слово предоставлялось лишь прокурору, чувствуется внутренняя тяжба: ты, мол, учил меня плохому, когда я был еще юношей и в сладких звуках проглатывал вредное содержание. Впрочем, расчет расчетом; всякий поэт, чтобы стать самим собой, должен освободиться от магии другого. Пусть это делается грубовато, но есть здесь и «доводы сердца». Приговор Коржавина почти запальчив, приговор Флоренского почти холоден. Блок – посланник дьявола в русской поэзии.
Не он ли сам говорил о «черном аде искусства» (О современном состоянии русского символизма), о «гибкой, лукавой, коварной лирике» (О драме)? Не он ли страдал приступами «изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки и кончается буйством и кощунством» (Ирония)? Не он ли ощущал в себе «переливание тех демонических сил, которые стерегут поэта и скоро на него кинутся»? (Судьба Аполлона Григорьева). И не оттого ли – неосуществимые мечты о бегстве из искусства, о полном отказе от литературного заработка? «Нет, лучше труд и глад…».
Стало быть, приговор, запальчив он или холоден, в сущности, справедлив, и музыка, воспринимаемая на бездонных глубинах духа, есть только обращаемая в гармонию воля к смерти? И звуковые волны несут лишь пародийный соблазн, и та глубина, «где человек перестает быть человеком», есть сатанинская бездна, куда проваливается поэт, убежавший от черни? А «дух музыки», к коему так упорно и странно взывал Блок всю жизнь, в особенности последние годы, есть попросту бес поэзии? Мы не можем уклониться от этих выводов, додумывая до конца идеи о. Павла Флоренского. «Все в мире четко, потому что четно». Блок – исказитель культа, шут, осквернитель. Вестник ада. И точка.
Богословие ищет понимания человека и всего человеческого в луче молитвенного мышления, умной молитвы, богословие мыслит, следуя слову апостола Павла: Стану молиться духом, стану молиться и умом (1Кор. 14, 15); богословие находит верное слово о Боге, исходя из сотворенного Им, и Слова Бога о людях и их творениях.
Таким и было мышление о. Павла Флоренского. Мистически он прав, и взгляд его точен. Культура когда-то произошла от культа, хотя и давно утратила связь со своим истоком, но священнослужитель, иерей-мыслитель не только вправе, но и призван судить о плодах культуры. Однако в в его восприятии Блока, в его приговоре ему, сделаны как будто два существенных упущения. Из системы его (ибо, несмотря на фрагментарность доклада, мышление о. Павла и здесь развернуто и систематично) ускользнула, прежде всего, собственная природа поэзии и отчасти даже природа тех духов, которым блоковская поэзия дает якобы выговориться. И потому явление и даже суть поэзии Блока описывается им цитатой из прей. Максима Кавсокаливита (XIV в.), взятой из Добротолюбия:
«Когда злой дух прелести приближается к человеку, то возмущает ум его, делает диким, сердце ожесточает и омрачает, надевает боязнь, и страх, и гордость, очи извращает, мозг тревожит, все тело в трепетание приводит, призрачно перед очами показывает, свет не светлый и чистый, а красноватый, ум делает исступленным и бесноватым и уста заставляют говорить слова непокорливые и хульные».
Куда уйти, где скрыться поэзии Блока с ее музыкой смерти и притяжением гибели от жала этих слов? Да пощадят ли они и нас, читателей Блока?
О дьяволе сказано было фарисеям: Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец лжи (Ин. 8,44). Зло до того, как налиться ему силой, закрывается обманом. И это не форма его, не одежда, но суть. Ложь и пафос человекоубийства и до сего дня остаются характернейшими признаками дьявольщины. И потому правдивое и дьявольское просто не могут уживаться мирно в одной душе. И как душа, коснувшаяся преисподних углей, может сохранять в себе обыкновенную человеческую честность и прямоту?
«Казалось, он видит мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте. Правдивость и простота навсегда остались во мне связаны с воспоминанием о Блоке» (В. Ф. Ходасевич, Некрополь). «Это было главной чертой его личности – необыкновенное бесстрашие правды» (К. Чуковский). И много подобных свидетельств.
И более того: за бесстрашием вполне человеческим стояло еще и другое – то, что можно было бы назвать «честностью слова», правдивостью самой его речи. Блоковское слово, и в прозе, и в стихах, не лукаво, не театрально, не выряжено. Оно чуждо даже той непринужденной игры, которая столь естественна у поэтов, тем более у поэтов его поколения. Он писал о масках, но сам никогда не скрывал своего лица. Теперь кажется странным, что когда-то его называли декадентом и даже вождем декадентов; никакой упадочной изломанности у него нет. Что-то изломанное было в блоковском времени, но не в самом Блоке. И если его стихи чужды нам, это значит, что мы стоим вне того опыта, о котором они говорят. Но мы можем быть уверены, что это подлинный опыт, не подмененный каким-либо невинным мистическим или поэтическим притворством. В эпоху, столь богатую на всякого рода вымыслы и подмены, Блок оставался верен той правде, которая музыкально посылалась ему. В нем не было никогда никакого – ни живописнейшего, ни невиннейшего вранья.
На поверхности жизни мы всех воспринимаем по отдельности: стихотворца, политика, мистика, влюбленного. Но на глубине они едины. «Необыкновенное бесстрашие правды» не соединяется в одном сердце ни с поэтическим криводушием, ни с художественным лукавством. Оно неотделимо от правдивости и бесстрашия всякого слова поэзии, от подлинности того, чему служит поэт, от неложности самого служения. Поэт, по блоковскому определению, «человек, называющий все по имени», ибо настоящие имена вещей как бы скрыты от нас, «отнимающий аромат у живого цветка», ибо он должен вдохнуть его в слово и сделать его навсегда пахнущим жизнью. «Бесстрашие правды» – нелукавость слова – подлинность имен, коими одаряет поэт – все это нерасчленимо и музыкально, изначально и единственно связано.
«…может быть, только гений говорит правду; только правда, как бы она ни была тяжела, легка– «легкое бремя»» (Из Дневника).
Легкое это бремя несет на себе блоковская поэзия; словесная музыка ее легка, правда ее музыкальна. Только правдой и незащищенностью сердца может отвечать поэт перед богословским или иным человеческим судом. «Правду, исчезнувшую из русской жизни, – возвращать наше дело», – записывает Блок в том же Дневнике. Дело это и составляет его призвание, и складывается оно в единстве «обнажения покровов», «принятия звуков в душу» и «внесения гармонии в мир». Возвращение правды миру – в этом и состоит назначение поэта.
V
Что знаем мы ныне о богословии языка? Исповедуя веру в Бо-га-Слово, мы повседневную нашу речь равнодушно принимаем за обмен условными знаками. Мы покорили язык суете и рабству, сделали его выражением нашей земной человеческой страды и маяты. А Исходящее из уст – из сердца исходит – сие оскверняет человека (Мф 15:17). Мир осквернен прежде всего человеческой речью, используемой для обмана, захвата, порабощения и раздора. Пафос человекоубийства облекается в речь-ложь, речь-убийцу, которая крадется к власти через посулы неслыханной свободы и невиданного процветания личности. То, что исходит из наших уст, обязывает нас к покорности миру, притягивает нас к низу, к затемненности и закрытости бытия, часто не воспринимаемой обыденным нашим зрением. Язык, на котором мы привыкли говорить, в той же мере затронут грехопадением, как и разум, которым мы мыслим, как и общество, в котором живем. Нам незачем искать социальных или иных определений черни, коль скоро мы сами существуем в мире, зачерненном грехом, коль скоро мы пишем и говорим начерно, тусклыми, вымоченными словами и коль скоро черновую нашу речь мы привычно считаем единственной и естественной.
В своей пушкинской речи Блок называет чернью и тех, «кто не желают понять, хотя им должно многое понять, ибо и они служат культуре…» Служат – но не обязательно в должности цензоров, бывает, что и в роли поэтов. Ибо в мире, где поэт иногда ищет спастись безумием, здравомыслящие люди производят тем временем вчерне-поэзию – нехитрую болтушку ритмических эмоций, лубочное рифмословие чиновного сословия, затейливую речь-газировку, пропускаемую через миллионы глаз и душ, своего рода шипучку с сиропом, приготовленную из безвкусного настоя нашей замороченной жизни и отстоящую от поэзии в блоковском смысле гораздо дальше, чем от спорта и кинопромышленности.
Но тщетно предполагать, что поэзия-набело всегда есть нечто сублимированное, весьма приподнятое над жизнью, что она – только редкость, если не роскошь для наших душевных трат, уникальная культурная ценность, которую мы готовы почтить вниманием, подобным тому, которое городские власти оказывают официальным бронзовым классикам, поднося им регулярные цветы от имени символизируемой читательской массы…
Что же такое «чернь»? Мы все, говорящие зачерненной речью. А поэзия? Очищение слова ради скрытой в нем и сотворенной для этого слова правды. Но не все ли мы становимся поэтами, когда входим в поэзию и породняемся с правдой, поэзией выявленной?
«Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. «Слова поэта суть уже его дела»» Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака; может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей название «человек»…» (О назначении поэта).
«Приведенные в гармонию звуки есть поэзия. И она же есть особая весть о том, что “мир волшебен и человек свободен”» (О современном состоянии русского символизма), что «мир прекрасен – втайне» (Из писем). Мир распахивается гармонией, и мы узнаем в нем ту целиком поглощающую нас истину, ради которой мы пробирались через хлам и шлак в самих себе. В одной из книг К. С. Льюиса мне встретилось размышление о рае, которое автор, не обинуясь, иногда относит и к поэзии. Стоит его привести:
«Все, что мало-мальски серьезно владело нашей душой, было лишь отблеском, невыполненным обещанием, неуловимым эхом. Но если бы это эхо окрепло в звук, вы бы сразу узнали, и сказали бы уверенно и твердо: “Да, для этого я и создан”. Мы никому не можем об этом рассказать. Это сокровенная печать каждой души, о которой рассказать невозможно, хотя мы стремились к ней раньше, чем нашли себе жену, друга, дело и будем стремиться в смертный час, когда для нас уже не будет ни дела, ни друга, ни жены. Пока мы есть, есть и это. Если мы это утратим, мы утратим все» (The Problem of Pain).
Поэзия правдива, ибо обнажает сокрытую истину и тайную красоту. Поэзия и правда соединены родившим их ритмом и онтологически едины. О. Павел Флоренский прав, настаивая на причастности творчества поэта некой духовной реальности; он не вполне прав, может быть, жестко разделив всю реальность лишь на софийную и демоническую. Спиритуализм столь категорический, столь бескомпромиссный, бывает порой излишне суров к здешнему миру, ибо подлинным считает лишь то, что лежит за пределами телесного нашего восприятия. И если видимое – всего лишь «отблеск от незримого очами», если всякое «здесь и теперь» случайно, подозрительно, преходяще, то поэт – в лучшем случае лишь визионер, лишенный четких мистических ориентиров, едва касающийся шестым чувством того, на что нужен твердый, наметанный глаз. Но разве возвращение вещам подлинных их имен – возвращение правды о них – не заслуживает благословения?
Цель поэзии – не только выразить незримое в здешнем, но и видимое облечь светом невидимого, вернуть звучание тому, что мы разучились воспринимать смертным слухом. Сделать вещи присутствующими в том виде, какими вышли они из рук Творца.
То определение, которое апостол Павел дает вере в Послании к евреям, парадоксальным образом может быть отнесено и к поэзии. Есть же вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых (Евр. 11:1). Суть определения в том, что невидимое ожидается и предчувствуется нами, что душа чувствует себя на месте только невидимом, что она заворожена тоской по нему и уверенно прозревает его в уповании. Вещи – мир в целом, сотворенное и сущее, первозданное и подлинное – вызываются словом к их видимому присутствию. Это не платоновский мир идей, которые должна постичь или вспомнить душа человека, это тот окружающий ее мир, незримый и зримый, для нее именно созданный и ее ждущий, но сокрытый в обыденном, черновом восприятии.
В поэзии слово как будто непредугаданно что-то с себя сбрасывает, становится вдруг нагим, и мы изредка успеваем уловить в нем какое-то «объясняющее странное движение, все то же плещущее сгорание одежд…» (Из Записных книжек).
Так – будто бы луч света выхватывает из черноты нечто притаившееся, окликающее нас, и в звездном небе или в «пылинке дальних стран» проглянет внезапно изначальная разумность и сотворенность, и словно горстка благословения прольется из человеческой речи…
Мы, как люди, существуем благодаря тому, что обладаем речью. Но лишь поэзия может вернуть нас к ощущению этого дара, очистить его от безликости и мути. Она возвращает нас к той истине, которую мы носим в памяти и сердце – истине языка. Когда поэзия исчезает (а это случается по наблюдению Мандельштама лишь во времена общественного идиотизма), как быстро тускнеет язык и сереют называемые им вещи. Некогда наши классики, коим по недосмотру позволили быть – Пушкин и Блок, Толстой и Гоголь оставались для стольких людей последними незатоптанными очагами русской речи, что не давали ей заледенеть, когда она, казалось, уже не звучала речью человеческой.
Язык – не только «живое и трепетное отечество внутри нас» (как довелось прочитать где-то), это еще и особая реальность нашего существования, и скрытая его ритмичность. Дар поэзии не только в том, что им выявляется музыкальность, скрытая в языке, но и в том, что он соединяет нас с истоком самой музыки – со Словом. Ибо Слово, силой которого держится мир (см. Евр. 1:3), есть источник света. Оно есть родник, коим все созданное приходит к бытию, устроенному согласно замыслу о нем, т. е. гармонии. Все чрез Него начало быть… что начало быть.
Наделенный даром слова приобщает нас словом тому, что было одарено бытием. Выводя гармонию из ее глубин, трудясь над ней, он работает над очищением сотворенного мира. Созданное он ищет вернуть Отцу обнаженным, звучащим, звонким, «прекрасным втайне». Эту тайну он призван явить во всей ее гармоничности и неподдельной правде. В самом обнажении бытия и цветении тайны, невидимых пока под копотью мира сего, раскрывает себя одна из сторон христианского призвания человека. Его призвание не распадается на отдельные фрагменты; оно целостно. Святость на вершинах своих окрашивается поэзией, и поэзия, совершив в себе работу внутреннего очищения, находит в Церкви путь к священнодействию. Но то, что Церковь может увидеть ясными, зрячими глазами, поэзия иногда лишь предугадывает как сон
…живой и мгновенный, Что нечаянно радость придет. И пребудет она совершенной.Но поэт, владелец таланта, зачарован своими снами, вовлечен в их взаимные отражения, играет с ними профессионально. В Дневниках или Записных книжках Блока я встретил когда-то фразу: мне не нужно больше писать стихов, потому что я слишком хорошо умею это делать. В мире дисгармонии и тяжести художник покоряется земному притяжению отпущенного ему дара. Но чем подлинней дар, тем глубже связан он с тайной, из которой вырастает и которая в нем раскрывается. Чем крупнее дар, тем более он открыт и обращен вовне, к вещам, голосам, цветам, братьям. Отсюда – исток противоборства, владеющего художником, натяжение между человеческой тяжестью дара и его божественной легкостью, разделение между «работой Господней» и стяжанием человеческим. Поэт озабочен тем, чтобы сберечь свою тайну от черни, он хочет бежать с нею к морю и в лес, где «обнажаются покровы» и внятен становится язык стихий, но там наедине со стихиями поэт оказывается беззащитен перед ними. Стихии гибельные и дикие бросаются на его светлую тайну, стремясь овладеть ею.
А ночью слышать буду я Не голос яркий соловья, Не шум глухой дубров…На каждом шагу закрывает нас тень памяти смертной, стенающей твари, крестной судьбы всего живущего. Тень и свет ведут свой нескончаемый спор во всем и повсюду. Тяжба двух зрений, двух интуиций, двух правд, мира сего и жизни будущего века – удел христианина. И особым образом запечатлевает себя этот спор в слове и тайне, им выявляемой. Музыка благословения всего сотворенного и существующего спорит здесь с «дикими страстями» и «сиянием небытия», с низинным притяжением смерти и служением падшим ангелам ее. В поэзии, столь тесно связанной с глубинами христианского опыта, пусть и не проясненного, как поэзия Блока, спор этот выставляется напоказ, устрояется заново – в гармонии.
Понять и осмыслить этот спор можно только в самой сути его – в причастии и кощунстве – в споре о Христе. Христос как исток гармонии в Слове – и музыка и мука поэзии Блока.
«Безумная, упоительная скачка – на привязи! – писал он Е. П. Иванову в 1904 году. – Но привязь – длинна, посмотрим еще. Так хочется закусить удила и пьянствовать. Говорите, что на каком-нибудь повороте мне предстанет Галилеянин, пусть! Но, ради Бога, не теперь!..
Только в тишине увидим Зарю. Мы – в бунте, мы много пачкались в крови. Я испачкан кровью. Раздвоение особенно. Ведь я “иногда” и Христом мучаюсь. Но все это – завтра».
А назавтра (через годы «мук и раздвоений») – Двенадцать:
…Так идут державным шагом — Позади – голодный пес, Впереди – с кровавым флагом И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз — Впереди – Исус Христос.VI
«…почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос» (К. Чуковский, Книга об Александре Блоке).
«Дионисийское волнение из своей пучины вынесло на берег священное имя, может быть, неожиданно для самого поэта» (К. Мочульский. Александр Блок).
«Какова бы ни была логика блоковского замысла, через какие бы исторические аналогии ни осмыслял поэт “своего Христа”, нельзя не признать, что образ спасителя и искупителя, в течение веков служивший в руках поповщины орудием лицемерия и обмана, вносит известный диссонанс в пламенную музыку поэмы. Читатель “Двенадцати” вправе был разделить первое искреннее недоумение самого автора: “Почему Христос?”» (Вл. Орлов. Поэма Александра Блока Двенадцать).
«И теперь он кого-то видел, только, конечно, не Того, Кого он назвал, но обезьяну, самозванца, который во всем старается походить на оригинал и отличается какой-нибудь одной буквой в имени, как у гоголевской панночки есть внутри лишь одно темное пятно. И заметьте: это явление “снежного Исуса” не радует, а пугает» (о. Сергий Булгаков. На пиру богов).
«Как известно, живописец Петров-Водкин говорил Д. Е. Максимову: “Я предпочел бы, чтобы там был просто Христос, без всяких белых венчиков”… Не он один предпочел бы так» (С. С. Аверинцев).
«Этот Исус Христос появляется, как разрешение чудовищного страха…» (о. Павел. Флоренский. О Блоке).
Кто ответит нам на это недоумение самого автора поэмы? Кому, в конце концов, принадлежит последнее слово? Литераторам? богословам? русской революции? Самой стихии, которой Блок, по его словам, слепо отдался в январе 1918 года? «Темой» Христа прорежена вся блоковская поэзия; последняя строка Двенадцати только собирает воедино множество разбросанных мотивов. Христос Двенадцати есть разрешение и устроение заново глухого и скрытого музыкального спора, в котором, если развернуть его и представить в лицах, атеист борется с аскетом, а мятежник не в силах победить в себе мистика. Музыка и смерть оспаривают здесь друг у друга истину о Христе. Блоку первому была более всего мучительна эта невыговоренная спорность.
«Отчасти “Исус Христос” у Блока списан поэтом с себя. И противоречивое отношение Блока к нему – это проекция его отношения к себе» (Е. А. Ермолин. Репетиция Апокалипсиса).
Т.е. Блок узнает себя в олицетворенном «духе музыки», ведущем ночной патруль красных апостолов?
Достоевский признавался, что предпочел бы остаться со Христом вне истины, чем с истиной вне Христа. Блок такого о себе повторить никогда бы не мог. Христос был для него лишь частью того «песенного сказанья», той «лирической величины», какой представлялась ему Россия. Христос был лишь частью той истины, которая называлась у него так интуитивно смутно: «духом музыки». Но и расстаться с этим «духом», постоянно выносящим Христа из «музыки» к слову, Блок тоже не мог. Поэт, хоть «он и слов кощунственных творец», ощущает это имя как нечто неотъемлемое от его лирических глубин. Вчитываясь в некоторые его стихи, мы пытаемся расслышать, что же лежит у него в истоке: музыка, Россия, Христос, или же эти темы слиты у него в одну:
Задебренные лесом кручи: Когда-то там, на высоте, Рубили деды сруб горючий И пели о своем Христе. Теперь пастуший кнут не свистнет, И песни не споет свирель. Лишь мох сырой с обрыва виснет, Как ведьмы сбитая кудель. Навеки непробудной ленью Ресницы мхов опушены, Спят, убаюканные ленью Людской врагини – тишины. И человек печальной цапли С болотной кочки не спугнет, Но в каждой тихой, ржавой капле Зачало рек, озер, болот. И капли ржавые, лесные, Родясь в глуши и темноте, Несут испуганной России Весть о сжигающем Христе.Стихотворение, как это часто бывает у Блока, поначалу кажется плотно окутанным звуковой тканью; чтобы войти в него, нужно отодвинуть его музыкальный полог. Строй стиха сразу же овладевает какими-то ритмами и речениями внутри нас, и мы незаметно оказываемся в его песенных узах. Мы как будто запутываемся в той невесомой полупрозрачной материи, которой стихотворение занавешено. На занавесе изображен пейзаж чуть стилизованного васнецовского леса, за которым мы видим сцену, где разворачивается видимое действие стихотворения, его «сюжет». Перед нами звучащее воспоминание о русских раскольниках. Со старообрядческой Русью Блок, вероятно, мог соприкоснуться, скорее всего, через искусство. За три года до написания стихотворения он видел Хованщину, оперу Мусоргского, в финале которой происходит массовое самосожжение староверов, выслеженных в глухих лесах царскими войсками. «Христа сжигающего» он мог услышать и в музыке оперы. Тогда он писал матери:
«“Хованщина” еще не гениальна (то есть не дыхание Св. Духа), как не гениальна еще вся Россия, в которой только еще готовится будущее. Но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание духа…».
«Дыхание духа» воспринимается поэтом сквозь звуковые волны. Блок хочет разгадать их исток. За музыкой оперы, за дыханием России созревает гениальное будущее – гармония воплощенная. В стремлении к точному и тайному именованию ее сути – гармонии, гениальности и России – Блоку приходит на память одна из ипостасей Святой Троицы. Там, где проносится дыхание духа, видит он и очистительного «сжигающего Христа»…
Открытая сцена стихотворения представляет нам Русь раскольничью. Она отодвинута в глубину, в даль и быль, быльем поросшую, в глухую, ленивую глушь. Ритмический путь к ней начинается еще раньше – почти из былинной древности. К раскольничьему, к мятежному Христу последней строфы приводит нас давно умолкшая песня дедов. Первые строки стихотворения доносят некогда начатую и затерявшуюся где-то песню, соединяют нас с таинственно огненным духом музыки. Блока делала великим поэтом его способность воспринимать музыкальную сущность мира, слышать подземное его звучание, не заглушаемое текущим временем – «в душе или извне – этого Блок никогда не знал» (Л. Д. Блок. Были и небыли).
Некогда эта звуковая речь и вправду говорила на Руси. Может быть, она сама и была Русью. Она собирала своих верных и слышащих, всех способных воспринять сердцем ее тайный повелительный зов. Но мир и тогда был недостаточно музыкальным, и людские скопления в городах уже в XIV–XV веках, да и раньше, казалось, заглушали в сердцах посылаемые знаки. Те, кто были привлечены этим зовом, уходили из городов в нехоженые дебри, чтобы там, повинуясь призыву, трудиться молитвой и жить духовным деланием. Лишь молитвенным ритмом они были связаны, ничего не зная друг о друге. Но молва об их затерявшемся в лесах подвижничестве привлекала других; так рождалась община, возникал устав, монастырь, и как завершение молитвенной гармонической темы вырастал среди леса купол небольшого бревенчатого храма, где, должно быть, долго и хорошо пахло смолой и свежесрубленным деревом. Иноки ставили там престол и освящали его именем Святой и Живоначальной Троицы
И пели о своем Христе.
Это не уложилось в признания, осталось догадкой, но древняя раскольничья песня была внятна и душе Блока, донесена до нее струением тех молитв, сонмом тех святых, поднявшихся над Русью и навеки оставшихся – «когда-то там на высоте» – причастными блоковской памяти, музыкальной и церковной.
Но ныне небесные эти дали плотно закрыты; на переднем плане – сырые ведьмины мхи, недоброе безлюдье, томительная недосказанность русского севера. «Убогая финская Русь», – как называл ее Блок, и кругом нее – опущенность, обреченность. И все же музыка не умерла, но спит. Ею напоена сырая земля. Она наполняет болота, стекается по каплям из лесной глуши. Русь болотная чревата сжигающей бурей. Буря, когда она разразится, будет носить имя Христа.
Тема осени и болот проникает в поэзию Блока и неожиданно разрастается в ней. Зловещий покой болот и осень имеет для поэта двоякий смысл: «вольный разгул и распятие» (Г.Федотов). Из осени, разгула, распятия и болот возникает блоковский Петербург, тот, по его словам, «самый страшный и царственный город в мире», выросший на болотах, полный темных видений, Петербург незнакомок, лачуг, кабаков, набухающий революцией и Двенадцатью…
Болота и осень царствуют и за городом. Горючие срубы давно сожжены, дедовской песни ниоткуда не слышно. «Единственный общий враг наш, – пишет Блок матери (1909), – российская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники…». История пошла прахом, былая музыка иссякла в ней. «Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и с пьяных глаз поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже на следующее утро пошел рубить старую сирень» (Ни сны, ни явь).
Ныне те, кто вглядываются в русскую революцию, стремясь постичь ее смысл, должны разгадать его и в душе Блока. «Революция произошла для того, чтобы Блок написал “Двенадцать”», – написал поэт Илья Сельвинский, иронизируя над самим собой. Но эта нелепость может стать истиной, если помножить ее на другую нелепость: революция произошла оттого, что ритм и разгул Двенадцати уже скопились в сердце Блока. И это вечно романтическое отречение от «старого мира», гнетущая усталость от него. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте Революцию», – призывал он накануне Двенадцати, уже слыша, как соединяется в нем заветная музыка и упоительная любовь к гибели…
«Сирень была столетняя, – продолжает Блок, – кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней – березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей – овраг. Из оврага мне уж ничего и не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня совсем».
Из своего имения Блок следит за близящимся развалом и хочет соучаствовать в нем. Чем вызвать очистительную бурю: ударами топора, музыкальным заклятьем, пьяным, осенним посвистом? Блок пойдет туда, куда повлечет его стихия, куда позовет его «сжигающий Христос», которому во всех раздвоениях своих он остается верен. «Религия – грязь (попы и др.), – записывает он после Двенадцати. – Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красноармейцы “недостойны” Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой». (,Дневник, 20 февраля 1918 года).
Комментарий Орлова (блоковеда): «“Другой”, более достойный вести народ в будущее…» (Поэма Александра Блока «Двенадцать»).
Комментарий Долгополова (блоковеда): «Стихия требовала от Блока безоговорочного подчинения, ибо, какой бы она ни была, ее руками творилась история. Блок подчинился ей. Это было подчинение исторической необходимости, самой истории…» (Цит. по А. Якобсону Конец трагедии).
Комментарий Луначарского, наркома просвещения:
Так идут державным шагом, А поодаль ты, поэт, За кроваво-красным стягом, Подпевая их куплет. Их жестокого романса Подкупил тебя трагизм. На победу мало шанса, Чужд тебе социализм, — Только знай, поэт мой чуткий, — Сзади к армии пристал: Не теряя ни минутки, Ты вперед бы поспешал. Красной армии колонны Догони-ка авангард… (Там же, по А. Якобсону)И наконец – самого Блока:
«Вы послушайте только – говорит поэт. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов. Потом – прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.
Половой:
Непонятно-с, но весьма утонченно-с… (Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке)». (Из драмы Незнакомка).
VII
Тот ли Христос, что мелькнул в метелях Двенадцати, был услышан Блоком и в песне дедов? Вправду ли, Христос из «верхнего угла “убийства Катьки”», – как писал Блок художнику Анненкову, делавшему обложку для первого издания поэмы, – и Христос, отразившийся в средоточии музыкальной тайны Блока, неотличимы друг от друга? Тогда согласимся с мнением когда-то номенклатурных критиков, готовых потерпеть Христа лишь в качестве сомнительной, темной метафоры для пожара революции, познавшей свою историческую необходимость. Или же сойдемся на более либеральной, эстетической точке зрения, что «образ Христа» – один из тысячи тысяч, созданных мировым искусством – неповторим у Блока разве что мелодией своей, но не смыслом, не Именем, не Реальностью? Или же такую мелодию, такой образ в душе художника мы решимся соотнести с Подлинником веры Христовой?
Бердяев говорил: в одно и то же время в России жили величайший русский святой Серафим Саровский и величайший русский поэт Александр Пушкин, никогда даже не слыхавшие друг о друге. Приводя этот пример безнадежного и горестного разделения двух путей – спасения и творчества – тех путей, которым, по мысли его, надлежит непременно встретиться, Бердяев сам едва ли подозревал, что мог бы взять для примера двух своих современников. Почти в одно и то же время и почти поблизости друг от друга жили отец Иоанн Кронштадтский, имевший дар прозорливости и исцеления словом, и Александр Блок, поэт-медиум, причастный духам истории и ритму ее. Где-то, должно быть, мелькнули в газетной сутолоке их имена (начиналась эпоха всевластия коммуникаций), донесшиеся – одно для другого – лишь шумом, докучным и праздным, и сгинули еще горше и безнадежней. Между тем оба были мистики, ясновидцы, но острота их разделения, их полнейшей несхожести может быть только оттенена тем, что оба они – и святой и поэт – видели в своем служении Христа и писали о Нем. Но ничего, конечно, не могла иметь общего Моя жизнь во Христе со «сжигающим Христом» из раскольничьей песни или «в белом венчике» впереди петроградского патруля. Хотя в книге св. Иоанна Кронштадского Христос был тоже по-своему сжигающим. Но иначе. Как не имел ничего общего Христос спасения и умной молитвы со Христом бури и апокалипсиса в давно обособившихся друг от друга поэтических и конфессиональных мирах литургии и лирики.
Пути их разошлись далеко, теперь уж и концов не сыскать. Но именно в Блоке, как перед долгой ночью, мелькнул какой-то отблеск христианской православной культуры, на миг показался как будто прощальный знак ее. Пбо трагедия отречения и разгула, трагедия пленения стихиями и «татарской волей», выношенная им, в нем созревшая, разлитая им по тончайшим лирическим сосудам, была пережита им все-таки, по-розановски говоря, «около церковных стен». Те поля и холмы, по которым в молодости он бродил за своими видениями, музыкально породнились с разбросанными по ним храмами (еще живыми тогда), и отголосок молитв и таинств смешался в его стихах с другими голосами. Блок – паладин, богохульник, одержимый, Моцарт, несущий в себе непрерывно рождающийся поток мелодий, Блок, умевший с пушкинским всечеловечием быть и немецким романтиком и «рыцарем бедным» у ног Прекрасной Дамы, и Рыцарем-Страданье из средневековой Бретани, Блок с «лицом флорентийца эпохи Возрождения» (Горький) оставался все же «блудным сыном» своей Церкви, и понять его нельзя из какого-то самозамкнутого исторического или лирического «остранения». В нем – обрыв, срыв, обвал, и в нем же – какое-то обетование. Он – великий поэт страны, где, вправду сказать, мало сделала успехов гуманная цивилизация и общечеловеческая нравственность, но где среди тьмы, мятежа и дикости неведомым чудом вырастают солнечные колосья святости, существа из рода Богородицы, но и где сыновья добрых священников идут в нигилисты и бомбометатели, и у верующих матерей дети закипают черной злобой, стреляют в кондовую, избяную Святую Русь, и даже это икающее, отслюнивающее купоны под образами животное может в какой-то хмельной стихии сохранить в себе лик той единственной, той блоковской России, что «всех краев дороже мне».
Кто-то сказал: именно такая Россия, в которой, в сущности, можно было только гибнуть, была ему дорога. Ибо Россия с парламентом, с буржуазной устроенностью, с уютом, с мадмуазелью, играющей на фортепьяно за стеной, была ему инстинктивно – или музыкально – отвратительна.
Душа Блока была как будто полем враждования двух одолевающих друг друга сил, и он, мистик и медиум, был беззащитен перед обеими. В своей лирической клети она билась о Христа, словно разрушая какие-то окутывающие его завесы, и то и дело закрываясь ими снова, забыв о древней истине, что Бог готов, но мы не готовы.
В «музыке Революции» Блоку в последний раз удалось временно помирить по-своему обе владевшие им стихии, – соединить Христа и «Другого». «Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки», – писал он в Интеллигенции и Революции, и мы ощущаем в том духе ледяное притяжение смерти, посылаемое лирическими волнами и заключаемое в гармонию. Гармония – благодатная и оскверненная, противоестественный и нерасторжимый для Блока союз музыки и смерти, несет в себе мучительное двоение. Христос воплощается в ней, раздвигая пелены, туманы, стихии, но приходит к поэту всегда преломленным, раздвоенным. Блок встречает Его в Метели и Революции, называет Его то Грядущим, то Голубым Всадником, то Младенцем в сожженной душе, но подлинного, единственного Имени Его, открываемого лишь Церковью и Евангелием, угадать не может. Демон или посланный им «дух музыки» как будто похищает его в последний момент. «Что тебе Христос – то мне не Христос», – пишет он своему другу (1905), – …пустое слово для меня, термин, отпадающий, “как прах могильный”…» (1904), но у какого еще поэта мы находим такое обнажение его гармонической тайны?
Христос! Родной простор печален! Изнемогаю на кресте! И челн твой будет ли причален К моей распятой высоте?И если попытаться отыскать слово, в котором соединились бы его «религиозный опыт» и «гражданское чувство», то этим словом будет боль о русской Церкви. Боль – немыслимое и русское смешение ненависти и любви, как и блоковское соединение гибели и гармонии, дедовской песни, созидающей храмы, и «музыки Революции», их оскверняющей. Музыка эта звучит у Блока порой так коряво и вздорно, что мы не слышим в ней ничего, кроме уязвленной ярости: – «Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой» (Интеллигенция и Революция, канун Двенадцати), то вдруг сменяется тоскливой нежностью: «…сиротливая и деревянная церковь среди пьяной и похабной ярмарки…» (Дневник, после Двенадцати). И снова ярость и нежность вместе – в споре, в боли, в гармонии.
Открыв Добротолюбие, Блок поражается, сколь жив для него опыт подвижников и сколь мертвы слова Св. Писания, которыми те толковали его. В глубине своей поэтический его опыт берет начало в опыте аскетическом. «Мне лично занятно, – пишет он матери, – что отношение Евагрия к демонам точно таково же, каково мое к двойникам, например в статье о символизме».
У Евагрия: «Все бесовские помыслы вносят в душу представления чувственных вещей; запечатленный ими ум вращает образы этих вещей в самом себе. Следовательно, исходя из [представляемой] вещи можно узнать приближающегося [к нам] беса» (Добротолюбие, том 1).
У Блока – саморазгадывание искусства средствами самого искусства. Никто не может так глубоко заглянуть в душу художника, если художник не подарит собственного зрения. «Он полон многих демонов, – говорит Блок, – (иначе называемых “двойниками”), из которых его злая творческая воля создает по произволу постоянно меняющиеся группы заговорщиков. В каждый момент он скрывает, при помощи таких заговоров, какую-то часть души от самого себя. Благодаря этой сети обманов, – тем более ловких, чем волшебнее окружающий сумрак, – он умеет сделать своим орудием каждого из демонов, связать контрактом каждого из двойников; все они рыщут в лиловых мирах, добывают ему лучшие драгоценности, – все, что он пожелает: один принесет тучку, другой – вздох моря, третий – аметист, четвертый – священного скарабея, крылатый глаз. Все это бросает господин их в горнило своего художественного творчества и, наконец, при помощи заклинаний, добывает искомое – себе самому на диво и на потеху; искомое – красавица кукла» (О современном состоянии русского символизма).
Искомое, кукла – другое имя гармонии…
VIII
«Поэт – сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре». Но эта роль вовсе не «гармоническая», она историческая. Время и духи времени – вот новые наследники собранных им богатств – и тучек, и вздохов моря, и священных сосудов. Правда, таинства уже не совершаются в них. Закоулки души праздно выставлены в музеях. «Звуковые волны» вводятся в нужное русло хозяевами истории. Стихии, среди которых некогда рождалась гармония, служат экскурсоводами при «красавице кукле» – душе поэта. Днем, когда музей открыт, они обстоятельно объясняют роль поэта в том великом деле, с которым он породнился в «духе музыки». А ночью, сбросив маски, они опять становятся демонами, опять двойниками поэта, что приходят к нему, чтобы взыскать по контракту, заключенному в гармонические времена художественного творчества…
И сквозь решетку как зверка Дразнить тебя придут.Нам не нужно больше отвечать Двенадцати или едко «полемизировать» с блоковским демонизмом. Ответ уже дан – и мы слышали его – ив самом умирании поэта, и в корчах истории, рожденной «за решеткой». Судьба поэмы известна: время на семь десятилетий оледенило и канонизировало ее. Знаем мы и то, куда повел «снежный Исус» ватагу своих апостолов; это место видно нам теперь хорошо.
Мелькнув в метельном, в лиловом мареве, выполнив миссию метафоры, он, наемник, не пастырь, предоставил овцам своим следовать за безначальной стихией, добровольно отдавшейся исторической необходимости. Герои и прототипы Двенадцати – поп, буржуй, длинноволосый вития, а затем и ночной патруль красногвардейцев, – все, кто шли за или против или болтался под ногами, – затерялись в черной метели, беспамятно, безвозвратно, никто уж не разыщет, где и когда. Гармония же, их породившая, музыка, сдвинувшая с места земные породы и начавшая дело невиданной перестройки, умерла раньше всех. Все они вернулись к матери своей смерти, невольно и ненароком довершив собою следующий акт возмездия, в той лирической и исторической драме, ритм и сюжет которой Блок пытался уловить по актам предшествующим. А может, верный своему притяжению к гибели, он музыкально и гениально угадал и на этот раз? Может, и вправду, зная исток их, предвидел он и путь, коим покатятся его лирические, демонские «звуковые волны» в историческом близком будущем? Но волны теперь улеглись, метели умолкли. Снега, нанесенные ими, набрякли и побурели. Время подошло к рассвету и внесло осторожную первую ясность. Христос из Двенадцати вернулся в песню, что никогда и не уходила с задебренных древних туч. Имеющий уши слышать, да услышит.
Так кончалась эпоха брожения, двоения, смуты и обещаний. Детская православная набожность, как она сохранилась в Блоке, – и в благословении Именем Господним в каждом письме близким, и в крестном знамении над «кроваткой милой», и даже в ночных молитвах – больше не уживалась в душах с «богохульством чисто клиническим» (Бунин). Богохульство стало политикой, набожность – мученичеством. Музыка возвращалась домой, уходила в леса, в катакомбы, в подвалы, на дно града Китежа, а наверху с лязгом и грохотом хлопотала история, лишенная и музыкальности и слуха. Стихи нельзя было больше выжимать из воздуха, ни ловить из зорь. Поля опустели видениями, травы не выдавали своих шелестящих секретов. Незнакомки как-то уж не заглядывали в пивные. По блоковским последним маршрутам ходили теперь битком набитые трамваи уже иной, мандельштамовской эпохи.
«Я трамвайная вишенка страшной поры…»
«Намечается новая роль личности, новая человеческая порода», – писал Блок, еще вслушиваясь во что-то, в 1919 году (Крушение гуманизма).
«…мы утешаемся мыслью, – говорил он через два года в пушкинской речи, – что новая порода лучше старой; но ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить мировую ночь. Порядок мира тревожен, он – родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо» (О назначении поэта).
Между тем жизнь шла к концу. И не та смерть – которой так музыкально, «так хорошо и вольно умереть» – поджидала его. Потому что начиналась она, может быть, самым тяжким из опытов «страшного мира» – окончательным разлучением с «духом музыки». Мы почти не знаем свидетельств об этом опыте, ибо для того, чтобы передать его, требовалась хоть какая-то связь с рождающей стихией и музыкальная влага ее. Но душа высыхала, ибо звуки прекратились. «Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?», – слова, сказанные Чуковскому. Во всех трех делах можно помешать поэту – и во внесении гармонии в мир, и в приведении звуков в гармонию, и в самом обнажении духовных глубин. Тщетно бежать за теми глубинами в темный лес; они размыты и унесены рекою времени. «Когда б оставили меня на воле…», – отдается дальним эхом в пушкинской речи, но воля поэта скована. Демоны, вышедшие из темных душевных глубин, стали историческими персонажами. «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура» (О назначении поэта).
«Вероятно, тот, кто сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав… Он умер как-то “вообще”, оттого, что был болен весь, оттого, что не мог больше жить. Он умер от смерти» (В. Ф. Ходасевич, Некрополь).
«В его жизни не было событий. “Ездил в Bad Nauheim”. Он ничего не делал – только пел. Через него непрерывной струйкой шла какая-то бесконечная песня. Двадцать лет с 98 по 1918. И потом он остановился – и тотчас же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он» (К. Чуковский, Дневник).
Так – в последний раз – обнажается давний смысл блоковского «духа музыки»: его тайное, демоническое родство со смертью. Но не из стихии, не из стихотворения выступает она, настигает не на бегу, не на скаку, не в постижении искомого ритма, а вырастает в медленном музыкальном обезвоживании, как будто наступает отлив и обнажается темное, быстро высыхающее дно. Время выпило еще одну душу, полную звуковых волн, и, не насытившись, побежало дальше. «Выпитость» – вот слово, которым Блок означал в Дневнике смертельную, смертную свою усталость.
«Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходит Магдалина с сосудом, Петр с ключами; Саломея несет голову на блюде; ее лиловое с золотом платье такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой.
Душа, где же твое тело? Тело мое все еще бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже ее потеряв.Окончательно разозлившийся черт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию. Душа смиренно соглашается на это. Остальные черти рукоплещут старшему за его чудовищную изобретательность» (Ни сны, ни явь).
Душа поэта, опустошенная пиром и оставленная музыкой, на пороге смерти проходит через мытарства. Рай поэзии и ад искусства, – все это позади. Как те узники у Платона, что сидят в пещере, прикованные спиной к свету, она видит в воспоминании лишь музыкальные тени прошедшей, схлынувшей жизни: Магдалину с сосудом драгоценного мира, которое она принесет к ногам Спасителя; Петра с ключами от Царства Небесного; Саломею с отрубленной головой Иоанна Крестителя, полученной в награду за то, что пляской угодила Ироду и гостям его…
Может быть, Саломея и есть та цыганка, что пляской рассказывает жизнь поэта? Или это сама стихия, соединение метели и танца, вобравшая в себя его душу и выпившая ее? «В тени дворцовой галереи, чуть озаренная луной, таясь, проходит Саломея с моей кровавой головой». Или он сам видит в себе служителя неведомого бога, того провозвестника гармонии, что должен заплатить за нее жизнью? Ибо всякой гармонии – языками птиц, полевых лилий, кораблей, ушедших в море, – надлежит возвестить о Христе как о своем истоке и последнем своем пристанище, о Христе-Слове, но и Слове как Музыке, из которых все пришло к бытию, Христе-Вечности, куда однажды вольется время, о Христе-Победителе смерти. Исполнилось время и приблизилось Царство Божие…
Поэт умирает, гармония остается. Никогда уж не расстаться, не разойтись разнородным стихиям, слитым в ней воедино. Схлестнулись однажды звуковые волны, текущие из безначальных глубин, и так навеки застыли в изваяниях слов два несоединимых облика России, блоковская «тайная свобода» и его же «историческая миссия», «неложные обетования юности» и «достоянье доцентов», зовы гибели и песни «добра и света», блаженные поля и видения, рожденные из «пламенного бреда».
Да брань смотрителей ночных, Да визг, да звон оков.II
Великий молчальник (Лев Шестов)
Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher[38].
PascalЯзычник (христианину): “Скажи, брат, если ты чтишь Бога, который есть истина, а мы не намерены чтить Бога, который не есть Бог в истине, то какая разница между вами и нами?
Ник. Кузанский. О сокровенном Боге. Пусть убивает Он меня, иной надежды нет, все равно я буду отстаивать перед Ним правоту свою (Иов 13:15)[39]I
Знание – откуда оно, к чему? Задаться таким вопросом для Шестова – все равно, что спросить: с чего началось грехопадение человека?
С непослушания – говорят одни. С прелюбодеяния – подчеркивают другие. С гордыни и обольщения – соглашаются все. Поддавшись наущению змея, Адам и Ева преступили прямой запрет Божий. Ибо тот, кто был хитрее всех зверей полевых (Быт 3:1), сказал жене: когда съедите плоды с древа познания, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло (Быт 3:5). Тысячелетиями читаем мы эти строки, топим их в толкованиях и как будто не видим самого простого, того, что написано – что в самом похищении знания таилось начало греха. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание… (Быт 3:6).
Вкусив знания, мы стали грешниками в библейском смысле слова; едва оказавшись за оградой сада Эдемского, мы принялись познавать: открыв сначала наготу свою и другого, вкусив обольщение чужого тела, потом заключив в познание вещи вокруг нас, затем мысли внутри нас. Мы связали мысли с вещами, нашли формулу для истины, заключенной в темнице наших понятий, наконец и для самого Бога с Его свойствами и атрибутами. Познание выросло из удаленности, тягостной удивленности, скитальчества и тотчас словно превратилось в истукана со змеем внутри. С незапамятных времен истукан знает, что хорошо само по себе и что само по себе плохо, он устанавливает, что есть суверенная истина и что есть безусловная ложь. И эти неоспоримые знания, даже самые благочестивые из них, стали как боги, подчинили мир своей власти, опутали его необходимостями, посмели распоряжаться самим Творцом, обуславливая Его волю нашей мудростью и нашим милосердием. Для Него, как и людей, суждения наши установили неизменный твердый порядок, которому все обязаны свободно и радостно повиноваться… «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит?» – мучается Иван Карамазов. Шестов даже и не задается таким вопросом. Он, и не спрашивая, знает. Но познание для него – проклятье рода человеческого. «Чертово добро и зло», «самоочевидные истины», «торжествующие идеалы» – они, как идолы, которым люди готовы всегда служить и жертвовать всем, что имеют. Примириться с тем, что однажды утраченного никогда не вернуть – разве это не жертва кумиру?
«Змей не обманул человека, – повторяет он с горькой торжественностью из книги в книгу. Плоды с дерева познания добра и зла, т. е. разум, все черпающий из самого себя, стал принципом философии на все времена. “Критика разума”, заключавшаяся в предостережении против дерева познания, от которого должны придти в мир все беды, заменена “недоверием к недоверию”, и Бог с самого начала был изгнан из сотворенного им мира, и власть Его полностью перешла к разуму, который, хоть он мира и не сотворил, предложил человеку в неограниченном количестве именно те плоды, от которых Творец его предостерегал. Надо думать, что именно “неограниченность” более всего соблазнила человека. В том мире, где плоды с дерева познания стали не только принципом всей последующей философии, но уже стремились превратиться в принцип самого бытия, мыслящему человечеству грезилась возможность величайших побед и завоеваний»[40].
Мы вступаем в область оспаривающего себя мышления, провоцирующей философии. Загадочно в ней не то, что изложено здесь, хотя и само «учение Шестова» необычно, жестко, по-своему болезненно и всегда как бы недосказано, не выявлено до конца. Загадочно скорее притяжение этой философии и, может быть, не философии вовсе, а «художественного исследования», безукоризненного по форме самых гадательных, неисследуемых вещей, словно ускользнувших от человеческого восприятия, ослепленного разумом. Не вправе ли мы назвать Шестова одним из первых художников среди всей плеяды русских религиозных философов, благословенных, каждый по-своему, собственной жизнью слова? И все же шестовский дар – особый. Его мысль не ищет никакого словесного «успеха» для себя (речь его строга, добротна, безыскусна, порой даже утомительна своей охлажденной правильностью), но мысль эта не может, не хочет, не умеет быть попросту мыслью. Она не излагает себя, не укладывается в образ или структуру, но стремится что-то подспудное собою выразить или исполнить, она всегда облекается в некий сюжет, интеллектуальную интригу, драму, повесть с завязкой и развязкой, даже если все пространство этой повести замыкается недолгим размышлением, наброском, вариацией, этюдом. Но главное, его мысль всегда хочет разгадать чужую душу, оживить в себе чужое прозрение, и только там чувствует себя как дома.
Отсюда берет свое начало философский жанр, органически шестовский – жанр скитаний, «странствования по душам». Он – и «очарованный странник» русской философии и нигде не уживающийся бездомный бродяга, не имеющий ни града, ни камина, у которого можно было бы согреться, не строящий «учения» – того развернутого строя мыслей, которое можно было бы легко изложить, уложить, сопоставить, отмечая влияния и заимствования; он – страстный наблюдатель, если не секретный обитатель чужих духовных миров, упорно запирающий свой собственный, сочинитель притчей, первопроходец нерассказанных биографий, открыватель тайников, гранильщик афоризмов, он – собрат и спутник душ, через которые – лишь отраженным светом – может пробиться и отблеск правды о нем самом. Но для того, чтобы заполучить эту правду или хоть какую-то доступную нам частицу ее, следует отправиться обратно – тем уже протоптанным, «странническим» путем, которым он сам когда-то отправлялся за душами своих философских героев. Его маршрут – то, в чем, собственно, выявляет себя «учение Шестова», – продуман и четок, даже и при всех кружениях своих, но цель его странствований притягательна и странна. Мы вступаем в область философии, посвященной, нет, скорее, завороженно и фанатично предавшейся исследованию, может быть, одной-единственной проблемы, одной тайны – падшего знания. Тайны человеческого познания добра и зла, а также неодолимого соблазна и отравленных плодов этого познания. Тайны змиева искушения: будете как боги. Наконец и тайны самого искусителя, коему мы отдали себя в добровольное рабство разума.
II
Лев Шестов родился в 1866 году в Киеве и умер в конце 1938 года в эмиграции, в Париже. Но и задолго, за десятки лет до того времени, когда людям его склада стало нечем дышать на родине, Шестову пришлось прожить долгие годы за границей, большей частью в Берлине, Париже, Швейцарии, неподалеку от Альп, где он любил совершать длительные прогулки. Жизнь его протекала в основном в стороне от «роковых минут» и железных скрежетов эпохи, скорее лишь – на фоне их. Лично он не был в эти скрежеты особенно вовлечен, о них почти не писал, всецело интересуясь тем, что выходит за пределы истории и стоит по ту сторону человеческих правд, свершений, схваток. Но именно таким людям, что слышат порой самые отдаленные, почти неразличимые толчки, но как будто не воспринимают землетрясений, изредка удается уловить в своем времени нечто неисследимое для других.
Он начинает с размышлений о литературе, которые уводят его на стезю критики всякой мысли и остается философом навсегда. По словам его дочери, он всерьез гордился, что никогда не изучал философию ни в одном университете. До настоящего времени вышло двенадцать философских книг Шестова, последняя, одна из самых ярких, – почти через тридцать лет после его смерти[41]. Время от времени появляются ранее неизвестные его статьи, дневники, записи. Но мало есть авторов, о которых с большим основанием можно было бы утверждать, что все их работы складываются, по сути, в одну – с единой, настойчивой, исподволь нарастающей, повторяющейся темой. На протяжении всего шестовского пути нас сопровождают одни и те же вечные спутники, одни и те же вечные оппоненты (те и другие нередко в одном лице), почти навязчиво приводятся все те же примеры. Он не умел и не хотел отвлекаться от своей столбовой, никуда не сворачивающей дороги, от великой, последней и личной борьбы. Это – не расхожая риторическая фигура, но точное повторение двух самых строгих и выношенных его формулировок, двух самых шестовских, хотя и плотиновских изначально, его определений философии. Философия по Плотину есть τό τιμιώτατον – буквально то, что более всего ценится, что чтится превыше всего, значительнейшее, единое на потребу. «Великая и последняя борьба ожидает души», – то и дело повторяет он слова Плотина. Так, в последней статье своей, названной Памяти великого философа и посвященной Гуссерлю, Шестов вспоминает о самом важном и остром споре с ним: «…Перед тем у нас разгорелся горячий спор по вопросу – что такое философия? Я сказал, что философия есть великая и последняя борьба – он мне резко ответил: Nein, Philosophie ist Besinnung»[42].
Такой спор он ведет на протяжении всей жизни, начиная с того момента, как для него «распалась связь времени» – трагического потрясения его молодости, истоки которого остались неизвестными, – и кончая предсмертной болезнью, когда он писал о Гуссерле, незадолго до того ушедшем. И более чем за сорок лет он так и не был не то, чтобы завершен, но хотя бы смягчен, отстранен, остужен. Но вместе с тем спор этот – с философией-рефлексией, с философией-созерцательным размышлением – постоянно оттенял и отчеркивал то, как философ понимает собственную задачу. Здесь, в споре, подспудно совершалось и самопознание философа – не утешительное познание своих достоинств наедине с собой (Марк Аврелий), не восхождение на снежные вершины бесстрастия и всеведения, но непосредственное, даже вопреки воле мыслителя, выявление предмета его философствований, его темы, его правды, его «исходной заботы» (ultimate concern), как говорит Тиллих, его «значительнейшего», как говорит Плотин, а за ним Шестов, и в силу этого такое определение-самопознание тотчас ставит нас в самый центр шестовской мысли. Не только то, что есть философия сама по себе, но и то, что есть в ней самой, то, что раскрывается из мысли, то, что исследуется ею, то, что обещается, манит, пробивается издали и даже то, что не дается в руки, суть «значительнейшее» и «великая и последняя борьба».
Борьба – с кем, во имя чего? И что – «значительнейшее»? Собственно, ответить на эти два вопроса, значит исполнить едва ли посильную задачу – разом сказать все о Шестове. Не в ответах, которые он, впрочем, никогда не дает, но в вопросах – пульс его мысли. Как подступиться к ним? Окольный путь в данном случае может оказаться короче прямого; «философия Шестова» всего естественней чувствует себя в притчах, легче пересказывается в «историях». Именно в иносказаниях его мысль обретает гибкость и сочность, в намеках и легендах получает нестесненный простор.
«Ангел смерти, – рассказывает он, – слетающий к человеку, чтоб разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами. Почему так, зачем понадобилось ангелу столько глаз – ему, который все видел на небе и которому на земле и разглядывать нечего? И вот, я думаю, что эти глаза у него не для себя. Бывает так, что, явившись за душой, ангел убеждается, что пришел слишком рано, и тогда, оставляя душу для земной жизни, он незаметно оставляет ей еще пару глаз из бесчисленных собственных. И человек начинает жить, одаренный теперь уже новым – иным – зрением, помимо того, которым он владел раньше. И видит новое по-новому, как видят не люди, а существа “иных миров” так, что оно не “необходимо”, а “свободно” есть, т. е. одновременно есть и его тут же нет, что оно является, когда исчезает и исчезает, когда является». Однако иное смертное зрение в обыденной жизни побеждается старым, тем, что имеет в своем распоряжении и слух, и осязание, и разум, и коллективный опыт человечества, и освященный традициями авторитет. И все же новое зрение иногда вырывается из плена привычного, уходит из-под него, пробивает стены видимого, замкнутого в себе, плотного мира. Во времена подпольного героя Достоевского на тех стенах всегда писалось, что «дважды два – четыре», а в XX веке, уже при Шестове, хотя он этого почти не заметил, появились более экстравагантные надписи. Они гласили: неважно, сколько будет дважды два, семь или шестнадцать, важно, кто докладывает о результате операции, а еще важнее, чтобы ты сам взирал на стену не приватным оком, а неким всеобщим и коллективным зрением и читал то, что в это зрение уже вправлено изначально и должно быть для тебя очевидно и безо всякого чтения. Шестов хотел верить, что за стенами, на которых написано дважды два, могут открыться видения фантастические, незаконные, ибо по законам, здесь написанным, их нельзя не осудить как нелепости, галлюцинации, а то и нечто худшее. «Не обязательно священное или романтическое безумие развязывается новым зрением – чаще «то безумие, за которое сажают в желтый дом»[43].
Сам Шестов думал, скорее всего, что желтый дом – это всего лишь философский эпатаж. Оказалось серьезнее.
Ему вовсе не нужно это зрение-безумие оправдать. Оправдать было бы очень просто – взять лишь несколько ходовых метафор, оставляющих мелодичный звон в читательских ушах. Нет, он готов его как угодно унизить, лишить почти всякой славы земной и тем бесславием еще раздразнить. «Я самый гадкий, самый смешной… самый глупый», – надрывается любимый им герой Записок из подполья. Но не то ли говорят о себе и святые? – спрашивает Шестов, и он прав. Новые глаза открывали им нечто такое, что ветхий человек, в них живущий, должен был ужасать их своей греховностью. Так «начинается борьба между двумя зрениями – естественным и неестественным, – борьба, исход которой также кажется проблематичен и таинственен, как и ее начало…»[44].
На привычном языке это называется борьбой с рационализмом. Когда Шестов становится объектом критического внимания, он чаще всего объявляется иррационалистом, а исходя из этого – абсурдистом и фидеистом, экзистенциалистом и индивидуалистом, словом, втискивается в одну из тех «общих идей», на борьбу с которыми он потратил жизнь. Но все эти определения не то, чтобы неточны, они прежде всего не правдивы просто потому, что недостаточно радикальны. Шестов вовсе не иррационалист; он – человек, раздирающий коросту ветхого зрения, без конца бьющийся головой о воздвигнутую им же стену. Можно ли назвать это философией? Именовать ли такое экзистенциализмом, индивидуализмом, солипсизмом или трагикомической одержимостью? И считать ли нам «великой борьбой» тот факт, что сам Шестов не в силах от нее отвлечься, отдохнуть, пробиться наконец, чтобы самому уйти в открывшийся новому зрению мир-всплеск, о котором он столько рассказывает и куда так зовет, манит, но куда так и не входит, не смеет войти? Едва ли существовал больший однодум в истории философии, все странствованья его складываются в один повторяющийся маршрут, все драмы с их завязками и развязками пугающе похожи друг на друга. Однако все эти развязки как бы временны, условны, ненадежны… «Странное дело, – пишет о. Василий Зеньковский, – после торжественных похорон рационализма в одной книге, он снова возвращается в следующей книге к критике рационализма, как бы ожившего за это время. Но все это объясняется тем, что разрушив в себе один слой рационалистических положений, Шестов натыкается в себе на новый более глубокий слой того же рационализма»[45].
Не только от книги к книге, но и от раздела к разделу, от размышления к размышлению, от одного афоризма к другому Шестов, в отличие, скажем, от Ницше, стилем и пафосом мышления которого он был явно захвачен, повторяет в сравнительно немногих вариациях одну и ту же тему, то утверждая, то призывая, то спрашивая:
«Да точно ли наш человеческий мир, тот мир, которому “разум продиктовал законы”, тот мир, который создан “коллективным” опытом, есть единственно возможный мир и точно ли разум с его законами властвует над живыми?»[46]
«Нужно не усыплять себя “объяснениями”, хотя бы метафизическими, загадок бытия, нужно будить и будить себя. Для того же, чтобы пробудиться, нужно мучительно почувствовать на себе оковы сна и нужно догадаться, что именно разум, который мы привыкли считать освобождающим и пробуждающим – и держит нас в состоянии сонного оцепенения»[47].
«И метод, и логика, и разум – все это средства, скрывающие от нас действительность. Нужен подъем души, нужна именно способность избавиться от метода, от всякого контроля, налагаемого на нас “логикой”. Нужен порыв, восхищение»[48].
И вот еще: «Она (человеческая душа) рвется на простор, от домашних пенатов, изготовленных искусными руками знаменитых философов. Ей часто об этом некогда и думать. Она не умеет дать себе отчета в том, что разум, превративший свой бедный опыт в учение о жизни, обманул ее. Ей вдруг дары разума – покой, тишина, приятство – становятся противны. Она хочет того, чего разуму и не снилось. По общему, выработанному для всех шаблону, она жить уже не может. Всякое знание ее тяготит – именно потому, что оно есть знание, т. е. обобщенная скудость. Она не хочет знать, не хочет понимать, чтобы не связывать себя. Разум – сирена: он умеет о себе и о своих так рассказать, будто его учения не связывают, а освобождают. Он только и говорит о свободе. И обещает, обещает, обещает. Обещает все, кроме того, что ему не дано постичь, даже заподозрить»[49].
«Terribile monotonie de Chestov», – записывает Камю в своей Записной книжке[50]. И все это сводится лишь к еще одной борьбе с рационализмом? Можно привести еще сотни цитат – проклятий, издевок, недоумений, намеков, наскоков, выпадов, вздохов, разоблачений, сдавленных воплей – их интонации могут быть различными, но цель неизменно одна: развенчание разума. Шестов убежден – и это убеждение, видимо, навсегда засело в нем с молодости – что мир, по крайней мере, цивилизованный, только и делает, что боготворит разум и слепо верит во все провозглашенные им «вечные истины». Нужно помнить о времени, когда это убеждение сложилось – мирное угасание XIX столетия, эпоха позитивизма, неокантианства, рационалистической самодостаточности европейских университетов. Еще не закончился век, уверенный в своих знаниях, незыблемых принципах, в испытанных, трезвящихся добродетелях, век, ступавший по твердой, еще плоской земле и потому породивший среди прочего и пресловутый «аморализм» Ницше и шестовский Апофеоз беспочвенности, что в иные эпохи могут легко обернуться гротеском. Ну а Шестов – он и через тридцать лет все как будто еще задыхается в атмосфере Конта и Спенсера, Наторпа и Ренана, все еще дразнит их, задирает, подкалывает (хотя едва ли и поминая их к тому времени уже идиллические, музейные имена), все еще посылает до смешного серьезный вызов канувшему веку, тот вызов, что явным образом окрашивает тона его мысли. И никакие самоочевидности первой половины века двадцатого, от очной ставки с которыми и ему не удалось уберечься, не только не разубедили его, а, напротив, еще более раздразнили его мысль: мир фанатически поклоняется разуму. И он оказался прав – как раз вопреки очевидности. Другое дело, что разум может испытать ряд неожиданных метаморфоз, что почтенные идеалы могут водить карнавалы, переменив маски профессоров на вампиров, что «вечные истины» перевернулись бы в своем мавзолее, едва взглянув на своих прямых и законных наследников. Это уже иная тема в истории суверенности человеческого разума – тема его «диалектических злоключений» (Мерло-Понти), и Шестов ее не касается. Он метит глубже и уже, его несменяемая мишень – разум как единственный критерий истинности для неба и земли, законодатель, владыка и судия.
Не рассудок, нет, не какой-нибудь здравый смысл, давно попираемый ногами видных философов, восходящих на высоты Большого Диалектического Разума, – ибо в разделении этом уже открывается царский путь какому-нибудь надменному и захватническому Познанию во главе с Мировым Духом или Законами Истории, – нет, разум в лучшем и наифилософском смысле слова является главным врагом Шестова; а рассудок – что ж? с ним назло разуму он готов и помириться. Так, ничуть не стесняясь, и даже демонстративно он мирится с ним, когда происходившие вокруг него великие исторические события кажутся ему явным помешательством. Впрочем, (перефразируем Камю) можно быть завзятым противником разума, но не обязательно быть дураком. Шестов, следует подчеркнуть это, вступает в борьбу не только с «плохими», но и с наилучшими традициями западной философии (оставаясь внутри нее), с философией как таковой в буквальном, древнем и благородном смысле слова – любви к мудрости.
«Какой профессиональный философ – назовите, хоть одного, – совершенно один против всех, смог бы, подобно ему, без колебаний и ожиданий и с такой великолепной уверенностью ввязаться в битву, явным образом проигранную?» – не без пафоса спрашивает Луи Альтюссер в своей книжке о философии Ленина1. Почему мы вдруг вспомнили о ней? Потому что Ленин и Шестов – два мыслителя (едва ли когда интересовавшиеся друг другом, едва ли и прочитавшие хоть страницу один у другого) начинают свой бой на противоположных флангах с противоположными целями, но каждый – один против всех, не считаясь с философскими приличиями, идя напролом. Ленин и Шестов, при всем различии их культур, – две крайности русской, может быть, и мировой мысли, не ведавшие друг о друге в философии, но странным образом сопряженные в своем отношении к разуму. Один, не побоявшийся воплотить собою, – революционным делом, партией, как и собственной эмпирической личностью – исторически необходимое движение Мирового Разума (пусть и явно в приземленном, русифицированном варианте) в сторону тотального подчинения мира некой якобы ему присущей Закономерности, именуемой теорией Маркса, ни разу даже не усомнившийся в полноте, адекватности и окончательности такого воплощения; другой – решившийся из неведомой глубины собственного духа, из опыта поклонения неведомому богу и неизреченной свободы бросить разуму проклятие во всех его повседневных или всемирно-исторических, или трансцендентных принуждениях – жест с философской точки зрения шокирующий и абсурдный[51].
Ибо что такое разум в традиционном его истолковании? Нечто человеческое и весьма человеческое, т. е. частное, ограниченное, но полезное в практической сфере; философы, избегающие крайностей материализма и спиритуализма, откроют законы его познания, подсчитают категории, возвысят его над рассудком, опишут обстоятельства, те, при которых пригоден разум, как и те, при которых лучше воспользоваться интуицией и моральным чувством. Но Ленин и Шестов ощущают разум иначе – как то, что выходит за пределы «умствований» или мнений, как то, что стоит за ними и их определяет, как то, что объективно присуще миру, познаваемому людьми. Очень по-разному понималось ими «объективное» и «всеобщее», естественно по-разному толковался и разум, так что у нас нет даже одного языка для описания общих для них философских реалий. Может быть, уместно в академическом плане представить Шестова русским Киркегором-антигегелем, но Ленин-то здесь причем? Нбо тот действовал в «разуме», но воспринимал его совсем не по-гегелевски, не как Абсолютный Дух, постигающий мир из самого себя, не как покорение реальности фантому абстракций (в какую ярость привело бы его подобное предположение!), но просто как цепочку заданий текущей политики, как неизбежную диалектику классовой борьбы, как предопределенную историей историческую необходимость замены прогнившего старого прогрессивным новым. Шестов же о разуме со стороны мыслил, всем существом своим переживая ту вневременную, ту религиозную драму, которая в разуме зашифрована. Именно здесь – в сокрытости – вне каких-либо преходящих вещей совершалась его философская борьба. Но с рационализмом ли?
С рационализмом классически боролся, скажем, Бергсон, мыслитель гораздо более умозрительно богатый и в глазах современников увлекательный. Но все его богатства – интуиция, динамика, длительность, élan vital, примат воли над сознанием – Шестову ни к чему, и в бергсоновской победе над рационализмом он легко угадывает еще одну апологию общих понятий. Нет, его собственная – «великая и последняя» – борьба разрушает все замаскированные опоры, отвергает все утешения и даже на интуиции и сокровенном иррациональном я отказывается помириться.
III
«Мне кажется, что мир спит», – находит он свою мысль в Короле Лире. «Пока душа в теле, – приводит Шестов слова Плотина, – она спит глубоким сном».
«…во сне мы так же мало подозреваем, что находимся во власти заворожившей нас посторонней силы, как и наяву. Подозрение является, или начинает являться лишь тогда, когда мы начинаем чувствовать, что овладевшая нами сила враждебна нам, когда сон превращается в кошмар. И тогда нам приходит на ум та нелепая и бессмысленная идея, – все ведь бессмысленное и нелепое узнается по тому признаку, что оно заключает в себе внутреннее противоречие, – что эта действительность не есть подлинная действительность, а только сонное видение, обман, иллюзия»[52].
Мысль, разумеется, не новая, но философия Шестова – как было сказано, – легче пересказывается в «историях», одолженных у других. Вот очерк На Страшном Суде – о последних произведениях Льва Толстого. Герой неоконченного рассказа Записки Сумасшедшего, богатый помещик, отправляется покупать имение и рад, что оно достается ему почти даром и ему будет выгодно купить его. Но вдруг по дороге во время ночевки в гостинице им без всякой видимой причины овладевает невыразимая тоска. Вокруг ничего не изменилось, но все как по злому колдовству изменилось внутри. То были покой и уверенность, теперь – неодолимый, непонятный страх. Точно так же «отправляются за имением» и другие герои Толстого: Иван Ильич ездит в суд и в гости, отец Сергий, бывший князь Степан Касатский, совершает монашеские подвиги, говорит наставления народу, принимает богомольцев со всей России, удивляет праведностью саму Европу, а Василий Андреевич Брехунов строит свои амбары и кабаки, талантливо торгует и обсчитывает работников – сам же Лев Исаакович Шестов заботится о судьбе своих книг, устраивает лекции, легко отражает критические о себе отзывы, а в жизни старается всячески избегать «ужасов жизни», которые, как магнитом, притягивают его мысль. Каждый в своей колее, на своих проторенных дорогах, делает то, что считается всеми полезным и самому герою (Ивану Ильичу, о. Сергию, Шестову…) нужным. И все они до рокового переломного момента – как и сам Толстой, когда он писал Казаков, Войну и мир, Анну Каренину — глубоко убеждены, что «их сон, их жизнь и их “общий мир” есть единственная, последняя и окончательная реальность»1. Они этой реальностью загипнотизированы и ничего не ведают о том, что живут под властью посторонней силы. И вот они пробуждаются…
Их будят ослепительные, но мгновенные «откровения смерти», страх, боль, ужас, сознание немощи, на дне которых вдруг – какие-то внезапные озарения. Позади – тяжелый, крепкий сон жизни, суды, успехи, гости, построенные амбары, купленные имения, написанные романы – все накопленное, все сильно уважаемое, все удивлявшее Европу, впереди же… Тьма? свет? пустота? Спасение души? Иван Ильич и Брехунов умирают в прозрении, отец Сергий, оступившись, бежит от своего монашества, старчества и гордыни, чтобы кончить когда-нибудь жизнь «на заимке у богатого мужика». Там – обрыв, встряска, озарение, здесь – художественно отчеркнутое смирение, завесу которого нам уже не дозволено приподнять, здесь – растворение в покаянном толстовском добре, которому в молодости Шестов посвятил целую книгу, т. е. опять-таки возвращение к всевластному разуму, погружение в сон. Кажется, что вся его философия располагается словно на узкой кромке между миром здешним, где господствуют обычное зрение, вечные истины, законы аристотелевской логики, тяжелые сны, и тем миром, к которому пробуждаются, куда выходят из темной платоновской пещеры, освобождаясь от уз. Его интересует именно это освобождение, это бегство, пусть даже через смерть. Не сном, но и не явью захвачена шестовская философия, не сном, но пробуждением – от внезапного ли толчка, неожиданного удара, потрясения, экстаза, отчаянья, смерти. Но пробуждение – недолго длится. Долог сон, цепко схваченный логикой и обыденным зрением, и на нем можно выстроить множество прочных и ладных философий, не разгадана действительность, что начинается за его порогом, но и там можно как-то задержаться (вера, открытая жизни будущего века), но краток и мимолетен момент перехода из одной реальности в другую, перехода, который Шестов одолевает на протяжении всей жизни, всегда лишь сопровождая на нем своих философских героев.
Он, кстати, совершенно не эстетический читатель; ему дела нет до известной дистанции, до литературной условности, он занят только правдой сердца художника – не художественной правдой, а человеческой, той подспудной внутренней правдой, что лишь в условности облекается. И Толстому – так видит его Шестов – надлежит эту правду исполнить; то, что угадывалось, прозревалось им в Иване Ильиче, отце Сергии, Брехунове, происходит и с ним самим. «Он (Толстой), как один из сыновей в знаменитой евангельской притче, всю жизнь говорил тому, что звало и будило его: “не пойду”. Пойду – за разумом, всегда самому себе равным, за обязательным нравственным законом, за собственным толстовским писанием. Говорил “не пойду” и в конце концов идет, уходит от Ясной Поляны, от славы, от мудрости, от учительства, даже не уходит – бежит за несколько дней до смерти, без “всякой причины”, без “достаточного основания”, без всякой нужды, сам не зная, куда…»[53]
«Иду, иду, радостно, умиленно говорило все существо его. И он (Брехунов) чувствует, что он свободен, и ничто уже его больше не держит».
Возьмем Плотина, столь далекого и от Толстого, и его героев, но в глазах Шестова совершающего очень похожий путь. «Философия Плотина – говорит он, – которую он сам определил одним словом – то TipicoTaxov (единое на потребу) – имела своей задачей освободиться от кошмара видимой действительности. Но в чем кошмар? В чем ужас? Откуда они? Гностики говорили: мир сам по себе безобразен. Для Плотина это было неприемлемо. Он знал, что не в “мире” зло…»[54] Зло по Плотину-Шестову в магии разума, заворожившего мир, зло в том, что душа спит. И те, кому было обещано какое-то пробуждение, всеми силами пытаются стряхнуть с себя сон. Но ведь сама борьба происходит во сне, и сон находит для себя солидные доводы и достаточные основания, на которых философы возводят свои системы. То, что Плотин учил об этике, о космологии, натурфилософии, то, как он строил свою теодицею, то, чему вообще учат философы, как о них рассказывают затем истории философии, чувствуется, интересует Шестова едва ли больше, чем вынесенные Иваном Ильичем приговоры и выстроенные Брехуновым амбары и кабаки. Он весь – в сокровенной, иной раз только им и воспринимаемой борьбе, он целиком сосредоточен на том изначальном решении, что принимается философом – в пользу ли разума, самоочевидных истин, мира, околдованного необходимостью, автономного добра, теодицеи и этики («искусства творить “естественные чудеса”»), идеальных сущностей, сотворенного разумом бога (наивысшая идеальная сущность), кошмара видимой действительности, темной пещеры, где на стене написано «дважды два – четыре» (пусть даже иногда 6 или 7, зависит от того, кто на стену смотрит), или в пользу…?
С пронзительной, оскорбительной ясностью ставится этот вопрос в шестовском «гуссерлианском завещании», в статье Шестова – Памяти великого философа Эдмунда Гуссерля: «И вот, когда я сказал ему, повторяя почти дословно то, что потом было написано в Скованном Пармениде: В 399 году отравили Сократа. После Сократа остался его ученик Платон, который, “принуждаемый самой истиной” (выражение Аристотеля) не мог не говорить, не мог не думать, что Сократа отравили. Но во всех его писаниях слышится только один вопрос: точно ли в мире есть такая сила, такая власть, которой дано окончательно и навсегда принудить нас согласиться с тем, что Сократа отравили? Для Аристотеля такой вопрос, как явно бессмысленный, совершенно не существовал. Он был убежден, что “истина” – собаку отравили, равно как и “истина” – Сократа отравили, равно навеки защищены от всяких человеческих и божественных возражений. Цикута не различает между собакой и Сократом, и мы, принуждаемые самой истиной, обязаны тоже не делать никакого различия между Сократом и собакой, даже бешеной собакой. – Когда я это ему сказал, я ждал, что его взорвет от негодования»[55].
Или – навсегда отравили Сократа (то, что Сократ, в отличие от собаки, не стал убегать от смерти и сам поднес цикуту ко рту – дела для Шестова не меняет), и сама неподвижная окаменевшая истина насильно нас принуждает согласиться с этим, или мы не примем ее насилия, бросимся с размаху на эту каменную очевидность, разобьем об нее голову, ибо для философии она больше не понадобится – вот как ставится им знаменитый вопрос: или-или? Именно от этой стены начинается философия Шестова, если таковая существует, и сюда же после странствований она приводит. Признаем мы неоспоримость и каменность этой стены, или отважимся считать ее наваждением? Не то, что конкретно познают философы и на чем строится затем их земное величие, интересует его, а то, с какой силой, глубиной, искренностью ставят они вопрос о значимости или смысле познания. Иным словом, о падении проклятой стены, которую они хотя бы только пытаются разрушить. Ибо в итоге не разрушает никто. Даже немногие избранники – и Шестов со знакомым чувством торжествующей безнадежности констатирует это – даже Лютер, Ницше, Киркегор, Достоевский бегут от своих видений и абсурдов к родной стене общеполезных разумных и темных истин, назад, в пещеру.
Ну, а там, наверху? Там, за стеной, где кончается власть установленного разумом порядка? За «откровением смерти», за порывом, обрывом, за последним прозрением – что ждет нас там? Какая неведомая вольная воля, какое пристанище? «Бежим в дорогое отечество! – повторяет Шестов за Плотиным. – Отечество наше там, откуда мы пришли, там же и отец наш!».
Сам он, однако, только следит за их бегством, но никуда не бежит – ни за Плотиным, ни за Толстым, ни за Достоевским. Потому ли, что некуда? Потому ли, что не знает пути? Потому ли, что не умеет – сам не может сбросить с себя путы необходимостей, бремя оглядок, балласт мудрости, страх часовых? Или все это – внешнее, лишь маскирующее собой суть? Всякий раз, когда, следуя его зову, мы делаем этот рывок к «преодолению самоочевидностей», мы наталкиваемся на что-то недоговоренное и мучительное в Шестове – вечное обещание рая, непрестанное отстранение того, что мешает, борьба с теми, кто стоит на пути. «Великая и последняя борьба» с грехопадением познания в себе самом, зов, порыв, усилие (такое усилие, что почти физически передается читателю) – и ни с места, скованное молчание. Там, куда зовет Шестов, Шестова нет. Мир по-прежнему заворожен вечной, нависшей над ним стеной, и сам он нисколько не верит, что ему удастся пробудить его своими зовами и порывами.
Итак, вот о чем он совершенно серьезно спрашивает. Или в 339 году до Рождества Христова афиняне осудили и отравили Сократа, того великого и мудрого праведника, на долю которого выпала страшная честь повторить собою и делом своим – познанием грех прародителя Адама и возвести этот грех на высоты умозрения, откуда дьявол (если поклонитесь ему) обещал предоставить весь мир, или мы одолеем это злое колдовство, развеем чары мудрости, научимся мыслить так, как если бы «Сократа не отравили», ибо «отравленный Сократ есть бессмыслица, и стало быть Сократа не отравили»[56], ибо мертвый Сократ – это вовсе не то, что мертвая собака, и пусть уж лучше неоспоримое знание об этом будет мертвым, а Сократ пусть будет живой. Но, постойте, раз уж на то пошло, почему бы и бедной твари не жить? Разве не найдется такого существа, для которого всего важнее жизнь именно этой собаки? Не побоялся же и Бердяев признаться, что не представляет себе вечности без своего любимого кота Мури! Но вопрос не в Сократе и не в каком-либо дорогом существе, а в том, примиримся ли мы с тем, с чем нельзя примириться, сможем ли мы не для утешения, а реально считать эту гибель, это безвозвратное уничтожение всего близкого и невосполнимого небывшим? Сможем ли мы сделать бывшее небывшим: утрату, преступление, отчаянье, смерть?
Но вглядимся в самую глубину этого вопрошания – сам Шестов заимствует его у Достоевского. Один из героев Идиота, Ипполит, рассказывает о виденной им картине: снятие с креста. Христос на ней – обезображенный труп. Природа бессмысленно поглотила и раздробила это бесценное Существо, Которое одно стоило всей природы и всех ее законов, которая и создавалась, может быть, единственно для одного только Его появления. Самая глубокая, самая заветная и вместе с тем самая трепетная и тревожная мысль Достоевского выразилась в этом рассказе, – настаивает Шестов. «В который уже раз стоит он, забыв и себя и все на свете, перед чашками страшных весов: на одной огромная, безмерно тяжелая природа с ее принципами и законами, глухая, слепая, немая; на другую он бросает свое невесомое, ничем не защищенное и не охраненное то пщсоштоо и с затаенным дыханием ждет: какая перетянет»[57].
Шестов, как и герой Достоевского, мучительно застывает перед этой картиной. И не раз вспоминает слова Паскаля:
«Jesus sera en agonie jusqu’a la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps-la»1.
IV
И вправду, точнее всего он мог выразить себя чужими словами. Уместно ли говорить здесь о даре перевоплощения? Или об особой философской стыдливости? Или прямо о том, что не во что было облечь ему собственную мысль – она вечно в спорах с другими? Так почему же его шестовская истина, пребывающая за пределами всяких истин, не может выразить себя иначе, кроме как открывая наготу истин ее противников?
Вспомним еще раз Толстого – все его герои, и тот, от имени которого написаны Записки Сумасшедшего, и Иван Ильич, и отец Сергий, и Брехунов испытывают то, что в двадцатом веке было названо «пограничными ситуациями», но о них учит не Шестов, а Ясперс. Шестов ни о каких ситуациях не учит, он духовно через них проходит, ими живет, вкладывая в них то, что пережил сам. Сама его мысль – пограничная ситуация. Человеческое существование воспринимается им под знаком какой-то угрозы, неотвратимого осуждения, оно устремлено в никуда, творит из ничего (статья о Чехове), погружено в повседневность, в бессмыслицу, в озабоченность, в успокаивающую всеобщую безликость, в обольщения и иллюзии (и здесь по Шестову даже толстовский подвижник не является исключением), но об этой иллюзорной безликой всеобщности и бытия-к-смерти учит не Шестов, а Хайдеггер. Шестов не учит, но сильнее, чем кто-либо другой тяготится всем этим и рвется к пробуждению. И даже об абсурде повседневного существования недвусмысленно говорит не Шестов, а Камю. Шестов не излагает и не проповедует, он как будто предпочитает беседу с глазу на глаз со своим читателем на языке, понятном лишь им двоим. И даже о том последнем опыте, о смертном зрении, открывающемся в переломную благодатную или страшную минуту, о том, для чего Ясперс предложил термин Existenzerhellung – «просветление экзистенции», почему же столь скупо говорит об этом учение Шестова? Разве не мог он – писавший о Страшном Суде с таким напряженным, затаенным знанием – ввести свой опыт в понятия, развернуть в структуры и фигуры мысли или хотя бы в общедоступные философские образы, могущие убедить, способные легко привиться чужим душам, гармонически вписаться в пейзаж культуры?
Нет, не мог, да и сам вопрос не имеет смысла – можно ли спрашивать у мыслителя о том, чего у него нет? Однако все это в какой-то форме у него было, было и нечто большее, оставшееся за строкой, не вырвавшееся к слову, словно сжатое молчанием. Для Шестова слово изобретено для здешней жизни, оно приковывает человека к преходящему, не пускает к самому важному. Но тогда откуда у нас Библия, молитвы, и тот «гармонический проливень слез» (Мандельштам), который иногда вызывают слова? По странности забыв, что все это произошло еще до грехопадения, он пишет: «Сейчас же после сотворения мира, Бог позвал человека и велел ему дать имена всем тварям. И, когда имена были даны, человек этим отрезал себя от всех истоков жизни»[58]. Значит, пусть не будет имен, и первозданное останется безымянным, не стертым в совместном владении, для каждого своим, непередаваемым? Философия Шестова отказывается делать то, к чему как раз призван философ: именовать новые вещи, открываемые познанием. Эта философия вообще отказывается делать то, к чему она призвана – познавать. Познавать для нее – значит судить, т. е. выносить приговоры по внешним, не имеющим отношения к самому важному признакам. Она отказывается познавать даже себя. «По заповедям Бога познавать себя вовсе не нужно, даже и нельзя»[59]. Но философия, коль скоро она мыслит, видимо, все же не может исполнить эту шестовскую заповедь. Она, пусть и в прикровенной форме, постоянно задается вопросом: откуда она? ради познания какой истины существует? почему истина мыслится ею так, а не иначе? и наконец: может ли она передать ее другим?
«Может ли душа смертного, пробуждающаяся даже от сна и уверовавшая в то, что она имеет высшее предназначение, объяснить другим, что с ней происходит?»[60].
И много раз Шестов отвечает и разъясняет себе и другим: «По самой своей природе тайна такова, что она не может быть открыта, а Истина постигается нами лишь постольку, поскольку мы не желаем овладеть ею, использовать ее для “исторических нужд”, т. е. в пределах единственного известного нам измерения времени. Как только мы захотим открыть тайну или использовать Истину, т. е. сделать тайну явной, а Истину всеобщей и необходимой – хотя бы нами руководило самое возвышенное, самое благородное стремление разделить свое знание с ближним, облагодетельствовать человеческий род и т. п. – мы мгновенно забываем все, что видели в “выхождении”, в “исступлении”, начинаем видеть, “как все” и говорим то, что нужно “всем”. Т. е. та логика, которая делает чудо превращения отдельных “бесполезных” переживаний в общеполезный “опыт” и таким образом создает необходимый для нашего существования прочный и неизменный порядок – убивает Тайну»[61].
«Она (истина) задыхается в тяжких объятиях “самоочевидностей”, дающих достоверность нашему знанию…»[62]
Но коль скоро именно такая – задыхающаяся, не вместимая словом истина, которую ни с кем нельзя разделить, – стала нашим единственным достоянием, то как же было ею и одному-то владеть? Даже приобщившись к ней в «исступлении», как можно было ее сохранить, сделать своей, писать с нею книги? И сколь нелегким делом было, должно быть, мыслить о ней, искать для нее незатертые слова, видеть ее во сне, стараясь не просыпаться… Но здесь все более уверенной становится наша догадка, что само пребывание в этой нерешенности, в этом трудном пробуждении на полпути меж тяжелым сном и чаемой явью было и шестовской истиной и нераскрываемой тайной. И что в самой муке о ней – муке о том, что не дается слову, но мятется в сердце, живет, притаившись «значительнейшее». Но невыразимость истины теряет свою настоящую цену, как только она замыкается на себе самой, превращается в невыразимость ради невыразимости, а не ради той истины, которая не в силах, но все же непременно должна в ней сказаться. Что перетягивает: истина, которую невозможно сказать, или к себе самой обращенная «несказанность» истины? Подлинность философии Шестова взвешивается именно на таких весах.
Или это еще одна, словами Шопенгауэра, «профессорская философия профессоров философии» (и некоторые причуды добавляют к ней лишь ту остроту, что делают ее съедобной в двадцатом веке), философия, которую можно излагать и квалифицировать, и делать объектом критических штудий, или это есть действительно «великая борьба» за неподдельную истину, та борьба, философскую неопределимость которой едва ли можно будет прикрыть привычным скептицизмом или агностицизмом. В чем же больше выявляет себя шестовская истина – в борьбе за себя или же в учении о своей непознаваемости?
«Самоочевидное» склоняет нас ко второму решению. Разве шестовская истина не сознает себя? Сознает – значит судит (и себя оправдывает), сознает – значит судит (и осуждает) других. Пусть даже она и казнит себя самосознанием, и все же не отменяет своих приговоров. Более того: пронзая взглядом своего оппонента, она сама – как бы незаметно и естественно – вбирает в себя как раз самые враждебные его черты. «В сущности шестовская мысль очень деспотична», – отмечает Бердяев в рецензии на одну из последних его книг. То, что Шестов в борьбе с разумом пользуется вовсю его услугами, бросается в глаза всякому (да и ему это ясно), но хуже всего то, что его собственная, неуловимая, ускользающая даже от него самого истина тотчас каменеет, как только оборачивается, чтобы взглянуть на себя. И это реальная, давящая окаменелость: философ словно окован невидимой им истиной, заворожен ее тайной, не в силах и взгляда отвести от незримого. Иногда кажется, что дело не в истине вовсе, а в каком-то застывшем изваянии ее. «Его (Шестова) положительная философия бедна и коротка, – говорится в той же рецензии, – она могла бы вместиться на полстранице»[63].
Бердяевский приговор здесь сух и суров, но, увы, по-своему справедлив – с «профессиональной», сторонней, критической точки зрения. Полстраницы было бы для «положительной философии» достаточно, а если очень не любить Шестова и ужаться, то и меньше. И всё же для нее не хватило и двенадцати больших книг, и самое важное и последнее – то, в чем обитает его истина – так и осталось недонесенным. «Единое на потребу» так положительной философией и не стало. «Значительнейшее» укрылось где-то за знанием, за добровольной бедностью, за скованной немотой. Многое, слишком многое уместилось в шестовской недоговоренности, то, что его познанием так и не было выявлено и «положительной философией» донесено. «Он сам становится проблемой философии»[64], – заметил в другой раз Бердяев в статье, написанной вскоре после кончины Шестова.
То, что проблема его, шестовского, мышления не стала проблемой самого шестовского мышления, это ребус – для нас. Он был слишком вовлечен в свою нескончаемую борьбу, чтобы задаться вопросом о самой этой вовлеченности, как это делают другие, и не философствовал о себе самом. То, что его бесконечно интересует, вообще выходит за границы философии, и «великая борьба» направлена и против этих границ, и против философии как таковой. Ибо то, к чему философия в шестовском понимании призвана – возвестить о «значительнейшем», выразить его собою, – в конечном счете, оказывается невозможным. И Шестов знает об этом. Именно поэтому положительная философия ему «не удается», он ее не строит, не занят ею, он всецело обращен к тому, что не осязается мыслью, но лишь движет ею. Его борьба – не за накопленное философское имущество, это борьба за то, что ему не принадлежит или, в лучшем случае, за то, что невозможно передать – истину как тайну. Но при этом такая борьба обнажает внутренние пределы и задачи самой философии, ее мощь и бессилие, ее скрытые возможности и противоречия. Ее учительная бедность оттеняет собою меру ее подлинного богатства. Ее религиозная мука и незавершенность сосредотачивает собой всю подспудную напряженность и контрастность верующего мышления. И загадку самого мыслителя, которую он не хочет (или не может?) раскрыть.
«Если чужая душа – потемки, то тем более потемки – душа мыслителя, который столь же желает раскрыться, сколь, если не более, сокрыться от враждебного и назойливого любопытства чуждой ему толпы. Но наряду с этой сокрытостью, оставляются мыслителем и лазейки к его тайнам.
Лазейки эти – в терминологии[65], считает о. П. Флоренский, но еще в большей мере – в выборе героев, знаковых фигур, глашатаев или душ, через которые должна сказаться мысль.
V
Промыслительная встреча с Киркегором, в котором Шестов на склоне лет узнал своего двойника, помогла ему ставить старые проблемы яснее и радикальнее. «Либо мышление Авраама, Иова, пророков и апостолов, – цитирует он датского мыслителя в последних книгах, – либо мышление Сократа»[66].
«Если этическое есть высшее, Авраам погиб»[67].
Либо философия греческого симпозиона, – поясняет Шестов, – имеющая истоком своим удивление, философия, стремящаяся к пониманию, к суду над вещами, приговаривающая их жить в оковах необходимости, простирающейся на действия самого Бога, либо философия, движимая отчаяньем, разрывающая оковы и приходящая к вере. Либо она учит о неизбежности зла, и мудрому человеку следует лишь научиться терпению, либо она отказывается от признания каких бы то ни было прав за злом (в том числе и права называться неизбежным) и дерзает бунтом своим зло уничтожить, сделать его небывшим. Разум или вера, покорность или дерзновение, вопль, бунт, безумие или этика? «Вера значит именно это – потерять разум, чтобы обрести Бога»[68]. Потерять, стряхнуть с себя разум, который по Шестову служит лишь князю мира сего, значит обрести то невозможное, то абсурдное, что делает человека господином самой необходимости. Вера, не этика, возвращает Аврааму Исаака. Вера, а не наставление друзей, возвращает Иову все, что было им утрачено. «Нужно чисто человеческое мужество, чтоб отречься от конечного ради вечного, – повторяет он Киркегора. – Но нужно парадоксальное и смиренное мужество, чтобы в силу Абсурда владеть всем конечным. Это и есть мужество веры»[69].
«Конечное» – это и есть наш мир со всеми его ужасами и оковами, перед лицом которых философы всегда призывали сохранять бестрепетную невозмутимость. «Конечное» – это и есть отравленный Сократ, утраты и болезни Иова, убитые сыновья, погибшая родина. Примем ли мы равнодушную неизбежность всего этого – ту истину с сердцем истукана, что, мол, так бывает, было всегда, будет и впредь? Послушаем ли мы мудрецов, которые во все века прилежно учили нас сохранять спокойствие даже в фаларийском быке, где человека сжигают на медленном огне, а вопли его доносятся к палачам в виде услаждающей музыки?
Но разве «конечное», помимо ужасов, не заключает в себе и красоту творения, которой так часто был согрет и сам Шестов? Впрочем, его можно только слушать, не спрашивая.
«Мы стоим между двумя “безумиями”, – говорит он. – Между безумием разума, для которого обнаруживаемые им “истины” об ужасах реального бытия есть истины последние, окончательные, для всех обязательные, вечные истины, и безумием киркегардовского “Абсурда”, который решается начать борьбу тогда, когда, по свидетельству нашего разума и его очевидностей, борьба невозможна, ибо она обречена на позорную неудачу. С кем идти – с представителями эллинского симпозиона, или с Иовом и пророками – какому безумию отдать предпочтение?»[70]
Именно в этом и заключается для него основной вопрос философии – какому безумию отдать предпочтение? Безумию философии умозрительной или спекулятивной, для которой все то, что есть, облекается в доспехи окончательного, всеобщего и разумного, или безумию философии экзистенциальной, неистово эти доспехи срывающей? «Там, где философия спекулятивная видит конец всяких возможностей и безвольно складывает руки, там философия экзистенциальная начинает великую и последнюю борьбу. Философия не есть рефлексия (Besinnung), “допрашивающая” действительность и ищущая истины в непосредственных данных сознания, она есть преодоление того, что кажется нашему разуму непреодолимым»[71].
Нужно ли говорить, что «экзистенциальная философия» в шестовском понимании далека от того, что принято называть экзистенциализмом в собирательном ли неопределенном смысле или более строго – понимая под ним ряд учений конкретных мыслителей? Экзистенциализм – могучее дерево с глубокими корнями, выросшее в ухоженном саду европейского мышления, и мне кажется, не вполне правы те, кто располагают учение Шестова на одной из его ветвей[72]. Скорее оно похоже на колючий кустарник, упорно и дико растущий на песке; на нем не найдешь ни листьев зеленых, ни манящих плодов. Экзистенциализм отстаивает права личности, ее бытие-в-себе, ее решимость перед лицом вызова мира сего, ее противостояние безликости; экзистенциализм (в популярном смысле) озабочен состоянием души в ее внутренней самозащите перед тем, что ей враждебно и внешне. Он мастерски разоблачает это внешнее и враждебное, он умеет видеть его там, где раньше его и в голову не приходило искать – внутри самой личности, в ее отчуждении от себя самой, в ее мышлении, в ее речи, в ее совместном существовании с другими, в ее вовлеченности в историю, но как бы далеко не заходил экзистенциализм в разделении «подлинного» и «неподлинного» внутри человека, он так или иначе кончает какой-либо формой рафинированного стоицизма.
Шестов же не о внутренней подлинности прежде всего печется, он посягает на внешнее, а «внутреннее» в человеке – его веру, его безумие, произвол – хочет сделать мерилом, повелителем самой мировой данности, и на меньшем он не помирится. Такое – по словам Аристотеля – можно лишь говорить, но нельзя действительно мыслить. Ведь и самые дерзновенные мыслители из шестовского «золотого» ряда – Платон, Плотин, Августин, Лютер, Ницше, Достоевский, даже и Киркегор – в конце концов, предавали свое дерзновение ради покорности и уходили от «неистовых речей» к речам назидательным. Шестовского экзамена по экзистенциальной в его понимании философии не выдерживает никто. Стоит ли повторять, что сам он первый же на нем и проваливается, что и его философия грешит назиданием-умозрением уже в силу того, что ненавистные ей самоочевидные истины оледенили ее зрение, ибо поистине она не может от них оторваться, на минуту глаз отвести? Стоит ли говорить, что сама экзистенциальная философия, такая, какой он ее видит, остается чистой и неиспользованной возможностью, а, стало быть, умозрительной утопией, умственной мечтой? Что она экзистенциальна, безумна именно там, где всякая философия как раз кончается и уступает место чему-то другому? Что сам он остается экзистенциальным философом именно в своих размышлениях о чужой экзистенциальной философии, пусть даже это будет «философия» Иова или Авраама? Что невозможная возможность философии последовательно экзистенциальной существует именно как вызов философии умозрительной, вызов, сам по себе исполненный философского смысла, но все же от умозрения целиком зависящий?
Но к чему гоняться за несведенными концами, в них ли суть? Всякая философия в конечном счете исполняет волю пославшего ее духа, человеческого или иного. Всякая философия, сколь бы она ни была суха и отвлеченна, запечатлевает в себе душу того, кто в ней мыслит, и это относится ко всем ее построениям, также как и к нерешенности основных философских вопросов, к противоречиям, к трудности, ко всему. И когда философия бежит от умозрений, от традиций, от себя самой наконец (на подмостках шестовской мысли это всего ярче и драматичней изображается бегством Серена Киркегора от государственного философа Гегеля к «частному мыслителю Иову»), то достигнув своей цели – убежав от самой себя – она совершает акт самопожертвования ради того, что признается ею бесконечно более важным и значительным. Шестов отсекает – от своей и от чужой экзистенциальной философии, никого при этом не милуя и не идя ни на какие компромиссы – все то, что, по его мнению, заражено умозрением и покорностью разуму, и мы видим, что после этих отсечений от философии как таковой, в конце концов, ничего не остается. Она исчезает, чтобы уступить место вере. Вере, не обремененной никакой разумностью, не отягощенной никаким авторитетом, никаким учением, никакой разделяемой традицией, вере-безумию, вере-произволу. Вере столь свободной от какого бы то ни было интеллектуального или религиозного облачения, столь чистой и столь бесплотной, что она может быть определена опять-таки в границах умозрений – путем редукции умозрений.
«Он искал веры, но не выразил самой веры», – скажет о нем Бердяев[73]. И в этом – Шестов. Здесь, может быть, и таится та великая неудача или то «крушение» (Scheitem) философии, в котором, по мысли Ясперса, открывается человеческое величие и человеческая ограниченность ее творца. Ибо Шестов на собственном пути и по-прежнему один против всех взялся за дело, которое вообще едва ли под силу философии, такой, как она сложилась на Западе да и на Востоке, именно такой, с какою он сам боролся – выразить собою библейскую веру и библейское Откровение – и оказался сокрушенным. «Ибо то, что мы называем философией, – пишет младший его современник, – греческое дело греческим словом уже само подразумевает “науку”, и это греческое дело представляет собою одну из фаз, – нет, не одну из фаз, а решающую фазу в истории человечества, благодаря которой “Западная Европа” отошла от мифологии предрассветной рани человечества и восточной иератики и встала на путь, устремленный к знанию…»[74].
«Достиг ли этот путь своей цели и не покончено ли с философией?» – спрашивает Гадамер. И не входит ли в замысел этого пути, чтобы философия именно так и кончалась: самозакланием знания? Или же это еще один признак «заката Европы», когда философия с покоренной ею вершины бросается вниз головой? Когда она бежит и от государственных и даже от экзистенциальных философов назад – к «предрассветной рани и восточной иератике»? Однако и в бегстве своем она остается скованной старыми умозрениями. Приближаясь, почти прикасаясь к «значительнейшему», философия оказывается не в силах вобрать его в себя или самой в него влиться, потому что «значительнейшее» по ее предпосылкам вообще не может быть облечено в материю мысли. И потому мысль эта вечно должна метаться между отчаяньем и верой, между слепотой и надеждой, между «Да» и «Нет», тщетно пытаясь соединить их в нечто неразрывное, истинное, святое…
«И рече безумен в сердце своем: несть Бог. Иногда это бывает признаком конца и смерти. Иногда – начала и жизни. Почувствовавши, что нет Бога, человек постигает вдруг кошмарный ужас и дикое безумие земного человеческого существования и, постигши, пробуждается, если не к последнему, то к предпоследнему знанию. Не так ли было с Нитше, Спинозой, Паскалем, Лютером, бл. Августином, даже с ап. Павлом?»[75]
Но странствуя по душам и пробуждаясь с ними, Шестов так никогда и не вверяет себя «предпоследнему знанию», тому, что чужими душами было, в конце концов, выношено и рождено. Не идет он ни за Спинозой, ни за Паскалем, ни за Ницше, ни за Лютером, ни за апостолом Павлом. И собственное его «предпоследнее знание» как бы всегда останавливается и застывает на пороге чужого пробуждения. О чем же оно?
О Боге?
VI
Чтобы рассказать о яви, нужно стряхнуть с себя сон. Кажется, что Шестов так отчаянно борется с философией именно для того, чтобы навсегда покинуть ее. Но говорить о Боге можно лишь словами, сопричастными Его Слову.
Карл Барт, один из великих богословов XX века, сопоставляя философию с богословием, говорил, что философ проходит путь от творения к Творцу, от человека к Богу, а затем возвращается назад к творению и человеку, но возвращается уже озаренным найденным знанием свыше. Богослов же совершает обратный путь, начиная его с Творца. Однако оба они, несмотря на различие направлений их мысли и способов выражения, отвечают на обращение к ним единой и неделимой Истины[76]. И все же противоречие между путями их мышления неразрешимо. То, что философ, исходя из творения, именует «трансцендентным», «непостижимым» или, скажем, «значительнейшим», подразумевая здесь религиозно окрашенную Высшую Идею (или Нечто, лежащее за порогом каких бы то ни было идей), мыслится богословом в рамках разделяемого Церковью Откровения. «Богослов, – говорит Барт, – не стыдясь своей философской наивности, должен заявить прямо и безоговорочно, что единая и неделимая истина его – Христос, и это определенно указывает ему путь мышления и словесного выражения и потому отрезает для него философский путь. Речь идет не об идее Христа, но о Христе Иисусе из Назарета, что жил при Августе и Тиберии, умер и воскрес, чтобы больше никогда не умирать, но не как прекрасное (может быть, самое прекрасное) средство выражения мыслей, не как символ, не как шифр, избранный для обозначения истины, а как истинный Бог и истинный Человек, как олицетворение установленного Богом союза между Ним и человеком»1.
Но случается также, когда богослов и философ как бы меняются местами: богослов изменяет своему пути и становится втайне философом, криптофилософом, как называет его Барт, или когда бежит со своего пути философ, бежит тайком от других и, может быть, от себя, когда, не именуя и не осмысливая до конца той Истины, которая служит ему точкой отсчета, он идет от нее к творению, когда, оставаясь философом, он незаметно для себя делается криптобогословом. Он начинает судить о творении с высоты той Истины, которая сама для него остается закрытой вторичными, умозрительными именами, и тогда суд его – коль скоро философ предельно честен, искренен и захвачен Истиной – обращается на самого себя и на собственное мышление. И поскольку эта Истина жива, поскольку она требовательно обращена ко всякому человеку, в том числе и к философу, тот суд или кризис, о котором идет речь, обретает в нем огромную глубину и серьезность. Конечно же, философия всегда может найти пути, чтобы миновать его, вернуться окончательно к тварному и только в нем укрепиться в беспамятстве о Творце, как может и она, потянувшись к Откровению, принять Христа в собственном доме и как Марфа деятельно служить Ему, накрывая стол. Но бывает так, что она остается на полдороге, застывает в пробуждении своем, и тогда кризис-суд становится ее постоянной невыразимой реальностью. Суд, в котором пленная мысль судит себя и корчится в муке, пробиваясь к «значительнейшему», будучи не в силах передать его собою.
Услышим ли мы иносказание? «Страшный Суд, которым мучилось средневековье и о котором так основательно забыла современность, вовсе не есть выдумка корыстных и невежественных монахов. Страшный Суд – величайшая реальность. В минуты – редкие, правда, – прозрения это чувствуют даже наши положительные мыслители. На страшном суде решается, быть или не быть свободе воли, бессмертию души – быть или не быть душе. И даже бытие Бога еще, может быть, не решено. И Бог ждет, как каждая живая человеческая душа, последнего приговора»[77].
Шестова со стороны нередко принимали за глашатая библейского иррационализма. «Положительные мыслители», его критиковавшие, со школы, вероятно, не открывавшие Библии, охотно возводили его в ранг выразителя ветхозаветного миросозерцания. Ведь сам он так часто, с таким жаром и вызовом утверждал: учитесь у Библии, там люди мыслили совсем не так, как наши мудрецы и философы. «Если же мы обратимся к Писанию…», – многозначительно говорит он, закончив разбор какого-нибудь философского учения, и мы чувствуем, как бедный разум уже дрожит. Но, обратившись к Писанию, мы сразу увидим, что оно вовсе не требует отречения от всякого разума. Ветхозаветная праведность и ветхозаветная мудрость основываются на глубочайшем доверии к открытому на Синае Закону, каждая заповедь которого, сколь ничтожной бы ни казалась она постороннему, связана с идеей целостной регуляции человеческого существования, тела, души, духа. (Правда, когда Шестов вспоминает о насмешке Вольтера: «лучше бы Бог научил евреев о бессмертии души, чем учить их aller а la selle»[78], в тоне его звучит явственно: Вольтеру ли учить Бога? – в нем просыпается иудей). Но «религиозная философия» иудея заключается прежде всего в познании Закона, в проникновении в скрытый замысел каждого формального предписания, в усмотрении невидимой взаимосвязи всех его заповедей, т. е. в постижении той Мудрости (Хохме, Софии), которая изначально была вложена в Тору ее Творцом. Эта мудрость пронизывает собою все творение, она хранится где-то в сокровенном ведении Божием, и человек на пути неукоснительного исполнения закона и праведного познания может к какой-то, доступной человеку, частице ее приобщиться.
Откуда же исходит мудрость? (говорит Иов) Где они, месторождения разума? Скрыта она от глаз всего живого, от птиц небесных спрятана. Скажут о ней Аваддон и Смерть: “Мы слышали о ней лишь краем уха”. Бог знает дорогу к ней, Он ведает, где она обитает. Ведь взор Его пределов земли достигает, все, что под небом, Он видит. Когда Он наделял силой ветер, когда водам меру давал, когда для дождя устанавливал закон и путь – для молнии с громом, тогда перед взором Его была мудрость, Он исчислил ее, утвердил, испытал. И сказал человеку: “Благоговение пред Владыкой — вот мудрость, сторониться зла – в этом разум!” (Иов 28:20–28)Божия мудрость утаена, но человеку заповедано искать к ней дорогу – так говорится в одной из самых близких для Шестова библейских книг – в книге Иова. «Если мы обратимся к Писанию», то призывов и увещеваний к разуму, мы найдем в нем уж никак не меньше, чем священных безумий. А Евангелие – разве обращено оно только к чувству, минуя разум? И где в Библии найдем мы столь надрывно-категорическое: «Когда разум обессиливает, когда истина умирает, когда свет гаснет – только тогда слова Откровения становятся доступны человеку»[79]?
И если Шестов без конца воюет с умозрительной эллинской мудростью, это вовсе не значит, что Откровение на его стороне. Рассорившись с Афинами и бежав от них, он останавливается у ворот Иерусалима, как старого, так и небесного, нового. Тот союз, осознанный договор или завет, между Словом Божиим и познанием в форме ли отношений между Господином и рабом или любовью между Отцом и сыном, им никак не приемлется. Ибо Бог его заведомо бессилен что-либо возвестить разуму, словно разум есть та стена, которую и Ему не одолеть. Разум держит нас в рабстве у самого себя, познание греховно и слепо именно тем, что не в силах вывести нас к Богу. Но уготовят ли нам путь к Нему экстазы, порывы, неистовые речи? А вера, не тронутая знанием, приведет ли к любящему Отцу? А без Него, Того, Кто может миловать и спасать, испытывать скорбями и отвечать молитвам, для чего нам и запредельные отечества?
Знал ли такие вопросы Шестов? Не мог не знать. Потому и прятал их поневоле в бесконечных, но всегда захватывающих разоблачениях разума, в намеках, надрывах, умолчаниях, высмеиваниях, спорах. Есть и вправду что-то затягивающее в самом кружении его мысли, в ее дерзновении и деспотизме, и оттого все захваченные им читатели, зная заранее, куда приведет сюжет, вокруг которого завязан каждый из его текстов, следуют за Шестовым из книги в книгу, хотя и давно выучили наизусть весь его маршрут. Ибо книги эти что-то всегда обещают, несут в себе как будто пролегомены к какой-то небывалой будущей религиозной философии, которую автор до времени не может или не хочет раскрыть. Должно быть, поэтому о. Василий Зеньковский и, видимо, не он один, предполагал, что Шестов из какой-то стыдливости не открывал своей истинной веры. Наверное, поэтому Оливье Клеман сказал однажды, что философия Шестова могла бы стать достойным введением к тому, что называют хорошим богословием. Оба они ненароком касаются его религиозной тайны, о которую бьется, стеная, его мысль, и эта тайна как-то прикасается и к нам, читателям его. Словно через муку невыразимости его мысли просачивается отблеск какой-то правды о Боге Живом.
Но какой язык, построенный по правилам логики, способен эту правду вместить? – мог бы спросить Шестов. В какое из хранилищ разума можно заключить невместимое? В ответ ему можно было бы повторить слова царя Соломона, сказанные при освящении Храма. Богу ли обитать на земле?! Если небу и небесам небес вместить Тебя не дано, как вместит тебя этот Храм, который построил я? Внемли, о Господи, Боже мой, мольбе моей, молитве слуги Своего! … Взирай открытыми очами Своими на Храм этот днем и ночью, на место это, где, по слову Твоему, будет имя Твое, и да будет услышана Тобой та молитва, которую слуга Твой будет возносить на этом месте (3 Цар 8:27–29)[80]. С этой молитвой созидается не только дом Божий, но и всякий живой, пусть робкий, слабый, замкнутый в себе религиозный опыт, в котором отражается лик Божий. Бог не вмещается ни в храмы, ни в слова, но наш язык, исповедуя эту невместимость, делает первый шаг на пути к познанию Бога. И дерзновения и доверия здесь больше, чем в каких-либо экстатических отречениях от разума. Драма Шестова в том, что он не видит неба внутри человека. Чудо претворения того, что воздвигнуто человеческими руками или достигнуто человеческим познанием, в обитель Бога Живого, прошло для него незамеченным. Бог его бездомен.
«Мой Бог – невидимый, – мог бы вспомнить он слова Гершензона в Переписке из двух углов… – Он – моя жизнь, мое движение, моя свобода, мое подлинное хотение»[81]. Но у Шестова в опыте присутствия Божьего нет той умягчающей теплоты, той эмоциональной интимности религии, которую чувствовал Гершензон. Господь – свет мой и спасение мое, – хотел бы воскликнуть Шестов за псалмопевцем, если бы не был н е м. Но это – взывающая немота. Это многословная немота изнемогающего в сплетении умозрений автора философских книг. Или тревожная, пугающая немота вдруг умолкнувшего юродивого. Он сам не в силах справиться с ней, разбить стены ее неистовыми речами. И она-то для него тяжелее песка морского.
«Смотрите, как бьется в тенетах наш друг Шестов, – писал М. О. Гершензон Вячеславу Иванову. – Сколько раз мы говорили с вами о нем с любовью! Он ли не прозрел пустоту умозрений, мертвящий догматизм идей и систем? он ли не алчет свободы? Его тоскующий дух беспомощно рвется вон; то силится распутать узлы догматического мышления, спеленавшего человечество, то с увлечением рассказывает о минутных прорывах, удавшихся тому или другому…»[82]
Может быть, утаенным его богословием было само смятение? А мука, не нашедшая слов, должна звучать для нас проповедью? Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам, – говорит апостол Павел афинянам (Деян. 17,23). И Шестов обращается к грекам и к наследникам греков, ко всему ареопагу европейской философии, но странная обличительная проповедь его внезапно разрешается воплем Иова:
О, если бы можно было взвесить мое страдание, все горе мое разом на весы положить! Тяжелее оно было бы песка морского, оттого и говорю я неистово (6:2).VII
Что же взвешивается на тех весах? К тяжести песка (неумолимой природе, слепой неизбежности, перед которыми склоняется разум) Шестов добавляет еще и те полновесные рассуждения, утешения и упреки, которыми сочувствующие друзья отвечали исступленному Иову. Прислушаемся к их спору, он словно совершается в алтаре шестовской философии. И завершается каждый раз все более жестким и вызывающим отказом от тех высоких утешительных доводов, которые друзья Иова накопили за тысячи лет умозрительных ц благочестивых размышлений. Конечно, нельзя сравнивать их с наследниками Сократа и Аристотеля, с которыми только и спорит Шестов, но ведь и те, и другие хотели всего лишь утешить, примирить, приобщить к бессильной этической мудрости. «И разве друзья Иова, на которых он так ополчался, провозглашали что-нибудь другое, чем бессильную любовь? Они не могли помочь Иову – и предлагали ему то, что было в их распоряжении – слова милосердия. Только когда Иов явно обнаружил свою “закоренелость”, свое “упорство” и отверг их “моральные” и “метафизические” утешения, они, справедливо увидевши в этом “бунт” и “мятеж” против этического, обрушились на него со своими упреками…»[83]
Но если бы спорили здесь только этика с верой! В Книге Иова бросаются на весы не две философии, но две исповедальных правды. Было ли замечено, что отвергнутые Богом речи друзей складываются в одну из самых возвышенных религиозных доктрин, которая сама по себе составила бы честь всякому старцу и мудрецу? Но дело было совсем не в том, какие доводы оказались сильнее. Доводы вовсе были здесь не нужны. И оправдывать Бога – искать объективный, объяснимый источник горестей Иова – тоже было не нужно. «Всякое “объяснение” его несчастья для Иова лишь умножение скорби. Не нужно никакого объяснения, никаких ответов. Не нужно и утешений»[84]. Не нужно – Иову.
В его споре с друзьями каждый обнаруживает то самое важное, сокровенное, что связывает человека с Богом. Иов исповедует здесь такую близость к Нему, такое сердечное ведение Его, что меркнет в его стенании речистая набожность рассудительных его друзей. И само его богохульство – в глазах друзей речи Иова и были богохульством – звучит перед Богом как исступленное славословие. И в ответ на призывы к покаянной покорности Иов твердит:
Но я знаю – Искупитель мой жив! Ив конце Он встанет над прахом! встанет над прахом! Даже тогда, когда кожа моя распадется, я во плоти моей увижу Бога! Сам увижу, своими глазами, я, а не кто-то другой! Как же томится в груди мое сердце! (19:25–27)Но именно эти – самые важные – слова неописуемой, неистовой надежды Иова – всегда приглушены у Шестова. Иов знает, что есть, жива, существует за словами традиций, утешений, упреков воля и сила Божия, которая превратила его во прах, но и может вернуть ему все утраченное одним произволеньем. Самый вопль его есть свидетельство живой веры: Искупитель мой жив\ Само требование суда есть исповедание Его милующей справедливости. Да, Иову тошен суд друзей, притязающий судить от имени Бога, суд заповеданной мудрости, суд осмотрительного разума, суд всего человечески должного, прописанного и нравственного. Над преданиями, над мудростью, над всем заповеданным и положенным – Бог свободен.
Вот, что втайне, по ту сторону всякого богословия, проповедует Шестов, вот что прорывается через долгие его монологи и скитанья по душам: Бог свободен неслыханно, непредвиденно и перед собственным творением, и перед сотворенными людьми вечными истинами и метафизическими утешениями, и перед безликой необходимостью, открываемой разумом, и перед этикой, склоняющей к покорности. Бог свободен перед законом, в том числе и собственным, перед всякой религией, перед всем, что человек может понять, чем он может овладеть, что может ввести в круг своих понятий и ощущений. Бог свободен от всего, к чему человек может прикоснуться и что он может помыслить. И только перед таким Богом – Богом Иова, Богом Ветхого Завета – может смертный человек сделаться «рыцарем веры, владеющим всем конечным».
А иначе – «нам придется вновь вернуться к эллинскому представлению о Боге, возможности которого ограничены самой структурой бытия? И Бог чем-то связан, и над Богом наш разум открывает начало или начала, независимые от Него, Им несотворенные, которые полагают предел Его воле и принуждают довольствоваться возможным? Перед лицом этих начал Бог так же бессилен, как и смертные; у Него есть только любовь и милосердие, которые сделать ничего не могут»[85].
Но мы слышим здесь лишь вопрошание и недоумение Шестова, ибо собственные его «неистовые речи» немы. Но они в самом вопросе: или Единое эллинского симпозиона, утешающая Трансценденция человеческих религий, или Бог, способный вернуть детей Иову и бывшее сделать небывшим. Либо Афины с их этикой, логикой и наукой, либо Иерусалим с некой безымянной верой и воплями? Так спрашивает видимая – «скованная» – философия Шестова. Скованная именно тем, что так беспощадно и проницательно выслеживает и разоблачает в других: необходимостью логически рассуждать там, где следовало бы ей взывать и неистовствовать. Он окован своей философией точно так, как Парменид, по словам Аристотеля, был окован принуждающей его истиной.
Мне вспоминается здесь о. Павел Флоренский: «Если чужая душа потемки, пишет он в очерке Культ и философия, – то тем более потемки – душа мыслителя, который столь же желает раскрыться, сколь, если не более, сокрыться от враждебного и назойливого любопытства чуждой ему толпы. Но наряду с этой сокрытостью, оставляются мыслителем и лазейки к его тайнам»[86].
Тайна – это скованность шестовской мысли, его замолченная проповедь о свободе Божьей. Откуда у него – спросим еще раз, – эта прикровенность, напряженность, двойственность всех вопросов, всех шестовских прорывов к «значительнейшему», за которым – Бог, а «Бог – значит – все возможно»? Да, возможно все, кроме возможности говорить разумно. Но откуда эта неутомимость и страстность, эта «заведенность» в разоблачении разума и этики вместо того, чтобы открыто и взаправду искать Бога, который выше этики, выше добра – к чему призывал Шестов в одной из ранних книг?[87]
Как будто разрушая стены своей темницы, вкладывая в это дело каждый раз столько труда, сноровки, мастерства, упорства, иронии, воли и, наконец, попираемого им философского разума, он, проделав брешь, не выходит на свободу, столь превозносимую издали, а возвращается назад, чтобы пробиваться снова в другом месте. Как будто главная нерешенность именно там и начинается, где гаснет разум и пробивается свет, где все человеческое теряет опору, и произвол Бога вступает в свои права. Замечает ли Шестов, что освободив Бога от человеческого познания и представлений о нравственности, сделав само существование Его недоступным и нерешенным, он как бы «с другого конца» повторяет столь отталкивающую его мысль Спинозы: воля и разум Бога имеют столько же общего с волей и разумом человека, сколько общего имеет Созвездие Пса с псом, лающим животным? Бердяев, проспоривший с ним всю жизнь, в уже цитированной здесь рецензии на шестовскую книгу о Киркегоре сказал, быть может, самые безжалостные слова об авторе:
«Мысль Шестова носит особенно трагический характер, потому что Бог, для которого все возможно, который выше всякой необходимости и всех общеобязательных истин, остается условной гипотезой, Бог постулируется для спасения от власти разума и морали, подобно тому, как Кантом Он постулировался для спасения морали»[88].
Чем могло бы ответить на эти слова исповедание Шестова? На территории аргументов он уязвим, как был бы уязвим и Иов, если бы стал перекладывать вопль в философию. Бог для него – самое важное, неописуемая свобода – лишь «условная гипотеза». Но приговоренный умозрением, он должен был завопить еще неистовей: Можно ли назвать Бога «постулатом»? Бог владеет всеми человеческими постулатами, Бог Живой, как бы Он ни был явлен, как бы Он ни был назван, обитает в душах людей и стоит у истока той «великой борьбы», что всегда идет за Него. И этот вопль как подавленное славословие также звучит в философии Шестова.
Вопль и умозрение оспаривают и побеждают друг друга. Да и вправе ли мы назвать спором это яростное противоборство ради «значительнейшего» (псевдонима Бога), где обе стороны изнемогают? Мы видим ясный знак смертельного изнеможения: философия валится наземь. Она зачеркивает саму себя. То дело, к которому философия по самой сути своей призвана, которым она только и в силах заниматься, ею же самой признается греховным, трусливым, суетным. «Она ищет твердых основ, бесспорного, окончательного, почвы и больше всего страшится свободы, каприза, т. е. всего, что есть в жизни необычного, гадательного, неопределенного, не подозревая, очевидно, что именно это необычайное, гадательное, неопределенное, не нуждающееся в гарантиях и защите, есть единственный и истинный предмет ее изучения, то тщгсоштоо, о котором говорил и к которому стремился Плотин, та “действительность”, которую из своей пещеры разглядел Платон, тот Бог, которого скрыл под “математическим методом” Спиноза и который вдохновлял гадкого утенка, подпольного человека Достоевского, когда он показывал кукиш и выставлял свой отвратительный язык сооруженным людьми хрустальным дворцам. Великие древние мудрецы оставили нам завет: про Бога нельзя сказать, что Он существует. Ибо сказавший: “Бог существует – теряет Бога”»[89].
Отсюда открывается прямая тропа к понятию «неметафизического Бога» (у Хайдеггера и других), но Шестову не нужно никаких проторенных ученых терминов и троп. Противоборство его мысли выступает здесь во всем напряжении, во всей муке. Подлинная вера его, желая стряхнуть с себя всякое умозрение, оказывается у него в плену. Не ищет он и «философской веры» (Ясперс), успокаивающейся на «шифрах Божества», он хочет веры библейской, веры в Бога Живого, огражденного от него стеной разумения, самим словом о Боге: есть. И мука его о вере, стенание веры самой есть тяжкое бремя, отнюдь не предмет экзистенциальной философии. Об этом не философствуют, не рассуждают, об этом молчат. Говорят о другом – вторичном и преломленном. Шестов не имел обнаженных, дерзких, вызывающих слов Иова, чтобы сказать о своем бремени – а как бы хотел, наверное, иметь! – но это отсутствие невыразимо. Его страдание безгласно. Но именно немота его придает шестовской философии ее непроявленную, настоящую силу. Сила эта могла бы мгновенно исчезнуть, как только все «необычайное и гадательное» получило бы некое автономное существование, мистически обособилось бы, «устроилось» и стало бы себя выставлять: глядите: «Необычайное!», Неизведанное!», «Не разгаданное еще никем!», – но нигде этого не происходит, и сила шестовской мысли не ослабевает никогда. «Гадательное» закрывает у него Того, Кто есть. Того, Кто диктует заповеди с Синая. Но Шестов в какой-то доле прав, когда говорит: «сказавший: “Бог существует” – теряет Бога». Сказавший: «Бог существует» остается в плоскости умозрения. Вера не начинает с утверждения: Бог есть. Она говорит: «Верую во Единого Бога Отца…» Она называет Бога, исповедует себя в обращении и Имени.
«Проблема Бога обнаруживает противоречие внутри самой философии, – читаем мы в книге Жана Даньелу. Ибо цель философии – доказать существование Бога, но она может сделать это лишь признав свою беспомощность»[90]. В философском утверждении: «Бог есть» смысловое ударение неизбежно притягивает к себе глагол, а существительное, которое заключает в себе имя Бога, слегка окутывается умозрительным туманом, так что вере бывает нелегко узнать Его. Но все умозрительное – лишь тусклое стекло, за которым нельзя угадать ничего. И вот Шестов с каким-то рассчитанным безумием, которое всегда таится в его строгой речи, бросается на все эти стекла, чтобы разбить их.
Не это ли безумие, отстоявшееся, отрезвевшее (Шестов трезв и тогда, когда говорит об экстазах), не отчаянное, но отчаявшееся проскальзывает и в его учении о вере, за которым скрывается не учение, но вопль о свободе Божьей? Вера есть экзистенциальный прорыв из царства скованности в царство свободы, где вдруг (обязательно – вдруг!) все становится возможным. Возможно все, кроме того, чтобы вера открывала людям истинного Бога и соединяла Бога с людьми и людей друг с другом. В книге о Киркегоре Шестов говорит его устами: «Веру нельзя опосредствовать через общее; это значило бы отменить ее. В этом и есть парадокс веры, и один человек в этом не может понять другого… Человек может стать рыцарем веры, если он всецело возьмет на себя парадокс – иначе он никогда рыцарем веры не станет. Товарищество в этих делах немыслимо».
Но парадокс веры – не в том, что Бог недоступен, а в том, что Бог доступен. Любой из нас, вовсе не рыцарь, но поденщик и мытарь, плоть и кровь, может узнать в Нем Создателя и Отца, молиться Ему, встретить Его, взывать к Нему, открыть Его в себе единым безусильным и благодатным порывом. Дано любому разрушить те стены, которые, отгородившись от Бога, он сам возвел вокруг себя. Каждый из нас может окликнуть Его сердцем, и Он откликнется. Парадокс веры есть сама реальность веры, «банальность» веры среди людей и только. Именно притязание на абсолютное, а значит и на абстрактно-рассудочное, человеческое одиночество этот парадокс снимает, переводит его в ранг философских антиномий, запирает в умозрительной клетке. Ибо в умозрении, когда оно живет лишь собой или борьбой с самим собой, сказывается лишь внутренняя замкнутость человека; умозрение иссякает, становится праздным в диалоге, в вопрошании и ответе, в живой связи «я» и «Ты». То, что всего удивительней, начинается как раз там, где одиночество, такое философское «одиночество на высотах» (Шопенгауэр) уступает себя тайне, разделяемой многими и соединяющей людей наиболее глубоко, когда самое сокровенное и личное становится всеобщим, братским, насущным, здешним. Самое таинственное более всего и открыто, распахнуто, но постижение того, что открыто, дается труднее всего: парадоксальное единство бьющей в глаза открытости и непроницаемой тайны. И это единство, невместимое разумом, становится прозрачным во Христе.
Я есмь путь и истина и жизнь, – говорит Он нам. Почему мы доверяем этим словам? Потому что их слышит вера и принимает в себя. Она не только исповедует, но и становится ими. Нет, каждой книгой, каждой страницей возражает Шестов, вера не исповедует, не провозглашает никакой истины, не выводит ни на какой путь. Она есть прыжок в неизвестное. Она есть зависнутость над бездной. О той бездне, о том прыжке так незаурядно талантливо Шестов рассказывает в книге Лютер и Церковь, почему-то оставшейся при жизни его неопубликованной. Собственно, вся книга посвящена пути-прыжку от самоочевидных католических истин в некую пустоту отречения. То, что Лютер уверенно приземляется потом на твердой земле своего катехизиса, становится основателем лютеранства – для Шестова лишь еще одно доказательство, что никто не может в этом прыжке оставаться, жить, учить, основывать конфессии. Конфессии не интересуют его, главное – разрыв с ненавистным католическим или каким угодно благочестием, которое как бы хочет уютно, мирно, законно, пусть даже и аскетически «устроиться с Богом». Шестов отзывается о католичестве жестко и агрессивно, как бы даже в русле славянофильской полемики, к которой он не имел никакого отношения. Те ругали западные исповедания ради апологии православия, но о православии Шестов нигде не говорит ни слова, хотя мог бы обратить против него те же самые аргументы, как и против любой «состоявшейся» религии. Само это воздержание от полемики загадочно. Вот что он говорит: «Разве не ясно, наоборот, что весь смысл веры, самая ее сущность в том и состоит, что она разрывает и с тем и с другим определенным авторитетом, с самой идеей об авторитете?…»[91] «Авторитет» – больше чем нечто почетное, власть имеющее, авторитет у Шестова – это всякое предание, любое слово, провозглашающее себя в качестве незыблемой истины. Истина, которая в даном случае символ Церкви, любой скалы, на которой зиждется всякая религия, которая не только обещает, но дает уверенность, гарантию, почву под ногами, а за непослушание ей грозит загробными карами. Самый большой грех для него – «это думать, что какими бы то ни было способами мы можем снять с себя бремя прегрешений»[92]. Но не звучит ли в этих словах какое-то отдаленное эхо опыта восточных подвижников?
Может быть, путь Шестова тем и служит «икономии» христианской мысли, чтобы привести нас в тупик радикального одиночества? Ибо суть веры – не человеческий, пусть даже сверхчеловеческий порыв или бросок в пропасть, но Тот, Кто открывается этой вере, Тот, Кто слышит ее и отвечает ей. Суть веры – не убеждение в истинности чего-то и не выход в нечто запредельное, а Тот, Кто эту веру Собой зажигает, входит в нее. Все остальное – умозрения, те или эти. Каждому – свой абсурд, великая нерешенность, скорбная загадка, где один не в силах понять другого, но у всех – Бог Единый, и чем больше Он открывает Себя, тем больше связывает людей (совсем разных людей, мудрецов и простаков, рыцарей и поденщиков) общим слухом и взаимопониманием. Суть веры, может быть, в том, что она в конечном счете едина (хотя и по-разному явлена, выражена, раскрыта), ибо обращена к единому Богу, в Которого веруют, и в том еще, что каждого вера ставит перед лицом Творца мира, и для каждого Он есть неповторимое, другим неведомое «Ты»…
Верующие люди вообще, не только святые, не одни атлеты, но и калеки веры, что бы ни говорили, знают одного Бога, Бога, явленного в Сыне Божьем, Распятом и Воскресшем и в каждой душе человеческой запечатлевшем Свое Лицо. Разные души, конечно, задуманы и вылеплены по-разному, у всех своя судьба и своя история, все по-разному видят, по-разному слышат, по-разному удерживают в себе то, что было им послано, и по-разному то, что запечатлелось им, исповедуют или от него отрекаются, и все же в душе человечества, на последней ее глубине – а то и гораздо ближе, ощутимей – у всех одно Слово, одно Лицо, то, что подлинно и недробимо ни на какие слова человеческие или опыты разных сердец. Тот Христос, о Котором говорят все веры и все проповеди Царства Божия, пусть и не понимая друг друга, и Тот, о Котором рассказывают Евангелия, Тот, Кто прозревается и предугадывается всякой душой.
И оттого парадокс одиночества веры – а он неоспоримо существует в ней – восполняется парадоксом еще более глубоким и неожиданным – парадоксом дружества в вере, братства в вере, парадоксом соборности. Отчаянье веры отступает перед ликованьем ее, коль скоро она дает нам Того, Кто живет над звездами и в нас самих. И не в одних лишь дальних нехоженных закоулках обитает она, где только и ищет ее Шестов, вера живет и в общих молитвах, и в храмах, распахнутых для всех. Но там для него – всеобщность, обыденность, вечные истины, Великий Инквизитор и отец его дьявол. Вот как заканчивает он свою книгу о Киркегоре: «Его неистовые, исступленные, безудержные, полные надрыва писания и речи только об этом и говорят нам: глас вопиющего в пустыне об ужасах Ничто, поработивших падшего человека! Безумная борьба за возможность, она же есть безумный порыв от бога философов к Богу Авраама, Богу Исаака, Богу Иакова». И память подсказывает следующие, столь же хрестоматийные строчки в паскалевском Мемориале, которые Шестов вспомнить отказывается, которые он не цитирует никогда:
«Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix. Dieu de Jesus-Christ»[93].VIII
«…Ты упорно не желаешь знать, – писал Шестову Бердяев по прочтении его книги Гефсиманская ночь, – что безумие Паскаля, как и апостола Павла, было безумием во Христе. Благодать ты превратил в тьму и ужас. Опыт апостола Павла, Бл. Августина, Паскаля, Лютера не имел ни малейшего смысла вне христианства, вне бесконечно серьезного признания христианских реальностей»[94].
«Опыта твоего я не отрицаю и отрицать не хочу, – откликается Шестов, – Я спорю с тобой, когда ты опыт при посредстве готовых предпосылок разума, превращаешь в “истину”»[95]. Отметим: у Бердяева идет речь не только об опыте, но о реальности, исповедуемой как истина. Но истина, которая исповедуется, формулируется разумом и провозглашается на кровлях, для Шестова есть в конечном счете орудие господства змия. Попытка освободиться от ее власти, вернуться от «бога философов» к Богу Авраама для него – лишь «безумная борьба за возможность», которая оставляет нас в конечном счете с тоскливым сознанием невозможности. Собственно, эта невозможность – в жестком остатке – и есть его исповедание. Но эта стенающая немота вся пронизана воплем Иова. Философия Шестова, состоящая лишь из споров и отречений, – тоже по-своему вопль, но задушенный, сдавленный в умозрениях, и все же достигающий неба из-под глыб философских конструкций. Вопль разрушенного и погребенного Иерусалима, вопль чаемого им Иерусалима Небесного, пристанища обетованной свободы, против торжествующих, против утешающих, усыпляющих Афин. Он не допускает и мысли о каком-либо синтезе вопля и разума, озарения и традиции, намеренно не замечает нерукотворного храма христианской догматики – может быть, самого великого из человеческих творений, созданного союзом Святого Духа и человеческого слова, примирившего Откровение с умозрением, Афины с Иерусалимом – и все же в его отказе от всякого греческого наследия, в его замолчанном, недоуменном стенании, облеченном в строгую форму трактата, отдаленно доносится весть о Христе.
Его вопль не в силах ни поколебать этот храм, ни оторвать нас от веры в ее «разумной», греческой, умозрительной оправе; скорее, напротив, его вызов всякой логике, закованный в логику, придает нашей вере, мыслящей эллинскими категориями, какую-то иную, новую значимость. Шестов делает веру чем-то немыслимо трудным, недостижимым, неисполняемым, и при чтении его книг нас тревожит догадка, что так оно и есть. Ибо иго Мое благо, – сказал Иисус, – и бремя Мое легко. Мышление Шестова совершает неимоверные, подвижнические усилия ради приобретения этой легкости, и порой кажется, что трудится он и за нас, ради тех, кого называют верующими. Ибо есть благое иго Христа, но есть и обыденная, дешевая легкость «верующего безверия». Слишком легким нехристовой легкостью, почти невесомым, незначащим бывает для нас, христиан, иго веры. Изнурительный, в поте лица духовный труд Шестова может показаться бесцельным, мученически натужным, а вся жизнь мыслителя представиться лишь талантливым битьем головы об стену. Поистине труд его был Сизифов (недаром молодому Камю, интерпретирующему миф о Сизифе, вспоминался Шестов) – такими усилиями, такими ухищрениями бороться с разумом, как будто не было ничего важнее в жизни, вновь и вновь приниматься за эту борьбу и при этом догадываться, нет, твердо сознавать, что поверженный ныне разум все равно не победить, завтра он опять окажется победителем. Так философия, уничтожая себя, каждый раз принося себя в жертву, трудится ради истинной веры в истинного Бога, она повергает разум наземь, разбивает каменные стены очевидности и в открывшейся бреши видит лишь абсурд, Абсурд.
Может ли в Абсурде хоть мельком отразиться Лик Божий? Или это один из псевдонимов Его непознаваемости? Достаточно посмотреть, как осторожно и вместе с тем судорожно мыслитель подбирает псевдонимы Его имени: «Бог – это произвол», «Бог – это воплощенный каприз», «Бог – значит все возможно», – словно закрывает под руку попавшимися словами великую загадку, муку, надежду, гипотезу, бессловесность, безмерность. Он не замечает, что вместо одних закрытых горизонтов он предлагает другие, «только иначе разрисованные и раскрашенные»[96]. На самом деле у шестовского «Бога» нет имени. Он буквально исполняет Четвертую Заповедь: Не возмеши имене Господа Бога твоего всуе. Произносится всуе все, что мы привыкли в это имя вкладывать: закон, предание, милость, память, любовь, благодать, самый страх Божий, который есть начало премудрости… Ибо любые слова человеческие, захваченные, по его мнению, змием, не могут выразить сущности Бога, и здесь, думаю, Шестов прикоснулся к истине. Но Бог сам говорит о Себе не умозрительными, а «Своими» словами: – рождением Сына, распятием Сына и Его Воскресением. И «невозможное возможно», как только свобода Бога из запредельной абстракции делается Словом и Жизнью, когда Бог первый совершает нечто «неразумное» – становится Человеком и освобождает людей от рабства змию. И эту свободу и тайну Бога невозможно похитить одним безумным рывком экзистенциальной философии, как нельзя победить первородный грех «неистовыми речами», как и нельзя выманить ее логикой «онтологического доказательства», как и нельзя подсмотреть ее через увеличительные стекла всеобъемлющих систем и умозрений; но к ней можно попросту придти, разделить ее, принять ее из рук Божьих, ей поверить, ее исповедовать.
Но в руках и словах человеческих – тайна Бога – может ли всегда оставаться обжигающей? Может ли она не померкнуть в глазах, которым делается невыносимо от сияния, не стать в человеческом владении земной, лишь согревающей, тайной «комнатной температуры»? Мы все – верующие своих исповеданий – остаемся нередко «фарисеями» своей веры, богачами своей веры, владельцами не нами наполненных житниц, гордецами самодостаточных истин. Амбары наши полны и откровениями и умозрениями, мы уверены, что собранной в них истины хватит на наш век. Но «истина, – свидетельствует из своего подполья и одиночества Шестов, – есть истина лишь потому и постольку, поскольку ее распинают»[97].
Здесь я, пишущий эти строки, ловлю себя на том, что сам становлюсь одним из друзей Иова и начинаю возвышенными речами учить того, кто «сидит на гноище», кто заперся в подполье и вопиет к небу, отвергая любые конфессиональные утешения. И мне, как одному из тех друзей, так просто оказывается переспорить его. Но нужно ли было это делать? Не посылает ли Бог иногда мытарей веры, нищих Лазарей веры, часто немых и юродивых, призванных не учить, не проповедовать, не исполнять, но воплотить собою это непостижимое, не разгадываемое и им самим, мытарем, самораспятие истины? Не есть ли это самораспятие-самозаклание любого человеческого знания о Боге, эта невозможность знания-обладания, эта сдавленная речь-немота – одно из непонятных, но подлинных изображений тайны Бога среди людей? Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. (Псалом 38:10). Не посылает ли Он юродивых, чтобы напомнить, что «с “Богом устроиться” еще менее возможно, чем “устроиться” без Бога»[98]? Не посылает ли Он испытания некоторым избранникам – как некогда Он послал их Иову – в том числе испытание незнанием, разделенностью, немотой? Может быть, все наши премудрые, тысячелетние слова в такую именно немоту должны когда-нибудь окунуться?
Философия Шестова, как бы ни была она выношена, стройна, упорядочена, несет в глубине своей стенание и юродство. Она есть отречение от мудрости человеческой усилиями той же мудрости – ради «безумия перед Господом». И это вовсе не поэтическое безумие; «душа, выброшенная за нормальные пределы, никогда не может отделаться от безумного страха, что бы нам ни передавали об экстатических восторгах»[99]. И вправду: вывернутая наизнанку логика, причудливые жесты, односложная, упрямо повторяющаяся речь, непонятно откуда взявшиеся восторги-намеки, непонятные, нелепые страхи. Но это юродство – вокруг тайны Божией, вокруг последней неразгаданности Бога, вокруг свободы Бога, вокруг непроизнесенного Имени Бога, а, стало быть, – и Христа ради. Он – мытарь веры среди нас, «великий и загадочный молчальник и столпник», как он сам назвал еще одного своего двойника – Кириллова из Бесов. Он – мученик «предпоследнего знания», неразрешившейся от бремени мысли, стенающий свидетель того необычайного и гадательного, но и всей той радости обетования, что вошли в мир с тех пор, как Господь родился в Вифлееме.
1980, 2016
Рождение мысли из свободы и сострадания (Николай Бердяев)
«…Думаю, что я сильнее чувствую зло, чем грех. Я поражен глубоким несчастьем человека еще более, чем его грехом. Для меня всегда было неприемлемо понятие греха как преступления, вызывающего грех, и кару со стороны Бога. Падшесть мира означает не только греховность мира, ее значение шире. По характеру своему я очень склонен чувствовать собственное несовершенство и греховность. Мне совершенно чуждо чувство самоправедности. Но я с особой силой чувствую страдание и несчастье. В мировой жизни есть глубокая неправда, есть безвинное страдание. Это с трудом может признать учение о греховности, которое считается наиболее ортодоксальным. Я еще буду говорить о том, что учение это требует радикальной переработки. В традиционной своей форме это учение ведет к атеизму. Моя вера, спасающая меня от атеизма, вот какова: Бог открывает себя миру. Он открывает себя в пророках, в Сыне, в Духе, в духовной высоте человека. Но Бог не управляет этим миром, который есть отпадение во внешнюю тьму. Откровение Бога миру и человеку есть откровение эсхатологическое, откровение Царства Божьего, а не царства мира. Бог есть правда, мир же есть неправда. Но неправда, несправедливость мира не есть отрицание Бога, ибо к Богу неприменимы наши категории силы, власти и даже справедливости. Нет ничего мне более чуждого, чем довольство миром, чем оправдание миропорядка…»
Остановимся здесь. Пожалуй, даже незачем называть имя автора. Каждый, кто хоть однажды был его читателем, слышал его интонацию, вероятно, уже узнал его. Узнал даже не по исповеданию, не по утверждению мысли, но по звучанию речи, слегка сумбурной, спешащей, угловатой, иногда чуть ли не по-детски безыскусной, подкупающее искренней, как бы выплескивающей вовне волны обнажающего себя я. В этой обнаженности есть какая-то требовательность; его интонацию не забудешь так просто, не отмахнешься на лету, словно ты наедине с этим исповеданием и надо чем-то на него ответить. Дело совсем не в том, что называют «силой слова». Писали ведь куда искусней, тоньше, звонче, острей. Русская литература за полтора века обнаружила такие силы и возможности языка, что, кажется, запасы их уже исчерпаны. Но иногда само как бы «неумение» писать «по-писательски», какая-то совершенная неозабоченность словесной тканью, намеренной «сотканностью» несет в себе гениальную интуицию выразительности. Такая интуиция была у Николая Бердяева, это была интуиция литературной «незащищенности», почти детскости.
Язык, стиль в данном случае – только первый, но и самый верный доступ к мысли. Кажется, что высказанная мысль только что родилась в нем; она несет в себе его тепло, но при этом не воплощается целиком ни в одном из его текстов. Автор словно перерастает то, что собирается сказать. Точнее, задуманное, пережитое, угаданное интуитивно как будто никогда не дотягивается до своих окончательных слов. При этом мысль или оценка, однажды высказанная, повторяется у него бесконечно; все его книги, как озера, соединены сообщающимися каналами, один и тот же поток бежит из одной акватории в другую.
«Творческая работа во мне пассивна, нет усилий. Мне кажется, что из глубины во мне подымаются волны, все выше и выше, все светлее и светлее. Из этих волн рождаются мысли» (Из записных книжек). Волны предшествуют рождению слова-мысли; как не вспомнить столь далекого от него Блока, рассказавшего, как рождаются у него стихи. И тот напор, который выносил эти волны на поверхность, был, пожалуй, и самым сильным из бердяевских талантов. Как обозначить его? Это был дар опыта метафизического самопознания, сопряженного с талантом поражающей человеческой открытости. Душа его как бы запросто превращается в метафизику. У нас на глазах. В непосредственности этих превращений он не имеет себе равных в русской мысли. Обкатываясь, переливаясь из одной формы в другую, бердяевская мысль созревала всю жизнь, достигнув наибольшей точности и остроты в последних книгах. Прежде всего в философской автобиографии, откуда взят был приведенный вначале отрывок. Благодаря удивительной этой простоте – строить философию из себя, из своих переживаний, из осмыслений своего опыта, Бердяев столь настоятельно вовлекает нас в общение всеми своими интуициями, мышлением, верой.
I
Его мир кажется текучим, его слово несущимся, при этом оно всегда заключено в твердые берега раз и навсегда устоявшихся очевидностей. Но он не запирался в келье своего учения или веры в бесстрастно-горделивом покое среди непосвященных профанов, не дарил им отрешенно-зрелые плоды духа. Он и мистиком и метафизиком мог вести напряженный диалог, нет, страстный спор с традицией, догматикой, постулатами веры других. Поэтому Бердяев как христианский мыслитель более всего интересен именно в этом диалоге при всей его трудности и жертвенной открытости. Об этой трудности и пойдет речь.
Он, как и столь отличные от него Лев Шестов и Семен Франк, писал всю жизнь, по сути, лишь одну книгу, в каждом новом своем сочинении вынося на первый план какую-то одну грань, умозрительную, нравственную, социальную, того округлого многогранника, внутри которого живет, мыслит, дышит, чувствует, бьется, негодует душа Николая Бердяева. Единственная эта книга называется Самопознание, может быть, самая яркая из его работ, которая обнимает все им созданное. Познавая себя, он создает мир своих «философских объектов». Разумеется, не он один. Но у Бердяева эта связь я, проецирующего себя в мир, с результатами познания выражена наиболее рельефно и настойчиво. «Философия начинается с размышления над моей личной судьбой» (Я и мир объектов), – не только утверждает он, но и свидетельствует каждой страницей. Именно такое подчеркиваемое им начало мысли отличает его от других мыслителей, озирающих познаваемое ими пространство как бы сверху или со стороны. Он строит свой философский мир на произволе чувств, на бунте реакций, на фундаменте неоспоримой нравственной правоты. (Но разве не такое главенство воли бунтующего индивида, созидающего миры и разбивающего все стенки, ставил своим идеалом Шестов, так и не попытавшись по-настоящему его осуществить?) В биографических статьях о Бердяеве мы читаем: «выдающийся русский мыслитель», всегда подчеркнуто русский, но при этом для русской культуры он все же по-своему своенравен, отчасти экзотичен. По многим своим темам и замыслам, по философскому размаху, он, кажется, целиком принадлежит Западу. В категориях же западной мысли – даже по сравнению с Киркегором и Ницше – его мышление показалось бы громокипящим кубком эмоций, некой лобовой атакой интуиций, заявляющих: а я, вот, думаю так, так чувствую и потому спорю! Его смелость в обращении с идеальными, метафизическими материями видится, наверное, чуть ли не безудержной удалью, либо какой-то философской беспечностью, опять-таки русской-прерусской по своим истокам, задушевной и потому пленяющей. Пленяющей, но при понимании душевных границ этого плена. С некоторым усилием его можно было бы назвать и богословом, ибо как-никак он повсюду говорит о Боге, но среди богословов он – не то, чтобы не «профессионал», но в корне отличен от исследователя священных текстов. Чтобы быть богословом, мало говорить о Боге, нужно войти в уже готовую структуру непреложных понятий, предложенных Откровением и выработанных Преданием Церкви. Богослов – всегда наследник, если и сеющий что-то свое, то на общем, распаханном поле, на котором много раз уже снимали урожай. У Бердяева же источник или, скажем, видимый канал откровения находится в нем самом, в этом смысле он скорее мистик, «имеющий прямой контакт», но его видение неба коренится не только в созерцании, но и в социальном опыте. Его ценят как публициста, но и в публицистике – все та же взыскующая, ранимая душа, вышедшая на площадь, но не преодолевшая своего одиночества. Однако и на площади, там, где убеждают массы, ему не хватает забронзовевшей ораторской прямолинейности, он всегда уязвим и открыт в том, что пишет. Он важен и как историк культуры, но если вчитаться в его книги о Хомякове, Леонтьеве, Достоевском, в его Русскую идею, даже в Философию неравенства, то мы увидим в них продолжение той же «духовной автобиографии». Из этих книг мы узнаем о нем все же чуть больше, чем о тех, о ком он писал. И вот деталь: нигде, если не ошибаюсь, мы не встретим в его текстах ни одной точно выписанной, а не приведенной по памяти цитаты. (За исключением, может быть, этюда о Якобе Беме, где цитаты приводятся только по-немецки, без перевода). Его, по выражению Стефана Цвейга, можно было бы назвать «певцом своей жизни» в философии.
Но как бы мы ни относились к той или иной стороне его дела, подлинный масштаб Бердяева, смысл его творчества в целом скрывается за тем, что прежде всего бросается нам в глаза. Не так легко измерить масштаб этого творчества, определить его место в пространстве русской духовной культуры. В чем его основная роль, что он значит для нас как религиозный мыслитель? Выслушаем для начала критиков-современников. «Быть может, все религиозно-философское обаяние произведений Бердяева, – пишет о. в. Зеньковский в Истории русской философии, – определяется именно своеобразной амальгамой христианских идей и внехристианских начал: многим и в самом деле кажется, что перед нами начало “новых путей” в религиозном сознании». О. Г. Флоровский в Путях русского богословия упрекает его в романтическом утопизме. С. Булгаков в Свете Невечернем говорит еще резче – о демоническом, человекобожеском характере бердяевской философии творчества. «…Казалось бы, он пришел к Богу, – пишет богослов и публицист архим. Константин Зайцев (Зарубежная Церковь), – но не обрел ни предмета возвышающей Любви, ни источника спасительного Страха. Отсюда соблазнительно-скользкая переливчатость, отсюда всеохватывающая беспредметность его писаний, которые касаются религиозной проблематики». Утопизм, амальгама, беспредметность… Так говорят наиболее просвещенные из отечественных критиков, для Запада же, судящего, как правило, не со стороны того, что должно было быть, а исходя из того, кем человек сам себя заявляет, и потому настроенного более доброжелательно, Бердяев часто воспринимался как представитель как раз православной мысли[100]. И по сей день среди тех, кто говорит от имени ортодоксии, повелось с кривой усмешкой говорить о романтизме Бердяева и сильно морщиться, если речь зайдет о его православии. И, надо признаться, критиковать его чрезвычайно легко, и, что хуже всего, легко критиковать справедливо, коль скоро справедливость мы привычно отождествляем с той мировоззренческой скалой, на которой стоим[101].
Но, повторяю, именно эта его открытость для критики, его уязвимость, есть наиболее глубокая в нем черта, вытекающая из самой сущности его мышления и исповедания. Разве философствуют только на интуициях, богословствуют на одних мистических пристрастиях, провозглашают истины из светло шумящих волн? Так всегда вправе спросить обитатели той или иной скалы, отгороженной от болот и топей, во всеоружии твердых, отточенных аргументов. И зачастую ответить на уровне этих аргументов Бердяеву бывает непросто. Тех, кто ждет лишь твердого прохождения царского пути, давно проложенного православной мыслью, вряд ли убедят взволнованные речи о «несотворенной свободе», «о примате свободы над бытием», о «темной бездне в Боге», об «ущемленности бытия злом», о «творчестве и объективации», о «совершении истории в небесном прологе» и «эсхатологическом освобождении от плена века сего». Кажется, слишком легко, переливчато, совсем нестрого и неконкретно говорит он обо всем этом. Проще всего не слушать, отмахнуться, посочувствовав при этом искренности мыслителя и пожалев, что благие порывы не воплощаются в доброе солидное дело. Но именно эта незащищенность перед всякой критикой пленяет; в ней соединяется какая-то жертвенность и редкая сила человеческого свидетельства. Как будто, несмотря на все свое одиночество, он ходатайствует за других, берет на себя бремя их дерзаний и заблуждений, несет на себе искупление чьих-то философских грехов, расплачиваясь за это собственной уязвимостью, пресловутым романтизмом и «утопическим», «ущербным», очень мало православным, «соблазнительным» православием.
II
Духовный путь (стиль или облик) Бердяева нес в себе постоянный вызов и риск, исток которого можно скорее всего ощутить в карамазовском бунте. «Мир есть неправда», – повторяет он из книги в книгу, но не возвращает Творцу билет, а просто удаляет Его с арены мира и тем самым снимает с Него бремя ответственности за злые дела, которые творятся на земле. И даже на свой лад «моделирует» Бога, иной раз как бы не задумываясь, вступая в спор с самим Откровением. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю…», – прокатывается эхом в интонации его мысли, пронизанной философским бесстрашием. Бердяев не оглядывался на следы, оставляемые его текстами. Но смелость эта была не только его личной смелостью; казалось, в нее было вложено задание, которое предстояло исполнить. Задание это вырастало не только из собственной судьбы Бердяева, но и из «духовной ситуации эпохи»; усвоив доставшееся ему наследство «отпавшей от корней», «отщепенской» интеллигенции с накопленным ею опытом «уязвленной совести», социального и религиозного бунта, муки истории, с ее упором на зле и страдании ближнего, он должен был переплавить все это в христианском горниле. Найти – разгадать в Боге – разрешение тех вопросов, которые были этим далеким от православия опытом поставлены. Эти вопросы породили ряд антиномий, ряд загадок о человеке и его предназначении.
Имеет ли смысл человеческая жизнь здесь, на земле, или же смысл этот надо искать лишь на пути возможного спасения человека за пределами земной жизни?
Имеет ли смысл человеческая история (и связанное с ней социальное бытие человека) или же она есть один из призрачных образов лежащего во зле мира (причем во зле только внутри человека, никак не вовне), препятствующих осуществлению христианского дела спасения?
И, наконец, обладает ли человек свободой, не одной лишь свободой послушания и непослушания, не только свободой выбора между «тихим и безмолвным житием» и окаянством блудного сына, проматывающего отцовское достояние, но свободой творческой, определяющей место человека, стоящего перед Богом на земле?
Нетрудно заметить, что эти вопросы, уложенные здесь по подобию кантовских антиномий, несут в себе вызов церковной традиции, той, которую мы знаем. Они заряжены спором, которым Бердяев жил всю жизнь. Разумеется, это был не только его личный спор, он бродил, закипал на всем русском пространстве (которое всегда было шире государственных границ) на протяжении двух последних веков, но непременно вызывался кто-то, кто говорил: вот я! пусть этот спор будет во мне. Философская драма Бердяева – в столкновении двух плохо примиримых друг с другом свидетельств, опытов, традиций, можно сказать, что и двух душ, и каждая из них разрешала этот спор по-своему. В самом начале пути Бердяев отряхнул с себя прах марксизма (в то время он еще мало кому казался прахом), с которого он начинал, как и многие его современники. Но это касалось лишь его, марксизма, теоретической, а не раненной социальной несправедливостью части, которая в лице Бердяева не стала от нее отрекаться, ища смирения и тихого пристанища в доме Отчем, но именно там построила личную свою (хотя, как мы сказали, не очень защищенную) крепость. И хотя он стал затем одним из самых острых критиков «интеллигентской правды», оставаясь самим собой, он шагнул в христианство со всеми «гуманными»» недоумениями, и правдами, и страстями. В этом и заключалась его задача: пойти им навстречу, воплотить недоумения в дерзновениях, найти философское место в том новом, подлинном опыте, который он обрел в найденной им в молодости вере. Отсюда – рискованность его пути и раскованность мысли; выйдя на свою столь необычно одинокую тропу, он пожертвовал некой замкнутой полнотой церковности, огражденной высокой зубчатой традицией. С этой внутренней философской задачей он по-своему справился, не только ответив на поставленные вопросы, но и видоизменив их, придав им новую личностную глубину и наступательный смысл. Опыт гуманизма, обычно изгоняемого из Церкви, импульс «всемирной отзывчивости» ко всякому злу, который вынесла в себе русская интеллигенция, именно она со всеми ее крайностями, кружковщиной, фанатизмом, Бердяев сумел в себе очистить, поставить перед Христом, выразить в новых вызовах и вопросах, заново осмыслить их в масштабе совершенно иной духовной культуры. Можно указать, по крайней мере, на три новых «опыта» – «решения», обретенных и осмысленных им:
это опыт оправдания человека – в смысле творчества;
опыт парадоксальной этики – в назначении человека;
опыт философии человеческой судьбы – в смысле истории.
Речь идет, разумеется, не только о готовых книгах, которые можно взять с полки, но о трех основных направлениях, по которым двигалась его мысль.
На каждом из них им было найдено нечто невиданное, бердяевское, спорящее, спорное и даже несколько мистико-фантастическое. Многие из его критиков видели только эту фантастичность, отправив ее в ссылку в философское небытие под кличкой «бердяевщина». Но термин сей – не определение, но, бердяевским языком говоря, лишь объективация читательского раздражения. Противление, на мой взгляд, вызывает даже не произвольность метафизических конструкций Бердяева, часто отталкивает уже первоначальная интуиция его творчества. Отталкивает именно то, что всякой мыслью своей он властно навязывает не то, что утверждается умом, ни его конструкции, а всего себя, страждущее, страстное, созидающее на протестах я. Это я заявляет о себе даже не в истоке, а на каждом отрезке, пробегаемом его мыслью. Оно, я, вольно или невольно, выступает страстным, самовольным адвокатом Бога перед неоспоримым ощущением мирового зла и безвинных человеческих страданий.
То верующее мировоззрение, с которым спорил Бердяев и которое отвергало и продолжает отвергать его самого, «не болело», скажем так, этой темой. Зло для Церкви неизбежно вырастало из греха, и грех, строго говоря, был единственным злом по понятиям христианской святости. «Избавь меня от единственного и величайшего зла – греха», – говорится в молитве преп. Парфения Киевского. Но грех, по сути, мог быть единственным злом только для преподобных, тех, кто отсек себя от человеческой толпы и обыкновенной участи. А для всей прочей стенающей твари злом был неумолимый беспорядок истории и природы, войны, гнет сильного, право богатого, череда эпидемий, засух, моров и наводнений. Этих вещей нет в аскетике, утешение о «все ко благу устрояющем Промысле Божием» не достигает слуха бесчисленных жертв. Да и сама проблема оправдания Бога граничит с кощунством; Господь Сам недвусмысленно говорит об этом в книге Иова. Легко рассуждать о «неисповедимых путях Господних», но это речи друзей Иова, служащие к утешению их же самих. Но мир, в котором мы живем, более всего полон именно не-объясненного зла. Бердяев вслед за Достоевским пытается нащупать духовный нерв страдания, страдания как искупительного, очищающего перенесения зла. В этой «подключенности» его мысли к необъяснимому злу лежит исток его прозрений и возможных «ересей».
Однако мысль его, словно не выдерживая высоты задачи или остроты вызова, как-то слишком легко уходит в сторону, воспаряет ввысь, падает в неразличимую бездну, скрывается в учении о «падшести мира». Вспомним первые строки Смысла творчества: «Дух человеческий – в плену. Плен этот я называю “миром”, мировой данностью, необходимостью. “Мир сей” не есть космос, он есть некосмическое состояние разобщенности и вражды, атомизация и распад живых монад космической иерархии. И истинный путь есть путь духовного освобождения от “мира”, освобождения духа человеческого из плена у необходимости».
Здесь он начинает говорить на языке почти манихейского дуализма, который он сам отвергает и который вместе с тем получает у него метафизическую санкцию. Освобождение от плена в мире призрачно, оно порождает «объективацию». Позднее он создаст величественное, хрупкое, по-своему волнующее учение о безнадежности окончательного воплощения всякого творческого акта, о «муке» объективации, о том, что через эту муку должно пройти всякое раскрытие духа, об окончательном разрешении от нее в Царстве Духа. Говорю «позднее» потому, что тема настоящей статьи – не столько «система философии» Бердяева (о ней уже написаны многие солидные книги), сколько истоки, стимулы, «страсти» его мысли. Первый такой стимул – острое переживание им мучения твари, постоянно им исповедуемое. Второй – апофеоз человека, брошенный в небеса возглас о ценности человеческой личности. Мотивы эти взаимосвязаны. И в этой исходной своей интуиции Бердяев приближается к центральной теме русской религиозной философии – к идее Бого-человечества.
Эта идея принадлежит к самым ярким, подлинным открытиям русской мысли. Мистическому опыту, который стоит за ней, открылось то, что на языке Бердяева и Карла Барта можно назвать «человечностью Бога». Но «человечность Бога» означает принятие христианским сознанием всего предшествующего опыта гуманизма, оправдание человека, как бы грешен он ни был, перед беспощадным Богом старых теократий. Но это и христианское оправдание, ибо человек может быть не только спасен, но и до конца понят и осмыслен только верой. И этот поиск религиозного понимания и оправдания выразился в эсхатологической христианской тревоге русской мысли, в ее постоянной обращенности к Богочеловеку. Бердяев пошел по этому пути, пожалуй, дальше всех.
Он ищет и обретает человечность Бога в Его смертной муке, распятии. «Высшее иерархическое положение в мире – быть распятым» (Из Записных книжек). В интонации бердяевской мысли слышится даже какое-то сострадание к Богу; все, что Он творит, распинается, все высшее погибает; дух утяжеляется материей, всякий творческий порыв затягивается в плен мировой необходимости. Само творчество Бога проходит через муку объективации, испытывает неудачу. Неудачей оказывается прежде всего «историческое христианство» с его воспроизведением структур падшего мира, идеей господства над обращенным в рабство человеком. Человек унижен не только в своей социальной жизни, но и в самой религии. Тем самым унижен и Бог. Бердяев начинает с оправдания человека, с антроподицеи и приходит к теодицее, оправданию Бога. Теодицея означает для него защиту Бога от человеческих понятий о Боге, от возведенной на Него «клеветы» о Его якобы всевластии. Но открытие человечности Бога (через распятие) приводит его к новому осмыслению божественности человека. Он говорит о теогоническом процессе рождения человека в Боге. «Человек по своей вечной идее вкоренен в Богочеловечестве и связан с Богочеловеком. И потому можно сказать, что существует предвечная человечность в Боге, существует предвечный человек, которого Каббала называет Адам Кадмон. Человечность существует в вечности и должна реализоваться во времени». «Реализуя в себе образ Божий, человек реализует в себе образ человеческий и, реализуя в себе образ человеческий, он реализует в себе образ Божий. В этом тайна богочеловечности и величайшая тайна человеческой жизни. Человечность и есть богочеловечность».
Ill
Призвание традиционного философа – осмысливать неосмысленную, познавать непознанную реальность (перефразирую А. Ф. Лосева); призвание Бердяева – такую реальность создавать и философски оправдывать. Из интуиции богочеловечности или веры в нее исходят две его основные идеи: оправдание человека в творчестве и оправдание человека в истории. Богочеловечность открывается в искуплении, но искупление для него – лишь часть христологической истины, утверждает он, начиная со Смысла творчества. Другая часть ее осталась сокрытой, предоставленной откровению человека. «Бог ждет от человека антропологического откровения творчества, сокрыв от человека во имя богоподобной свободы его пути творчества и оправдание творчества». Нужно осознать эту мысль во всем ее широком контексте. Искупление уже совершилось в жертве Бога, и оно раскрыло образ Божий в человеке. Во Христе человек изначально потенциально свободен от власти греха, метафизически свободен от тяготевшего над ним рока. После Христа все стало иным, человеку открылась его свобода. Она есть то откровение, которое человек должен не только воспринять, но и продолжить. Заложенная в образе Божьем свобода должна быть осуществлена в творчестве. Творчество означает создание небывшего, небывалого для самого Бога. Человек живет в «восьмой день творения», он должен продолжить дело Творца. В то же время он погружен в злой, «плененный» мир, который есть болезнь бытия, божественного космоса. Творчество должно этот мир преодолеть, привести его к концу. И потому всякое творчество эсхатологично. Оно несет в себе апокалиптический огонь, который становится светом преображения. Но преображение не относится к этому миру, не может с ним ничего поделать; едва отделившись от первоначального эсхатологического порыва, оно остывает в мире, охлаждается. Между творческим актом и «воспринимающей» его материей существует непреодолимый разрыв. Плоть мира враждебна творческому духу. Отсюда у Бердяева следует сопоставление творчества с аскетизмом (и то и другое свидетельствует о победе над «миром сим»).
Это позволяет ему подойти к теме оправдания человека в гениальности и святости. «Гениальность – святость дерзновения, а не святость послушания». Он видит в творческом акте, как и в творческом аскетизме, жертву художника, которая оправдывает то и другое. В обоих случаях это жертва отречения от мира, вольного отречения. Творчество раскрывает заложенное в христианстве «даровое, даровитое чувство жизни». Если бы Бердяев последовал по пути этой интуиции, выразив ее в форме систематического учения, то, может быть, стал бы говорить затем о «даре» бытия, о «несокрытости бытия», об истинном ведении и видении этого дара в искусстве и философском мышлении, предвосхитив многие открытия современной экзистенциальной онтологии[102]. Но он ждет, просит, чтобы не сказать, требует, от Бога, прежде всего «дара» свободы, который, впрочем, уже и так дан и независим от Бога. Но Бог творит из свободы. Творчество исходит из свободы. Человек всецело, «тотально» свободен[103]. И здесь Бердяев, как всегда, словно не успевает за потоком прозрений, он захвачен грандиозными, космическими образами. В погоне за ними мысль его соскальзывает – соскальзывает, не взлетает! – к гностическому учению, развиваемому им вслед за великими германскими мистиками Мейстером Экхартом и Якобом Беме. При этом он словно не замечает, что их, как и его, бердяевский, гностицизм есть именно объективация тайны, ее падение в концепт, окаменение в понятии, опрощение в речь, которая заглушает собой безмолвие, ее облечение в понятия, ее претворение в вещи, о коих, следуя совету Витгенштейна, надлежит молчать. Но молчать не из опасения произнести что-либо этически или логически недолжное, но потому, что перед неизреченным надо «снять обувь» с мыслей своих.
Но, «обувь сняв», лучше остановиться, не идти в гностическое далеко. «Переобсудить проблемы, которые решает автор, – говорит Вячеслав Иванов в статье, посвященной Смыслу творчества, – значило бы трижды обежать за ним мироздание, да еще по таким темным, жутким, опасным местам и дьявольским топям, как “расщепление божественного процесса”…». Отметим лишь ведущую нравственную предпосылку его учения о свободе: Бог не ответственен за зло. Источник зла – в бездне несотворенной свободы, которая стоит вне Бога, и Бог не управляет ею. Властен над ней, но лишь в особом смысле, творческий акт Бога и творческий акт человека. Он есть то осуществление свободы, которое радикально противоположно греху. Не добро, по мысли Бердяева, противоположно, но именно творчество. В этой антитезе заключается вызов его парадоксальной этики.
Все этическое есть уже в каком-то смысле падшее, ибо этика начинается с грехопадения. Здесь Бердяев приближается к Шестову. Этика входит в мир тогда, когда появляется разделение на добро и зло, когда возникает человеческая порочность, боль, богоборчество. Этика началась с того, что принялись искать виновника зла. Сама религия стала постоянным свидетельством о виновности человека. Гуманизм, родившийся в ее недрах, в сокровенной форме высказался о виновности Бога и открыто отрекся от Него. В этом парадокс атеизма: несуществование Бога выводится из Его виновности. И проблему теодицеи Бердяев вводит в контекст именно такого парадокса.
Он различает три вида этики: этику закона, этику искупления и этику творчества (О назначении человека). Этика закона основана на различении добра и зла, она для него есть этика приспособления к падшему миру, к последствиям греха. Он прежде всего против всякой сакрализации этого приспособления, против «священнопомазания» его. Необходимость закона обусловлена грехопадением и сам закон рассматривается им в социальном контексте. Человек несет свое социальное послушание, но не все в этом послушании он должен оправдывать. Исполнение закона вовсе не обязывает к смирению перед историческим злом, ибо грех пронизывает всю человеческую историю. В истории не может возникнуть Царства Божия, и в этом смысле Бердяев – враг всех государственных теократий.
Этика искупления начинается с прорыва в мир любви Божией, с воплощения. Евангелие, которое возвещает о Боге, ставшем Человеком, во всем противоположно «законническому» миру. В этике искупления Бердяев более всего дорожит «парадоксом беззаботности». «Не заботьтесь, что есть и пить, во что одеться, не заботьтесь о том, чтобы создать семью или служить государству, не заботьтесь ни о каком положении среди людей, не заботьтесь даже о добре и зле и более того – даже о том, чтобы спасать свою душу». В озабоченности он видит нечто рабское, недостойное человека. И здесь он более всего силен в своей критике. «Из христианства сумели вывести самую отвратительную мораль, какую только знает моральная история мира – мораль трансцендентного, падшего эгоизма. Добрые так хотят пролезть в Царство Небесное, что у входа, где образуется давка, готовы раздавить большое количество оттесняемых ими в ад, в вечную погибель». Не в заботе и давке призван жить человек, но к спасению творчеством.
Однако и в этике творчества действует «парадокс объективации». Главная творческая задача человека заключается в том, чтобы осуществить Божий замысел о себе, раскрыть себя в Боге. Но, раскрывая себя, «выбрасывая» в мир свой творческий порыв, человек в то же время жертвует им; всякое творчество в каком-то смысле обречено, ибо не достигает своей изначальной цели. Движение духа костенеет, объективируется, творчество других доходит до нас уже охлажденным, отчужденным, сосланным навечно в объект. Вслушиваясь в эту мысль, уверяешься в том, что человеку по-настоящему известно лишь собственное творчество, самораскрытие собственного духа. В дуалистическом отвращении к миру есть оттенок духовного солипсизма. Впрочем, идеи Бердяева не связаны логикой рационально-целостной системы, чтобы не дать им оказаться в плену «объективации», их не следует доводить до логического конца.
IV
«Я принадлежу к людям, которые взбунтовались против исторического процесса, потому что он убивает личность, не замечает личности и не для личности происходит. История должна кончиться, потому что в ее пределах неразрешима проблема личности. Такова одна сторона теософической темы. Но есть другая сторона. Я переживаю не только трагический конфликт личности и истории, я переживаю также историю как мою личную судьбу, я беру внутрь себя весь мир, все человечество, всю культуру. Вся мировая история произошла со мной, я микрокосм. Поэтому у меня есть двойственное чувство истории, история мне чужда и враждебна, и история есть м о я история, история со мной. И я думаю, что тут есть эсхатологическая двойственность».
Здесь, как и повсюду в его текстах, перед ним раскрыта, обнажена изначальная интуиция, первичная очевидность, «экзистенциальная установка». Но вслед за установкой тотчас появляется и «учение» – об эсхатологическом смысле истории. Между тем и другим существует неустранимый конфликт – то, что принадлежит учению, есть уже объективация и экстериоризация того, что выносится «волнами» из первичного истока. В каком-то смысле неразрешимость этого конфликта вылилась в учение об объективации. И от того, что «учение», выбирая между верностью интуиции и рамками объективированного философского мышления, всегда предпочитало оставаться верным тому, что «открывалось в глубине», оно принимало характер неожиданный, то ли поразительно смелый, то ли мифический.
Все это относится и к учению об истории. Оно стоит под знаком прежнего дуализма: неодолимого отвращения к миру, живущему в падшем времени, и активностью творческого духа, обращенного к тому, что за временем. История мыслится Бердяевым как скачкообразный, катастрофический процесс, в котором совершается рождение Богочеловечества, созидание нового духа. В этом процессе в человеке открываются как творческие, благие, так и злые потенции. И те и другие ведут к концу исторического времени, но ведут по-разному. Апокалипсис зависит от человека, история кончается у врат Царства Божьего. Вместе с ней кончается и ад временного, падшего. Ад связан прежде всего с томлением во времени, его нет в вечности. Но в то же время у Бердяева есть и райское видение истории, истории, имеющей пролог на небе, почти как в Книге Иова, истории, задуманной Богом, творящейся человеком, но «обрастающей» падшим временем на земле.
Он склонен скорее отказаться от мира как космоса, но принять его как историю. Православной традиции свойственно скорее обратное. Бердяев впадает в крайность, но преодолевает вместе с тем то, что он называет «аскетическо-монашеским нечувствием истории». Нельзя пройти мимо этого конфликта. Со временем его идеи, «профетизмы» или «провокации» стали вызывать не столько противодействие, сколько странное равнодушие, почти глухоту. Чем известней он становился, чем дальше звучал его голос на Западе, тем безнадежней было невосприятие его русской средой. Он критиковал, нападал, проповедовал – его, в общем, не слышали. И дело было не в «ересях», но в различии вер. Как нечувствие истории, и захваченность ею могут услышать друг друга? И как тот, кто несом ею, болен ею, воспринимает того, кто всецело сосредоточен на истории личной души, полагая все прочее делом всеблагого Промысла, до которого слабым умом не дотянуться?
Характерным здесь было столкновение Бердяева с учительской, т. е. пастырской позицией епископа Феофана Затворника[104] на почве аскетики. Человек, призванный к гениальности (которая не совпадает с гением, но выражает лишь творческое «цветение» личности, в котором каждый человек может найти себя), не должен гнаться за святостью. Святости он едва ли достигнет, но лишь погубит свой творческий дар, не исполнит своего назначения на земле. Преи. Феофан же настаивал (как его воспринимал Бердяев) на равном для всех, едином христианском призвании на почве обычного бытового благочестия, которое подлаживается к миру. Учение Феофана он называет «сочетанием мистической аскетики с позитивно-утилитарным жизнеустройством и мироохранением, приспособлением религии искупления к последствиям греха, т. е. к миру». «Еп. Феофан проповедует идеал хозяйственной расчетливости и даже умеренной стяжательности. Для семьи хорошо и обогащаться. Не нужно заноситься ввысь, быть слишком духовным. Мирское буржуазное стяжательство отлично оправдывается аскетикой Феофана». В противовес ему бердяевская этика гениальности, в отличие от этики падшего, стяжательного закона, не дает советов, как жить, ни тем, более, как выжить.
Его легко упрекнуть в максимализме в ущерб мудрости, романтической гордыне, философском самоуправстве и многом другом. Его философия неотделима от проповеди, иной она быть не может. Но за столкновением с преп. еп. Феофаном слышится спор, который непрерывно идет в России последние два века. Речь идет о различии религиозных характеров, контрастности духовных путей в рамках единого исповедания. Условно говоря, есть царский, он же срединный путь, указанный преп. Феофаном, за которым стоит Предание, и есть путь, в одиночку проложенный Бердяевым, на котором звучит вечный ропот мыслящего тростника, выстаивающего под ветрами истории. Ропот то срывается в крик, то одевается в умозрения. На первом пути мы видим множество христиан, весьма ревностных, послушных закону и авторитету, правилам и обычаям, живущих богослужебным праздником Церкви, ее бытом и заповеданным ею покаянием. Праздник празднуется не только в храме, он живет и в душе подальше от мира и от преходящих его обликов… Впрочем, жизнь их, по совету еп. Феофана, может быть устроена прочно, здраво, патриотично, они легко вписываются почти в любую социальную систему и рамку. Они умеют быть покорными перед житейскими или историческими обстоятельствами. Во времена гонений аскетическое смирение может приводить их как к мученичеству, но в период мира – согласию с любым установленным порядком. В смиренниках и аскетах мы встречаем как религиозно освященную покорность, так и – как во времена религиозного подполья – мученическое стояние за правду, но за правду в Церкви, а не социального мира самого по себе, от которого христианская душа пребывала, как правило, как бы поодаль[105].
На другом пути происходит волевое вмешательство в жизнь, а оно никогда не бывает бесстрастным. Это путь религиозных «диссидентов» и реформаторов (естественно, гораздо менее многочисленных), что в российском контексте суть одно и то же. Упреки против них известны: они сосредоточены не на внутреннем греховном своем зле, а на чужом, внешнем, историческом, общественном или внутрицерковном. И потому им всегда не хватает смирения, «стояние их перед Богом» редко бывает безупречно прямым. Они думают своими идеями и проектами засыпать этот ров, разделяющий духовное и мирское, разрушить перегородку между спасающейся душой и падшим миром. Они часто хотят всего и сразу, и оттого не могут примириться с тем, что мир разделен на христиан избранных и отверженных, на спасенных и погибших, восстают на ад в вечной жизни, а во временной – на притворное или прохладное благочестие. Не приемлют того, что Церковь слишком сгибается перед мирской властью, когда власть ее терпеть не может, а когда как бы любит и ей покровительствует, недовольны тем, что Церковь подходит к ней слишком близко, да еще скрепляет особым богословием нерасторжимость сего брака. В этом смысле всякое «волнение» в Церкви, пусть даже оно относится к такой частной проблеме, как перевод сакральных текстов на русский язык, которой Бердяев не касался, будет извлекать свои бродильные элементы именно из его, бердяевского пафоса. Всякий протест против архаики, законничества или даже закона, «хищения и неправды», прикрываемых иератичностью обрядов и фраз, будет питаться все той же «бердяевщиной», даже если грядущие реформаторы имени такого не услышат и ни единой строчки его не прочтут[106].
Говорю об этих двух религиозных укладах, о «двух типах веры», отнюдь не ради радикального противопоставления или усиления духовной розни между ними. Напротив, ни один из этих типов не должен воспринимать себя в качестве единственного строя и образца христианской жизни. Убеждение в своей безальтернативности грозит в одном случае фарисейским удушьем, в другом – сектантским безлюбовным праведничеством. Но важно, наконец, осознать истоки этого разделения для того, чтобы, если не преодолеть его, то хотя бы научить обе стороны слышать друг друга. Разумеется, сложившийся, вписавшийся в традицию тип устоявшейся праведной веры останется доминирующим, но сонм праведников должен дать в себе место и пророку, который не вписывается в нее.
В книге Я и мир объектов мы находим один из многих у Бердяева примеров апологетики такого типа:
«Этот профетический тип переживает конфликт с религиозным или социальным коллективом, он никогда не находится в гармонии с социальной средой, с общественным мнением. Пророк, как известно, не признан, он побивается камнями. Пророк в сфере религиозной находится в конфликте со священником, со жрецом, выразителем религиозного коллектива. Пророк переживает острое одиночество и покинутость, он может подвергаться преследованию всего окружающего мира. Но менее всего можно сказать, что профетический тип не социален. Наоборот, он всегда обращен к судьбам народа и общества, к истории. Профетический тип обращен не к своему личному спасению, не к своим личным переживаниям и состояниям, а к Царству Божьему, к совершенству человечества и даже всего космоса».
«В известном смысле можно сказать, что общество находится в я», – говорит Бердяев в той же книге. Но если мы станем говорить о собирательном «я» общества, то в России мы неизменно находим его расколотым. В фокусе этого расщепления, принявшего классическую форму в XIX веке, может быть понято и появление не только Бердяева, но и его духовного потомства, живущего и сегодня. Россия прошла через множество противостояний: стяжателей и нестяжателей, старой и новой, никоновской, веры, славянофилов и западников, интеллигенции и Церкви, героизма и подвижничества, кровавой утопии и бесчисленных ее жертв, окостеневшего режима и прав человека, особого пути и европейского выбора, глобализма и «русского мира»… но почти во всех этих партиях и течениях заявляла о себе «профетическая», по Бердяеву, воля, скорее даже страсть человека быть самим собой. Не укладываться в систему, не стоять единицей в выровненном строю, но отстаивать себя и свое неслияние с «коллективом» в качестве предмета пререканий. Здесь, если говорить лишь о церковном контексте, у одного края лежал опыт молитвы, аскезы, трезвения, опыт «неба на земле», у другого – опыт несмиренного сострадания, голос мятущейся совести и связанный с ним опыт социальной истории. И правда каждой из сторон по какой-то взаимной слепоте, недоверию и, может быть, сухости сердца не вмещала правды другой, выбрасывала ее вон, считала либо наваждением, либо тупым консерватизмом. И философия той и другой стороны, исходит ли она от укорененной, всегда согласной с кесарем церковности или от страдания попираемой тем же кесарем личности, презирала или не слышала другую. С одной стороны дух освобождения (отпустить измученных на свободу…) который веет, где хочет, с другой – столп и утверждение благословенного порядка, не брезгающий теократической «эксплуатацией христианства».
Религиозное возрождение, которое наряду с другими мыслителями в значительной степени определил собою Бердяев, попыталось преодолеть, но только углубило этот раскол. Оно вобрало в себя вызовы, накопленные гуманизмом «возвращения билета», и захотело ответить на них. Но возрождение было оборвано (если оно продолжалось и даже расцвело в эмиграции, то лишь как творчество одиночек), затем оно предстало в карикатурном виде в обновленчестве и осталось им как бы запятнанным. Но с тех пор «человечность» прежней интеллигенции прошла через такую переплавку, из которой не могла не выйти иной. Исподволь стало изживаться демоническое начало гуманизма, христианское же начало было прокалено и очищено. Однако раскол, сложившийся еще в позапрошлом веке, продолжал существовать, хотя и подспудно, в замороженном виде, и при первой возможности заявил о себе вновь. Когда в Церковь стали приходить или возвращаться люди с новым опытом пережитой истории, традиционное церковное мировоззрение, как и прежде, не захотело принять их опыт, их образ мыслей, их бунт, их религиозное самоуправство. И в этом вновь сказался один из тех роковых, родовых разрывов в духовной судьбе России, о которых писал Бердяев в Русской идее, а о. Георгий Флоровский в Путях русского богословия.
Вопросы о Боге и человеке, которые поставил Бердяев вместе со всем «религиозным возрождением» его времени, остались в целом без ответа. В «Царство Духа» все еще не привнесена та отрезвляющая мера культуры, которая делает возможным человеческое общение в этом царстве. Люди могут вместе молиться, но так часто бывают неспособны друг с другом разговаривать. С точки зрения бездвижно-ортодоксальной истины, бывшей для Бердяева мишенью, всякое слово, которое ею не было высказано, кажется некой ересью, языческим рационализмом, мудрствованием века сего. Человеческое слишком легко притязает говорить от имени божественного, и это помогает ему затыкать уши и не слышать других.
Духовная разобщенность в данном случае не только исторический факт, она коренится и в сознании религиозном, в обольщении монизмом, уверенном, что может говорить голосом Бога. Мы неизбежно оказываемся перед границами человеческой свободы: что в этой свободе от откровения, и что от обольщения? Как совместить неизменность и целостность истины с творчеством и свободой человека? Сам вопрос и ответ на него возможны лишь при допущении человеческой культуры как сферы духовной коммуникации, потребности я в ты. Философское пробуждение начала XX века поставило прежде всего именно эту проблему – духовного общения, диалога между гуманизмом и Церковью, между местом человека в космосе и творении, и Творцом, призывающим человека. Тема культуры непосредственно вытекает из персонализма Бердяева, отстаивания прав одинокого я вопреки и в то же время изнутри православной соборности. Культура может существовать лишь тогда, когда соборность не подавляет, но включает в себя человеческое я. Если праведники (в силу правоты цельной и запредельной истины) могут общаться только с праведниками и глухи к другим, то человеческая общность – только фикция, а культура – бессмыслица и ересь. Культура есть один из истоков собственно человеческого, или, по выражению Мартина Бубера, один из элементов межчеловеческого. И строится она всегда на изначальной предпосылке свободы.
V
Мы знаем, что Бердяев обосновывает свободу гностически, он видит свободу стоящей вне Бога, вне Его власти и ведения. Такая свобода уходит у него корнями в бездну Ничто, Ungrund. Кинешь в нее камешек, он не отзовется ни звуком, ни эхом. Эта свобода содержит в себе все потенции, в том числе и творчества, и спасения, и мирового зла. Неясно только, откуда берутся потенции зла, что они такое – Антибог Маркиона, первозданный хаос до творения? С Бога снимается ответственность за все дыры в мироздании, но эта Его не-ответственность вносит какую-то холодящую нежеланную легкость в нашу веру; Бог – одинокий, тоскующий страдалец (Бердяев приводит эти слова Леона Блуа), но если мы знаем Его только таким, только одиноким, ни за что не отвечающим, то тогда безответственный Бог есть и Бог безответный. Бог «оправдан» на гуманном человеческом суде, но Его оправдание снимает глубину и напряженность нашей духовной жизни. Освобождая Бога от возможных обвинений, Бердяев вступает в спор не только с опытом, богословием, традицией, но и со Священным Писанием. Здесь уж скорее прав Шестов, который хочет стать учеником несмирившегося Иова, знающего, что для Бога нет ничего невозможного. Несотворенная свобода бесконечно шире одной только свободы выбора, и все же почему свобода остается вне Бога? Ungrund – словно погреб вселенной, из него дует сыростью, в без-основости его не слышно Слова, которое было в начале у Бога.
«Без бемевского учения об Ungrund’e и свободе непонятно происхождение грехопадения и зла», – настаивает Бердяев. Но если мы выбрасываем церковное учение о дьяволе, то, может быть, о непонятном следует молчать. Но религиозной философии, и в том ее специфика, – всегда трудно удержаться в границах молчания. Нужно ли все понимать? Есть безмолвная тайна непонимания, иногда лучше оставаться с ней. То, что говорит Бердяев о темной бездне в Боге, о без-основной свободе, разбивается у порога ослепительной строки ап. Иоанна: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Это Свет во тьме, по названию книги Франка, который тьма не объяла, потому что состоит из совсем другого вещества. Но тьма – не только зло, но и мрак неведения, которое открыто свету. Мы сопричастны Откровению и соучаствуем в нем, но упаси Бог от изобретений и конструкций в пространстве его.
При этом все, что писал Бердяев, с покоряющей силой несет в себе пережитый, уникальный опыт, который при всей его исключительности стал чем-то характерным для современного христианского сознания. По крайней мере, для определенного типа его. Этим опытом объясняются, наверное, и его открытия-прорывы, и его заблуждения – «ереси». Дерзновенно и самонадеянно говорить о Боге, исходя только из заключенного внутри лишь одной личности опыта, потому что речь о Боге должна быть собирательной, соборной, от Христа, апостолов до последнего из верных учеников их. Но невозможно и вечно безмолвствовать о Боге, если как угодно малое пространство твоей жизни, мысли, души становится на мгновение Его языком, шифром Его речи. Даже когда опыт веры, т. е. прорыва к Богу, незримо соединен с опытом богооставленности, который Бердяев унаследовал от русского гуманизма и его якобы «внехристианских начал». Это наследие стало по-своему провиденциальным. В отличие от многих мистиков, свидетельствовавших о горечи подобного опыта, Бердяев признал свою, особую диалектику правоты и в самой богооставленности, в одиночестве и печали без Бога. Его духовные спутники – Якоб Беме, Леон Блуа, Ницше и прежде всего Достоевский, конечно, не «Константинополя, который должен быть наш», но прошедший «горнило сомнений» и так окончательно оттуда не вышедший. Бердяев остался с ними в том же горниле, в котором он и выковал Бога состраждущего, ни над чем не имеющего власти.
Апостолам был некогда послан дар языков, дабы каждый из них мог служить сосудом Евангельской вести. Во всяком народе, на любой земле этот дар находит свой язык проповеди, который должен быть родным, жизненным для тех именно, к кому она обращена. Святые говорили с прокаженными на языке «проказы», принимая проклятие на себя, ученые, ставят ли они себе такую цель или нет, способны передать эту весть в знаках, посланиях все более ошеломляющих открытий, ибо они дают нам увидеть какой-то след присутствия благой и разумной силы, разлитой в мире. Бердяев отчасти средствами метафизики, отчасти проповедью «человеколюбия» и бунта русской интеллигенции захотел передать тайну того же Присутствия, идя по краю этой тайны, то и дело срываясь с него (ибо идея темной бездны, стоящей за Богом, есть именно обрыв в пропасть, потому что тайна светла). Всякая философия, коль скоро она исследует мысль на предельном ее взлете, включает в себя опыт мистический, который неизбежно чреват гностическим искушением, и в этом ее имманентная опасность. И все же эта мысль служит уникальным, в каком-то смысле незаменимым выражением сущности и судьбы человека.
Тот дар беспрерывно льющейся философской исповеди, который был основным даром Бердяева, вылился целиком в поиски именно такого выражения человечности. Но попробуем отвлечься от всех его непосредственных преломлений и задуматься над его служением. Бердяев как личность и как мыслитель со всем своим опытом, призванием, напором, но и тоской, которая, по его словам, сопровождала его всю жизнь, обособленностью, жаждой спасения, метаниями, поставил себя перед верой, самолюбием, жесткой правотой других. Ничего не приукрашивая, ничего почти в себе не меняя, он отдал себя суду замкнутой богословской системы. В этой незащищенности и энергии, с которыми он жизнь собственного духа претворил в достояние культуры, т. е. сделал фактом человеческого общения, взаимопонимания и суда, была его гениальность и даже жертва. И открытость мысли, ее исповедальность и бесстрашие были как раз его «апостольским», профетическим даром – языком его благовестия.
VI
Статья эта когда-то была приурочена к столетней годовщине со дня рождения Николая Бердяева, в то замороженное время, когда позывные бердяевские слова о свободе, сострадании, творчестве воспринимались с улицы как пение диковинных птиц, сидящих на ветках за стеклом в этнографическом музее. Но вот страна разморозилась, на улицах потеплело, но удивительные птицы, что показались было живыми, так и остались набитыми чучелами с заморским оперением, поющими непонятные песни на своем языке. Бердяевская проповедь осталась по-прежнему невостребованной, по крайней мере, в пространстве православной мысли. И не столько из-за своей страстности, атакующего стиля или германо-мистики, которая его затягивала, сколько из-за платонической тенденции восточного умозрения, столь ярко проявившейся у его собратьев по религиозно-философскому возрождению начала XX века. Суть этой тенденции заключается в том, чтобы взирать из «пещеры» земли на неподвижные отражения горнего мира, соединив видимые образы с незримыми первообразами, запечатав небесное и земное всеми догматическими, философскими, культовыми печатями. И даже непреложными и неизменными моделями красоты. Проложить тот узкий путь в Царство Божие, который связан не столько с новизной Евангелия, сколько с обязательствами чисто умозрительного свойства. Мир здешний, феноменальный, крепко-накрепко повязывается с миром ноуменальным, тамошним, так что проникнуть в эту запредельную реальность можно только одним, строго упорядоченным молитвенно-догматическим путем. Христианская философия, когда ей предоставляют место, призвана к тому, чтобы этот путь объяснить, найти его в созерцании недвижного, иерархического космоса, воплотив в системах софиологии или системы всеединства. Но дело здесь не в метафизических выводах, но в необсуждаемой, как бы само собой разумеющейся предпосылке ортодоксальности этого пути и богословской запретности другого. Познание мира мета-физического требует не только принятия, но и пассивного ему подчинения, интеллектуального послушания. Эту склонность русской мысли уподобляли пантеизму, космоцентризму, а иногда космическому прельщению. На более современном языке ее можно было бы назвать диктатурой монизма, «мистическим тоталитаризмом» ноуменального мира.
«Однопланность, которой требует всякий монизм, есть тирания и разрушение личности», – словно парирует Бердяев (Я и мир объектов). Он стал одним из тех, кто решил проложить новый путь мышления, перенеся весь упор на скрытое богатство, непостижимость, трансцендентность человека, наделенного бесконечной свободой. Именно с личности – в которой нетрудно угадать его собственное мятущееся я с его опытом – начинается откровение. Личность есть бунт – в этом, может быть, главная весть Бердяева, она создает собственную догматику, которая, возможно, не пересекается с ересями, отсеченными Вселенскими Соборами, но проходит и в стороне от царского восточного пути Церкви. Если, взяв основные религиозные идеи Бердяева, пройти по ним до их логического конца (начав с образа «безвластного» Бога, рая и ада как объективации времени, творчества как пути ко спасению и т. п.), то на конце мы найдем религию «со-страдающего Бога», выросшую на русской почве. Религии, однако, возникают не потому, что их изобретают от буйства фантазии или озарений одиночек, а в ответ на запрос (или протест), который созревает в истории и людях, живущих в ней. Что делать нам сегодня со свободой мистического и, стало быть, философского опыта сострадания и свободы, подобного бердяевскому? Он не ушел вместе с самим мыслителем, напротив. Бердяев был брожением, непрерывно порождающим взволнованные тексты, в которых не было ничего окончательного, мраморного, и пафос его будет бродить и в тех, кто этих текстов никогда не прочтет. Не он сам, но опыт, в нем сложившийся, всегда будет стоять за спиной всех возможных будущих «реформаций», вопрошаний, споров в православной Церкви, как бы далеки ни были эти споры от бердяевских тем. Их будут называть обновленчеством или еще как, гасить, задвигать в презренный угол, но они будут возрождаться и затевать спор с Преданием, с молитвенным созерцанием когда-то устоявшегося прошлого, со всем тем, что утверждает себя единственной иконой жизни во Христе. Неизбежно в каких-то новых, совсем небердяевских формах будет ставиться старый вопрос: должна ли Благая весть быть навечно связана с принудительным единомыслием, с единственным образом общения с Богом? Единомыслие всегда выдает себя агрессивным неприятием того, что в него не укладывается. Оно с готовностью, радостью выбрасывает все, что не совпадает с нашим духовным «типом», каноном, единственно сакральным отпечатком Неба на земле.
Бердяев отнюдь не был протестантом, но в Церкви он постоянно вызывал протест, ибо всегда хотел объяснить Православие по-своему, расширив его исторические и психологические границы. «Я говорю все время о глубинах тайн в Православии, а не о поверхностных в нем течениях. Пневматологическая теология, ожидание нового излияния Духа Святаго в мире легче всего возникает на православной почве. Это замечательная особенность Православия: оно, с одной стороны, консервативно и традиционно более чем Католичество и Протестантизм, но, с другой стороны, в глубине Православия есть всегда великое ожидание религиозной новизны в мире, излияния Духа Святаго, явление Нового Иерусалима. Почти целое тысячелетие Православие не развивалось в истории; ему чужд был эволюционизм, но в нем таилась возможность религиозного творчества, которая как бы приберегалась для новой, еще не наступившей исторической эпохи» (статья Православие).
Бердяев – не чужестранец здесь, он входит в глубину Православия, но входит дверью, которую прорубает сам. Он не говорит «моя религия стоит на объективной истине, которую я открываю в вещах и мыслительных конструкциях», потому что последняя истина, истина религиозного творчества, заключена во мне. Истину творю я сам, потому что Бог ожидает ее от меня, и она становится источником откровения. Я раскрываю в себе послания Бога или образы ноуменального мира и тем самым создаю их, делаю их богочеловеческими». В сущности, так поступали все религиозные мыслители, но они знали, где остановиться. Бердяев говорит с последней исповеднической прямотой, и от его прямоты начинается новизна и так называемая «ересь» Бердяева.
Но именно такая «ересь» пролагала путь для религиозной философии, переживавшей всегда своего рода «кризис идентичности». Ее то и дело тянуло раствориться в богословии, догматически объективировать мистику, вписаться в логическое наукообразие. И когда Бердяев начал философски отстаивать свое право на откровение, его натиск вылился в гностический бунт против умозрительно замороженной мистики и «мления» духа. И этот его бунт при всех крайностях, при всем даже богословском «варварстве» возвещал свое, особое, бердяевское, первоначально хомяковское «таинство свободы». Таинство, которое по-новому открывает нам лик Божий через человека. Христос сказал: И познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин 8:32). Бердяев по-своему переиначил эту заповедь: свобода, став источником откровения, познает, «сделает» вашу истину.
Возразят: какая свобода у того, кто, не освободившись от страстей, дерзает учить других? Спросят: что может поведать нам откровение, вещающее о духе, в котором едва ли можно узнать Третье Лицо св. Троицы? Сопоставят: разве сострадание есть любовь, о которой все откровение Нового Завета? Бердяев уязвим отовсюду; традиция припирает его к стене, сострадание – это не любовь, и когда оно каменеет в идеологии, то может стать – и еще как становится! – своей противоположностью. Но в основе сострадания лежит все же библейская закваска: алчущего напитай, узника посети, отпусти измученных на свободу. Но и слово «любовь», когда она только слово, может стать кимвалом бряцающим, позолоченной побрякушкой. И тогда сострадание, которое тоже может быть лишь лозунгом, начинает ей мстить, срывая ее церковные облачения. Оно пытается оспорить и отобрать то, в чем пребывает истина. Но что в конце концов есть истина? – неподвижный, круглый, висящий над нами огненный диск, наполненный самыми благими и высокими изречениями о Боге, или еще и поток, текущий сквозь жизнь людей, отсеивающий груды мусора, но и выносящий со дна его крупицы Слова Божия? Эти крупицы мы называем пророчествами, и они рождаются в тайне благой свободы. В России сложился особый корпус «больших и малых пророков» свободы, и среди них Бердяев должен занять свое место вслед за Ф. Бухаревым, А. Хомяковым, Ф. Достоевским, Н. Федоровым, В. Соловьевым, о. С. Булгаковым Г. Федотовым, м. Марией Скобцовой, о. А. Шмеманом… если говорить лишь о покойных и самых знаменитых… Пророчество Бердяева, как и всякое другое, не требует буквального перевода в вероучение, оно нуждается в том, чтобы к нему прислушались, ощутили душу, породившую его.
К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу (Гал. 5,13). Бердяев понял это призвание буквально, как свободу собственной личности и ее опыта, далеко отойдя от церковного Предания. Кто может сказать, что его свобода была лишь угождением плоти, заразившей его душу? Его образ Бога возникает из оправдания творчества и добра. В этом он противоположен Шестову, призывавшему искать Бога не только в том, что выше разума и выше добра, но и в том, что выше того, что мы о Нем можем помыслить. У Бердяева же Бог вырастает из сострадающей человечности. Бог человечен, человек же бесчеловечен, повторяет он из книги в книгу. Бог человечен до такой степени, что делается частью нашего экзистенциального опыта. И мы постоянно слышим Его слова со Креста, обращенные к Отцу: Векую оставил мя ecu?
«Он был Истиной, – написал Бердяев о Христе в своей последней книге, – но Истиной, которая должна разгадываться на протяжении всей истории» (Истина и Откровение, 21).
Эту истину о Христе, как сказал бы Достоевский, мы сейчас в Бердяеве и разгадываем.
Январь 1974, г. Москва. Зима 2015, г. Брешия.
Мышление: узнавание неисповедимого (Вера и знание в философии Семена Франка)
Оправдание и удивление
В своей речи Несколько слов о настоящей задаче философии, произнесенной в 1874 году[107] (одном из своих ранних текстов, остающемся как бы в тени последующих его работ), Владимир Соловьев впервые сформулировал последующую свою задачу как преодоление дуализма между философией и религией, познанием и верой. Исторической и интеллектуальной почвой для созревания идеи о чаемом синтезе того и другого явился неоспоримый, неисцелимый раскол между так называемым автономным разумом западной рационалистической и научной мысли, некритически усвоенной и преобразованной в некое идеологическое верование русской интеллигенцией, и традиционной нерассуждающей «верой наших отцов» (Чтения о Богочеловечестве), нашедшей затем свою философскую апологию в учении славянофилов. Этот дуализм и даже непримиримое противостояние (которое в то время застал и осмыслил молодой Соловьев) явились своего рода вызовом, стимулирующим развитие всей русской религиозной философии в конце XIX – начале XX века. Мышление, прошедшее западную философскую школу и вместе с тем пожелавшее вернуться к «отеческим», т. е. церковным корням, оказалось перед новой философской и экзистенциальной проблемой: каким образом оно может быть оправдано перед лицом веры, точнее, изнутри живого, связующего нас с Богом опыта. Перед этой столь типичной русской загадкой оказывался едва ли не каждый большой русский мыслитель, обладавший личной, подлинной жизнью в вере, и я думаю, мы вправе считать философию Семена Франка увенчанием всех попыток примирения этих двух подходов к реальности того, что может быть постигнуто или посредством чисто рациональной, то есть логической и «всеобщей» работы разума или же интуитивно схвачено лишь в познании сокровенно-личностном.
Мотив оправдания был, пожалуй, душой философии Франка. Но в глубине этой души можно обнаружить и другой мотив, который никогда не был назван, «озвучен», извлечен на поверхность, поскольку в нем таилось «самое само» (А. Лосев) его интимно дорационального опыта. Подобный мотив или, скорее, настрой, следует назвать удивлением или даже изумлением. К. С. Льюис, написавший автобиографическую книгу Surprised by joy, наверное, мог бы подарить это название русскому мыслителю. Франк тоже был изначально «изумлен», скорее «настигнут радостью», которая растворилась в нем, незримо окрашивала его мышление, а в поздние годы вылилась в создание таких исповедально-философских книг, как Свет во тьме и С нами Бог. Но это изумление, или состояние «настигнутости», не было неким благодатным «вторжением» извне, внезапным и радикальным обращением из неверия в веру или из одного исповедания в другое. Его обращение было скорее нарастающей переменой, потоком сердечной, безмолвной и скрытой радости, ставшей питательной средой его мысли.
Мышление Франка было настроено изумлением, предопределено им изнутри. Изумление, если исходить из знаменитой догадки Метафизики Аристотеля, есть истинное основание всякой подлинной философии, ибо служит для нее необходимым условием. Человек, осмелившийся постичь, увидеть истинную реальность, должен прежде всего ощутить ее как нечто неизъяснимое, всеобъемлющее, притягивающее, а, приблизившись к ней вплотную, как нечто святое и чудотворное. Это первичное дорациональное ощущение или настрой определяет работу ratio и пронизывает ее.
Мартин Хайдеггер приводит греческое наименование удивления – pathos и на основе изысканного герменевтического анализа этого слова определяет исток или даже пред-исток философии как нечто в основе своей тональности отдающее печалью, почти ускользающей от восприятия горечью[108]. В pathos е-изумлении Бытие открывает свою непотаенность, при-сутствует, предоставляя себя человеку, и он на основе опыта сущего, в котором бытие открывает себя, создает метафизические системы, базирующиеся на спекулятивных определениях (или интерпретациях) того, что реально есть и пред-стает человеку в образах и понятиях, облекающих собой тайну реальности. Вся понятийная «крона» любого философского дерева питается соками, идущими от этих корней, уже заложенных в pathos'е.
Обращаясь к философу такого масштаба, каким был Семен Людвигович Франк (1877–1950), мы ощущаем, что основной, неиссякающий источник его изумления, может быть, и не часто выступающий на рациональную поверхность мышления, воспринимается скорее духовно. Франк-мыслитель всегда изумлен, настигнут опытом открывающей себя Безымянной Святыни, движущей pathos-ом его философской мысли. Изумлен, но не в античном, языческом, слегка скорбно-пантеистическом смысле (ибо «Великий Пан умер, христианство одержало над ним верх», как говорит К. Г. Юнг в лекциях о Ницше), но исходно погружен в изумление чудом реальности, которую он стремился осмыслить и выразить в присущей ему медлительной, логически-тягучей манере.
Онтологическое доказательство
Как же определить, грубо говоря, «предмет» или «объект» этой реальности? Сам Франк дает ему имя, которое стало названием его самой философски разработанной и трудной книги – Непостижимое (1939)[109]. Это слово несет в себе множество значений, главные из которых – неизъяснимое, неисповедимое, непознаваемое и вместе с тем изначально реальное и живое. Непостижимое есть обнаружение этой реальности, которое дает начало и подлинному философскому знанию.
Речь идет о той реальности, которую мы открываем в соприкосновении с глубиной, скрывающейся и открывающейся в нас во встрече с живой тайной, пребывающей как внутри, так и вне этого знания. Мыслитель становится свидетелем и истолкователем безусловной, всеобъемлющей очевидности, укорененной в его существовании, но в то же время бесконечно превосходящей его земное, здешнее бытие. Жизнь, бьющая из невидимого источника, связывает его со всем мирозданием. Изумление открывает эту жизнь как последнюю реальность, как присутствие Бога в творении, в нравственном законе, в онтологическом основании акта подлинного человеческого познания, которое всегда зарождается из тайны, приблизить к которой может только изумление.
Философия Франка стремится придать этому присутствию традиционно рациональную форму, перевести его в Предмет Знания (1915, название его первой фундаментальной философской работы еще «дохристианского» периода). Абстрактное мышление предстает у него как адекватная форма, проявление, своего рода «теофания» непостигаемого. Эта «теофания» совершается почти в каждой из его поздних философских работ. Но в трактате Непостижимое вхождение «божественного» в рациональное или самосвидетельство тайны в философском мышлении происходит на уровне поистине удивительном.
Автор начинает свою книгу с утверждения о том, что «понимать» всегда означает «узнавать», распознавать новую истину в уже сложившейся, старой[110]. В этом, известном со времен Платона постулате (если вспомнить его теорию познания как возвращения к сокрытой, в определенном смысле врожденной памяти), легко отыскать ключ и к философскому пути Франка. Непосредственным созерцанием, методом интеллектуального «постижения» интуитивной реальности он «узнает» одно знание в другом, лежащем под спудом знания более очевидного, постижимого рассудком. «Мы имеем не одно, а как бы два знания: отвлеченное знание о предмете, выражаемое в суждениях и понятиях, – знание, как мы видели, всегда вторичного порядка – и непосредственную интуицию предмета в его металогической ценности и сплошности – первичное знание»[111]. И это первичное знание коренится в знакомом, но неразличимом истоке, оно не есть неизвестное, которое однажды сможет быть постигнуто нашим разумом, оно непознаваемо в самом исходном принципе. Франк убежден: изначальное знание, лежащее на дне души, и знание абстрактное, подчиненное законам логики, несмотря на все их различие, способны выразить одну и ту же истину, и, собственно, из этой убежденности вырастает его гносеология. Внутреннее согласие между этими двумя видами знания познается опытным путем, но его можно также доказать и разумом, который имеет ту же «субстанцию» (природу, основу или глубину), что и сама истина. В этом смысле небольшая работа Франка Онтологическое доказательство бытия Бога (1930) столь характерна для его мысли, что следует ненадолго остановиться на ней.
Прежде всего, он разрушает и хоронит так называемое «онтологическое доказательство» Ансельма («Мысля содержание того, что мы разумеем под понятием Бога, мы неизбежно должны придти к выводу, что… существование Его необходимо»[112]), основанное на смешении понятий сущности и существования. Хоронит скорее для того, чтобы воскресить его в новом теле. Сразу же после этого, обращаясь к «онтологичности Бога» в человеческом существовании, Франк показывает (или, скорее, свидетельствует), что Бог не есть некий неясный объект, чье бытие может быть доказано посредством определенных усилий, направленных на достижение интеллектуального прояснения. Бог есть прежде всего свет, являющий силу или очевидность своего собственного существования.
«Всяческое наше знание имеет своей основой самообнаружение абсолютной реальности»[113]. В этой реальности человеческое видение совпадает с видимым и воспринимаемым объектом. Безграничная первооснова или «идея» этой реальности содержится не вовне, а внутри нее. Это та же самая реальность, которая пробуждает изумление «дорациональной мысли» (или как еще обозначить мысль, коли «она еще не родилась, она и музыка и слово»[114]?), реальность непостижимого бытия Бога, Который открывает Себя как свет и как жизнь. И то и другое заключено в нас, переплетено тысячью нитей с нашим существованием, из этого источника мы черпаем наше знание непостижимого. Это особое знание, согласно формуле Николая Кузанского, крестного отца философии Франка, не может быть ничем иным, как docta ignorantia, ученым незнанием («умудренным неведением», как переводит Франк).
Но готова ли философия действительно выражать себя умудренным неведением? Каждая философская книга Семена Франка говорит: да, только это есть истинная онтологическая философия, верная своим истокам. Но если это так, то философия, рациональное знание может проложить дорогу для чистого богословия или даже для Откровения, для Слова Божия, которое облекается в слова человека.
Известно, что царский путь православного богословия начинается с так называемого апофатизма, божественного мрака, который заставляет сомкнуть человеческие уста, говорящие от избытка сердца или воображения[115]. «Самое божественное знание Бога есть то, которое познается через неведение»[116], – цитирует Франк слова Ареопагита. И все, что мы сможем сказать о Боге, должно родиться из молчания о Боге и нести на себе печать того, что не может быть высказано.
Франк был всецело сосредоточен на том, что рождается из молчания, из безмолвствующей стихии веры. Из книги в книгу он искал это «молчаливое», «неведующее», притаившееся знание Бога, защищая при этом свое право и призвание христианина искать и исповедовать Его знанием философским. Вся его жизнь была следующими друг за другом открытиями такого философского исповедания, которое можно выразить такой формулой: истинное знание как умудренное неведение есть живое знание[117]. (В этом благословении союза философского знания и жизни сердца Франк, как и все русские религиозные философы, остается в русле мышления ранних славянофилов). «Живое знание… образует существо религиозной веры»[118]. Духовная жизнь – это соучастие в реальности, которая становится «объектом» веры, и откровение приобщает нас к реальности этого «объекта».
Таким образом кажется, что выбранный им «царский путь» онтологического доказательства замыкается в себе. Но он ведет в неисследимую суть того, что есть и пронизывается и охватывается разумом. Всякое познание чего-то ранее неизвестного ощущается как «раскрытие» («открытие») того, что ранее было заперто или скрыто от нас, как проникновение в «глубину», в «нутро» вещей, тогда как то, что нас не удовлетворяет в знании, мы называем «поверхностью» или «близорукостью» или «ограниченностью». И тогда одно доказательство порождает из себя другое, отражая и «развивая» его. Мы носим в себе то недостижимое начало, которое должны поднять до уровня умозрительной очевидности. Но оно уже очевидно само по себе, ибо заключено в истоке нашего знания. Оно предшествует всем нашим интеллектуальным усилиям. Оно существует в отдаленном от нас, забытом, но всегда пробуждающемся изумлении встречи, пребывает в нашей онтологической памяти, в неоспоримом, радостном ощущении достоверности и, наконец, в самой вере, которую мы исповедуем. Вера взывает и к философскому знанию, которое должно суметь перевести ее непостижимое, – но не непознаваемое, безмолвное, но и не невыразимое, – содержание в некую рациональную и понятийно доказательную форму. Путь религиозного философа ведет его от благоговения перед необъятной тайной-посланием внутри него, изначально вложенной в его существование, к исповеданию личного Бога, открывающего Себя в неоспоримом, т. е. научном Предмете знания.
Понятие Непостижимого
Отправную точку трактата Франка о Непостижимом мы находим в вопросе: возможно ли обнаружить его (Непостижимого) объективное присутствие в составе реальности как таковой? Наше внимание тотчас притягивает понятие «объективного». «Объективное» всегда означает нечто, противоположное субъективному, видению, которое проистекает из моего, замкнутого в себе существования, но коренится в непостижимом, обнаруживая себя в рамках моего опыта. Из невидимых корней должно произрасти мощное дерево реальности «объективной», «вне меня» и в силу этого непостижимой. Франк указывает на две формы реальности: непостижимой для нас и той, самой важной, которая непостижима по самому своему существу. Он указывает на непостижимое в содержании нашего сознания, воспринимающего каждый объект в окружении тысяч и тысяч отношений, отражений, связей и, наконец, темной безосновности («Ungriindlichkeit», как говорит он, прибегая к термину, извлеченному из немецкой мистики) объектного мира вообще. Наше сознание потенциально способно объять все разнообразие и всю бесконечность вещей, и эта бесконечность уже вложена в него, поскольку наш познающий разум способен охватить непостижимое во всей его полноте[119].
Прибегая к достаточно тонкой интеллектуальной операции, Франк в то же время доказывает существование непостижимого в так называемом объективном бытии. Он исходит из созерцательного познания, «которое Гете называл “тихим лучшим знанием” (das stille bessere Wissen). Оно есть немое, молчаливое, несказанное знание»[120]. Т. е. познание означает интеллектуальную интуицию, которая обнаруживает непостижимое вне нас, как и внутри нас. Такой вид знания очень близок тому религиозному созерцанию, которое касается «невидимых вещей», недоступных зрению ratio. Поэтому Франк не приемлет кантовского понятия Ding-an-sich как аналога идеи Непостижимого. Кантовская «вещь-в-себе» бесповоротно закрыта для человеческой мысли и опыта, в то время как Непостижимое открывает себя как источник подлинного философского знания, оно есть та бездонная и безграничная реальность, которая в определенном смысле доступна и недостижима для нас. «Невидимые вещи» являют себя внутреннему восприятию, дают себя узреть в откровении их. Они составляют часть откровения всеобъемлющей субъективно-объективной реальности или «всеединства»[121]. Его реальность подобна океану, который смывает и уносит все, чего может коснуться познание или наша интуиция. «Это есть темное материнское лоно, в котором впервые зарождается и из которого берется все то, что мы зовем предметным миром, – как в его вневременном идеальном «содержании», так и в его вневременном течении»[122].
Подобная предпосылка философии Франка – ее можно назвать мистической, если не брезговать старыми терминами, – сближает его с классической экзистенциалистской мыслью. «То, что мы подразумеваем под словом “есть” в экзистенциальном суждении, есть не что иное, как непостижимое по существу», – говорит он. – «Головокружительный, почти доводящий нас до грани безумия вопрос: что, собственно, мы подразумеваем под словом “есть”… разрешается сам собой через усмотрение, что выход за пределы всего постижимого и выразимого в понятии и есть существенный и определяющий признак именно того, что мы разумеем под реальностью»[123].
Это видение Непостижимого (или первореальности) неожиданным образом приближается к понятию того, что Карл Ясперс называл Umgreifende – всеобъемлющим. «Das Umgreifende ist entweder das Sein an sich, von dem wir umfangen sind, oder es ist das Sein, das wir sind» (Всеобъемлющее является или самим бытием в себе, коим мы объяты, или же это то бытие, коим мы являемся)[124]. «Это всеобъемлющее бытие всегда и неотъемлемо с нами, при нас и для нас»[125]. В мышлении Франка именно реальность как таковая означает единство бытия и истины. И эта реальность выражает себя в единстве «есмь-есть», с сильным упором на «бытийность», на утверждающую себя «весть» глагола. Глагол становится существительным, субстанцией, тайной, Бытием как таковым, раскрытым, но неведомым das Sein.
Бытие (или «реальность» на все еще «доэкзистенциальном» философском языке Франка) есть соединение сознания (порождения мысли) и субстанции сознания (первоначальной сущности мысли). Безграничная полнота бытия доступна исключительно свободному, незаинтересованному, целостному созерцанию, которое может быть лишь плодом отказа от обладания этим бытием. (Здесь уместно вспомнить хайдеггеровское понятие Gelassenheit как безмолвного и невозмутимого самораскрытия Бытия в мышлении)[126]. Истинное познание не завладевает своим объектом, оно есть, по словам Франка, само себе открывающееся Бытие как событие, происходящее внутри человека, становящееся его умудренным неведением.
«Поскольку мы обозначаем внутренний характер непосредственного самобытия словом я… нужно подчеркнуть, что употребление того же слова я для обозначения субъекта познания совершенно неуместно… Познавательная “интенция” есть общая черта, присущая всем “сознаниям” вообще; взятая как “чистая мысль”, она есть нечто наиболее безличное в личном бытии. Более того, взятая в своем чистом существе, она вообще не исчерпывается своим присутствием в множестве конкретных сознаний, а предносится нам как некая единая всеобъемлющая инстанция, “сознание вообще”, “логос”, познающий свет»[127].
Можно выявить много различных параллелей мысли, но существует одно радикальное различие между немецкой формой экзистенциального философского размышления и русской, в нашем случае, мышлением Франка. Ясперс, к примеру, строит классическую религиозную философию на основе понятий Umgreifende, Transzendenz, Existenzerhellung (всеохватывающее, трансценден-ция, просветление экзистенции), оставаясь при этом в стороне от библейского откровения и вероисповедания, хорошо сознавая расстояние между ними. И Хайдеггер в своей лекции Philosophie und Theologie (Философия и теология) утверждает: философия есть особого рода мышление, «невозмутимо» внимающее безмолвию бытия и дающее в себе сказаться его несокрытости. Теология же – конкретная наука, основывающаяся на пережитом и остающемся в переживании религиозном опыте, на тексте Писания или истории Церкви, и потому для Хайдеггера она остается более узкой и ограниченной сферой мысли. Религиозная философия как особая область исследования была бы для него абсурдом. Но Франк воспринимает занятие философией (особенно в своих более поздних и зрелых книгах) как собственный экзистенциальный путь исповедания личной веры в Бога Живого, и то, что называется Бытием, непостижимым, «тихим знанием», есть прямая тропа к нему.
Философия и вера
Насколько же надежна эта тропа? Возможно ли действительно исповедовать свою веру, выражая ее в средствами трудящейся над понятиями философской мысли? Этот вопрос стоит не только перед Франком, но и перед всей русской религиозной философией. Однако среди всей плеяды русских мыслителей подход Франка одновременно наиболее напряжен и глубок[128], ибо рационалистическое здесь прикасается к сущности иррационального, вступает в спор с ним, и в результате этого спора-союза рождается понятие, которое должно упразднить и то и другое, которое, по его мысли, может «разговорить» последнюю доступную человеку тайну – Непостижимое.
Философия для него – усилие мысли, исходящей из интенции восприятия всеединого бытия, которое может быть доступно разуму во всей его целостности. Но в процессе восприятия становится ясно, что эта интенция не может быть до конца реализована. Высший момент познания – трезвое осознание того, что вокруг нас существует множество вещей, которым надлежит оставаться недоступными познанию. Поэтому истинная философия, которая прежде всего обращена к тем сокрытым вещам, мыслится философом как необходимое преодоление всякой формы рационалистического мышления. При этом философский метод Франка строится как раз на рефлексии, на рациональном осмыслении того, что угадывается интуицией, и он вполне традиционен в старом классическом смысле. Немаловажная деталь: то, что можно считать акме его философии, книгу Непостижимое, он первоначально написал (предполагаю, что и задумал) по-немецки, а затем переписал по-русски. Но русское ее одеяние кажется прозрачным, сквозь него мы легко узнаем обстоятельный, продвигающийся вперед сильными, тяжелыми шагами германоязычный стиль мышления. Это внешнее впечатление отражает внутренний драматический процесс внутри его мысли. Мышление должно разгадать и выразить собой то, что разгадано быть не может. Строгое логическое знание должно поведать об умудренном неведении.
Так, обращаясь к франковскому пониманию истины, мы находим, по крайней мере, два ее истолкования, которые могут внутренне противоречить друг другу. Первое, традиционное и логическое: истина – это совпадение наших понятий, наших идей с рациональным содержанием реальности. Такое совпадение выражается известной латинской формулой: adaequatio intellectus et rei. Второе истолкование может быть названо экзистенциальным, опытно созерцательным, вытекающим из иудеохристианской традиции: истина есть то неисповедимое, которое возвещает о себе, изводя себя из глубины нашего существования, укорененного в бесконечном. Истина есть первоначальная реальность, дарующая себя нашему я в своем самораскрытии. «Самый акт осуществленного познания, – говорит Франк, – есть чистый дар, обретаемый личностью извне, – это акт приобщения личности к свету, сущему вне ее»[129].
Что же это за свет? Все делающееся явным свет есть – утверждает ап. Павел (Еф 5:13). Свет явления всего сущего, исходящий из творения; пребывая вне нас, он ближе нам, чем сами мы себе.
Это свет, который таится в нас как сотворенных существах еще до того, как он станет «светом извне», зажигаемым верой. Это свет первоначальной реальности, посылаемый как безвозмездный – откровенный – дар Божий. «Ибо всякое откровение есть в конечном счете свечение, освященность, явления себя в свете’, здесь же речь идет о самом свете, который озаряет сам себя и, тем самым, все остальное»[130]. Он озаряет как философское познание, так и веру, потому что существо этого света неизменно. Метафизическая и логическая истина как adaequatio intellectus et rei и экзистенциальная, религиозно воспринимаемая истина непостижимой реальности (или реальности Непостижимого), которая приходит извне, но раскрывает себя изнутри человека, составляют одну истину, истину умудренного неведения.
Франк говорит о «свете вне нас» и в другом контексте – о «темном материнском лоне». Этот мнимый антиномический контраст также опирается на Писание: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле (3 Цар 8:12); но при этом: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы (1Ин 1:5). Эта антиномия живет и в нашем познании Бога, и мысль Франка постоянно ориентирована как раз на такое познание: света во тьме. Он говорит о «свете внутренней достоверности», свете «просвещенного» сердца и «мгле» умудренного (светом, в котором нет никакой тьмы!) неведения перед лицом «возвещающего» о Себе Бога.
«В различной мере непостижимое и несказанное Божество просвечивает через все сущее – и все же остается перед лицом всего сущего чем-то безусловно “иным”»[131].
Но вот иная параллель: глубинное сущностное сходство между гносеологическим описанием Непостижимого у Франка и определением веры у ап. Павла: вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр 11:1). Это и есть суть всех утверждений Франка о вере-познании, и если мы попытаемся облечь апостольскую формулу в философские доказательства, она будет выглядеть так: вера утверждает нас в реальности, которую мы не видим, того, что мы не можем постичь. Реальность незримого становится определенной, выявляет свою основу или «субстанцию» лишь в «нашем уповании» (или молчаливом, невыразимом знании). Поэтому понятие непостижимого проясняется только в соединении, как бы сплаве истины внутри нас (неоспоримой достоверности, «нравственного закона», благоговения и трепета перед тайной, которою мы не можем охватить рационально, и, наконец, «уверенностью» в этой тайне, которая живет в нас и дает жизнь нашему знанию) и реальностью вне нас, кантовским «звездным небом» или франковским «всеединством».
Это одно и то же и вместе с тем не одно. Для ап. Павла истина означает нечто исторически ясное и конкретное: откровение Бога в Иисусе Христе, Богочеловеке. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус (1Тим 2:5). Для Франка, но лишь в той мере, в какой он остается в русле своей философской традиции, к истине приводит необходимость, присущая работе мысли и вместе с тем преодоление необходимости. «Единственная истинная философия, заслуживающая этого имени, есть философия преодоления – в уяснившемся нам смысле – всякой рациональной философии»1. Мысль открывает Непостижимое, и оно становится тусклым стеклом (1 Кор 13:12), одним из стекол философского ведения о Христе. Именно о Христе, но еще не Христа. Усилие Франка – в том, чтобы соединить эти два ведения. Может ли истина-необходимость быть одновременно и истиной-даром, истиной-светом, истиной-личностью, в которой осуществляется ожидаемое (см. Евр 11:1), но и достоверное для духа? Франк мог бы ответить: такого вопроса не должно быть. «Душа, горящая верой в Бога, не может заблуждаться», ибо этот огонь, мог бы пояснить он, не сжигает, но освещает изнутри и философское познание бытия Божия в нас.
Однако на самом деле вопрос должен быть обращен именно к Франку. Он часто ссылается на Платона, Плотина и Николая Кузанского, заявляет себя «духовным сыном» бл. Августина и Паскаля, ап. Павла и Мейстера Экхарда, но в своем стиле философствования, следует скорее проложенным путем немецких классиков философии XIX века. Читая его, мы как бы оказываемся в традиционной и систематической школе мышления, более всего близкой к Фихте. При этом постоянно ощущается, что истинный исток мысли Франка не рациональный, а скорее мистический. Он – прежде всего «мистический экзистенциалист», укрывший свой опыт в неторопливой, хорошо обоснованной, строго логической форме мышления. Но форма проникает и в содержание мысли. Двум истолкованиям истины предшествуют два различных видения: видение тяжелого объективированного и падшего мира, в котором истина всегда подчинена необходимости, и видения обетованной земли, исполненной Божества, тайно светящего отовсюду, и на этой земле истина есть дар и свет непостижимой реальности.
С самого начала пути Франк отстаивает особый характер и ценность своего интеллектуального и жизненного призвания: быть свободным мудрецом, который ищет и находит Бога и провозглашает свою веру на путях философии. Но, может быть, эта необходимость защиты была предопределена внутренней экзистенциальной трудностью истинно верить в истинную философию, верить и быть влюбленным, нести в себе «philia», обращенную к мудрости. Можно ли быть свободным мудрецом, отвечающим только перед самим собой и своим интеллектуальным выбором, и вместе с тем верным учеником Христа, Который назвал блаженными нищих духом и был более чем суров с книжниками?
Этот вопрос затрагивает все русское (и не только русское) религиозное мышление, но прежде всего Франка. Он не обратился от религиозной философии к чистому богословию, как это сделали священники. Сергий Булгаков и Павел Флоренский. Не поставил у истоков своего пути безначальную свободу, «пенящуюся» религиозным духом, но в то же время совершенно независимую от него, как Николай Бердяев. Не выстаивал всю свою жизнь перед загадочным Богом, не поддающимся никаким человеческим определениям, как Шестов. Он хотел исповедовать христианскую веру, исходящую из «доводов сердца» (говоря словами опиравшегося на Библию Паскаля), посредством познающего разума. И это остается, на мой взгляд, наиболее интересной и драматической частью его философского наследия.
С нами Бог. Ответ Паскалю.
В 1922 году в своей лекции на открытии Религиозно-философской Академии в Москве Франк сказал, что «единственным предметом философии» является Бог. Выражение, не слишком удачное, но хорошо прозвучавшее в атмосфере празднующего победу атеистического безумия. Бог в понимании философа означает бездонное основание Бытия и сознания индивида. Он предстает первым и единственным «предметом», которым должен быть озабочен философ и который он должен искать. Для того, чтобы увидеть предмет философии, – говорит Франк, – нужно, как сказал Платон, «повернуть глаза души»… ибо философское творчество питается религиозной настроенностью… и религиозная интуиция лежит в основе всякого философского знания»[132].
Здесь неизбежно к нам возвращается вопрос о том, можем ли мы мыслить о Боге как о пеком объекте философского знания как такового, да и как об объекте вообще? Бог не есть понятие, – настаивает Франк. Бога нельзя даже называть «Он», суждение «Бог существует» для веры кощунственно, потому что Личность, существующая полностью вне меня, не может быть в полной мере моим личностным Богом. Бог прежде всего отвечает нашему упованию, извещает о Себе, и лишь в силу этого существует для нас.
Но если Бог действительно отвечает моей надежде и существует в той части личного моего бытия, которая принадлежит только Ему, Он способен ответить и моему поиску всеобщего философского знания, которое может быть разделено и с другими. Бог может даже войти в него. Он может существовать как бесконечно Непознаваемое внутри философского знания, потому что до того Он уже существует в моем интимном, личном, непостижимом знании о Нем. «Он есть», и истина этих слов имеет прежде всего меня как свое основание, и потому Он есть и как точка притяжения любого подлинного философского поиска. Он существует как вечное Ты, пребывая в общении, в причастии, в любви. Он – Любовь, и она открывается во мне.
Этот ход мыслей (или скорее, прозрений, облеченных в суждения интуиций), который мы изложили здесь своими словами, можно легко найти во многих работах Франка. Его философия пронизана идеей живого личностного Бога, Которого встречают лицом к лицу (1Кор 13:12), но Который может, если заблаговолит, войти и в тесный дом отвлеченного разума. Но при этом Франк понимает всю узость, хрупкость и условность этого человеческого дома. «Кто не чувствует инородности и трансцендентности Божества всему остальному, тот вообще его не имеет; но и тот, кто не ощущает его присутствия во всем, таинственного сходства с ним всего, – его также не имеет», – говорит он в Непостижимом[133]. Бог веры входит в его философскую обитель как в Свою собственную (хотя философ и осознает, что она всегда остается слегка чуждой Ему) в Своих «ипостасях»: как Божество, как Священный Объект, как Непостижимое, как Ты. Работа мысли может стать для Него таким же пристанищем, как и непосредственное созерцание.
«“Идея” Божества… совсем не может быть отделена от конкретного переживания, жизненного опыта Божества – от моего опыта Божества. Не только свет этой идеи впервые возгорается в этом опыте, но она по существу принадлежит к нему или он – к ней. Божество по самому существу своему есть всегда “с-нами-Бог” (Эмману-эль), в конечном счете, “со-мной Бог”… конкретная полнота нераздельного и неслиянного двуединства “Бог-и-я”»[134].
Не многие мистики отваживались произнести слово «двуединство»… Но «парадокс Франка» в том, что путь к формуле Бог-и-я проходит через «идею», через мысль, в которой «впервые возникает святое имя “Бог”». То великое Безымянное и Всеимянное, которое очень условно обозначают как “Святыня ” или “Божество”, становится Господом – моим Богом. Бог есть Божество, как оно мне открывается и мною испытывается совершенно конкретно, в связи и в нераздельном единстве со мной… Божество становится для меня ты, открывается как ты; и только в качестве ты оно есть Бог».[135]
Мы видим как пульсирует нерв мысли Франка. Реальный (не в расхожем, но именно в его мистическом, «всеобъемлющем» смысле), мистический опыт и его рациональная, объективированная форма отражают и в какой-то мере запечатлевают единство Бога («объект» нашей веры, наше внутреннее Ты) и Божества (слово, отражающее в себе попытку «ощупать» Бога мыслью). В трудах философа можно найти немало таких «нащупываний» (как, например, «антиномистический монодуализм всего сущего», «трансрациональное единство единства и двойственности, тождества и различия, слитности и раздельности»[136]), но при этом всегда подразумевается, что «Божество» и есть «Emmanu – El» – «с-нами-Бог».
«С-нами-Бог» есть тайна моего опыта («упования», веры, встречи, любви), но Божество как понятие есть предмет философского вопрошания. Исходная точка, равно как и итог философии Франка, в том, что когда речь идет о Боге, субъект опыта и объект мышления сливаются в единство, сокровенное Ты Бога, Который есть Любовь совпадает с Непостижимым, и мгла обитания и свет явления Божества становятся неотличимы друг от друга. «Бог Авраама, Исаака и Иакова и Бог философов – это один и тот же Бог», – такова основная мысль Франка и его ответ Паскалю[137]. Но станет ли Авраам, приносить в жертву Исаака, повинуясь лишь Кому-то Непостижимому? Может ли несказанно Невыразимое убедить меня любить врагов и взять крест свой, чтобы идти за ним? И даже просто стать социальным и догматическим основанием любой христианской общины?
Там, где религиозная философия достигает своей вершины, она, словно освобождаясь от себя, входит в «трудность веры». И тогда вера начинает задавать ей свои «верующие», простые, прямые, но порой непосильные для философии вопросы. Ее вопросы исходят из того, что определенный круг жизненных задач уже решен, что о существовании Бога нельзя спрашивать и его «есть» не нужно и даже суетно доказывать, потому что в Нем Он и есть совпадают. Когда философия признает ряд постулатов веры, которые для нее самоочевидны, она становится богословием. Франк не делает этого шага и не подвергает свою мысль вероучительному допросу. Его философская «система» (а она вполне заслуживает такого названия) становится возможной потому, что всю работу своей мысли он направляет на постижение того, что уже дано ему как внутренняя очевидность, как прозрачная достоверность, как с-нами-Бог, сошедший не в «плоть» догматов и культовых действий, но в Непостижимое.
«Бог Авраама…». М. Бубер, Л. Шестов, С. Вейль
Франк, в детские годы получивший традиционное иудейское воспитание, неизбежно нес в себе неистребимое религиозное наследие своего народа. Попробуем теперь очень кратко сопоставить его с великими религиозными мыслителями первой половины века, имевшими те же иудейские корни и то же наследие: Мартином Бубером, Львом Шестовым и Симоной Вейль.
Мышление Мартина Бубера постоянно исходит из двух главных понятий или, скорее, интуиций: диалога и доверия. Самая сильная его книга, передающая его мистический и философский опыт, Я и Ты, о которой часто упоминает Франк в книге Реальность и человек, – это раскрытие диалогического принципа на последней глубине человеческой личности. Наше я, постоянно пребывающее в контакте и взаимодействии с миром (суммой фактов, сигналов, вещей, индивидов, лиц, переживаний…), выбирает для себя одно из двух или даже трех «основных отношений», я, относящееся к оно, я перед лицом ты, я стоящее перед абсолютным Ты. И во всяком из отношений я выступает как более активная сторона, оно принимает внутри себя решение, совершает выбор в пользу одного из двух «основных слов» или внутренних ориентаций. Можно сказать, упрощая, что оно выбирает свое абсолютное Ты, чтобы довериться ему и быть ему верным. У Франка скорее Ты выбирает я. Но он идет еще дальше. «Никакого готового я вообще не существует до встречи с ты, до отношения с ты[138]. Верующее, обращенное к невидимому миру я в глубине своего существования встречает Гостя, того, Кто из Своей внутренней достоверности, определяет выбор нашей души, принимающей на себя легкое иго покорности. «В своей подлинной глубине, т. е. в своем истинном существе, душа сама есть то, что ей открывается за ее собственными пределами»[139].
Для Шестова эта интимность душевной связи с сокровенным Ты не выступает на первый план. «Покорность» для него – скорее синоним отсутствия подлинной веры, отнюдь не первый признак ее. Он болезненно сосредоточен на том, что чуждо Богу, даже враждебно Ему. Враг «номер один» для Шестова – всякое рационально сформулированное человеческое знание, догматическое ли, назидательное, все равно, «общие идеи», порабощающие нас понятия, все то, что он расценивает как соль, которую сыпят на раны Иова его друзья. Его враг поселился и укрепился в разуме как таковом, и его философский пафос, методически ведет его только к разысканию и разоблачению этого врага, который – даже при не очень пристальном взгляде – заложен в нем самом. Он отчаянно ищет Бога, Который «выше добра», но лишь тогда может обнаружить «тень» Его, озаренную внезапной вспышкой какой-то молнии, когда все наше знание откажется от своих ложных притязаний и признает свое полное и окончательное поражение. Это означает, что какие бы то ни было прозрения, в которых Бог открывает Себя в Своей нераскрываемости, невозможно передать другому. Бог Авраама остается только его, Авраама, Богом, его призвание несообщаемо другому. Философия, как и религия, притязающая на власть ключей (по Шестову), т. е. на общепонятность и всеобязательность, в своем высокомерии и самодовольстве стремится облечь опыт Авраама, Иова или ап. Павла в свои катехизисы и тем самым сотворить идола. И потому основной мотив шестовской философской проповеди как-то глухо трагичен, иной раз в нем прорывается даже какое-то болезненное торжество безнадежности; так что мыслитель кажется нам неким героем Достоевского из неизвестного романа, которому не суждено было быть написанным. Если мы сравним эту словно мечущуюся в клетке мысль с изначально светлой, доверяющей радости тональностью мысли Франка, то не сможем не удивиться тому (на что, кажется, никто не обращал внимание), что в одно и то же время два русских мыслителя, вышедших из иудейской среды, создали два типа религиозной философии, радикально противоположных друг другу.
Мышление Симоны Вейль в каком-то смысле более всего драматично. Она не удовлетворяется поиском чужих «озарений», как Шестов, но открывает для себя и в себе присутствие Христа, не принимая в то же время христианства как религии, «чужой» для ее народа, обреченного в то время на уничтожение. Если говорить исключительно о ее личном опыте, она ближе всех подходит к тайне веры как внутреннему духовному событию, но тайна в поиске Вейль остается как бы «обнаженной», не облеченной ни в одну из традиций. Ее опыт, выраженный в сжатой форме прежде всего в книге La pesanteur et la grace (Тяжесть и благодать), составленной после ее смерти из дневниковых записей, говорит о таком напряжении, углублении и вместе с тем «невозможности» веры как конкретного исповедания «вместе с другими», какие редко можно встретить среди мистиков. Ибо эта вера, яростно отвергающая и иудаизм, не может найти для себя воплощения, иной «практики», кроме личного аскетизма, который в конечном счете приговаривает ее к смерти. Она застывает на пороге, не в силах сделать еще одного шага. Опыт Симоны Вейль – напряженное стояние перед Богом в ожидании Его. Бог должен придти к ней (L’attente de Dieu, как называется одна из ее книг), но на пороге она ставит Ему ряд невыполнимых условий; так ожидание и вопрошание становится философским, да и не только философским мученичеством[140].
Каждый раз речь идет здесь о рефлексии обособленной личности и пережитым ею экзистенциальным опытом. Философия Семена Франка носит несколько иной характер. Его мысль гораздо менее интимна, чем мышление Мартина Бубера и Симоны Вейль, и гораздо менее трагична (в античном смысле), чем одинокие «дерзновения» Льва Шестова. Но она гораздо более целостна, социальна и гармонична. Даже его Непостижимое по сути открыто для всех, поскольку опыт сокрытого в нас свойственен каждому. Тайна в философском исповедании Франка соединяет нас перед лицом единого Бога, непознаваемого для разума, но близкого и зримого в Своем благодатном присутствии в нас и среди нас, в нашем знании, переживании, наконец традиции и общине. Он – не только абсолютное Ты сокровенного, текущего в нас диалога, (Мартин Бубер), не только Тот, кто стоит абсолютно за пределами всякого разумения, открываясь лишь в потрясении или озарении немногих избранников (Лев Шестов), не вечное ностальгическое стояние у последнего порога откровения (Симона Вейль). Он – наш Бог, Бог, пребывающий с нами, с Авраамом, Исааком и Иаковом, но также и с философами и верующими, с живой общиной веры и ее Преданием. Он – Бог Иисуса Христа, Который есть основание и благовестие нашей веры и Его Церкви.
Знание о Боге: между Царством и Абсолютом
Познание веры у Франка – постижение присутствия Бога в нас. Объединяющее «в нас» для него столь же важно, как и интимное «со мной». Откровение Непостижимого у него, как было отмечено, приближается к определению веры ап. Павлом. Общинное познание истины как логической необходимости, действующей во всех, и личностный характер веры не только не вступают в конфликт, но взаимно узнают и принимают друг друга. Они сливаются в единство: знание-вера, которое легко можно было бы назвать и «соборностью», хотя Франк обычно не прибегает к этому излюбленному славянофилами термину.
Что же такое вера? Об этом Франк допытывается в своей книге С нами Бог. Он различает веру-доверие и веру-достоверность. Доверие рассматривается прежде всего как подчинение авторитету, это вера ребенка, полностью доверяющего Отцу Небесному. Но вера-доверие тяготеет к вере-достоверности, которая означает «реальное присутствие самого предмета знания или мысли в нашем сознании»[141].
В своем определении веры Франк близко подходит к известному буберовскому различению новозаветной веры-pistis с ее упором на общеобязательность знания и веры-emunah, Ветхого Завета, живущей не определением природы или сущности Бога, но нерассуждающим доверием к Нему. Бубер склонен склонен абсолютизировать и даже противопоставлять друг другу эти два типа веры.[142] Франк же не только стремится эти веры примирить, но и обосновать их единство в согласии с Преданием, догматом, Церковью, соединив их с личностным и невыразимым опытом личного Бога. Вера-знание живет для него в детском инстинктивном доверии Ему, и это единство выражает невидимую и неразделимую сущность самой веры.
Вера – прежде всего опыт, рождающийся в глубинах жизни (Lebenserfahrung). В своем эссе Die russische Weltanschauung (“Русское мировоззрение”, 1926), написанном по-немецки, Франк развивает идею о двух различных типах эмпиризма: один из них основан на непосредственном восприятии очевидного, другой, привившийся в русской философии, опирается прежде всего на живой опыт. В последнем случае наибольшее значение имеет не внешнее соприкосновение с миром как предметом познания, но обретение полноты реальности объектов (или всеединства) через человеческий дух в его всеобъемлющей целостности. Но такой опыт хранится в нас как бы в зашифрованном виде и разгадывается он только верой.
Вера – это обретение полноты реальности непостижимого, т. е. «божественного» начала в человеческом духе, который изначально присущ ему. Вера – не только переживание, но историческая и онтологическая реальность: Непостижимое обитает в Личности, Личность входит в историю людей, становится ее частью. Концепция веры у Франка (веры, которая была и остается одним из самых неопределимых понятий) хочет стать философским видением, свободным от конфессионализма. Мысль его изначально мистична и потому «экуменична», поскольку она способна открыться в любой форме опыта живого Бога и вступить с этим опытом в диалог. Первую главу своей книги Непостижимое он начинает эпиграфом, взятым у великого сирийского мистика Гуссейна ал-Галладжа: «Познавать – значит видеть вещи, но и видеть, как они все погружены в абсолютное». Мы познаем вещи, но может ли само абсолютное стать «объектом» нашего опытного познания? Да, – отвечает Франк, – «Божественное бытие становится нам доступным, потому что мы откликаемся на него, воспринимая его тем, что божественно в нас самих» (разрядка моя – В.З.)[142]. Утверждение, которое принадлежит скорее поэту-мистику, чем автору теории познания. Да, абсолютное может быть открыто мысли, как и некое свидетельство религиозного опыта, но вместе с тем оно остается «неприкасаемым» для нее, скрываясь за «вещами», пусть даже такими неопределимыми, как дар веры или встреча с Неисповедимым.
Возможно, Франк не проводит достаточно четко различения между Дарителем и восприятием Дара. Целостное «позитивное» содержание веры он склонен формулировать скорее в эмпирических терминах, т. е. в границах опыта, пусть и мистического. Так, Откровение, как свидетельство Непостижимого о себе самом, не зависящее от меня (если определить его в понятиях Франка), он рассматривает скорее как вид сокровенного благовестия, исходящего «со дна души», и тем самым ставит его в зависимость от индивидуального религиозного опыта. «“Исповедовать” Христа – верить в положительное откровение», – говорит он, – не столько принесенное и извещенное, сколько явленное Им – и значит не что иное, как иметь непосредственный опыт, что здесь нам дана вся полнота Божественной правды, что наша душа здесь с максимальной силой озарена неземным светом»[143].
Граница религиозной философии, как и всякой мысли, рождающейся от мысли, в том, что она обязана следовать своей внутренней логике, но логика может стать и тюремщицей главной нашей «вести». «Неземной свет» есть лепет души о встрече с Непостижимым, о соприкосновении с обетованным Царством (вспомним слова Христа: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное — Мф 18:3), но в качестве лепета-признания к философии как таковой не относится. Философия же есть дело людей взрослых, изгнанных из Эдема и вспоминающих о нем, дело, которое стремится связать мысль с Абсолютным и в какой-то мере овладеть им, пусть даже в качестве несказанного и благословенного опыта. Но опыт, каким бы он ни был, не может стать мерилом Откровения – и здесь богословие вступает в дружеский, но непримиримый спор даже с самой благочестивой из философий, – потому что Откровение божественно «объективно», целиком независимо от того, воспринимаю, переживаю, осмысливаю я его или нет. Бытие Божие не может доказываться исходя из того, как я его в себе ощущаю. (И в этом неизменная правда опыта, хранящегося в Церкви; мы принимаем веру от нее не как «совопросники» усваивают максимы и постулаты, а как младенцы – материнское молоко.) Но в то же время парадокс остается: Откровение не может быть отвлеченным от человека, Бога мы узнаем лишь тогда, когда Он обнаруживает Свое пристанище в нас. Или хотя бы указывает едва заметную тропинку к Его палатке. Мы верим и что-то знаем о нашей вере, потому что изначально были извещены или освещены ею изнутри.
Мышление Франка, воспроизводящее себя из книги в книгу, есть поиск такого пристанища и «весть» о том, что оно найдено, обретено и свет его может коснуться даже работы нашей мысли. Но когда он определяет свою задачу как философское раскрытие религиозного опыта и его субъекта, который «есть Бог», когда строит свое онтологическое доказательство на самораскрытии Бога в душе, имеет ли он в виду только Бога «философов» или также и «Бога иного»? Бога нашей веры, Того, к Кому мы обращаемся со словами: Верую, Господи! помоги моему неверию (Мк 9:24).
Возможно, сам Франк не согласился бы с таким разделяющим вопросом. Для него это «один и тот же Бог». И все же суть его философской работы можно свести именно к этой молитве, молитве, спасающей не только мыслителя, но и его дело, но спасающей, как говорит Апостол, как бы из огня (1 Кор 3:15). Любое доказательство веры есть одновременно ее утверждение и исповедание неверия. Но вся жизнь Семена Франка и все его труды были грандиозной попыткой построить готический, достигающий неба собор, стоящий на бездонных и потому зыбких «глубинах души». Его дело было великим усилием примирения, поиском окончательной встречи. Встречи между вещами, столь часто разделенными – разумом и верой, философией и религией, русской, иудейской и западной мыслью, встречи между истиной как логической необходимостью и истиной как даром и чудом, между головным знанием и сокровенной внутренней жизнью, между умозрением и непостижимым ведением и наконец, между Богом как рационально мыслимым и общим понятием, и Богом как неисповедимой тайной, внутренним Ты, встречей между Абсолютом, живущим логикой, и Духом, неизреченно ходатайствующим в нас.
Знание о Боге Живом, которое даруется нам из этого Царства, превосходит любые знания, как и всякий опыт. Разумеется, Франк сознавал это лучше, чем кто-либо другой. Ибо его мысль обретает свое философское качество, поднимаясь из глубокой радости и удивления, из опыта ошеломляющего реального присутствия Христа, Который живет в нас. Его оклик-свет примешивается к голосу философского свидетельства. Был ли он создателем Philosophische Glaube, философской веры на русской почве? И да и нет. Нет – потому что был исполнен твердой личной веры в Господа Иисуса, и, не вышли его Ленин в 1922 из России, стал бы безусловно одним из бесчисленных мучеников, сгинувших в безымянной могиле Гулага. Да – потому что яснее, глубже других он очертил границу между познанием Бога только верой или приближением к Нему автономной мыслью, которая упирается в Непостижимое, описывает вокруг него круги ученого, и вместе с тем интимного незнания, но прорывается через эту границу, только отказавшись от умозрений. И этот прорыв требует усилий. Таких, например:
«В этой бытийственной обращенности к первоначалу и первоисточнику – которая совершается из самой глубины моей субъективности, моей безосновности и беспочвенности и, строго говоря, в каком-то смысле потенциально наличествует с самого начала в ней самой, т. е. дана вместе с моим бытием, – впервые возникает святое имя “Бог” – и то великое Безымянное и Всеимянное, которое мы условно обозначили как “Святыня” или “Божество”, становится Богом – моим Богом. Бог есть Божество, как оно мне открывается и мною испытывается совершенно конкретно в связи и в нераздельном единстве со мной… Это значит, что Божество становится для меня ты, открывается как ты; и только в качестве ты оно есть Бог»[144].
Может быть, прав был Шестов: все эти долгие, поднятые на поверхность усилием мысли слова, Богу не столь и нужны. И не очень нужны вере. Но они очень нужны нашей мысли, коль скоро, оттолкнувшись от «Святыни» и возвращаясь к ней, она хочет выразить собой ее суть, вдохнуть ее тайну. Уйти в нее, окутаться ею. Церковь все это облекла в четыре определения анафоры св. Иоанна Златоуста, произносимые при принесении бескровной жертвы: Ты бо ecu Бог Неизреченен, Недоведомь, Невидимь, Непости-жимь… Непостижимое не объясняется, не выговаривается здесь, оно совершается молитвенным действием. Иным словом, делается таинством, прелагается в плоть и кровь Бога Живого. Способна ли к такому преложению чистая мысль, описывающая место Божие внутри человека?
Когда Франк вспоминает слова бл. Августина о том, что истина обитает внутри человека, мы верим им обоим не только потому, что они рассказывают нам об очевидности своей веры, но прежде всего потому, что очевидность как истина пребывает в согласии с правдой вещей, восхищенных из Царствия Божия, которое, по словам Христа, внутрь вас есть (Лк 17:21).
Перевод с английского Наталии Костомаровой
под редакцией автора
Смерть Толстого в нашей памяти
Правило жизни
«Правило. Называть вещи по имени», – записывает 22-летний Толстой в своем Дневнике, который будет вести до конца дней.
И до конца дней будет следовать «Правилу». Не только в привычном, нравственном смысле: я должен говорить правду себе и другим, чего бы мне это ни стоило, но – интимно, творчески, религиозно – «правду вещей» я призван выявить, выразить, вылепить сам. Созидание «вещной» правды – исток и секрет искусства. Вещи, в самом широком понимании слова, вовне и внутри нас искусство наделяет теми именами – в свободном их толковании – которые писатель выносит на свет из опыта своей жизни. Имена или смыслы, формы, образы вещей, видимых и невидимых, зачинаются и вынашиваются во всяком человеке, художнику лишь дается способность родить их, ввести в мир, им созданный и доступный другим. Толстому она была дана в такой степени, что сделала его автором прозы, равной которой трудно найти в истории литературы. Он жил в век великих писателей: Диккенса, Бальзака, Стендаля, Флобера, Гоголя, Гончарова, Тургенева. Но Достоевский и он – вне этого ряда. Это иное измерение искусства, которое уже как бы и не укладывается в обычные его рамки.
Юношеская запись в «Дневнике» сделана по вполне житейскому поводу, но, если над ней задуматься, мы неожиданно сможем услышать в толстовском правиле отдаленное эхо того «определения творчества», которое встречаем в первых строках Библии. Каждая из вещей наделяется подобающим ей именем, которое ей дает человек, говорит Книга Бытия: Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей (2:19). Дистанция между Словом Божиим и случайной дневниковой записью, разумеется, неизмерима. Сопоставлять их не имеет смысла. Но вне всяких сопоставлений спросим: разве призвание искусства не состоит в этом выявлении обозначаемой человеком истины вещей, в наречении настоящих, человеческих их имен, которые принимает Творец? «Как в первый день созданья», Он творит все новое и приводит к человеку образованные Им частицы бытия, чтобы мы очеловечили и назвали их, приобщившись к Его творению. Откликаясь, мы даем им имена, вводим их в словарь, память, обиход, делаем нашей реальностью, общей с людьми, но и с Богом. Имя – это и слово, и средство, и прикосновение, и рисунок, и мысль, и оттиск того, что запечатлевается человеком. И вот что важно: дар наречения имен дается человеку-Адаму еще до его падения ради его устроения в мире, в перспективе его соработничества с Богом, дабы в каждой из вещей человек мог узнать дела рук ее сотворивших, чтобы каждое из имен вело к диалогу с Тем, Кто эту вещь позволил назвать. Зрелый Толстой, как мы знаем, не хотел слышать ни о каком Адаме (ни «историческом», ни аллегорическом), но прав был св. Григорий Богослов, сказавший, что Адам живет во всех нас. И адамов дар, призвание к именованию вещей, присущ каждому, хотя и в очень разной степени.
Называть вещи по именам, выявляя их – призвание художника. Оно может быть и приношением «своих» вещей Богу, служением религиозным. Иногда художник, тем более такого масштаба, как Толстой, ищет соединить в себе оба эти призвания. Однако после грехопадения в библейском рассказе, которого писатель не признавал, все человеческие дары стали существенно иными. «Наречение имен» вылилось в индивидуальное, сугубо частное дело – художественное, философское, научное – т. е. устроение своего, а не Божьего мира, изведение его из себя, из своего я, своего видения или мышления. Наделяя именем какую-то реальность, человек уже делает ее своей. Замыкает ее в себе, овладевает ею, пересоздает на свой лад. Имена, слова, понятия, формулы, из которых строится его мир, художественный или научный, даже откликаясь Слову Творца, становятся его человеческим, только человеческим достоянием. Чем одаренней художник, чем сильнее мыслитель, тем острее, глубже ощущается в нем эта изначальная двойственность: открытие мира, сотворенного Богом и противопоставление ему мира, созданного человеком. Творческая мощь Толстого, т. е. небывалая его способность наделять именами-образами выявляемые им «вещи», создала его собственный «фрагмент мира», населенный действующими лицами, картинами, событиями, идеями, переживаниями, словом, целый универсум его «имен». Среди них не могло не найтись особого имени и для исповедания веры его.
Вера как суд
Главенствующее место, особенно во второй половине жизни Толстого, во всем его универсуме образов и идей занимает религия, созданная им на основе собственной «правды вещей», того, что утверждалось им как доброе, ясное и неопровержимо понятное. Нравственность и разумность – первые имена, которые он дает творимой им реальности, неотъемлемой частью которой становится предложенная им вера. Толстой находит веру, ту, которая восстает из праха, из скорлупы вышелушенных обрядов, исходя не столько из открытия им Бога, встречи с Ним, сколько из пафоса суда над верами других. Вера у него начинается с осуждения, она выносит свой приговор тому, что не вмещается в реальность, охваченную разумом и негодующим чувством. Когда мы переходим от художественных произведений Толстого к религиозным, философским и публицистическим, мы оказываемся в атмосфере судебного процесса. Но этот процесс обращен прежде всего на него самого. Если взять его многотомный Дневник, мы увидим, что основной мотив в нем – не столько даже описание своей жизни, сколько самовоспитание и самоанализ, скрытое или явное, но неизменно настойчивое вопрошание и испытание совести. Однако и в совести он остается один на один не столько с Богом, таинственным, но близким, далеким, но осязаемым Незнакомцем, сколько с собой, пронизывающим себя судящим взглядом. В течение всей жизни Толстой – кающийся судья (как называет себя герой Падения у Камю), в этом источник как неимоверной его силы, так и какого-то религиозного бессилия. Он вызывает на суд историю (последняя часть Войны и мира), искусство (Шекспира в особенности), однако главный его процесс – над Церковью и ее исповеданием. Потому что вера в сверхразумного, непостижимого, всецело иного Бога не вмещается в мир правды его «имен» – мыслей, идей, образов.
«Вера не может быть осуществлением ожидаемого, – спорит Толстой с ап. Павлом, – так как вера есть душевное состояние, а осуществление ожидаемого есть внешнее событие, вера не есть также уверенность в невидимом, так как уверенность эта… основывается на доверии к свидетельству истины, доверие же и вера суть понятия различные… Вера есть сознание человеком такого своего положения в мире, которое обязывает его к известным поступкам» (В чем моя вера?).
Апостольское определение веры в 11-ой главе Послания к Евреям – одно из самых ключевых свидетельств Писания. Полнее и глубже оно передается поразительной славянской формулой: Есть же вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых. В этой словесной иконе, если мы позволим предложить свое толкование, ответ Божий уже заключен в уповании человека, ибо в поиске или ожидании Бога таится «вещность», правда или имя ответа. Его имя – это Он сам, Сущий, Тот, Кто есть, и Его бытие посылается нам как Слово, обращенное к слуху сердца, как открывающееся нам в опыте присутствие Того, Кто есть. Слово или присутствие обретает видимость, вещность, сущность в самом обращении человека к Богу, в доверии к Нему, в уверенности в Нем, ибо человек сотворен этим Словом и носит Его в себе. Ты вложил в меня упование у грудей матери моей (21:10) – как исповедует эту веру Псалом. И вместе с тем «вещи» нашего упования «обличаются», в изначальном смысле – наделяются ликом, тем Лицом, перед которым – когда мы узнаем его – мы осознаем себя верующими. Вера рождается при узнавании этого Лица, она есть ответ вложенному в нас упованию. В уповании заключена не только эмоциональная, но и субстанциальная, онтологическая основа веры: Бог отвечает человеку изнутри вложенной в него надежды.
Присутствие Бога в человеке и укорененность в Нем христианской веры непосредственно связаны и с онтологичностью, бытийственной основой Церкви со всем догматическим и историческим ее телом, таинствами и преданиями. В системе Толстого все это подвергается беспощадному разоблачению. И действительно: если нет Бога, пребывающего «по ту сторону» вещей и в то же время узнаваемого в «вещах», хлебе, вине, вести, само существование Церкви есть вызов не только здравому смыслу, но и здравому нравственному чувству. Универсум его «вещей» плотно запечатан: ничто, превосходящее «разумность» вещей, не прорывается через его стены. Вера для него – не то, что изначально связывает нас с Богом, но основа доброго поступка. Чтобы доказать это, он готов спорить с самим Евангелием. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, – сказано в Прологе у Иоанна, но Толстой, когда принимается переводить его с греческого, хочет уместить Логос в доступное целиком Разумение, понятие бесконечно менее объемное, чем Слово у евангелиста. Слово – и звучание, и смысл, и текст, и разум, и воля, образ, и лицо, и свет, и, наконец, тайна. Тайна Слова совершается в Церкви как таинство, и потому именно оно, как и все, что остается за пределами разумеющего «эвклидова ума», оказывается одним из главных обвиняемых на его процессе. Таинство для него есть укрытие и прикрытие, куда бежит историческое христианство, скрываясь от понятного, ясного бога, требующего только хороших и ясных дел. Оттого он так хочет разрушить это укрытие, вывести его на чистую воду. Ни для каких тайн у него нет места, все проверяется нравственным поступком, а нравственность – Евангелием, очищенным от всяких напластований, Евангелие – очевидной для него простотой Нагорной проповеди, Нагорная проповедь – неким всеобщим, данным всем разумным законом жизни.
Бог Толстого
В разоблачительной его религии встречается множество привычных нам слов – жизнь, смерть, нравственность, разум, любовь, бог – но живут они как бы сами по себе, вне той глубинной основы в вещах невидимых, которая придает им смысл и наполняет светом. Отсеченные от своих корней в вещах невидимых, они увядают, ссыхаются в назидательную разумность, которой неизвестно почему мы должны повиноваться. Настоящая их основа приоткрывается в Личности, которая приносит себя как дар и становится ближе к нам, чем мы сами. Их корни – в Боге Живом, и вне Его Жизни все значимые слова, определяющие человеческое бытие в мире, наши понятия о добре, рассуждения о долге, ощущение вины и раскаяние остаются неприкаянными сиротами. Это метафизическое сиротство ощущается и в вере Толстого. Его проповедь не тянется к небу, не выводит на берег Божьей реки, текущей из рая, его учительство предлагает нам только мятущегося человека, оказавшегося в темнице у самого себя.
Если сравнить Исповедь Льва Толстого и бл. Августина, то главным, хоть и сокровенным лицом августиновой Исповеди выступает тот невидимый Собеседник, к Которому он, постоянно обращается, истаевает сердцем (Иов 19:27), «Славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» (Исповедь Блаженного Августина, I, 1). У Толстого нет (или чаще всего нет) этого невыразимого Ты, которому приносятся молитвы, признания, славословия и жертвы, сердце его никогда не успокаивается. Его ты, по сути, он сам, мыслящий, судящий, мечущийся, пытающийся понять, утверждающий своего неведомого бога как ведомого, рачительного Хозяина Жизни. У него было ощущение Божественного потока, которым правит Хозяин, несет его в нем и хранит. Это была религия самой Жизни, ставшей Богом. Вот одно из многих интимных ее исповеданий: «…Тоска, мягкая, умиленная тоска, но тоска. Если бы не было сознания жизни, то, вероятно, была бы озлобленная тоска. – Думал: мне было очень тяжело от страха раздражения и тяжелых столкновений, и я молился Богу; молился, почти не ожидая помощи, но все-таки молился: “Господи, помоги мне выйти из этого. Избавь меня”. – Я так молился. Потом встал и прошел до конца комнаты и вдруг спросил себя: да не уступить ли мне? – Разумеется уступить. И Бог помог, – Бог, который во мне, и стало легко и твердо. Вступил в тот Божественный поток, который тут, подле нас всегда течет и которому мы всегда можем отдаться, когда нам дурно. Никакого толстовства и моего учения не было и нет, есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины, для меня, для нас особенно ясно выраженное в Евангелии» (Дневник. 2 декабря 1897 г.).
Толстой сам пробивает себе дорогу к вере и Евангелию, ведет по ней своего читателя, но всякий раз словно наталкивается на препятствие, останавливаясь там, где рациональное упирается в непостижимое, где слову хочется умолкнуть и стать на колени, чтобы повторить вслед за Иоанном Крестителем: Тебе расти, а мне умаляться.
Что же это за препятствие, которое стоит между ним, Толстым, и Богом, в Которого он некогда верил, а потом потерял церковную нить, с Ним связующую, и захотел найти свою, сыновнюю, только личную? Живого Бога над нами и внутри заслоняло для него то омертвелое для веры христианское общество, в котором он жил. Не мог он – да и не только он, но и миллионы людей вплоть до сего дня не могут – принять, что люди «пользуются» Богом для своих религиозных потребностей, но отнюдь не живут в «Божественном потоке» милосердия и любви. Наш опыт близости Божией, оставаясь интимным и внутренним, все же в значительной мере обусловлен историей и средой, частью которой мы являемся. Толстой утверждает: вера в том кругу, к которому он принадлежал, была на 90 % лицемерием, лишь в простом народе, в мужицкой среде, она была искренней, хотя и переполненной суевериями. К суевериям же он относил практически все, что не оправдывалось судом Разумения: таинства, обряды, посты, почитания икон, жития святых. Однако именно таинства, обряды, молитвы раскрывают тот глубочайший опыт Откровения, доступный как немногим избранникам, встречавшим Бога лицом к лицу, так и неисчислимым массам людей, приобщаемым через эти таинства и молитвы к опыту веры, который соединяет их с Богом и между собой.
Однако никакого реального соединения людей между собой Толстой не видел и потому не мог принять свидетельства Церкви. «То учение, – говорит он, – которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола и что мы одни в обладании единой возможной истиной… И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести» (Исповедь).
Если все, что Бог хотел сказать людям, если вся любовь, которой Он возлюбил мир, уместились в словах и делах православной Церкви, не оставив за ее порогом ни крупицы божественного, то совершенно правильным, нравственным и спасительным был обычай сжигать еретика на костре, как при Алексее Михайловиче, а во времена, когда писалась толстовская Исповедь, отсылать его в долгое одиночное заключение. Словом, хранить мрамор истины и топтать на нем человека. Сегодня в России заключение ему, как правило, не грозит. Но проблема, мучившая Толстого, остается не менее болезненной: отвержение личности другого, отсечение ее от неба, добра и хранилища истины. Та истина, которая церковными устами провозглашает себя посольством милосердия Божия, бывает и бессердечной, черствой и беспощадной ко всем, кто находится за ее пределами. Толстой не мог принять того, что правоверие и послушание Церкви было для нее гораздо важнее живого, экзистенциального опыта христианства, понимаемого им как «любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло».
Вопрос: «Кто ты?»
Конечно же, не один он проделал этот путь: от реальной исторической Церкви с ее лежащими на виду пороками и невидимыми хранилищами духа – к ясности и ошеломляющей или кажущейся простоте Писания, «очищенного» от исторических наростов, народных суеверий и церковных преданий старцев. Но Толстой с очень русской и жесткой решительностью пошел по этому проторенному пути, может быть, дальше всех. Он сам вольно или невольно оказался главным действующим лицом той драмы, в которую вылилось его вероучение. Став учителем, он не мог перестать быть художником, строившим законченное целое, организуемое единой логикой произведения. Мы чувствуем, как эта неумолимая логика владеет им; так, для того, чтобы удержать Христа-Проповедника, он отрекается (порой кажется, что чуть ли не насильно заставляет себя отречься) от Христа Воскресшего. Так, для того, чтобы сохранить Евангелие как учительную Книгу жизни, он выбрасывает из него весть о спасении. Ибо таким образом должен поступать его герой «Лев Толстой», вдруг раскаявшийся, буквально сбитый с ног покаянием – как Неклюдов в Воскресении, как Никита во Власти тьмы – в тех убеждениях (вере, образе жизни), которые были у него когда-то «как у всех». В начале у Льва Толстого было вовсе не Разумение, но покаяние, не в церковном, а в его чисто толстовском смысле, и оно дало мощный созидательный толчок, который, разрушив одно учение, вызвал к жизни другое, обличительное, бунтующее, остро совестливое. Именно совесть закрыла и задраила все «мистические» двери и окна в здании его проповеди, через которые в него могло бы проникнуть нечто, не подвластное разумению, ускользающее от морализующего суда. «Вещи» веры он назвал своими, переиначенными, толстовскими именами, потому что старые священные имена – имена церковного Предания – стали для него именами ложными.
Ложными потому, что в глазах толстовской совести они приносили отравленные плоды. Самым ядовитым и нестерпимым из них было насилие, и Церковь, выступавшая от имени Христа, была косвенной или прямой соучастницей этого зла. Она не только освящала насилие со стороны государства, она срослась с ним. Насилие, причем в любой его форме (войны, крепостничества, бесправия, роскоши одних и нищеты других), всегда было для Толстого пределом лжи, которая ничем – в том числе и обещанным загробным блаженством – не может быть оправдана. Здесь мельком нас касается догадка о его невольной близости к Достоевскому, отличному от Толстого тем, что никаких религий, ни социальных программ он на «слезинке ребенка» не выстраивал. Душа же Толстого все время судится с видимой ему Церковью, но не ради какого-то романтического богоборчества, а во имя «страдающего брата», который не давал ему покоя. Чужое страдание буквально хватает его за руки, приковывает взгляд, и под этим взглядом он судит государство, общество, православие и себя.
«Кто ты? – допрашивает он себя глазами нищих после посещения ночлежного дома в Москве. – Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и еще помучить нас, или ты то, что не бывает и не может быть, – человек, который жалеет нас? На всех лицах был этот вопрос» (Так что же нам делать?). В ответ на этот вопрос себе он выстраивает новую религию, начинает каяться за весь свет, за свой круг и класс, этим страданием ближнего ничуть не потревоженный. В начале Исповеди мы встречаем признание, от которого не можем просто отмахнуться:
«По жизни человека, по делам его теперь, как и тогда никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание в исповедании православия большей частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большей частью встречались в людях, признающих себя неверующими».
«На весах Иова»
«Ум, честность…, нравственность» оказались для Толстого по ту сторону православного исповедания. Они как бы отделились от своего евангельского корня и ушли в страну далече, откуда – для всех его негодующих последователей – так до сих пор и не вернулись. Хуже: еще дальше ушли. По сей день от них исходит та уязвленность страданиями человеческими, о которой некогда возвестил радищевский «взгляд окрест». Уязвленность эта давно разоблачена, высмеяна и поставлена на место, ибо плодом ее стала революция, совершенная во имя страданий человеческих и безмерно их умножившая. Это столь же верно, как и то, что Церковь, с которой боролся Толстой, особенно и не смотрела туда, куда смотрели у него «честность и ум». Она была занята тем, что было выше или… ближе: грехом, запустением монастырей, безверием, расколом или, как в наши дни – влиянием на общество, отпором глобализации, ювенальной юстицией, грядущим Антихристом, реституцией церковного имущества. Можно ли было утверждать, что в его, как и в наше время она была уязвлена «страданьями человеческими» или соблазнялась мечтой о неком всечеловеческом братстве, где все наконец полюбят друг друга? Вспомним Константина Леонтьева с его розовым христианством, которое и по сей день иногда почитается «самым страшным соблазном, который только может быть поставленным перед христианской совестью Сатаною» (К. Зайцев). Но кто-то из великих писателей (не Лесков ли?) утверждал, что честного человека в России труднее встретить, чем святого. Еще труднее представить себе персонажей гоголевской, щедринской, Достоевской, толстовской Руси «братьями и сестрами во Христе», между тем в перспективе чисто церковной все они за ничтожными исключениями пребывали в евхаристическом общении. И покуда «братство во Христе» и небратство в Церкви, как и за ее оградой, будут разведены по совершенно разным, почти не соприкасающимся реальностям, кто-то (Толстой ли или кто-то рангом бесконечно ниже), будет шумно возвращать в такое братство билет, аппелируя к своей христианской (или уже совсем нехристианской) совести. Конечно, нам не составит труда сослаться на духовную нечистоту или даже слепоту толстовского «ока» (см. Мф 6:22). Но что если Бог, одаривший художника пронзительной зоркостью и беспокойством взгляда, и нам что-то хотел поведать через эту зоркость?
Толстого в его время осудил не только Святейший Синод, о нем едко, умно, иногда жестко, хотя часто и сочувственно, высказались все главные имена русской религиозной мысли: Соловьев, Булгаков, Бердяев, Розанов, Мережковский, Флоренский, Шестов. Они высказали о нем множество точных, глубоких, иногда язвительных мыслей, ничуть не утративших своей силы. Но разоблачив «религию в пределах только разума», по слову Канта, они не могли разоблачить толстовскую боль. Измерив неглубокость его религиозной мысли, они не могли притупить остроту его взгляда. Тысячу раз указав ему на гордыню, они все же не перечеркнули глубины его покаяния. Стало привычным почти механически разделять проповедника и художника, гения и злодея, растоптавшего то, что для нас священно. Но и там и здесь Толстой хотел следовать принятому им правилу: давать вещам имена, которые считал честными, и вот как раз эта ослепившая его честность навсегда разделила его с Церковью. Синод лишь холодно и торжественно подтвердил его самоотлучение (то, что потом стало называться «анафемой»), но синодальный акт от 1901 года был только определением позиций, противостоящих друг другу. В том давнем споре, в котором религиозно, логически, мистически безусловно была права Церковь, что-то осталось от спора Иова с его друзьями, которые с общепринятой религиозной точки зрения были, наверное, прекрасными богословами. «На весах Иова» судьбы душ не всегда решаются исповеданиями и мировоззрениями, аргументами и словами. Иногда решающим аргументом становится молчание, последним словом – смерть.
Последнее обнищание
Смерть Льва Толстого 20 ноября 1910, как и его стремительное ночное бегство из Ясной Поляны непосредственно перед кончиной, была не только последней, но, может быть, и главной вестью его жизни. Он сказал ею больше, чем всеми своими религиозно-философскими сочинениями. И по сей день, столетие спустя, бегство и смерть остаются в нашей памяти одной из неразгаданных загадок. Этот, казалось, патетический жест – вот так внезапно встать среди ночи, разбудив доктора, запрячь лошадей и уехать во тьму, – был лишь последним всплеском глубочайшего духовного кризиса, который подтачивал его десятилетиями. Так, как он жил раньше – писателем, проповедником, барином – он больше не мог жить. Толстой постоянно оглядывался на себя, и, оглядываясь, понимал, что достиг того, о чем другие не могли и мечтать, но при этом изнутри он был терзаем какой-то духовной пыткой, в истоке которой не мог до конца разобраться. Он упорно, болезненно уличал себя в неправедном богатстве и накоплении – денег, славы, земли, и искал освобождения от всего этого принесением Богу данных ему богатств. Он всю жизнь жил мечтой о том, чтобы все отдать, обнищать, опроститься не только внешне, но и внутренне. Он хотел называть вещи своими именами, не просто называть, а соразмерять их с собственным существованием, но оно никак не соответствовало тем обетам, которые он хотел дать самому себе. И потому это внезапное, хоть и долго созревавшее ночное бегство было подобно уходу в монастырь и принесению вечных, необратимых обетов.
Эти обеты были в чем-то подобны монашеским, но в центре стоял обет нестяжания. Публично, порой даже назойливо, Толстой не раз каялся в похоти, у него было свое искушение властью – хотел, как, по словам Горького, «чтобы все думали, так как я» (Лев Толстой), искал спасения от него в опрощении, в отказе от насилия. Но более всего, как ему казалось, он не исполнял обета бедности внутренней, евангельской нищеты. В своем Дневнике, особенно в последние годы жизни, он часто признается, что для него мучительна безумная роскошь среди невыносимой нищеты, «нищеты, среди которой я живу». Это был его спор с самим с собой, постоянный суд над собой. Жил он далеко не бедно, хотя и скромно, нарочито скромно, достаточно посмотреть на фотографию его спальни, которую он покинул в ночь ухода. Однако «апостол нестяжания» все же оставался обладателем слишком многих вещей, которые находились в вопиющем противоречии с его «опрощающей» верой: у него были владения, просторный дом, слуги, графский титул, деньги, но – главное, огромное литературное наследие. Внешне все это выливалось в конфликт с семьей, ибо ни Софья Андреевна, ни взрослые дети Толстого не имели никакого намерения все это достояние терять. Среди имущества, от которого он стремился освободиться, был и мощный, кряжистый его гений, далекий от всякой «нищеты духа», вместе со всем, что он этим гением приобрел. К концу жизни он стал слишком обременителен для Толстого; он не мог не радоваться мировой своей славе и не мог не стыдиться ее. Его бегство к смерти, которой он не мог не предчувствовать, было последним, отчаянным прорывом к обретению евангельской нищеты сердца и духа. Таким, думаю, и останется эта смерть в русской памяти.
Драма, пережитая лично Толстым, вместила в себя конфликт, определивший всю русскую историю последних двух веков. Он заключался в непреодолимом противостоянии совести и государства, гуманизма и Церкви, такими, какими они сложились в России. Сегодня это противостояние проходит через новый этап, и, судя по всему, будет столь же безвыходным, ибо оно унаследовало все родовые черты: непримиримость, взаимную глухоту, склонность судить и отсекать другого прежде, чем выслушать. Как отметил Бердяев (,Духи русской революции), абсолютное ненасилие Толстого и безмерное насилие русской революции, обращенное на всех и вся, суть лишь разные действия одной и той же драмы. Само толстовство давно принадлежит прошлому, но и сегодня отлучение Толстого имеет мало шансов быть отмененным или забытым. Гуманистическое сознание с его морализмом, «уязвленностью», бунтом и идеологиями и церковная вера, для которой все, что исходит от власти, освящается всеблагой волей Божией, еще не нашли в России общего языка. И едва ли намерены его искать. Есть что-то болезненно парадоксальное в этой ситуации: величайший писатель, один из тех, благодаря которым Россия есть то, что она есть, ее подлинный и одновременно ложный пророк, и Церковь, хранительница неисчерпаемого богатства, противостоят друг другу в нескончаемой культурной и духовной войне. И когда-нибудь должен возникнуть вопрос: возможно ли здесь примирение и прощение? Должна ли Церковь более повиноваться заповеди, которая осуждает всякую хулу на Духа Святого, или заповеди, повелевающей прощать даже своих врагов и хулителей? Наконец гуманизм русской интеллигенции за своими хлопотами об обделенных страдальцах или узников в этом мире узнает ли когда-нибудь Христа не в маске моралиста, но в лике Спасителя?
Вопросы, пока несвоевременные и потому риторические. Формальное примирение сейчас не нужно ни Церкви, ни Толстому, ни отдаленным его идейным потомкам. Оно может произойти лишь тогда, когда мы сами, изнутри нашей веры, узнаем голос Христа, пробивающийся через обличения толстовской совести. Когда сама Церковь откроет боль и уязвленность Толстого как невостребованное, горькое, но целительное свое наследство. И тогда она сможет не только помириться с Толстым, но и станет называть вещи мира сего сострадательными, жесткими и правдивыми именами, тогда она сможет и помолиться о нем, «презирая его прегрешения» и заблуждения, те заблуждения, которые ни тогда, ни теперь, не могут поколебать камня, на котором она стоит.
Толстой-моралист не раз повторял вслед за Иисусом: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем (Мф 5:28). Он хорошо знал, как это бывает. И умел показать это прелюбодеяние взгляда, распаленную похоть очей. Но он верил в то, что такое прелюбодеяние можно победить простым приказом, став на сторону «добра». Однако эти приказы не исполнялись. Бегство Толстого несет в себе признание в том, что всякое исключительно «доброе», запертое в разуме понимание христианства оказывалось бессильным. Нельзя войти только в «учение Христа», чтобы постичь его, научиться христианству. Нужно войти в ослепительную, остающуюся неразгаданной тайну Христа, которая излучает себя в блаженствах, возвещает в проповеди, исполняется на Кресте. В каком-то смысле побег Толстого из дома (и близкая кончина уже угадывалась в нем) был тоже поиском блаженства, осуществившимся – кто знает? – именно в смерти, последнем обнищании. Не только ведь по учениям судит Бог, но и по тем «изображениям» Христа (см. Гал 4:19), которые проступают в жизни и смерти.
Авторский постскриптум
Не знаю, нужно ли этим заканчивать, но мне хотелось бы поделиться хоть и малым, но важным свидетельством об одном эпизоде из последних дней жизни Толстого. Он так и остался семейным преданием, на сегодняшний день никому, кроме автора сих строк, неведомым.
В своей биографии Толстого Виктор Шкловский пишет о его уходе, описывая момент, когда, добравшись до станции, он сел в поезд:
«Вероятно, Толстой попал в вагон, которые тогда назывались “4-ый класс”. В них скамейки были только с одной стороны. Внутри вагон окрашивали в мутно-серую краску. Когда верхние полки приподнимались, то они смыкались.
Маковицкий хотел постлать Льву Николаевичу плед. Тот отказался.
В вагоне было душно. Толстой разделся. Он был в длинной черной рубашке до колен, высоких сапогах. Потом надел меховое пальто, зимнюю шапку и пошел на заднюю площадку: там стояли пять курильщиков. Пришлось идти на переднюю площадку. Там дуло, но было только трое – женщина с ребенком и мужик. Лев Николаевич приподнял воротник, сел на свою полку с раскладным сиденьем» (Лев Толстой, М. 1967. С. 613–614).
«Поезд остановился, – говорится через несколько строк, – нахлынула толпа новых пассажиров. Как раз напротив Льва Николаевича остановилась женщина с детьми. Лев Николаевич дал им место и больше не ложился…» (с. 614)
Так оказалось, что той женщиной с ребенком, о которых упоминает Виктор Шкловский, следуя, очевидно, воспоминаниям лечащего врача Толстого Д. П. Маковицкого, была моя бабушка со своей дочерью, моей матерью. В течение двух часов, когда они были вместе, Толстой охотно играл и разговаривал с семилетней девочкой. Он спрашивал, умеет ли она читать, давал ей решать какие-то простейшие задачки. По рассказам бабушки, он был целиком поглощен этим общением. На дворе была середина ноября, из окна дул резкий ветер со снегом, причем доктор Душан Маковицкий, сопровождавший Толстого, заботясь о свежем воздухе, старался держать окно открытым, а молодая женщина, беспокоясь о ребенке, постоянно его закрывала. Ветер, по ее словам, шел прямо на Толстого, который не обращал на него внимания. Через несколько дней он умер от воспаления легких на станции Астапово. Его последние слова были обращены к старшему сыну: «Сережа… истину… я люблю много, я люблю всех» (Павел Басинский, Бегство из рая).
Бабушка и моя мать (Любовь Владимировна, 1881–1969 и Елена Михайловна Вольфельд 1903–1983) не раз рассказывали мне об этом. Единственное подтверждение, которое у меня осталось, ибо все действующие лица давно в могиле, – открытка с запиской, полученная мамой, с фотографией 80-летнего Льва Толстого от 31 мая 1911 года, посланная из Кременчуга: «Милая Люся! Шлю тебтъ дорогого дтъдушку, которого ты встретила вь потъздгь по выезду из Москвы. Глубоко запомни его слова, которые написаны подь портретомъ и сохрани. Круьпко целую тебя и твою дорогую маму….» (Писал кто-то из близких, кто именно, не удалось разобрать).
Под портретом написано:
«Доброта души то же, что здоровье для тшла; она незамштна, когда владшешь ею, и она даетъ успехи во всякомъ добромъ дььле… Радость этой жизни безконечна, только бы мы пользовались ею, исполняя положенный нами для этого законъ любви.
Левъ Толстой»
2010, 2016
III
Беседа с Оливье Клеманом (1921-15.1.2009) Словно Вы живы
Mon cher Maitre,
Никогда не знал, как мне следует обращаться к Вам. Друзья, даже и помоложе меня, легко называли Вас Оливье. Но на Руси, привыкшей к формулам почтительности, Вашему имени как-то неловко было быть просто именем, и оно, казалось, хотело уцепиться за отчество, вытесненное на Западе, или за профессорское звание, на Востоке немного заслоняющее человека тогой или мундиром. Немыслимо и даже как-то предательски по отношению к нашей 20-летней дружбе было именовать Вас с официальным холодком: Monsieur Clement. Поэтому и пришлось остановиться на чуть неуклюжем Maitre, что значит среди прочего Адвокат, Знаток, Наставник, Мастер, короче, мэтр, что звучит со старинной, отчасти даже картинной важностью. Однако все эти смыслы поселились, не тесня друг друга, в моем обращении, велеречивом, отчасти нелепом, но, в общем, правдивом; Вы были для меня, как и для многих, именно учителем, адвокатом веры, моей и Вашей, прекрасным знатоком ее, мастером, если смело выразиться, ее исповедания. В последние годы я не раз предлагал Вам составить книгу бесед, Вы были согласны, но всякий раз не находилось нужного времени. Мои наезды в Париж становились все более редкими, потом Ваша болезнь и медленно-медленно приближающаяся кончина. За эти годы вышли две книги о Вас, их авторы – молодые журналисты, пишущие о религии; одна в Канаде – Франка Дамура, которая называется Проводник[145], другая во Франции – книга бесед с Вами Жана-Клода Нойе: Мемуары надежды[146]. Мое намерение так и не осуществилось. Но оно осталось во мне как некий долг перед
Вами и перед самим собой, а долг не исполненный обладает особой тяжестью, которая склонна возрастать. Поэтому позвольте сейчас, когда Вас уже нет на земле, попробовать поговорить с Вами, поговорить так, словно Вы еще живы и Ваш голос звучит, как он звучит во мне сегодня, более года спустя после того, как Вас отпели в храме Сергиевского Подворья.
Накануне Ваших похорон мне пришлось выступать в Бергамо с еще одной лекцией о православии. В конце ее я сказал, куда и зачем я еду сегодняшним ночным поездом. Поразительно, там собралось около сотни человек, и почти все Вас знали. И смогли разделить горе утраты.
Но и задолго до Вашей кончины мысленное общение с Вами стало частью внутреннего моего опыта.
Здесь, как почти во всякой беседе, нет заранее установленного плана. Но приведенные слова подлинны. В основном они взяты из Ваших книг, но также из обрывков наших разговоров на протяжении более чем 20 лет.
Я: Вы всегда говорили, что Ваша встреча с Восточной Церковью произошла благодаря русским религиозным мыслителям и богословам. Многие из них тогда говорили: мы не в изгнании, мы в послании. Среди тех, кто услышал это послание, можно ли назвать среди первых замечательного православного богослова Оливье Клемана?
Он: Не будем преувеличивать значения моей личности, как и моих трудов. Прежде всего, главным плодом посланничества русских изгнанников было создание православных общин на Западе, которые, оставаясь русскими по традиции, сумели перешагнуть этнические границы и «пробить окно» в Европу. Точнее, открыть Европу для Восточной Церкви. Это была подлинная встреча, духовный поворот, обращение друг к другу. И плодом этого обращения, безусловно, про-мыслительным, стало рождение европейского православия, русского по всем его корневищам, всем чувствилищам, но сумевшего неразрывно соединиться со складом западной души, с иным историческим опытом, освобождаясь из плена раненой памяти, которая, обогащая нас, может в то же время и связывать.
Я: Но разве Вы не впитали эту память? Ведь Ваше обращение произошло под «русским» влиянием.
Он: Это лишь отчасти верно. Конечно, огромным событием в моей жизни была встреча с Владимиром Лосским. Прочитав несколько раз его книгу Мистическое богословие Восточной Церкви, я решил затем прочитать и всех Отцов, на которых он ссылается. Это стало много большим, чем школа богословия. Это был иной мир, столь непохожий на мое представление о христианстве.
Я: Иное солнце[147], как называется Ваша духовная автобиография.
Он: Не то, которое заходит на Западе, но солнце, которое подымается с Востока. Хотя это одно и то же солнце. До этого я запоем читал Достоевского и Бердяева, еще неверующим я приобрел икону, не зная, что когда-нибудь буду связан с православной Церковью. Стать христианином означало для меня сделаться католиком или протестантом. Впоследствии, узнав о православных русских в Париже, я стал наблюдать за ними с какой-то почтительной завистью: с одной стороны, у них была полнота молитвенной и сакраментальной жизни, неповрежденное догматическое наследие, с другой – в их среде мне было буквально трудно дышать. Дело было не в банальном конфликте догматизма и вольномыслия, но в атмосфере всеобщей нетерпимости, подозрительности, какой-то глухой, напряженной агрессивности, которая выплескивалась по отношению к тому миру, в котором мы жили. Я не знал языка, но ощущал, что их православие было отмечено травмой, которую они пережили сами или оставили в наследство другим. При всем сочувствии к ним моя история была все же иной. За ней не стояло ни личных обид, ни плача о погибшей России, который легко перерождался в идеологию противостояния всему, на что могла упасть лишь тень ее поработителей, ни сжигающей ненависти к ним, ни ностальгии об исчезнувшей монархии. Не могло быть, говорил мне внутренний голос, чтобы «иное солнце» всегда было окутано этим душным, тяжелым непроницаемым облаком. Владимир Лосский стал моим первым провожатым к подлинному православию. Он привел меня к Отцам.
Я: Мы читаем Лосского русскими глазами в переводе светлой памяти Веры Александровны Рещиковой, которую я хорошо знал. А каким он предстал глазам француза?
Он: Француза Средиземноморья, не забывайте, это не совсем то, что парижанин или бретонец. Звездное небо над головой, почти всегда чистое, вместе с цветущими каштанами, виноградниками, солнцем, бегущим по волнам – все это было моей первой религией и моей родиной. В отрочестве я заболел мировой скорбью. Вы знаете, красота творения – не только язык Божий, но и вызов, чем-то тревожащий нас, а вызов требует ответа. И когда нечем ответить этой загадке, нас может охватить отчаяние. На пороге юности я даже думал о самоубийстве оттого, что красота мира, как мне казалось, была только покрывалом, за которым зияла пустота, сквозило ледяное ничто. Но вместе с тем она окликала меня, просвечивала через лица, в особенности, лица детей. Потом, уже взрослым, став христианином, я унес все это с собою в православие, точнее сказать, в Церковь. Добротолюбие[148] – книга и добротолюбие – филокалия, как премудрость творения для меня неотделимы друг от друга. Но мы начали говорить о Лосском…
Я: Не был ли он одним из тех, кто помог Вам примирить эти ведения?
Он: Одна из его книг называется Боговидение. Это слово было синонимом веры, которую я обрел. До того, как стать убеждением, боговидение было для меня интуицией, порывом, новым зрением… Помню, как однажды^ когда мы с Лосским гуляли по берегам Невы, откуда он был родом, он рассказал мне о своем детстве. На уроках закона Божия, он поставил в тупик своего преподавателя вопросом: может ли Бог создать такой тяжелый камень, который Он Сам не сможет поднять? Сегодня я знаю ответ, сказал он тогда: этот камень – человек. Лосский был борцом за бескомпромиссное православие, которое могло показаться даже жестким, был одним из создателей Братства св. Фотия – выбор небесного покровителя говорит сам за себя – и вместе с тем почитателем св. Франциска Ассизского, автором большой книги о Майстере Экхарте, которую мне удалось опубликовать лишь через много лет после кончины автора. В метро он читал Библию или Шекспира… Помню, как в 1956 году в самолете, на котором мы улетали в Россию, он сказал мне с улыбкой: «Вы знаете, церковная среда там бывает несколько давящей. И потому я захватил с собою вот это», – и показал мне томик Аполлинера Alcools…
Я: что можно перевести как «возлияния»… Это напоминает мне недавно опубликованные Дневники о. Александра Шмемана, где он пишет, что в свободное от богословия, ректорства, преподавания время он буквально убегал в чтение дневников французских писателей, часто далеких, уж не говорю от православия, но и от всякой веры вообще. Эти дневники были для него той жизнью, в которой по-своему «звучал» Христос, хотя Его имя и не произносилось. О. Александр, которого Вы должны были знать, был одним их тех, кто нес в себе эту боль разделения между христианством профессионалов (коим он был сам, и высокого класса), тех, кого итальянцы называют «addetti ai la-vori», т. е. лиц, имеющих допуск, если перевести на советский язык, и христианством, которое пронизывает собой всякую жизнь… Лосский, как Вы знаете, был главным обличителем о. Сергия Булгакова и его софиологии, которую я лично воспринимаю как попытку переложить стихийное, присущее всем нам удивление перед Премудростью, разлитой в мире, на язык специалистов с допуском на высокую кафедру догматики, но те, как и можно было ожидать, его не приняли. При этом оба они отвергали Бердяева, о котором Вы написали большую книгу, пронизанную сочувствием к его мысли; однако, все трое были Вашими учителями в богословии или, скажем, в науке жизни…
Он: При всех трудностях, возникающих у западного человека, выбирающего православие, у меня было и одно преимущество – быть свободным от внутриправославных браней. Я мог заимствовать у каждого то, что открывало для меня Христа, было отмечено Его присутствием. Мне выпало встретить великого старца патриарха Афинагора. Он помог мне освободиться от страха перед другим, чужим, непохожим, инаковым. Он говорил, что отказался мыслить о себе и своей вере вопреки кому-то, верить против. Постоянно носить внутри себя врага, притаившегося в засаде: чужестранца, еретика, еврея. Во всякого человека, которого ты встречаешь, независимо от исповедания, можно вглядываться с любовью, любовью, ревнующей об истине, но и не ищущей только своего, учащей видеть брата твоего в свете его воскресения, независимо от его мнений. Эту способность я почувствовал потом и в Иоанне Павле II…
Я понимал, что для многих русских их Бог оставался там, в России. Он не захотел пересечь границу, отделяющую ее от остального мира. Россия же, оставшаяся в их памяти, по мере удаления от нее во времени, в вечности все более приближалась к порогу Царства Небесного. И здесь, в изгнании они чувствовали себя привратниками, ревностно, порой жестко и яростно охраняющими этот порог от реальных, но чаще воображаемых врагов, которые угрожающе кишели повсюду. Во Франции давно, может быть, со времен Жанны д’Арк, исчезло это мистическое восприятие родины как страны, граничащей с Богом, по выражению Рильке. В Средние Века пределы той страны доходили чуть ли не до Гроба Господня. Для меня эта граница пролегала через видимые вещи, сама форма которых, как я вижу сегодня, была открытостью к трансцендентному. Бог приходил ко мне неузнанным в моей тоске и смятении, но прежде всего в удивлении перед тем, что открывалось в сотворенности вещей вокруг меня. Я любил землю всей любовью, на которую был способен, беспамятной, почти экстатической любовью. Помню, как я растягивался на берегу моря, и земля несла меня на своем крыле. За морем, за его безмерностью, за светом, заливавшим все вокруг, за прудами, начинавшимися за нашим пляжем, за дюнами, за тростниками (тогда я еще не знал фразы Паскаля о человеке как мыслящем тростнике), за темной лазурью, скрывавшейся за соснами, за виноградниками, покрытыми, как у Пастернака, «жаркою охрою», за листьями миндаля, за хмелем нарциссов, казавшихся цветущей слоновой костью, мне чудился первый день земли, обнаженная плоть света, вспыхнувшего в первый день творения, света тайны, которую тогда, не зная о ней, я носил в себе.
Я: Но эта земля была Вашей Францией.
Он: Эта земля была моей вселенной. Францией была родня из моей деревни, в которой жили мои предки, бывшие, насколько я знаю, виноградарями. Францией была их честность, их трудолюбие, их суровость, их веселость, их крестьянская молчаливость, их чувство социальной правды, которое толкнуло их к социализму. Это был социализм конца XIX века на французский манер, в нем не было и следов утопии, распаленной мечтательности или кровожадной возбужденности, было лишь требование справедливости. Справедливость была их богом. Я родился в семье, которая до меня уже два поколения назад утратила веру, где имя Божие произносилось лишь в домашних спорах. Там даже не крестили детей, это было наследие республики, и у нас это не было редкостью, как в Италии. Францию люди моего поколения по-настоящему ощутили тогда, когда они ее потеряли.
Я: Вы имеете в виду поражение в войне и немецкую оккупацию?
Он: Поражение стало для нас шоком, настоящим шоком стыда. У многих, кстати, он окончательно не прошел до сих пор. Наверное, не было француза, который не испытал бы его. Поэтому у нас в Сопротивлении участвовали люди, не имеющие к тому никакого призвания, как, например, я, ибо патриотизм не был моей главной страстью. Потому что для меня самым ужасным было преднамеренное пролитие крови. Помню наш разговор в мак^; мы смотрели из кустов на проходивший патруль в немецкой форме, это были новобранцы, призванные почему-то из Средней Азии. Мой товарищ сказал: «Мы можем запросто перебить этих монголов, все организовано». – Можем, – ответил я, – но тогда немцы перебьют всю деревню». – «Для того-то мы это и сделаем». С тех пор я, если и рисковал жизнью, то только для спасения жизней других.
Я: Повлияло ли Ваше участие в Сопротивлении на ваше открытие христианства?
Он: Тогда я читал Ньюмана, Шестова, Киркегора. Еще до чтения всяких книг, до встреч с людьми, которые могли бы повлиять на меня, две другие встречи подвели меня к открытию Смысла, в котором соединялись Разум и Любовь. После красоты второй встречей была смерть. Близким я повторял свои детские настойчивые вопросы о том, что же нас ждет там, за гробом. «Ничего», – был ответ отца, деда, моих теток. Пустота. Смерть – зеркало, в которое мы без конца вглядываемся. Когда видишь одну пустоту, кажется, она заманивает тебя как в омут. Отсюда – искушение самоубийством: если конец неизбежен, не лучше ли рассчитаться со всем, как можно скорее? Наша цивилизация, по-моему, первая в истории, которая решила начисто забыть о смерти. Но, постаравшись забыть о ней, она невольно обнажила ее сущность.
Когда я был ребенком, у нас никого не оставляли умирать в больнице. Никто не молился, не читал Евангелия, но оставалась эта атмосфера бдения у постели умирающего, воздух «последнего целования»… Когда много лет спустя я был в Румынии, меня поразило, что многие крестьяне заранее готовят для себя гроб, который стоит в их домах. К смерти готовились как к бракосочетанию. Меня водили на кладбище, показывали могилу: «вот здесь буду лежать я». И этот покой их лиц, аромат кладбищенских акаций, пение кукушки, а неподалеку служба в монастыре, все было едино в этом ощущении победы над смертью, доверия к жизни… На христианском Востоке монах живым входит в умирание для мира, чтобы воскреснуть в нем.
Я: Значит, притяжение Востока и примирение со смертью стали для Вас первыми провожатыми ко Христу?
Он: Нет, пожалуй, главным была встреча с тайной человеческого лица. В бесконечной темнице мира всякое лицо, когда оно раскрывается, есть прорыв трансцендентности. Я спрашивал себя: как комок плоти мог передать собой тайну, из какого света сложилось то, что мы называем личностью… Человеческое лицо для меня – вестник Христа. Оно смотрит в меня и говорит со мной. Оно обращается ко мне и ждет моего ответа. Через него я вижу то, чем человек призван стать – микрокосмом и микротеосом, как говорит св. Григорий Нисский, синтезом мира в образе Божием.
Я: Но личность, любая, состоит не только из света… Часто она прикрыта маской, и мы не видим ничего, кроме нее, и принимаем ее за лицо. Подлинное лицо, когда мы видим его, поражает нас. Но как часто при повседневном общении мы скрываемся за личинами.
Он: Но Христос видит именно лицо, Он узнает его под маской, глядит в него даже через сгущение тьмы. Его взгляд пробуждает в нас личность. И этот тонкий свет, который незримо исходит от человеческого лица, есть, в сущности, свет Христов. И когда мы вглядываемся в человека, уходим в его взгляд, мы общаемся с его Первообразом, Словом, его сотворившим.
Я: Видеть в человеке его икону, в сущности, было доступно немногим. И я предполагаю, что в основе Вашего открытия христианства, Вашей встречи с Богом изначально был именно этот дар. И потому Вы могли открыть веру без всякого знания о ней, потому что ее светлая тайна уже жила в Вас. Вы вошли в православие вратами Непостижимого, а вслед за тем – через открытие праведности его святых и вероучительной правоты. Впрочем, каждый из этих путей ведет к другому. Символ веры – в границах того, что мы можем сказать о Боге – определяет Христа как родившегося «Света от Света». Слово «Свет» отражает глубинный опыт, свидетельствует о восприятии его, общении с ним. Общение происходит благодаря лицу. Лицо, подлинное лицо, которое становится иконой, – это пространство встречи Бога и грешника.
Он: Свет Христов не может быть всеобщим, «абстрактным». Он всегда личностен и подается каждому лично. Он пробуждает и «зажигает» нашу личность.
Я: Во Христе богоявление света совпадает с самим Его существованием. Доколе Я в мире, Я Свет миру (Ин 9:5). Писание говорит: Бог обитает в неприступном свете, Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы (1Ин 1:5). И потому сама вера во Христа, если это не слова, а жизнь и молитва, приобщает нас той же сущности Бога, призывающего нас, по слову ап. Петра, в чидный Свой свет (Шет 2:9).
Он: Да, Писание ведет нас к откровению света, в котором проясняется то, что изначально скрыто в человеке. Потому что во Христе всякий человек, даже плененный тьмой, способен вырваться из-под ее власти, чтобы вернуться к дарованному ему свету. К образу Божию, который вложен в него. Человек принимает Христа как дар, но обретает Его с усилием, и потому жизнь его веры может стать постоянным богоявлением.
Я: Ваш путь ко Христу был долог. Его лик открывается людям, которые никогда не знали его раньше, иногда внезапно, как луч света, который падает на вас, а иногда он словно созревает, мучительно, медленно, как будто подымаясь из неразличимой глубины. Это созревание принимает облик различных препятствий или искушений, которые приходится преодолевать. Я знаю, они были и у Вас.
Он: Первым и главным моим препятствием было духовное притяжение Индии, от которого я долго не мог освободиться. Меня никогда не привлекал буддизм с его культом пустоты и улыбкой Будды, обращенной внутрь себя. И, вместе с тем, я стремился сбросить с себя оковы западной, скорее, даже чисто французской, ментальности, хотя в ее средиземноморских корнях она в чем-то перекликалась с архаическим символизмом, присущим Дальнему Востоку. Задолго до того, как это стало сегодня модой, я отправился в Катманду. Индия, полная желания и какого-то сакрального эроса, погруженная в великую немоту, в отрицание, в котором дышало всеприсутствие божественности, космической, женственной, чувственной, эта Индия долго не отпускала меня. Мир наполнен божествами. Какими? В них стирались я и ты в некой безличной Самости, во взаимосвязанности атмана и брахмана. Но что это было за Божество? Оно было подобно пузырю, поднимавшемуся из ничего; люди, миры, боги, сам Бог – все это было пузырями, возвращавшимися на миллиарды лет в ту бездну, из которой они вышли…
Я: В своих книгах Вы поминаете иногда о «святой Индии», но слова на бумаге не позволяют различить, где под кавычками скрывается самоирония, а где ностальгия. Вас привели к ней какие-то учителя?
Он: Учителя, приходящие на Запад под видом волхвов с Востока, скорее разочаровали меня. Они полностью вписались в западную коммерцию духовностью, стали производителями экзотического товара на экспорт для обеспеченных и душевно неустроенных потребителей. Теперешний успех всякого рода «восточных религий» я объясняю бегством Запада от самого себя. Здесь человек наших дней может быть столь чужд самому себе как в добре, так и во зле. Ему нужно найти самого себя, и путем для этого может стать аскеза.
Я: Вы имеете в виду аскезу, как она практиковалась древними монахами?
Он: Та аскеза была создана в древних культурах, с иным ритмом жизни, тишины, неторопливости, жесткости по отношению к себе и другим, когда человеческое древо было иной, более крепкой, устойчивой природы. Тогда надо было его лишь немного подрезать. Но современный человек напоминает скорее тщедушное деревце, которое, прежде чем обрезать, нужно пересадить на плодородную почву, подставить свету и ветру. Я возвращаюсь к совету Алеши Карамазова, обращенному к брату Ивану: любить жизнь той любовью, которая открывает ее глубину. Ибо в центре ее – Христос.
Я: Таков был Ваш путь. От опыта вопрошания пустоты до ощущения космических энергий, разлитых в мироздании, до открытия Его лика…
Он: Открытие Христа – это не какое-то однократное событие. Это жизнь, жизнь, проживаемая как обращение. Если мы живем верой, то вера и есть то длящееся открытие, которое пролегает через все наше существование. В тридцать лет, когда я крестился, это событие веры было несколько иным, чем сейчас, когда Он встречает меня на пороге смерти, и я знаю, чувствую, что Он ждет меня за ее порогом. Мы открываем Его в основе нашего существования, принимая его как любовь, согласно чудесной формуле Вячеслава Иванова: Amor ergo sum, Я любим, следовательно, существую. Когда меня не будет на земле, я войду в любовь, которая вызвала меня к жизни и не найду дверь ее запертой. Человек сотворен по образу Христову, и он может найти Его в своем я, и во всем, что Христом создано, ибо все чрез Него начало быть… (Ин 1:3)
Я: Тогда чем же объяснить эту множественность религий?
Он: Не нужно ничего объяснять. Отвечу вам фразой митрополита Гор Ливанских Георгия Ходра: «Нужно пробудить Христа, Который дремлет в религиях».
Я: Мне несколько раз приходилось встречать митрополита Георгия на Успенских Чтениях в Киеве. В очень преклонном возрасте люди, причастные опыту Боговидения, достигают какой-то светлой прозрачности. Я читал его книги, но более всего меня поразила его мягкая улыбка, когда он рассказывал, что в последнюю израильско-ливанскую войну его дом был стерт с лица земли, как только он из него по чистой случайности вышел.
Он: Конечно, и его слова о религиях нельзя превращать в какую-то догму. Но мы имеем право на дерзание. Как и на доверие. Я доверяю Духу Святому, говорящему нам отовсюду, где мы способны услышать Его, и являющему нам Христа. Я не могу представить себе, что Христос может быть кому-то или чему-то чужд. Признаюсь, что иногда читаю тексты великих суфиев и молюсь вместе с ними. В мире гораздо больше откровений Христовых, которые я бы назвал подготовительными, чем мы можем себе представить. Я не говорю об одном лишь Ветхом Завете. Все мироздание несет в себе сотворившее его Слово, которое созревает в нем. Когда Бог явит Себя во всем творении, мы обнаружим или, может быть, вспомним о великом множестве его «икономий», ибо Христос, повторяю, – в глубине всякой реальности. Но где Он и как присутствует в ней – мы не можем пока объяснить. Мы можем лишь попытаться научиться различать Его слова, обращенные к нам и доносимые голосом Святого Духа.
Я: Который дышит, где хочет, и голос Его слышишь (Ии 3:8). Но как это веяние-дыхание совместить с незыблемостью Предания?
Он: У русских христианских мыслителей я открыл свидетельство о Предании, столь же истинное, сколь и творческое. Оно было верно истокам, коренящимся в Писании и патристике, и вместе с тем способно к тому, чтобы в свете Пятидесятницы разгадать современный мир, который нас окружает, изгнать из него злых духов, войти в него, чтобы преодолеть и превзойти. Мне открылась возможность согласия между евангельским духом и мягкой плавностью обряда. Но Предание Русской Церкви я не отделяю от Предания византийского, сирийского… Первой, точнее, фактической встречей с православием была для меня поездка в Сопотчаны в Сербии, где я увидел его, так сказать, «во плоти», в реальной истории. Предание есть язык нашего исповедания. Оно придает ему форму, смысл, память, священную память, которая образует нас самих. Но и священная память не должна каменеть. Из православных катехизисов мы многое узнаем о христологии, но почти ничего – об Иисусе из Назарета. Живой Иисус словно уходит за стену Его определений. Быть христианином, на мой взгляд, значит не отделять ни Христа от Иисуса, ни Предание от Духа Святого. Однако ни Иисус, ни Христос, ни Троица, ни Дух Святой не принадлежат лишь одним христианам или историческим Церквам. Здесь есть ряд антиномий, которые следует принимать. Я не отказываюсь видеть проявление Божественного начала во всем, ибо все являемое свет есть, как говорит апостол Павел.
Я: Такое видение, вероятно, стало основой Вашего экуменизма. Знаете ли Вы, что экуменизм в России сейчас почти бранное слово? Чтобы уничтожить чью-либо репутацию как православного, его ругают экуменистом.
Он: Tiens. (Труднопереводимое восклицание, которое можно передать как: «смотри-ка», «вишь ты». Так, улыбаясь, он встречает известия, которые ему не совсем по душе). Разумеется, я наслышан об этом. И это меня не удивляет. Россия, как и большинство православных стран, которые едва вышли из «ледникового периода», еще долго будет оттаивать. Не думайте, что за двадцать лет организм такой огромной страны, как ваша, может измениться. Возьмите Запад; вы не представляете себе, сколь нетерпимой была Римская Церковь лишь немногим более полувека назад. Это теперь, в эпоху, начавшуюся после Второго Ватиканского Собора, она расточает улыбки всем, а раньше лишь за простое участие в молитве с протестантами, да и с православными тоже, вы рисковали отлучением. Этот комплекс страха перед другим, боязнь заглянуть в другого, чтобы невзначай не узнать там Христа, всегда прикрывается борьбой за чистоту риз. Рано или поздно это изживет себя.
Я: Но разве нетерпимость к искажениям истины – anathema sit! – не входит органически в то наше наследие, которое и составляет суть православия?
Он: Вслед за многими святыми и просто отцами я повторяю: православие – это Христос. И потому оно бесконечно больше своих конфессиональных границ. У России есть вселенскость, которой, наверное, нет ни у какой другой страны, есть глубина, которой я не встречал нигде и ни у кого, есть красота, граничащая с откровением Божиим, в котором распахивается что-то предельное, изумительное, и, вместе с тем, ее мучат демоны какой-то навязчивой исключительности (которая, разрастаясь, порой вырождается в этнический или обрядовый нарциссизм), ксенофобии, специфического комплекса неполноценности-превосходства, и все это выливается в религию, где безмерность спорит с воинствующей узостью… Французы иногда могут ненавидеть Францию (вспомните Л. Ф. Селина и стольких других), но у них нет того мучительного чувства беспочвенности, которое, бывает, относит вас к противоположному берегу, к этой разгоряченной романтике крови и почвы на русский манер… И все же какой бы она ни была, я уже не могу представить своей жизни без России, ставшей уже как бы частью меня. Святой Сергий и святой Серафим, Достоевский, Солженицын, ваши новомученики, Флоренский, Булгаков, Бердяев, мать Мария Скобцова, Лосский, Евдокимов, старец Силуан и Софроний Сахаров, о. Александр Мень, говоривший, что «христианство только начинается», наконец, ваши юродивые и ваши поэты – какими бы разными они ни были – это часть моей внутренней биографии. Скажу больше, Россия, именно она, стала для меня путем к открытию вселенской тайны человека.
Я: Я думаю, что в основе вселенскости, которую называют экуменизмом, должно лежать новое осмысление человеческой природы Христа. Иисус был наиболее суров с теми, кто был близок Ему по вере (Порождения ехиднины! (Мф 12:34) – фарисеям; Отойди от Меня, сатана! (Мф 16:23) – Петру, камню Церкви), и как мягок, уступчив, диалогичен с «еретиками» – женщиной у колодца, сиро-финикиянкой, римским сотником, попросившим исцелить его слугу. Если Христос пребывает в центре нашей жизни, почему мы должны проклинать тех, кто думает о Нем иначе? Хуже, чем проклинать, ибо в проклятии еще остаются высохшие семена любви, доставшиеся бесу гнева – отворачиваться, равнодушно и принципиально не желать знать непохожее и чужое. Говорю не об иных исповеданиях, но о людях.
Он: Если бы ты знала дар Божий… (Ин 4:10) – обращается Иисус к самарянке. Если бы мы знали дары Божии, которые можно найти у других. В диалоге религий или конфессий мы должны начинать не с формул, а с тех даров, которые заложены в личности каждого. Ибо все эти дары – от Христа. Он присутствует в них. Кто отлучит нас от любви Божией? (Рим 8:35) – восклицает апостол Павел. Только любовь узнает человека даже за его масками.
Я: Нынешнее ужесточение, даже ожесточение, которое переживает православие во многих странах, не только в России, по-своему неизбежно. Конечно, оно выдает явную растерянность перед лицом глобализации, пришедшей вместе с вызовом и невероятной тяжестью и вместе с тем легкостью свободы, которая свалилась на плечи людей и Церкви. Отсюда возник эстетически-идеологический проект «православной цивилизации» с ее утопией сакрального общества и религиозностью XIX-го, иногда даже XVII-ro века, проецируемой в будущее. Нечто подобное уже было однажды в начале послевоенной церковной оттепели, допущенной Сталиным. Кстати, и сталинское общество тяготело к своей антихристовой сакральности, из которой и по сей день не так просто вырваться. Она до сих пор околдовывает черной, серой, наркотической магией, в которой сами понятия правды или лжи теряют свои смыслы и очертания, она заманивает, засасывает в себя именно обаянием непобедимой силы и пародией на цельность и справедливость. И потому никакие обличительные разоблачения не грозят его главному жрецу, ибо человеческие гекатомбы любой высоты – составная часть его жреческой дьяволиады. Впрочем, преобладает другое: отворачиваясь от недавней и неусвоенной истории, мы почти инстинктивно рвемся в нашу «святую даль», в эту взлелеянную ностальгией сакральность – истовый монархизм, морализм, обрядоверие, готовые растоптать всякое проявление духовной жизни, если оно возникает за возведенными нами стенами.
Он: Я воспринимаю Церковь как таинство, как впрочем, и все Священное Писание, которое универсально и открыто бесконечному разнообразию восприятий. Мы совершаем его, облекаем таинство в обряд, исповедуем, участвуем в нем, но сама божественная основа его остается скрытой. Никакая вера не может вместить ее целиком. Образы Церкви как тайны таинства можно найти и за пределами видимых ее выражений. Мы, православные, получили бесценное наследие веры, так почему бы нам не быть и великодушными, узнавая, угадывая следы того же богатства и у других?.. Если по мере сил и возможностей мы должны искать видимого единства с другими христианами, ни в чем не поступаясь своей верой, это вовсе не значит, что нам нужно создавать из множества религий одну, удобную для всех, чего так боятся многие православные. Не нужно никакой всеобщей религии, это было бы действительно каким-то вавилонским смешением вер. Но угадывать, узнавать лик нашего Господа за всяким «добрым», сущностно прекрасным проявлением его в мире, когда это возбранялось?
Я: Вы говорите об «анонимных христианах»?
Он: Конечно, нет. Пусть не обидится на меня Карл Ранер, но на последней, на христовой глубине, нет «анонимных христиан», есть либо святость, либо безумие. Я думаю, что идея «анонимности», хоть за ней и стоит верная интуиция, восходящая еще к св. Иустину Философу, есть своего рода мирный договор, предложенный враждебному секулярному миру: будьте теми, кем хотите быть, но мы будем считать вас своими. Но откровение Христа каждому человеку – знаю по опыту – превосходит всякого человека, и оно есть призыв к святости.
Я: Но если мы встречаем святость за стенами…
Он: Подлинная святость свободна от всяких стен. Возьмите Добротолюбие, книгу об Иисусовой молитве, об аскетике, о хранении сердца, которую можно представить как сокровенную душу православия. И вместе с тем она далека от какого-либо конфессиона-лизма. Макарий Коринфский, который подбирал тексты, и Никодим Святогорец, который их обработал и составил из них книгу, представляя св. Григория Паламу, оставили в стороне его наиболее полемические тексты против латинян. Тот же Никодим перевел и адаптировал для греков несколько католических трактатов. А метод исихии, священнобезмолвия, изложенный в Добротолюбии, настолько близок к бенедиктинскому рах, что становится очевидным: православная Церковь несет в себе свидетельство о Церкви нераздельной, в которой коренятся все христианские конфесиии, прорастают разные традиции вплоть до Индии и Китая, – не ради смешения, но ради общения во Христе, – где человек Запада не теряет своей личности, но по-настоящему ее обретает. Как говорили св. Силуан Афонский, о. Думитру Станилоэ, о. Лев Жилле (писавший под псевдонимом Монах Восточной Церкви), церковность Добротолюбия охватывает все человечество и все мироздание.
Я: Но разве Добротолюбие не учит прежде всего строгой аскезе, доступной лишь для немногих избранников?
Он: Аскеза существует вовсе не для умерщвления нас и не ради какого-то мазохизма, как многие думают. Ориген говорил, что нам нужно не подавлять естественную деятельность нашей души, но очищать ее. Смысл аскезы в том, чтобы умерщвлять смерть, которая таится в нас, и оживлять жизнь, которая нам дарована. Ибо смерть, по сути, главная из человеческих страстей. Аскеза преобразует наше смертное тело в тело литургическое, освобождает нас от «мира сего» как марева гипнозов и иллюзий, чтобы открыть перед нами мир Божий, мир в Боге, в таинстве Его творения. Так, например, пост в широком смысле – это добровольное ограничение наших потребностей, чтобы свести «делание» к его изначальному порыву к Богу и Его творению. Пост изгоняет две главные страсти, которые живут в нас: сребролюбие и гордыню. Пост помогает нам обнаружить бесконечную глубину тварных существ, которые окружают нас. То же можно сказать и о целомудрии и о бдении, т. е. хранении сердца.
Я: Суть страстей, о которых говорится в Добротолюбии — это обогащение нашего я, служение ему против Бога, вместо Бога, иными словами, это форма идолослужения, которое может быть сколь угодно разнообразным. За каждым «кустом», выросшим из слов, дел и особенно помышлений, может прятаться грех, впрочем, не очень и стараясь, чтобы его не заметили. Но вот что примечательно: грех манипулирует нашим разумом, который дан для познания, в том числе и богопознания. Но насколько грех присущ самому нашему мышлению? И вопрос, ему параллельный: насколько Бог вообще доступен мысли? Как Он может уложиться в понятие? Мне кажется, католическое решение, что разум, мол, естественным путем может познать Бога, проходит мимо тайны беззакония, которая действует и в разуме. Что бы Вы сказали об этом?
Он: Я опять вернусь к Добротолюбию, в котором доминируют идеи Евагрия. Евагрий опирается на votiq, на разумение в его духовном измерении. При этом оно пронизано интуицией Макария Великого, который считает, что основным органом познания Бога является сердце. Точнее: сердце составляет «сущность» познания, а «нус» представляет собой его энергию. Этот аристотелевский словарь не должен скрыть от нас победу библейского понимания человека над греческим интеллектуализмом. В сердце, которое освещает луч Солнца-Правды, рациональность и жар души, разум и влечение преобразуются, открываясь бесконечному.
Я: Значит, сердце в себе надо еще открыть…
Он: Да, открыть переменой ума, метанойей. В этом удивительное свойство восточного видения человека: оно ведет нас к восприятию божественной глубины в нем. Человека нельзя объяснить на уровне человека. Слово «этос», которое мы унижаем тем, что переводим в этику, означает обычай, привычку, пребывание. Гераклит сказал: Пребывание (бывание) человека – Бог.
Я: Апостол Павел говорит о тайне, сокрытой от веков и родов и открытой святым… которая есть Христос в вас, упование славы (см. Кол. 1: 26–27). Но то, что мы видим в повседневной жизни и прежде всего, в себе – от славы далеко. Это завороженное, захмелевшее от себя самого я подобно раковой опухоли, разросшейся между мной и небом.
Он: «Человек – идолопоклонник самого себя», – сказано у преп. Андрея Критского.
Способность к поклонению, заложенную в его природе, он обращает на свое я. Тем самым он отворачивается от Источника жизни, чтобы вернуться в ничто, из которого был создан. Он становится рабом смерти, смерти не в смысле конца, которым завершается всякая человеческая жизнь (этот конец можно считать знаком милосердия Божия), но в смысле опыта смерти. Мы накапливаем его в себе, и порой именно он обращает нас к поиску вечности. Вспомните возглас разбойника на кресте: Мы… достойное по делам нашим приняли (Лк 23:41).
Я: Мне думается, что аберрация памяти, постигшая нашу эпоху, которую я, в отличие от многих моих единоверцев, никак не склонен считать наихудшей в истории человечества, это радикальное забвение именно этих слов. Иным путем, потеря благоразумия перед лицом смерти и наказания. Бегство от смерти не только в повседневном существовании, но и во внутреннем опыте. Евангельское благоразумие пробуждается в крестном опыте: Помяни меня, Господи… (Лк 23:42)
Он: Силой животворящего Креста человек обретает способность преобразить всякое пребывание в смерти в бывание Воскресения. Христианское существование через метанойю обращено к Пасхе как событию внутреннего человека, его сердца. «Сердце человека создано столь большим, – говорит Николай Кавасила, – чтобы вместить Самого Бога». Вместить не в понятие, а в сердце. Перед Богом и в Боге человек открывает самого себя. Откровение означает любовь, являющую красоту Христа. В этой красоте – секрет всех человеческих лиц, великолепие всего, что сотворено.
Я: Вместе с Павлом Евдокимовым Вас можно назвать богословом красоты, потому что воспринимаемая нами красота творения означает беседу с Богом.
Он: Богословие красоты содержится уже в Библии и в самом учении о Троице. Красота остается последним прибежищем христианства, которое вырождается в болтливый морализм, как на Западе, или жесткое законничество, как на Востоке. Но все начинается с лица, с умения наконец увидеть его. Почти в каждой из своих книг я говорю о том, что открыл в опыте: христианство – это религия лиц, причем не всех лиц, взятых вместе, а каждого в отдельности. Лицо есть оттиск любви Божией, Христос учит нас читать его. Сегодня именно эта вера переживает кризис. Именно поэтому лицо стирается в современной цивилизации, вспомните о живописи ушедшего XX века. Коль скоро всякая великая культура, в том числе и искусство, происходит из культа, наша сосредоточенность на самовыражении, на угадывании самого себя в мгновенности и преходящести своих впечатлений, становится культивируемой реальностью, торжеством субъективности, которая не хочет знать ничего, кроме замкнутого в ней мира, и вместе с тем отчаянно взывает к общению. «Следует заменить выдохшуюся психологию человека лирической галлюцинацией материи», – как говорил Маринетти.
Я:…которая перерождается в галлюцинацию нашего я. Меня всегда беспокоил вопрос: как отделить красоту-откровение, отблеск правды, стоящей за вещами, от красоты-подделки, в которой художник окружает себя зеркалами своей самости и низводит в это Зазеркалье все мироздание. В наше время это разделение становится особенно видимым, я сказал бы, ранящим. Разделение между тем, что изначала было хорошо весьма, и тем, что у Иоанна Богослова именуется мир сей.
Он: От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою (Иез 28:17), – говорит пророк Иезекииль. Человек ищет овладеть всем, к чему прикасается его рука или взгляд. И все же – подумайте – из всего созданного Им Христос окликает его. «Видимые вещи углублены через невидимые», – утверждает Максим Исповедник.
Я: И Владимир Соловьев, и Пастернак с его «образом мира в Слове явленного…». Только Слово следует научиться писать буквами и мощью Иоанна в его Прологе…
Он: Да, и Владимир Соловьев, и Рильке, и столько других. Но обратите внимание, образ мира в Слове не скрывается где-то за вещами, за «незримыми очами», как у Соловьева, он живет в самих вещах, как божественный луч, наполняющий собою все созданное. Человек призван к тому, чтобы отразить этот луч, этот Логос, придать ему образ и смысл, явить славу его.
Патриарх Афинагор говорил мне: «Когда приходит февраль, я жду, что зацветет миндальное дерево во дворе патриархата, я спускаюсь, чтобы присоединиться к этому славословию, к песне прославления, которое поет миндальное дерево». Так и мир должен через человека стать образом образа.
Я: В мире, однако, мы видим нечто иное: агрессивная секуляризация и обезбоживание, с одной стороны, с другой – продолжающаяся сакрализация утопий. Испуганный, почти истерический эсхатологизм и активное вытеснение «памяти смертной» до последнего предела, предельная рационализация жизни на Западе (что мы видим прежде всего в биологических экспериментах, в манипуляциях жизнью) и всплеск архаических религий, усталое бегство в буддизм, яростное – в ислам, психоделическое – в самые диковинные секты, «дикорастущий» культ тела, культ эроса и подновленный, извлеченный из какой-то архаики культ звезд… Вновь входит в моду реинкарнация, которая, как Вы говорите, предстает как увлекательный туризм в потусторонне для особо важных персон. И одновременно с этим все растущий этический вызов историческим Церквам, виновным в тысячелетнем подавлении человека, обороняющимся, как всегда, бескрылым морализмом, но остающимся, в сущности, безмятежными, безмерно упоенными собой… Все это принято называть постхристианством.
Он: Нет никакого постхристианства, нет и не будет. Через все это пробивает себе путь, скорее, инохристианство, которое, не изменяя своей непреходящей основе, должно еще открыть свой лик. Несколько лет назад я говорил об этом на конференции, посвященной секуляризму, который проходил в Венеции. То, о чем вы говорите, это клубок новых и старых обольщений или «прелестей», как называют их на аскетическом языке. Сегодня то, что нам необходимо более всего – это вновь обрести Церковь, открыть ее заново как место обитания Слова, которое говорит о полноте бытия, Слова, которое являет славу Божию, иногда, изредка узнаваемую в творении, в сердцах и глазах людей. Славу, которая есть истина. Истина-слава нуждается в том, чтобы ее открывали, наполняли ею все бытие… Иже везде сый и вся исполняяй, – как мы молимся, обращаясь к Святому Духу, Который несет в себе материнское начало (на арамейском – языке Иисуса – Дух женского рода). Особая юность христианства – в том, что оно все время открывает себя заново, оставаясь неколебимо верным древним корням, разоблачая мороки мира и продалбливая видимую коросту даже и в самих Церквах. Бог возвещает о Себе там, где мы ищем Его – но и в ином, нежданном-негаданном. И это всегда Бог любви; вчера, сегодня, завтра Тот же. Он «изображается» повсюду, кроме зла и греха, как в «месте обитания Своего» – Церкви с ее таинствами и преданиями, – так и в других верованиях, в безмерности мироздания, в премудрости, вспыхивающей и гаснущей вокруг нас. Вся Премудростию сотворил ecu! – сотворил для жизни, преображения, космической Пасхи.
Я: Оливье, Вы прожили счастливую жизнь. Но теперь Вы уже почти два года прикованы к постели, скованы болью и неподвижностью, лишены возможности писать и даже диктовать. Рядом с Вами – любящая семья, перед Вами – квадрат неба за окном. Но в Париже – не так, как на Вашем Юге – небо редко бывает солнечным… Чем же стала для вас болезнь?
(Здесь, чтобы память не подвела, привожу слова из последнего интервью, которые дошли до меня случайно. Весной 2009 года, в поезде, пожилая итальянская пара, сидевшая впереди меня, читает журнал. Мне бросается в глаза большая фотография Оливье Клемана и рядом текст одного из последних его интервью. Через некоторое время, когда журнал отложен, извиняюсь за непрошенное вторжение, прошу одолжить мне его на несколько минут. Увы, название журнала где-то затерялось, но я выписал из него несколько фраз. Вот они в моем переводе).
Он: Каждый день, просыпаясь, я вижу крест с колокольни, на которую выходит мое окно, а за ним, вдалеке, собор Сакре Кер на Монмартре… Крест и сердце, двуединый знак любви Божией. Сердце Божие – рядом… Умирание стало для меня временем новых открытий. Я научился заново видеть облака. И птиц, пролетающих за окном. И даже ветер. Можно, оказывается, видеть движение ветра. Ко мне иногда приносят горшки с растениями, и я вглядываюсь в их рост. Могу наблюдать за ними часами и молиться. Но главным было открытие новой глубины надежды. Время умирающего – ожидание. Ожидание и терпение. Если смерть для нас – это падение в ничто, время окрашивается тоской. Но если смерть – ожидание встречи со светом, умирание наполняется надеждой. Для старика, как и для ребенка, нет завтрашнего дня. Есть только сегодняшний, есть мгновение, в котором вера способна преобразовать тоску в надежду, смерть в воскресение.
Мне приходилось слышать свидетельства людей, вырванных в последнюю минуту у смерти. Я не верю, что мы умираем в одиночестве: Христос ждет нас, ждет каждого в его смерти, даже самой одинокой, охваченной наибольшим отчаянием. Но важно и то, чтобы в последний момент на твою руку, на твой лоб легла рука близкого человека. Это как бы последнее прикосновение материнства…
(из нашего последнего разговора по телефону)
Он: C’est la fin. Это конец. Ну, что ж… Во свете Твоем узрим свет… И милосердие, безмерное милосердие… Благодарность.
Январь 2010
От русской любви ко вселенской (Монах восточной церкви)
Всякий, кому попадется его Иисус очами простой веры непременно спросит: кто же автор его? Книга слишком личностна, предельно интимна. И в то же время подчеркнуто безымянна. В оригинале перед этим странным псевдонимом стоит неопределенный артикль un: не такой-то монах, а «один монах». Что стоит за таким обозначением? Иноческий кенозис, особая христология, подчеркнутая приверженность восточному христианству? Монах не хочет, чтобы сказанное им обрастало его индивидуальностью, именем, известностью, «местом в литературе». То, что он говорит о Христе, должно быть пропущено в читательском восприятии через призму лишь трех реальностей: монашество, Восток, Церковь.
Церковь, Восток, монашество – три составные части одного призвания. Автор Иисуса родился в городке Сен Марселей на юго-востоке Франции в 1893 году. Семья была достаточно обеспеченной и ревностно католической. Его отец, Анри Жилле, идя по стопам отца, стал судьей. Он оставит свой пост, когда решит, что судебная система наводнена франкмасонами. При крещении мальчик получил имя Луи в честь Людовика IX, святого короля Франции. Четыре поколения спустя на похоронах архимандрита о. Льва Жилле, по его просьбе, помимо православных молитв, будут прочитаны и латинские. Те, которые он слышал когда-то в детстве.
Семена Востока прорастают в нем уже в школе. Его первая любовь – русская литература, она останется с ним на всю жизнь. 17-летним студентом он жадно следит по газетам за агонией великого и мятежного старца на станции Астапово. Толстой в его восприятии пожелал жить по заповедям Блаженства и Нагорной проповеди, но не сумел. В этом возрасте каждому кажется: но я сумею. Однако в 20 лет сердце его пронизывает иной огонек – некая болгарская княжна становится адресатом его любовных писем. Окончив Университет в Гренобле, он надеется получить место преподавателя французского языка в Софии.
1 августа 1914 года. Во Франции объявлена всеобщая мобилизация. 25 сентября на передовой Луи Жилле получает два пулевых ранения в руку. Он теряет сознание, попадает в плен. В лагере для военнопленных он встречает русских, так ему предоставляется неожиданная возможность научиться их языку. Благодаря заботам семьи его переводят в Швейцарию. В Женеве уже на вольных правах (война еще не кончилась) он изучает психологию и психоанализ. После войны, вернувшись на родину, он намеревается продолжать прерванное образование. Франция тех лет (тогда их назовут «безумными») в чаду победы после пережитого ужаса хочет наверстать упущенное за военные годы. Иное «безумие» касается Луи Жилле. В январе 1920 года его семья получает письмо из бенедиктинского монастыря Сен Морис де Клерво в Люксембурге, в котором сын и брат уведомляет родных, что становится бенедиктинским послушником.
Автору этих строк довелось провести в этом монастыре несколько дней для чтения лекций о Православии. Семь богослужений в день по слову Псалма 118 (Седмикратно в день прославляю Тебя), первое из которых – в 4 утра, в оставшееся время – строгое безмолвие и физический труд. Луи Жилле косит сено и собирает в стога. В монашестве он ищет разрешения внутреннего кризиса. В его памяти то и дело всплывают знакомые слова, которые потом скажет ему реформатский пастор в Женеве: Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной. Тогда, как богатый юноша, он отошел с печалью.
В Клерво он остается недолго. Из монастыря он выходит уже в сутане. «Ко мне обращаются «преподобный отец», – пишет он в одном из писем, – окружая мою одежду, если не мою недостойную персону, почитанием, которое меня тяготит». Летом 1920 года он отправляется в другой бенедиктинский монастырь на юге Англии, страны с которой потом будет связана большая часть его жизни.
В Риме, где Луи Жилле оказывается с целью пополнения богословского образования, он приносит временные монашеские обеты. Он встречает там греко-католического митрополита Андрея Шептицкого и будущего настоятеля Шевтоньского монастыря восточного обряда Ламберта Бодуэна. С ними будет связан первый период его монашеской жизни. Университет св. Ансельма, куда он послан учиться, задуман как центр восточных исследований, предназначенный для бенедиктинцев. Папа Пий XI, избранный на конклаве 1922 года, рассматривает его как интеллектуальный оплот для продвижения Римской Церкви на Восток. Из изучения традиций восточного монашества, чтения Достоевского, общения с м. Андреем Шептицким, но более всего из внутреннего, растущего в нем любовного притяжения в душе Луи Жилле зреет «русская мечта». Она приводит его во Львов, точнее в Лавру Уньов, место служения митрополита. Он меняет сутану на рясу, отпускает бороду, становится о. Львом.
Город Львов (Львив, Лемберг, Леополи…), точка пересечения Запада и Востока Европы, находится в то время на территории Польской Республики, почти на границе с СССР. О Лев испытывает особое духовное обаяние митрополита Шептицкого, но прежде всего – неодолимый зов таинственной и необъятной России, которая лежит совсем рядом, стоит лишь пересечь границу. Кусочек бересты, сорванный в лесу во время прогулки, вызывает в нем острую ностальгию по стране, которой он никогда не видел. Но как попасть туда? Один план – получить визу в качестве, например, корректора древних и новых языков, найти работу в каком-нибудь издательстве. Другой, безрассудно наивный, – проникнуть нелегально. Но Ангел-Хранитель его оказывается на страже, ни один из этих планов не был осуществлен. Тем временем он принимается за изучение русских философов, в особенности Соловьева, затем греческой патристики. И мечтает о «русском Христе». О встрече с Ним в сердце страны странников-богоискателей, подвижников, героев Достоевского.
В 1925 году Лев Жилле приносит постоянные монашеские обеты. Митрополит Андрей рукополагает его в священники. Рукоположение, как он пишет матери, происходит «не по униатскому обряду, а по правилам великого схизматического монастыря Киево-Печерской Лавры». С Лаврой, которую он никогда не увидит, о. Лев считает себя связанным навеки. В этот период идея соединения Церквей на путях встречи восточного и западного (прежде всего бенедиктинского) монашества овладевает им окончательно. Мечта не просто о возвращении Восточных Церквей под эгиду Рима, но о восстановлении видимого общения между ними на равных требует активной проповеди, своего рода миссионерства примирения, на котором он настаивает вовремя и не вовремя.
Для Рима той поры – совсем «не вовремя». В январе 1928 года выходит энциклика папы Пия XI Mortalium Animos, в котором прямо, твердо и однозначно провозглашалась традиционная католическая доктрина относительно единства Церкви, папы, спасения и отколовшихся сообществ. «Экуменистов» того времени (термин еще не вполне устоялся), иронически называемых «панхристианами», энциклика безоговорочно осуждает. Движение «панхристиан», основанное на современном гуманизме и ложно понятом понятии любви, объявляется грехом против Духа Святого. Никаких иных путей к единству, кроме возвращения к единому стаду и единому пастырю, Небом с его посольством в Риме тогда не было предусмотрено. (И сегодня, вся аргументация против экуменизма в православном мире кажется иногда повторением в разбавленном виде той же стройно аргументированной энциклики 1928 года. Разве лишь с заменой нескольких конфессиональных слов и латинской четкости на яростную полемику «с пеной на губах»).
Римская жесткость вызывает у о. Льва кризис веры. Мечта о единстве отныне попрана и раздавлена. Он подумывает отказаться от всего, чем жил до той поры – священства, монашества, рясы и уйти в мир «вольным верующим». В Ницце, где он переживает кризис, поставивший его на грань разрыва с католической Церковью, о. Лев встречает православного архиепископа Владимира (Тихоницкого), близкого сотрудника митрополита Евлогия Георгиевского, в то время главы Западноевропейского Экзархата Московской Патриархии. (Вынужденный их отход от Москвы и присоединение к Константинополю произойдут двумя годами позднее). Наконец он видит настоящего, совсем не книжного, подлинного русского монаха, живущего молитвой. Встречи с людьми часто определяют самый существенный наш выбор. О. Лев находит, наконец, ту веру, ту духовность, тот тип людей, которые он всегда искал. Но что скажет его друг, наставник, сыгравший такую роль в его жизни, митрополит Андрей Шептицкий?
Вопреки ожиданию митрополит Андрей сам разрубает этот узел. В ответ на письмо о. Льва он пишет: «Сто раз повторяю вам: Не думайте обо мне. Ищите только истину и благодать. Делайте то, что будет Вам внушено Богом». 25 мая 1928 года в небольшой часовне князя Григория Трубецкого в Кламаре под Парижем, по благословению митрополита Евлогия о. Лев впервые сослужит о. Сергию Булгакову, декану Свято-Сергиева института, в качестве уже православного иеромонаха. На службе среди мирян, привлеченные необычным событием, присутствуют Николай Бердяев, Лев Карсавин, Георгий Флоровский, Марина Цветаева, Константин Бальмонт. «Отныне ничто не отделяет меня от моих братьев, – пишет о. Лев в большом письме к матери, которую должен будет поразить и огорчить выбор сына. – Я нахожусь в полном общении с Восточной Католической Церковью или Церковью Православной. Мне не от чего было отрекаться… Я не изменил ни единой буквы того «Кредо», который читал и ранее… Мне даже предложили поминать имя м. Андрея во время служения литургии…»
Говоря о внутренней перемене, происшедшей с о. Львом Жилле, нелегко подобрать точные слова. Принятие Православия ни в коем случае не было разрывом с собой прежним, что сам он не раз подчеркивал. Он отнюдь не намерен объявлять «мораторий» на свое католическое прошлое. Даже термин «обращение» здесь не вполне уместен. Просто «душа сбылась», как сказала о себе Марина Цветаева, именно в этом русском, восточном лоне обрела себя и внутренний мир. Нашла в себе старую, всегда юнеющую веру под спудом прежней с ее человеческими напластованиями. «В Восточной Церкви, – пишет он в другом письме, – я открыл свет Христов более чистый, но это тот же свет, отнюдь не другой, который светит и в Церкви западной». Для самого себя он так и останется в парадоксальной ситуации, «священника Римско-Католической Церкви, находящегося в полном общении с Церковью Православной». Утопию легче спрятать в дерзновенной шутке, чем в трактате или в какой-нибудь юрисдикции.
В 30-е годы Лев Жилле становится приходским священником в составе Русского Экзархата Константинопольского Патриархата. М. Евлогий возлагает на него послушание посещать православных во французских тюрьмах. Иеромонаху-французу выпадает на долю проводить на эшафот Павла Горгулова, русского анархиста, убившего в 1932 году президента Французской республики Поля Думера, посещать в камере певицу Надежду Плевицкую, жену и сообщницу генерала Скоблина, замешанного в похищении агентами ГПУ генерала Миллера. Теперь у него русская среда, когда-то чаемый им русский мир открывается перед ним изнутри. Но то, что недавно еще так притягивало его издали, на близком расстоянии начинает понемногу тяготить. Его отталкивает эмигрантская непримиримость друг к другу, непонятны эти выкопанные политические, юрисдикционные, догматические рвы и окопы, которыми исполосован русский Париж. Он посматривает на эти разделения с иронией, которая у него всегда на кончике языка. Беженский мир той поры горяч и по-своему притягателен по сравнению с западным холодком, но распираем изнутри страстями, которые выплескиваются наружу. В русских спорах он не слышит евангельского духа, в их испарениях ему трудно дышать.
В том же поворотном для о. Льва 1928 году м. Евлогий назначает его первым настоятелем французского православного прихода. Это событие сегодня, может быть, не привлекло бы особого внимания, но тогда на него по праву смотрят как на первый росток французского и даже европейского Православия. Отныне лицо Восточной Церкви будет не только восточным, не только национальным. Появляется его первая книга Введение в православную веру (Uintroduction a la foi orthodoxe, 1930), написанная в виде комментария ко греческому тексту «Символа веры». «Символ», по мнению автора, давно охладел и даже омертвел в душах многих его современников, он провозглашается больше умом, чем сердцем. О. Лев хочет сделать его живой, переживаемой истиной, выражающей не только умозрение Отцов, но и «сегодняшний день Бога», день, в котором живет Церковь, как и всякая верующая душа. Он не любит говорить об «опыте», тем более о «мистическом опыте», но ищет предельной честности и экзистенциальной наполненности каждого слова в исповедании, которое стремится донести до других. При этом сказанное им не должно быть слишком окрашено личностью, имеющей имя, фамилию и биографию. Даже выпущенный им тогда французский перевод Православия о. Сергия Булгакова, к сожалению автора книги, остается анонимным.
В 1934 году издательство YMCA-PRESS в Париже выпускает русский перевод его исследования Иисус Назарянин по данным истории – небольшой, научно аргументированный полемический трактат против вышедшего во Франции сочинения, которое оспаривало историческое существование Спасителя. До Иисуса очами простой веры она останется единственной книгой о. Льва, доступной русскоязычному читателю. Иисус как живая историческая личность, всегда, при всех поворотах – это внутренний стержень его духовной жизни. Тот, кто следует за евангельским Иисусом, находит Его повсюду. Не переступая канонических границ, не позволяя себе причащать инославных, о. Лев Жилле чувствует сердечную близость со всеми, в ком слышит отклик такой веры, независимо от конфессий. Эта близость не приводит его к «экуменизму заседаний, деклараций и пятиминуток общей молитвы», но к своего рода негласному братству учеников, узнающих Иисуса в глазах друг друга. О. Лев верит, что Христос пребывает во всех Церквах.
В мае 1936 на берегу Тивериадского озера его охватывает переполняющее его чувство присутствия. Не приняв ни формы, ни образа, оно поглощает его целиком. О. Лев ощущает себя покоренным, пронизанным светоносной силой, подобно Савлу на пути в Дамаск. Эта пронизанность, покоренность отзовется потом во всем, что он будет говорить и писать. И станет затем невидимой основой его веры. В различные моменты своей жизни Лев Жилле, по его словам, ощущал свой контакт с «трансцендентной реальностью», которую ему дано было слышать, безо всякой звуковой формы, но с совершенной достоверностью соприкосновения с ней. И слова, воспринятые им тогда, указывали ему путь в решающие моменты его жизни.
Он относился к роду «очарованных странников», не имеющих ни постоянного места служения, ни собственного жилища, ни имущества. Всю свою священническую жизнь о. Лев Жилле проживет, не получая никакого дохода от алтаря, перебиваясь случайными, чаще всего символическими заработками (редактора в журнале, периодического лектора, консультанта в научном институте и т. п.). Тело свое после смерти он завещал медицине, все добро его помещалось в небольшом деревянном чемодане. С таким имуществом в феврале 1938 года он оказывается в Лондоне. Он приехал в качестве активного члена экуменического братства свв. Албания и Сергия, одним из вдохновителей которого был прот. Сергий Булгаков, а председателем – м. Евлогий. В ответ на его призвание к вселенскости, митрополит благословляет о. Льва на экуменическое служение, которому он останется верен до конца жизни. Лондон, который он всегда любил, мыслится им тогда как временное пристанище, но станет постоянным до конца жизни. Здесь его застает война. Здесь же он открывает для себя новую духовную реальность, обозначаемую им, вслед за св. Иустином Философом, как Диалог с Трифоном.
Диалог с Трифоном – это двухтысячелетний спор Синагоги и Церкви. Все открытия о. Льва начинаются со влюбленности. Нацистское помешательство Германии, принявшейся за истребление евреев, побуждает о. Льва взяться за изучение иудаизма. Плодом диалога с ним становится написанная по-английски книга Общение в Мессии (Communion in the Messiah, 1942), где он, как священник Русской Православной Церкви, не будучи ни евреем, ни гебраистом, признает тяжелую ответственность своей общины за преследование евреев. И хочет в малой степени исправить или возместить это своей книгой. Иудаизм не сводится, как думают многие христиане, лишь к Ветхому Завету, с которым волей-неволей они еще готовы мириться, иудаизм – это тысячелетнее предание, которое живо и сегодня. О.Лев верит во встречу иудейского и христианского мессианизмов. Как и Церковь, Израиль навсегда останется corpus misticum. Как и Церковь, будучи не от мира сего, он остается в мире. И в этом мире Израиль всегда будет инородным телом, «возбудителем смуты», закваской социальных волнений и провокаций, не сознавая, что подлинная его роль – разбудить мир для поиска и обретения истинного Бога. В Его славе, Его Шехине, на Кресте. Увлекшись своего рода духовным сионизмом, о. Лев позднее осудит сионизм политический. «Очарованному страннику» нельзя не быть одиноким. На всех путях.
Во время варварских бомбардировок Лондона он помогает при тушении пожаров. Посещает украинцев в составе польской армии в Англии. В рамках братства свв. Албания и Сергия о. Лев вовлечен в интенсивный диалог с англиканской Церковью. «Я поставил себе правилом, – говорил он, – не говорить ни одного слова, которое могло бы служить разделению, но нести Господа тем, кто жаждет Его». В этом духе написана его другая книга по-английски Духовная жизнь в Православии (Orthodox spirituality, 1945). Московский Патриархат, к которому он в то время принадлежит, возводит его в сан архимандрита. Он рад назначению, не откажется и от епископства, если оно будет предложено. Но в Ливане, куда он отправляется в составе русской миссии после войны, непреходящее очарование Россией не мешает ему быстро понять, что существует определенная церковная политика на Ближнем Востоке, и она, в свою очередь, – лишь инструмент общегосударственной политики СССР. И что ему, архимандриту Льву Жилле, в этом проекте отведена тоже какая-то роль. Он просит отпускную грамоту у Московского патриархата и, получив ее, присоединяется к греческому Экзархату Вселенского Патриарха в Англии. По-французски выходят его книги: Отче наш, Заметки о литургии. Будь Моим священником…
Знаменательным был выход в свет Иисусовой молитвы (La Priere de Jesus, 1951). О. Лев ставит задачу не только рассказать об этой молитве, «душе» Православия, остающейся почти неизвестной Западу, но и приобщить его к практике «умного делания». Он совершает смелый шаг: сближает призывание имени Иисусова с латинским почитанием Святого Сердца, распространившегося на Западе в последние три века. Он готов идти и дальше, проводя аналогию между призыванием имени Иисуса и поклонением «несказанному Имени» в иудейском благочестии. Наша душа призвана стать горницей Тайной Вечери, где имя Господа может занять место хлеба и вина, освящаемых Христом. Имя Его – приношение, оно несет в себе всего Христа, заключает в себе тайну и полноту Присутствия… Словосочетание «Монах Восточной Церкви», которым подписаны его книги и статьи, становится известным благодаря Иисусовой молитве, но в особенности Иисусу очами простой веры (1960).
Эта маленькая книга сделает загадочного «Монаха» почти знаменитым. Но никакая слава не нужна ему, она так и не раскроет его настоящего имени. Лев Жилле ревниво следит за тем, чтобы близкие друзья не выдали его секрета. Авторские права на книгу он отдает Шевтоньскому монастырю в Бельгии. Для мира он остается тем же чудаковатым иеромонахом без прихода, странствующим с потрепанным своим чемоданом из страны в страну. В Англии он живет в подвале дома, где располагается братство свв. Албания и Сергия. В этом доме, которому было дано имя св. Василия Великого (Saint Basil’s House), он служит по утрам в часовенке (расписанной сестрой Иоанной Рейтлингер) для крошечной общины из двух монахинь, а дни проводит в библиотеке Британского музея. По словам митр. Каллистоса Уэра служение о. Льва отличает простота, свобода, обнаженность слова. Его отталкивает всякий клерикализм, подчеркнутая иерархичность, ритуал, условности, помпа. Он подолгу бывает в Ливане, заезжая в Каир и в Александрию, но более всего его привлекает Святая Земля (куда в знак солидарности с арабами он больше не приедет после Шестидневной войны 1967 года). В Париже, куда он возвращается время от времени, он пытается возродить франкоязычный православный приход и иногда ведет курсы в Свято-Сергиевом подворье, основывает вместе с Оливье Клеманом, Павлом Евдокимовым и другими православный журнал Контакты, организует «Православное братство», которое он сравнивает с новой Пятидесятницей. Вслед за Симеоном Новым Богословом говорит о «внутреннем крещении Духом Святым», к которому должен стремиться каждый христианин. Его почитание Духа Святого и соприкосновение с Ним прикровенно раскроется в его книге Голубка и Агнец (La Colombe et l’Agneau, 1979).
В то же время он сможет утверждать: «почти все мое время и мое внимание посвящено христианству, скрытому христианству, бродящему в великих нехристианских религиях». Он избегает высокого богословия, хотя и настаивает, что христианская вера должна быть отчеканена в понятиях. Однако спор о Filioque кажется ему недоразумением. Вместе с тем он не любит «экуменических спектаклей», не приемлет никакого синкретизма, своего рода синтеза всех верований, собранных под куполом некой сверх-Церкви. Он следует своему призванию: быть со Христом, открытым в Его вселенскости на Востоке.
«Пасхальным утром, – пишет он в одном из писем 60-го года, – перед мечетью Омара, в ограде древнего иудейского Храма, я, француз, некогда священник Римской Церкви, пребывающий в общении с греческим Православием, читаю по-английски группе протестантов-европейцев отрывки из Корана, касающиеся Иисуса. Это знамение моей жизни». По его словам, он повинуется Духу, призывающему его идти к «неожиданному Христу», скрытому в других. Не позволяя себя никакого «евхаристического гостеприимства», «гостеприимство духовное» он раскрывает для всех.
Его переписка, как и рассеянное по миру собрание множества проповедей, оставшиеся, насколько мне известно, неопубликованными, это, может быть, основная часть его пастырской работы. Его приход – весь мир, скажет о нем о. Михаил Евдокимов. В последние годы он продолжает служить в доме св. Василия, до назначения священников из Москвы служит в приходе Московской Патриархии в Оксфорде, участвует, насколько позволяет возраст и болезни, в регулярных духовных уединениях с учениками в Женеве. «Я всегда говорил только одну вещь, – скажет о. Лев незадолго до кончины, – inter et per omnia Christum unice dilexit quern quaesivi» («Во всем и через все я всегда искал и любил только Христа»).
«В нем было, – пишет Оливье Клеман в предисловии к его биографии, написанной Элизабет Бер-Зижель, – что-то от старца, но старца иронического, порой саркастического, несомненно, в силу сохраняемой дистанции и целомудрия… Его приближение к тайне, каким оно предстает в его последних больших работах, было одновременно в сильной степени апофатическим и кенотическим. Божественная реальность для него – по ту сторону всякой концептуализации, нам может быть доступен лишь свет, от нее исходящий. Но Бог по ту сторону Бога есть также Распятый, страдающий Победитель…»
В день своей кончины в Лазареву субботу, 29 марта 1980 года, он, как обычно, отслужил литургию в часовне своего дома в Лондоне, затем вышел немного пройтись, а, вернувшись, взял библиотечную книгу, погрузился в чтение… Одна из монахинь, живших в том же доме, находит его усопшим. Над его гробом в греческом соборе Лондона во время православного отпевания звучат, согласно его воле, отрывки из Священного Писания (Псалом, Иеремия, Иов, Ев. от Иоанна, ап. Павел), а вслед за ними – отрывок из погребальной римской службы. Его читает давний друг о. Льва митрополит Антоний.
«Все усилия, все боренья, терзавшие его личность, порой столь порывистую и смущающую, – говорит он в надгробном слове, – были устремлены к одной цели: встрече с Господом, Которого узнало его сердце и Которого он искал на всех сложнейших путях своей жизни со всей решимостью, со всем мужеством, которые были ему свойственны. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение, – мог бы сказать он.
И вот он завершил свой путь. Он простерся перед Господом и Богом своим, перед своим Спасителем в безмолвном поклонении, в тайне причастия».
Эта тайна, которая жила в нем, образует фон и настраивает его книгу об Иисусе. По-французски, буквально, она называется: Jesus, simples regards sur le Sauveur. Иисус. Простой взгляд (в подлиннике во множественном числе) на Спасителя»[149]. Простота означает, видимо, то, что Апостол называл немудрым мира, т. е. неученым, не научившимся должным, сложным «правилам веры», умеющим лишь говорить с Господом. Эта даже не беседа, но письмо о любви. Иногда оно может показаться слишком чувствительным, велеречивым, страстным в западном, католическом смысле. Но ни одного слова в ней нельзя заподозрить ни в наигрыше, ни в ритуальном славословии.
Здесь нет рационального богословия, которого он сторонился, но есть множество богословских прозрений, которые каждый может открыть для себя сам. Секрет этой книги – в воздухе общения, который сразу, с первых строк, наполняет легкие читателя. Возможно, тон ее не всегда совпадает с той интонацией, с которой мы обращаемся к Богу. Монах Восточной Церкви посвящает нас в свое обращение, в котором он постоянно живет. В таком обращении или исповедании есть что-то пугающе детское. Если не обратитесь, и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Легко понять, почему эта книга, среди моря других книг об Иисусе, имела то, что называется в нашем мире «успехом». Потому что христиане хотят быть детьми с Богом и быть влюбленными в Него. Правда, не любят в этом признаваться.
Иногда я чувствовал, что некоторые слова – не мои, признается он. И это «не мое» захватывает читателя, становясь «его». Это слова о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами… Веры простой, как влюбленность.
IV
Истина, спор, молчание «Пролог к разговору» о Хайдеггере
I. Крестьянские башмаки
«…На картине Ван Гога мы не можем судить, где стоят эти башмаки. Вокруг них ничего, к чему они могли бы относиться, есть только неопределенное пространство. Нет даже земли, налипшей на башмаках в поле или по дороге с поля, а эта приставшая к башмакам земля могла бы, по крайней мере, указать на их применение. Просто стоят крестьянские башмаки, и кроме них нет ничего. И все же.
Из темного истоптанного нутра этих башмаков неподвижно глядит на нас тяжесть неспешных шагов во время работы в поле. В суровой прочности башмаков накопилось упорство долгого пути вдоль широко раскинутых и всегда одних и тех же борозд… На их коже осталась сырость и сытость почвы. Одиночество забилось под подошвы этих башмаков, одинокое возвращение с поля домой вечерней порою. Немой зов земли слышится в этих башмаках, земли, одаряющей зерном, земли с необъяснимой самоотверженностью ее полей в зимнее время.
Но мы, наверное, только видим все это в башмаках, нарисованных на картине. А крестьянка просто носит их. Если бы это было так просто – просто носить их. Когда крестьянка поздним вечером, при сильной и здоровой усталости отставляет в сторону свои башмаки и в предрассветном сумраке снова берется за них или же в праздник проходит мимо них, всегда она, и притом без всякого наблюдения и разглядывания, уже знает все сказанное»[150].
«…Просто стоят крестьянские башмаки, и кроме них нет ничего. И все же».
Приведенное описание стремится передать приметы того, что создано Ван Гогом, и прочитывается в их созданности. Мы смотрим на обувь крестьянки как на художественное творение (Kunstwerk). Если взять эту обувь как просто вещь, то, вполне очевидно, что она служит своей цели тем лучше, чем меньше замечаются какие-либо особые ее свойства или, «чем полнее она, – как говорит Хайдеггер, – растворяется в своей услужливости». В то же время его описание стремится приблизить нас к этой вещи до такой степени, чтобы мы могли отвлечься от ее изображения и узнать в ней те особые ее свойства, которые просвечивают в произведении художника. Описание, оттолкнувшись от изображения, отправляется к самой вещи, чтобы раскрыть ее изнутри, угадать, осветить ее пониманием. Пара крестьянских башмаков представлена Хайдеггером одновременно в двух измерениях: как просто вещь и как художественное изображение этой вещи Ван Гогом. Как просто вещь, принадлежащая быту крестьянки, она растворяется в привычном для нее окружении вещей, сливается с той пользой, которую она приносит, или с тем значением, которое она приобрела в повседневном обиходе. Тот обыденно незаметный способ, в котором протекает для нас существование всякой вещи, образует своего рода ее укрытие. Но в художественном творении вещь освобождается от того, что ее скрывает. Художник наделен особым зрением, позволяющим ему увидеть вещь как она существует, не повседневно, но изначально или «непотаенно». Изначальный сущностный способ бытия вещи есть ее «несокрытость», «непотаенность» т. е. бытие вещи вблизи ее истока, который определяет ее назначение (Ge-schick).
Приведенное описание – попытка расколдовать эту изначальную «явленность» вещи. Оно берет ее готовой, раскрытой, преподанной живописцем, и отмечает то, что в ней передано. Изображение пары крестьянских башмаков становится пересказом поведанного художником: тяжести неспешных шагов во время работы в поле, одиноким возвращением в сумерки, тревожной заботой о хлебе, а затем и зовом земли, дарящей зерно, наконец – за горизонтом проговариваемого – предчувствием смерти. Несокрытость вещи, та открывающаяся за нею даль многих ее отражений, та сопричастность другим вещам и совокупность всех связей с ними, в которых обнаруживается присутствие вещи в мире, становится видимой и внятной благодаря ее художественному воспроизведению. В нем раскрываются подлинные признаки вещи, среди которых важнейшим следует считать ее свойство быть, ее способность присутствовать или, словами Хайдеггера, «сохранять свою изначальную бытийную сущность». Художественное творение восстанавливает вещь в ее изначальной бытийной сущности. Оно представляет ее в истинном виде или, иначе говоря, «растворяет истину вещи». В художественном творении истина, присущая изначальному бытию вещи, появляется на свет, словно «распахивается» перед нами. Созидание творений, искусство прокладывает путь для появления истины; искусство же представляет собой особый способ «совершения» истины бытия сущего.
II. Как существует вещь
Так, вероятно, можно было бы рассказать в нескольких словах о том, как Хайдеггер понимает сущность искусства. Подобный рассказ было бы нетрудно усвоить, что, однако, не означает, что мы дошли до самой сути. Скорее он мог бы послужить лишь психологическим введением в подлинное понимание, для которого необходимо не только более глубокое проникновение в суть дела, но и поиск соответствия тому мышлению, которое эту суть выражает. Философское приближение к мышлению Хайдеггера требует, чтобы мы максимально погрузились в разряженную атмосферу его языка, его стиля, образа мысли и на некоторое время заставили себя оставаться в ней. Необходимо последовать за теми вопросами, которые ставит этот мыслитель, но главное – попытаться ставить их так, как он сам формулирует их, что, однако не обязывает нас следовать за всеми его решениями. В данном случае автор полагает своей целью, придерживаться того мышления, которое традиционно сложилось в качестве «философии Мартина Хайдеггера», взяв в качестве точки отсчета его осмысление одного произведения искусства. Это не означает еще, что мы собираемся покорно пройти весь тот круг исследования (или вопрошания, если держаться и его слога), который очерчен им самим. Цель того пути, который мы собираемся проделать, – попробовать найти выход из «хайдеггеровского круга», преодолеть его замкнутость. Преодолением мы можем называть уже осознание того, что мы сталкиваемся с границами, которые оказываются неодолимы для такого-то образа мышления, такого-то метода. Критика любого мыслителя не предполагает непременно внешнего нападения на него; спор изнутри в философском отношении всегда существенней и эффективней, поскольку ведется он не только на почве каких-либо высказываний мыслителя, но по следам пути, который был им проложен.
При этом во избежание возможной неясности следует подчеркнуть, что, выступая поначалу от имени Хайдеггера и его учения об искусстве, мы попытаемся раскрыть прежде всего авторскую интерпретацию этого учения. Мы как бы вступаем в игру на его условиях, т. е. принимаем его язык, его особую логику и поставленные им вопросы. Основной вопрос, как мы знаем, относится к сущности искусства; в конкретной форме он может быть отнесен к сущности художественного творения, которое «раскрывает истину». Истина заключена в вещах. Во всякой вещи изначально истинно то, что она «есть» как такая-то вещь. Эта самая близкая из стоящих к нам истин. В приведенном отрывке была сделана попытка показать истину бытия вещи (т. е. «как» существует и «является» эта вещь). Рассказ мыслителя вольно и вместе с тем строго следует за изображением художника, первым показавшего истину бытия вещи. Но, как сказано, первому показу истины уже предшествует некое молчащее знание о ней. Все, что можно было сказать об этих башмаках, уже известно крестьянке, причем «без всякого наблюдения и разглядывания». Истина прежде своего раскрытия в художественном творении уже пребывала несокрытой в памяти человека.
Коль скоро то, что показано, «обнажает» истину бытия вещи, то вещь может стать известной нам и помимо творения. Значит, для раскрытия истины как таковой вовсе не требуется ни творения, ни творчества? Если же истина присуща в равной степени обоим своим воплощениям, т. е. вещи, самой по себе, и вещи, изображенной, явленной в произведении искусства, то чем тогда отличается «истина вещи» от «истины творения»? Что собственно делает творение творением, каковы особые приметы творения и как мы узнаем их? И, наконец, что есть сама истина, о которой известно (мы принимаем это в качестве посылки), что она «бытийствует» в вещи и являет себя в творении, и каким именно способом произведение художника служит ее раскрытию?
III. Что мы считаем вещами
Не стоит принимать этот перечень вопросов за кроссворд, требующий замысловатой расшифровки. Они – лишь ориентиры, которые приглашают следовать за собой. По крайней мере, согласиться с их логикой. Согласие означает, что мы готовы допустить в этих вопросах какую-то правомочность, значимость или серьезность. Об этом можно было бы и не говорить, если бы хайдеггеровская проблематика и прежде всего тот язык, в который он облекает свою мысль, не ставились бы под сомнение. Сомнение нередко выражается теми, кто принципиально отрицает право на существование в качестве философской проблемы любого высказывания, которое не может быть названо истинным или ложным в рамках формальной логики. Мышлению такого рода, которое не может обойтись без доказательства, более того – исходит только из рационального знания, сам Хайдеггер столь же решительно отказывает в праве называться философией[151]. Его путь – это путь вопросов, которые, разворачиваясь, как бы вытягивая друг друга, постепенно складываются в единое целое и перерастают в ответ. «Всякий подлинный ответ, – говорит Хайдеггер, – есть только самая крайняя точка самого последнего шага длинной череды отдельных шагов, отдельных спрашиваний. Всякий подлинный ответ до тех пор остается в силе как ответ, пока он укоренен в вопрошании»[152].
Заданные вопросы основываются на различии вещи и творения. Но разве художественное творение – не вещь, разве не свойственна «вещность» любому из произведений искусства? Разумеется, свойственна. «Творение зодчего заключено в камне. Резьба – в дереве. Живопись – в краске. Творение слова – в звуках речи. Музыкальное творение – в звучании»[153]. Творения суть вещи среди других вещей. Поэтому путь к пониманию творческого в творении может исходить также из понимания сущности или, как говорит Хайдеггер, вещности вещи. Мы уже указали, что истина подлинного бытия вещи раскрывается в творении, т. е. творение становится проводником истины. Истина же соответствует «вещности» вещи. Истину следует искать в том, как «вещность» ее воплощается в творении.
Но прежде всего – что мы считаем вещами? «Камень на дороге есть вещь и глыба земли на поле. Кувшин – вещь и колодец на дороге. Но что сказать о молоке в кувшине и о воде в колодце? И это тоже вещи, если облако на небе – вещь, и если лист, срываемый осенним ветром, и если коршун, парящий над лесом, по справедливости именуются вещами»[154]. «Каждый уверен, что он знает: вещь есть то, вокруг чего собрались и скопились такие-то и такие-то свойства»[155]. Но если вещь сама по себе обладает одними свойствами, то художественное творение, которое доносит до нас истину – вещность вещи – совсем другими. Какими бы знаниями свойств вещи мы ни обладали, они не раскроют перед нами ее вещность. Если взять, например, какую-либо из вещей, скажем, гранитную скалу, и начать изучать ее свойства – описав ее внешний вид, измерив вес и объем скалы, расколов ее на куски, чтобы заглянуть внутрь, и т. п. – мы все же не достигнем понимания ее вещности. Не достигнем мы его и тогда, когда подойдем к вещи со стороны логического или философского ее осмысления и назовем любую из находящихся в природе или изготовленных человеком вещей «складом формы и вещества» или объединением субстанции с акциденцией, или совокупностью чувственных данных или объектом, находящимся в поле зрения субъекта, и т. п. Сущность вещи, через которую вещь полнее всего доносит свою вещность, вообще не может быть понята с помощью каких-либо определений. Всякое определение, по мнению Хайдеггера, закрепляет только некий способ человеческого видения вещи; в конечном счете, оно всегда приводит лишь к рациональному самопознанию субъекта. Поэтому ни одно из подобных определений не приближает нас к вещи, но лишь замыкает и сковывает видение ее. В первом видении человека открывается подлинный, хотя и непроницаемый для разума выход к вещи-без-нас, к бытию вещи в себе. Этот выход закрывается затем в субъективизме познания, живущего в Новое время под знаком декартовского ego cogito cogitatum, при котором вещь приобретает достоверность в своем бытии только благодаря «захвату» ее нашей мыслью. Бытие требует не отражения издалека, не закрепления рассудком, но полного растворения в мышлении человека. Т. е. возвращения бытия к самому себе в мышлении. Такое возвращение есть скачок (der Sprung) в совершенно иную область, нежели та, в которой мы привыкли мыслить. Это область самого бытия вещи, «явленность» вещи в бытии, дар бытия. Здесь происходит переключение мысли, поворот от субъективизма определений, от познания свойств или знаков к области бытия, к тайновидению бытия. Слово «бытие», которое не исчерпывается ни одним из понятий, созданных разумом, не покрывается ни одним из явлений в мире, берется теперь в качестве отправной точки мышления.
Человеческое я должно ощутить себя творением, пребывающим в просвете бытия, вобрать в себя множество его отражений, рас-творить бытие вокруг себя – в несокрытости. Но если для нас такой опыт не выходит за пределы мистики или умозрения, то некогда он мог присутствовать в повседневной жизни людей. Хайдеггер отсылает нас здесь к золотому веку европейской культуры. «Вот какова бытийная сущность человека в великое время греков – быть созерцаемым созерцающим его сущим, быть воспринятым в разверстые просторы сущего и быть носимым этими просторами, быть гонимым его противоречиями и отмеченным его двойственностью»[156].
IV Решения метафизики
Бытийная сущность человека лежит в основе его опыта бытия, каковой никаким эмпирическим опытом быть не может. Но благодаря такому опыту, становится возможным постижение истины сущего, чей век для Хайдеггера просиял когда-то в «великом времени греков». Стало быть, вновь мы встречаемся теперь со столь характерным и потому столь традиционным для немецкого мыслителя обращением к античности? Несомненно. Но какую роль играет оно на этот раз, какого рода истину мы найдем в тех «разверстых просторах сущего»?
«При упоминании о Греции, – говорит Гегель, приступая к изложению истории греческой философии, – образованный европеец и, в особенности, мы, немцы, чувствуем, как будто очутились в родном доме»[157]. Родной дом, однако, менялся при взгляде на него издали, он был пристанищем гармонии, населенной мраморными статуями, совершенными людьми и бессмертными богами, как и трагическим театром, на сцене которого античная душа разыгрывалась как мистерия. Речь идет не только о двух различных картинах мира, но и о различии метафизического обоснования этих картин и тем самым о различии метафизических истин. Поэтому, если сегодня, когда это давно стало историей, мы говорим об «аполлоническом» или «дионисийском» восприятии античности, то можно представить себе также и аполлонический или дионисийский облик истины. В этих наименованиях запечатлены не только два различных истолкования греческого мира, но и две различных культуры. Слово «культура» не означает здесь мировоззрения мыслителя или какого-либо направления мысли, так же как оно не определяется и тематикой тех или иных произведений или запасом накопленных знаний и идей. Культура определяется историчностью, ибо речь идет об истории истин. Одно и то же воззрение (скажем, теория мифов) может быть просто суммой древних грез, произведением искусства, научным открытием или метафизической истиной. И в этом последнем случае истина, вырастая на почве определенной метафизической культуры, подчиняет эту культуру себе, делает ее своим сосредоточием, своим «исходом», когда весь строй собранных философией истин подвергается коренной переработке ради последней (по времени и по смыслу) замыкающей истины. В данном случае метафизическая культура мыслителя – это корень, из которого возникает новая история метафизики. Слово «культура» указывает здесь на историческую реальность метафизики. Это понятие связывает метафизическое наследство с наследником; оно означает единство цели и метода (разыскания истины), оно указывает на общую настроенность (пафос) поиска. Мартин Хайдеггер выступает в данном случае последним законным наследником метафизической культуры; он обращается к античности, причем к античности самой ранней, к «великому времени греков» для того, чтобы отыскать там истоки метафизики и, осмыслив их, вернуться к дометафизическому пониманию сущности истины.
Цель его в том, чтобы застать истину еще до того, как она скрылась в метафизику. Но что такое метафизическая истина? Хайдеггер ставит вопрос так: чем была истина на протяжении всей истории западноевропейской философии, начиная с Платона? Его ответ: истина была истолкованием существующего, именованием сущего. Всякий раз истина о сущем понималась как нечто мыслимое и реальное, которое нуждалось в подлинном обозначении, однако в понимании истины всегда забывалось реальнейшее, а именно то, что позволяет сущему оставаться сущим в лоне не имеющего никакого имени бытия. Метафизика была особым способом истолкования сущего при забвении самого бытия сущего.
Метафизика находила сущее в несущем – в лоне ничто. Сущее осмысливалось и именовалось как присутствие того, что «есть» в ничто. Сущее обособлялось в мышлении от Ничто благодаря тому, что оно мыслилось как такое-то сущее-имя, именовалось как определенное понятие. Так, например, Платон называл сущее, которое лежит за всем видимым, словом (5е&, но за этим словом было уже трудно угадать его первоначальный источник, это только имя для того, что «есть», что лежит в основе всего при-сутствующего. История европейской метафизики, которая для Хайдеггера начинается с Платона и завершается Ницше, – это история толкований сути сущего, такая история отнюдь не движется к истине (к дометафизической истине бытия), но удаляется от нее. Это история заблуждений, но заблуждений, вызванных необходимостью самого бытия, которое постепенно отступает от человека.[158]
Однако тропинка метафизики, пока она уводит в сторону от основы сущего, исходит от истины о сущем, от изначальной несокрытости сущего, от истины-несокрытости. Связь с этой истиной или созвучие (Einklang) с ней было наиболее конкретно и ощутимо у самых ранних греческих мыслителей-досократиков. По мысли Хайдеггера, мышление досократиков – Гераклита, Парменида (которым он посвятил университетские курсы, вышедшие затем большими книгами), Анаксимандра было «настроено» Логосом, собирающим в себе бытие. Их мудрость – aocpov, которая еще при жизни сделалась предметом глубочайшего почитания, подражания, но также насмешки и глумления, есть не что иное, говорит Хайдеггер, как воплощение или «собранность» Логоса самого бытия сущего. Философия в собственном смысле слова началась уже со следующего шага на ступеньку вниз от aocpov; она явилась на свет с вопроса: что это такое? – обращенного к сущему, но сущему, уже как бы отступившему от бытия, от того Логоса, в котором были собраны истоки всего, что есть. Такой вопрос первым поставил Сократ, затем Платон и Аристотель. Что есть самое первое, самое реальное, причина всего при-сутствующего? При этом центр тяжести переносился на «что» (xi – по-гречески), и этому «что» давались различные имена (добрая энергия, идея, ens creatum в средневековой философии, cogitatum – у Декарта, абсолютный Дух, познающий самого себя в развитии – у Гегеля, воля к власти – у Ницше и т. д.). Исторически сложившийся порядок таких ответов о сущности «что», об обосновании всего существующего, по мысли Хайдеггера, и есть история европейской метафизики.
Метафизика была истолкованием сущего на основе «забытого» ею бытия, это значит, что в недрах самой метафизики уже лежала определенная двойственность, своего рода незавершенность. Но сама двойственность была неизбежной, и попытка преодолеть ее, вернуться к изначальной истине, к «чистому» мышлению о бытии никогда не могла быть до конца успешной. Ее неудача в рамках любой философии объясняется тем, что истина самого бытия не может быть схвачена никаким определением, т. е. вообще не может быть философски осмыслена. Здесь мы касаемся загадки философского знания. Если мы знаем о сущем нечто определенное, скажем, что в глубине сущего лежит «идея», «дух» или что оно состоит из «огня», «воды», «материи», то наше знание относится уже к этому произведенному нами мыслительному продукту, а не непосредственно к сущему самому по себе. О сущем мы знаем только то, что оно «есть». Но то, что «есть» само бытие, всегда «выскальзывает» из нашего знания, и мы неизбежно задаем вопрос: «что» именно «есть»? или в «чем» выражено то, что «есть»? Чистое «есть» не может быть предметом знания, не может вообще мыслиться нами без вопроса о том, «что» оно есть?
Но это уже метафизическая постановка вопроса, и всякий возможный ответ на него будет уже определением имени сущего. Всякий ответ станет каким-то знанием, независимо от источника этого знания, причем знанием не о бытии сущего, как такового, но знанием о являющемся для нас «облике» сущего, о его составе, названии, идее, роли, наконец, о способе его присутствия среди того, что называется «миром». И как бы мы ни называли сущее в границах метафизики, «апейроном» или «волей к власти», мы неизбежно отвлекаемся при этом от неопределимого бытия сущего в сторону предметной его определенности, из которой бытие выпадает. Бытие нельзя знать, оно вообще не может быть мыслимо в границах философского мышления. Но именно это немыслимое, не доступное какому-либо знанию бытие, стоит в центре философского мышления Хайдеггера[159].
Да, бытие нельзя облечь или заключить в знание, – говорит он, – но при этом оно само тяготеет к тому, чтобы о нем мыслили и искали в нем знания. Бытие «нуждается» в своем не-истинном, половинчатом истолковании, которое предлагает метафизика, поскольку оно «нуждается»[160] в человеке. Бытию для того, чтобы стать бытием, необходимо найти себя в человеке. Бытие «допускает» свое раскрытие, но, раскрываясь, оно в то же время отступает и прячется от него. Поэтому его раскрытие всегда происходит наряду с сокрытием. И когда метафизическое мышление истолковывает сущее или, как говорит Хайдеггер, выносит свое «решение» (Entscheidung) о нем, оно сохраняет внутреннюю нерешенность в своей основе. Сколько бы усилий оно ни прилагало, оно всегда оказывается неспособным осмыслить то, к чему изначально призвано, – бытие сущего. Всякое решение, которое им выносится, служит своего рода искусственным разрешением от бремени, мнимым освобождением пленной мысли, временным компромиссом, найденным в споре метафизического мышления, взыскующего бытия, с самим собой. Метафизическое мышление и метафизический разум суть почва и арена для спора. Суть спора заключается в том, что требование или оклик (Zuspruch) бытия, постоянно обращенные к человеку, оспариваются человеческим рассудком[161]. Метафизика, развиваясь, на каждом этапе находила новое решение в этом споре, но никогда не снимала имманентную спорность в глубине метафизического разума. Всякое «решение» каждый раз было новым истолкованием сущего, но сущего, уже забывшего о своих корнях в бытии, скрывшемся в истолковании.
Можно сказать, что метафизическое решение, основываясь на бытии сущего, в то же время заслоняло сущим бытие. Отсюда ясно, почему метафизический разум никогда не мог найти окончательного разрешения спора, почему ни одно из его решений не могло стать последним, почему за каждым из его решений всегда таилась нерешенность. Хайдеггер, указывая на истоки этой нерешенности, остается в русле того мышления, которое мыслит в споре, не только неразрешаемом, но и не поддающемся окончательному осмыслению. Выступая в качестве критика метафизического разума, отказываясь от его двусмысленных решений о сущем, он обращается к смыслу бытия и к истине бытия и при этом обнаруживает в своем мышлении присущую метафизике двойственность и спорность. В данной работе будет сделана попытка раскрыть эту спорность, показать, как совершается спор в хайдеггеровском мышлении на примере его учения об истине-искусстве.
V. Судьба истины
Любое метафизическое решение в рамках истории философии создавало истину или превращалось в нее. Но истинность определенного рода всегда предшествовала каждому из решений. Это значит, что определению того, что такое сущее, уже предшествовало представление о том, как это сущее может быть мыслимо, какого рода решение может стать для нас истинным. Метафизика развивалась на основе подобных представлений, возможно, не до конца осознанных, но считавшихся объективными и обязательными. Истина обладала собственным временем и пространством, т. е. в различные метафизические эпохи решения выносились на основе свойственных им представлений об истине. В послесхоластической философии господствующее представление об истине определялось декартовским cogito ergo sum – в котором существование субъекта и всех сопричастных ему вещей удостоверялось мышлением самого субъекта. Таким образом, истина в картезианскую эпоху познания стала достоянием субъекта, противостоящего миру объектов, она стала пониматься как соответствие суждения вещи, т. е. как достоверность мышления.
Мышление субъекта – вот место истины в последекартовской метафизике, решения которой всегда выглядят результатом активности субъективного познания, приводящего в какую-то систему или организацию «страдательный» мир объектов. В эту рамку или, употребляя хайдеггеровский термин, в картину мира (Weltbild) укладывается вся западная философия Нового времени, всякое истолкование сущего, которое в логическом мышлении отражалось всегда как связывание субъекта и предиката. Несмотря на все разнообразие метафизических решений, принцип в каждом из них оставался неизменным: строение суждения должно соответствовать строению вещи. Но – говорит Хайдеггер, – «и то, и другое, строение суждения и строение вещи в своей слаженности и в своих возможных взаимосвязях берут начало в одном общем для них изначальнейшем источнике»[162]. «Изначальнейший источник» есть бытие, которое открывается человеку не в виде добытых им знаний, не в результате усилий ratio, служащего субъекту в качестве инструмента, организующего мир объектов, но в отказе от субъективности мышления и предоставлении самого себя потоку бытия, этому струящемуся океану, текущему через нас. Если в данном случае уместно говорить об активности человека, то она заключается лишь в том, чтобы открывать себя этому потоку, внимать его голосу (Stimme), следовать за ним, настраиваться (stimmen) на его звучание и переносить эту настроенность (ge-stimmheit) в округу здесь-бытия, в человеческую реальность. Для древнего грека (служащего как бы эталоном человека для Хайдеггера) эта настроенность осуществлялась в управлении полисом, в создании художественных творений, в «совершении» истории, в почитании богов и героев. Само бытие словно говорило его речами, действовало в его поступках, раскрывало себя в его мышлении. В настроенности выражалась особого рода активность и особого рода зависимость человека, при которой он становился слушающим (hörende) бытие и послушным (gehörende), принадлежащим ему.
Удивление – исток его мышления. И, разумеется, в эпоху, когда мышление было еще способно питаться из подобного истока, в «великое время греков», истина, как утверждает Хайдеггер, мыслилась совершенно иначе, нежели теперь – в век противопоставления субъекта и объекта. Иным было и понимание сущности вещи, поскольку всякая вещь «отсвечивала» гранью бытия всего сущего и эта принадлежность вещи бытию ощущалась человеком ближе, чем все ее внешние свойства и качества. Традиционное истолкование вещи как носительницы своих признаков возникло уже на почве метафизики. Метафизика отвернулась от бытия (ибо человек уже не смог вместить истины бытия в ее открытости и стал искать ее в метафизическом укрытии). И тогда метафизическое представление об истине стало истолкованием истины как достоверности мышления. Такое истолкование «не столь уж естественно, несмотря на то, что очень привычно и весьма распространено. Вероятно, только привычность давней привычки кажется нам естественной, а эта привычность забыла о том непривычном, из какового она про-истекала. А это непривычное однажды все же глубоко поразило человека, и, будучи поразительно странным, вызвало глубокое изумление мысли»[163].
Непривычность вещи, изумление мысли означает незаметный скачок, поворот мышления в новое русло. В новом русле осмысление сущности истины и сущности вещи происходит уже вне традиционных критериев правильности и достоверности. В новом русле мысль возвращается к «изначальнейшему источнику» – бытию сущего. Вблизи источника сама вещь понимается не с точки зрения ее свойств или какого-либо ее смысла, не в границах человеческого обихода, но в ее бытийной сущности. Но такому пониманию предшествует уже некая открытость истины бытия.
VI. Истина-достоверность, истина-несокрытостъ
Читателю может показаться, что многое из того, что говорится здесь об истине, бытии, несокрытости, не имеет под собой, по словам самого Хайдеггера, «никакой опоры наглядности». Завораживает странность его мышления, но еще чаще отталкивает. Многие из выводов, составляющих собственно ядро его философии, кажутся основанными только на неожиданных экскурсах в этимологию, на своевольном перекрое немецких или греческих слов ради извлечения некой упрятанной внутри их сути. Он раскапывает утраченные их значения как археолог, освобождает их от прилипшего к ним обиходного употребления, возвращая словам первозданность, так что потом их бывает невозможно узнать. Он пользуется языком как рудой для добычи драгоценных пород, расплавляя слова, переплавляя их в новые слитки и сплавы, его этимология напоминает опыты алхимиков над металлами; в этом занятии ощущается аромат колдовства, которое то притягивает, то дразнит рассудок. Такая философская манера вызывала в хайдеггеровской аудитории разноречивые чувства; она разделяла ее на увлеченных (можно сказать, покоренных) и раздраженных, становящихся порой его врагами. Поэтому Хайдеггера кто-то считает ясновидцем, кто-то – мистификатором, а большинство, как это ни странно, – тем и другим одновременно. Подобные оценки объясняются, на наш взгляд, тем, что философская манера мыслителя рассматривается отдельно от его мышления. Такой подход понятен со стороны неопозитивистов и лингво-философов, они вращаются в круге своих проблем, не имеющих выхода к Хайдеггеру. Однако трудность проникновения в его стиль и язык соответствует какой-то мучительности его мысли, которой приходится постоянно двигаться против течения, вопреки собственной воле повторять путь опровергнутой им метафизики, следовать традиции, им отвергнутой, мыслить разумом, который им «разоблачен». Поэтому его логика передвигается «скачками», мысль пробивает себе дорогу с огромным напряжением. Это напряжение переносится на язык, поскольку язык для Хайдеггера – не форма и не одеяние мысли; язык – это сама жизнь, внутри которой живет его мышление. Мы видим, что этот язык-мышление то скручен в какие-то насильственные обороты, то полон неясных обещаний, то отзывается неожиданным пафосом, пронизывающим ту «поэму» о крестьянских башмаках, откуда мы начали наш путь. Но при этом кажется, что главное в его учении остается нераскрытым и замкнутым, связанным как бы внутренними узами. Хайдеггер не отрицает этого. «Учение какого-то мыслителя, – говорит он, – это то невысказанное в его высказываниях, чему предан человек, с тем, чтобы ради этого расточить самого себя»[164].
Расточить – в чем? Чтобы понять это, следует пойти вслед за тем, что высказано и продумано им до конца.
То, что утверждает Хайдеггер, не ищет логических доказательств. По его мнению, истина, которая доказывается, лежит в сфере достоверности, устанавливаемой рассудком, в соответствии мысли и вещи, в правильности восприятия и мышления. «Высказанные суждения разума – вот место истины и лжи и их различия»[165]. Такое понимание истины было введено еще Платоном и Аристотелем[166]; оно господствовало во всей западноевропейской философии от схоластики и Декарта до Ницше. В истории понимания истины можно, условно говоря, обнаружить три этапа. О последнем «картезианском» этапе, когда истина имеет традиционный для нас смысл, уже сказано. Но такое традиционное истолкование истины стало возможным только благодаря тому, что некогда, на первом этапе, сущность истины передавалась словом a-letheia, что означает «несокрытое». Истина – не достоверность мыслимого, не правильность восприятия, но a-letheia, «несокрытое-явленное» («непотаенное», в переводе в. в. Бибихина), принадлежащее непосредственно бытию вещей, основочерта самого бытия. Истина – «признак» бытия вещи, то, что делает вещь бытий-ствующей, но не достоянием человека как субъекта.
Так мыслилась истина досократиками, истина и мышление об истине были у них еще нераздельны, однако уже у Платона «истина-несокрытое» сопрягается с идеей, «ставится под ярмо идеи», говорит Хайдеггер, тем самым приобретая ту двойственность, которая станет судьбой последующей метафизики. Идея (i5ea) в платоновском понимании, все еще основочерта бытия, несокрытое, но также и идея, в традиционном смысле подчиненная человеческому рассудку с его критериями истины и лжи. Это время, когда начинается двойственность (назовем его вторым этапом развития истины), продолжается до тех пор, пока истина окончательно не станет рациональной и поглощенной субъектом. Но даже в таком виде истина все еще опирается на ту первоначальную явленность бытия, в которой она когда-то возникла. Связь между этими двумя видами истин яснее всего проступает в немецкой классической метафизике Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля[167]. Однако в лице Ницше истина уже осознает себя особым «родом заблуждения»[168], и поэтому шаг, сделанный Ницше в истории истолкования истины, становится последним в этой истории. Так наступает эпоха завершения метафизики. Та истина, которая традиционно разыскивалась на почве соответствия мышления и вещи, теперь отказывается от себя самой; метафизическое вопрошание о сущности теряет под собой почву. Бытие как бытие сущего окончательно отворачивается от человека и исчезает из поля его зрения. Его мышление уже не затрагивает бытие, бытие уже не притязает (in Anspruch nimmt) на то, чтобы мыслить в человеке. Однако осмысливая сущее как предмет, понятие или слово, мышление все же остается в лоне бытия. Но сам человек не помнит об этом. Бытие стерлось с его памяти, потерялось где-то за давней привычкой обращаться исключительно к сущему не только практически, но и на самой вершине теоретического осмысления мира. Оно было размыто тем потоком мышления, для которого истина представлялась лишь «идеей» или достоверностью восприятия.
И все же мышление человека оставалось всегда на пути к бытию. Истина бытия обращалась к мышлению, и мышление всякий раз, когда ему удавалось расслышать требование или оклик истины, отвечало ей. Но, отвечая на оклик, создавая какие-то новые принципы или новые мифы об истине, оно в силу нерешенности вопроса о ней с самого начала, в силу своей роковой неспособности допустить или заимствовать для себя истину бытия, должно было в конце своего пути объявить все свои встречи с истиной «надувательством высшего порядка»[169]. А пресловутую метафизическую потребность в истине свести к какой-то почти биологической аномалии, свойственной «определенному роду живых существ».
Хайдеггер видит в этом итоге закономерность, неоспоримо свидетельствующую о завершении метафизики. Противоречие, которое имманентно всегда было присуще метафизическому мышлению, становится, наконец, явным, из умозрительных глубин оно поднимается на поверхность явлений, оно раскрывается уже в историческом процессе. После метафизического краха, выраженного и пережитого Ницше, европейское мышление оказывается перед неизбежным выбором. Условно говоря, перед ним открываются два пути. Первый путь – идти дальше, реально это означает – уйти из-под ярма метафизики, отбросить всю ее как миф и наваждение, вместе с бытийной ее основой, сохранив, однако, выработанный в метафизике критерий истинности (adaequatio intellectu et rei). Пользуясь этим критерием в заранее намеченных целях, следует приняться за практическое добывание истины как максимальной достоверности познания, как наиболее рационального и унифицированного способа приспособления познаваемого материала познавательному аппарату мышления. Второй путь – возвращение назад, означает также отказ от метафизики, от метафизической двусмысленности и нерешенности, но отказ ради бытийной ее основы, ради возврата к дометафизическому осмыслению истины бытия. Сама необходимость подобного выбора вытекает уже из распада метафизики, по крайней мере, в той ее форме, которая до сих пор была известна. Под «распадом» подразумевается раскрытие секрета метафизики и всякого метафизического решения о сущем. Это раскрытие, можно даже сказать, разоблачение метафизики ставит теперь мыслителя перед выбором философского основания для истины как достоверности мышления (которая, начавшись с «идеи», «образца» всякой вещи, завершается предметно-логическим расчетом) и «недостоверной» несокрытостью бытия.
Хайдеггер выбирает несокрытость – это известно. Неизвестно, однако, что собственно следует за этим выбором, что именно мыслится им под «несокрытостью» как истиной. Как вообще мышление справляется с истиной бытия? Она не выражается каким-либо знанием, и все же доступна и внятна для человека. Доступна – в изумлении мысли, в котором бытие «извещает» свою истину. Значит, изумление пролагает путь познанию? Или же оно неотрывно от него, или же оно само есть мышление, которое наполняется истиной? Изумление – это не только посредствующее звено при соединении с истиной бытия, оно есть и непосредственное явление истины. Или «совершение» истины бытия. Правда, такое изумленное познание в подлинном его виде Хайдеггер относит лишь ко «времени греков». Он описывает его как особого рода причастность изначальной сокрытости бытия; удивление у греков – как умение видеть, как дар к несокрытости. «Все сущее суть в бытии. Сказанное звучит тривиально, едва ли не оскорбительно. Что иное остается сущему как – не быть? И все же, именно то, что сущее остается собранным в бытии, что сущее выступает в сиянии бытия, привело греков, их первых, и только их, в удивление. Сущее в бытии было для греков удивительнейшим»[170].
Но что это такое – удивление? Не переживание, но соответствие (das Entsprechen) удивительному. Удивительное-сущее в бытии определяет внутренний строй человека, «настраивает» его на себя. Соответствие – это «настроение»[171], в котором лишь в особые моменты пребывали греки, когда сущее, окружавшее и открывающееся им, допускалось к истинному своему бытию в творчестве, в мышлении или в религии человека. Бытие в человеке, «предо-ставленность» его бытию есть удивленность. В удивлении восстанавливалась подспудная «неявная» гармония человека с бытием[172]. В удивлении рождалась, освобождаясь от забвения, истина бытия. Мышлению оставалось только следовать за раскрывающейся истиной, т. е. «вспоминать» о ней. Удивление было тем «воспоминанием», при котором возвращалась в память забытая истина бытия.
VII. Забвение бытия
Но почему истина оказалась забытой? И что означает ее забвение? Сущность забвения, как его понимает Хайдеггер, коренится в существе метафизики. При первом же метафизическом решении о сущем в мышлении человека произошло «отслоение» сущего от его основания – бытия. Метафизика есть уже признак забвения истины. Она подменила истину «знанием» о ней. Знание есть синоним метафизического имени или истолкования сущего. Метафизика совершила то, что говорили про Сократа, она свела философию с неба на землю. Она научила человека мыслить предметно, выделила из бытия существующие вещи, открыла во всем множестве вещей нечто единое и этому единству определила его «смысл». При этом она забыла, что вещи видимы ею на земле благодаря тому свету, которым они освещены с неба. Бытие и есть освещенность всякой вещи. Но этот свет был как бы поглощен знанием, забыт в мышлении о нем. Истина бытия осталась где-то за порогом метафизической памяти, в забвении.
Метафизическое забвение положило начало того рода забывчивости, из которой изгнано бытие и где целиком «овеществляется» сущее. Оно растворяется в «услужливости» вещей, в их функциях и значениях, в способах их употребления, в контексте их рациональной вещности. При таком «овеществлении» истина остается за горизонтом человеческого мышления. И все же она неотъемлема от него. Вспомним еще раз ван-гоговские башмаки: мыслитель, следуя за живописцем, передает изображение словом, но при этом не может обойтись без рационального осмысления изображенной вещи. Он ссылается и на память крестьянки, которая «без всякого наблюдения и разглядывания» знает все о своих башмаках». Можно было бы сказать, что она «помнит» о них. Они вписаны в круг знакомых ей вещей, как и всякая вещь из ее обихода, они – один из слепков «ее мира». «Мир» крестьянки – это не отпечаток ее восприятий и не образ мира невидимого, но единственность и зримость того сущего, через которое бытие открывает себя человеку. Этот мир запечатлевается в творении, и художник, очищая его от его привычности и бывалости, высвобождает человеческую память. Крестьянка помнит свой мир небывалым, т. е. бытийным, истинным.
Здесь, может быть, уместно задуматься о двух планах мышления – забвении и памяти. При забвении мышление становится как бы средством мыслимой вещи, вещного мира и определяется наглядной или вычислимой пользой вещи, ее целесообразностью, моделью ее использования. При этом всякое доступное для нас рациональное познание, которое неизбежно имеет дело лишь с какими-то строго очерченными границами вещи, основывается на забвении бытийной сущности познаваемого – на забвении бытия. «Забвение бытия ни в коей мере не есть следствие забывчивости мышления. Забвение бытия принадлежит самой скрытой сущности бытия»[173].
«Природа любит скрываться», – сказал Гераклит (фр. 123). Греческое слово Goaiq – природа, можно переводить и как создание, творение, существо, вещество, единство всего существующего. Оно обозначает все присутствующее в природе, присутствие всего сущего. Но это присутствие (Anwesen)[174], которое включает в себя все существующее, ускользает от обыденного человеческого разумения, от привычного взгляда. Оно «забыто», поясняет Хайдеггер, утрачено в забвении, что заставляет нас предположить, что некогда человек еще был связан с этим всеобъемлющим присутствием сущего. Слово «некогда» в данном случае условно, оно не указывает на прошлое, но всегда принадлежит настоящему. Мы сказали, что голос бытия «настраивает» человека, но человек лишь изредка замечает эту настроенность, и еще реже выносит ее в творчество или в мышление. Бытие «любит скрываться»; оно «окликает» человека и отворачивается от него. Вот почему Хайдеггер говорит о «бытийной сущности человека» – «быть гонимым его (сущего) противоречиями и быть отмеченным его двойственностью». Бытие для нас утрачено в забвении.
«И раз все в природе друг другу родственно, а душа все познала, ничто не мешает тому, кто вспомнил что-нибудь одно – люди называют это познанием, – самому найти и все остальное, если только он будет мужествен и неутомим в поисках, ведь искать и познавать – это как раз и значит припоминать»[175]. Так говорит Сократ у Платона, и слова «искать и познавать» имеют здесь приблизительно тот же смысл, что и творить и мыслить у Хайдеггера. Дело не только в «воспоминании», с которым сопряжена истина у того и другого, но и в том, что в обоих случаях под истиной подразумевается нечто весьма близкое: подлинный образец, вид (эйдос) вещи (Хайдеггер). Обоим мыслителям свойственно стремление искать истину в самих вещах, для обоих истина вещей стоит выше мнения смертных о вещах[176]. При этом «истина бытия вещей» или вещь «в истинном своем виде» принадлежит области, к которой некогда был причастен и человек до тех пор, пока он не был изгнан оттуда и наказан забвением. Указание на время имеет в обоих случаях чисто мифологический характер, поскольку возможно движение вспять, т. е. возвращение на свою былую родину, которое происходит лишь благодаря особого рода памяти. Память – это путь, по которому движется диалектическое размышление у Платона и философское и художественное осмысление у Хайдеггера. «Память, – говорит он, – есть собрание (Versammlung) памятного в том, что прежде всего следует осмыслить. Это собрание ограничивает и скрывает нечто, что бытийствует как сущностное (Wesendes) и окликает как существовавшее (gewesenes)»[177]. И коль скоро художнику надлежит осмыслить вещь, скрытую в памяти, то его осмысление означает раскрытие истины вещи или предоставление несокрытости бытия вещи творению. Художественное творение есть своего рода «воспоминание», т. е. про-изведение истины через память.
В чем же сущность истины? Что мы знаем о ней? То, что истина причастна бытию, делая его непотаенным. Чтобы найти истину, ее следует «вспомнить», извлечь из забвения. Знание об истине не должно быть ни достоверностью восприятия, ни логической правильностью мышления, ни исчислением ее меры, ни каким-либо рациональным расчетом. Будучи первоначальным местом встречи человека и бытия, истина предоставляет бытию единственный выход в человека. За этим выходом бытия открываются уже различные способы допущения и «разыгрывания» (Ausspielung) истины человеком. Истина бытия «разыгрывается» в искусстве (когда она облекается в игровую оболочку творчества) так же, как и в самом мышлении об истине. И все же, несмотря на это разнообразие описаний и пояснений, мы все еще не готовы ответить на главный вопрос: что есть истина?
VIII. Истина как спор
«Истина, – отвечает Хайдеггер, – в своей сущности есть не-истина. Итак, нужно сказать, сказать с чрезмерной даже резкостью, что несокрытости как просветлению принадлежит отвергающая неприступность по способу сокрытия»[178]. В этих словах, столь характерных для него по смыслу и по стилю сказанного, заключен не только принцип хайдеггеровского понимания истины. В них, может быть, и «пафос» его мышления. Итак: «истина… есть не-истина», «бытие любит скрываться». Истина пребывает в забвении, забвение человека коренится в сокрытости бытия. Можно сказать, истина скрывается в не-истине, она загораживается или отвергается ею. В то же время истина уступает не добровольно и не полностью, но постоянно преодолевает или оспаривает не-истину внутри бытия. Или: истина существует как спор с не-истиной. Когда истина рас-творяется, извлекается, выступает на свет (то, что происходит в художественном творении), спор изнутри выносится на поверхность. Он становится явным, метафизически ощутимым, иначе говоря, спор раскрывается или «учреждается» в художественном творении. В этом споре совершается истина бытия, истина противоборствует не-истине, сокрытость вытесняется несокрытостью. Мы хотим оттенить непрерывность движения или «усилия» спора, однако это «движение» лежит вне какого бы то ни было времени. Спором определяется только сущность истины, поскольку эта сущность не может быть целиком схваченной в рациональном знании так же, как она не может окаменеть в бытии. Спор есть движение, которое переполняет неподвижность произведения искусства, а само оно есть неподвижное совершение спора. Но если в творении сокрытое оспаривается несокрытым, в творчестве, происходящем во времени, истина добывается памятью, преодолевающей забвение. В творчестве восстанавливается бытийная сущность истины бытия.
Мы говорим об истине бытия и о творчестве человека. Но как перекинуть мост от одного к другому, как следует соединить их в философском мышлении? «Бытие есть окликающее обращение к человеку и не бывает без человека», – говорит Хайдеггер[179]. Но, судя по другим высказываниям, бытие «есть» раньше и прежде человека. Бытие может скрываться от человека, удаляться от него. В «Письме о гуманизме» мы находим еще одно изречение, почти парадоксальное по смыслу, ставшее знаменитым: «Человек есть пастух бытия». Здесь одна из хайдеггеровских загадок, так и не разгаданных им самим. Можно предположить, что эти слова не означают, что человеку поручено куда-то «вести» бытие или что человек позволяет бытию являть себя в том, что он мыслит или воспринимает. Человек «пасет» бытие, когда оно обнаруживает себя в человеке, проясняется в его памяти, оживает в его слове, строит себя его руками, обретает себя в его истине, т. е. полагает себя в человеческом существовании.
К этой теме – человека перед лицом бытия, бытия растворяющего себя перед человеком, Хайдеггер возвращается постоянно. Он выходит к ней в каждой из своих работ, хотя решает эту загадку по-разному. Порой новое решение бывает совсем не похоже на прежнее[180]. Всякий раз заново ставится вопрос: «что» изначальней: бытие сущего или существование человека? И если бытие лежит в основе существования, то что есть основание для бытия? Имеет ли бытие нечто подобное основанию?[181]. Иными словами: что такое истина бытия, и как она соприкасается с человеком? Каким образом истина может совершаться в бытии, а бытие – в истине? Роль человека при совершении истины все еще остается до конца не ясной. И потому истина мыслится здесь неизменно в качестве длящегося, совершающегося спора в бытии сущего. Этот спор происходит в человеке. Но сущность учения о споре проистекает из внутренней «спорности» самого мышления; условно говоря, оно есть спор, овеществленный философией.
В размышлении о споре в мышлении завязан узел настоящей работы. Что означает «спорность» истины в мышлении Хайдеггера? Истина как особый способ, каковым открывает себя бытие, как своего рода «свечение» бытия, не мыслится им без того, чтобы человек сам не совершал этого открытия и не искал этого света. Человеческое существование есть единственная возможность для истины быть истиной, и человеку надлежит осуществить в себе эту возможность[182]. Но если мы поставим себе вопрос: сама ли истина в силу «потребности» бытия требует для себя человеческого существования или же, наоборот, существование обретает (или экзистенциально проясняет) истину бытия? По Хайдеггеру, активной, действующей стороной следует признать истину, а человека – лишь содействующим ей или от нее отворачивающимся. Тем не менее, такое решение сопровождалось бы для него рядом оговорок и недомолвок. Если бытие допускает совершение истины человеком, стало быть, ему дано выбирать образ этого совершения[183]. Но если бытие предоставляет себя истине, то по чьей же вине, разуму и умению она, истина, совершается? Скорее всего мы не найдем у Хайдеггера окончательного ответа. Возможно, «истина совершается в споре» как раз потому, что у него не решен основной вопрос о ее «со-вершителе». Именно эта нерешенность, которая доводится Хайдеггером до коренной, принципиальной неразрешимости, находит для себя своеобразный выход в учении о споре. В этом учении преломляется спорность самого мышления. Отсюда парадоксальность выводов: истина… есть не-истина, несокрытое сокрыто, сущность искусства – в учреждении спора.
IX. Спор «мира» и «земли»
Но пора расспросить подробнее об участниках этого спора, поскольку истина, а речь идет об истине художественного творения, вряд ли стала более понятной от того, что мы называем ее спором. Указание на память и забвение, удивленность и бывалость дает нам некоторое представление о совершении этого спора, но представление, страдающее психологическим «наростом», ведь речь идет не о душе художника, но об истине бытия. Истину ни в коем случае не следует понимать абстрактно, даже если все предварительные условия и описания ее ведут именно к такому пониманию. Наше мышление должно быть переключено из области абстракции в область символики, где конкретно осязательные представления о вещах могли бы выступить в качестве «вестников» философии. Пусть это будет даже область поэзии, но поэзии, сосредоточенной исключительно на игре разума, с присущей ему строгой однозначностью смысловых определений. Переключение происходит следующим образом: спор, в котором совершается истина, учреждается вновь, но на место знакомых и уже традиционных его участников ставятся новые, которые этот спор повторяют или «разыгрывают» по-своему. Истина в художественном творении становится теперь спором между «миром» и «землею».
«Миру» и «земле» отводится особая роль в хайдеггеровской символике. Они разыгрывают старый спор, но их нельзя заменить его прежними участниками. Они, однако, столь же трудно поддаются определению, как сокрытое и несокрытое, как и спор, разгорающийся внутри истины, как и удивленная память, сопровождающая рождение истины в человеке. Их вообще нельзя считать определениями, они – лишь особые знаки, ориентирующие нас на пути к бытию. Они относятся к мыслящей поэзии (denkende Dichten), истина которой есть топология бытия[184]. «Мир» и «земля» указывают на какие-то определенные свойства бытия, которое остается при этом неопределимым. На более сухом языке их можно назвать известными элементами неизвестной системы, которая по сути своей не доступна знанию. Ведь о бытии, как о таковом ничего нельзя знать в точном смысле слова, но многое можно знать о «мире», в котором Бытие открывает себя человеку, и о «земле», несущей этот «мир» в себе. «Мир – это не простое накопление счетных и несчетных, знакомых и незнакомых вещей, это не воображаемая рамка, добавляемая к сумме всего наличествующего… Мир никогда не бывает предметом, но мир есть та беспредметность, доколе круговращение рождения и смерти, благословения и проклятия отторгают нас вовнутрь бытия и удерживают в нашей отторженности»[185]. Будем считать «миром» и то единство, ту слаженность духа и формы, в которых бытие раскрывает себя в человеческом существовании. «Мир» заключает в себе имена, значения, образцы всех вещей, окружающих человека, – все то, что становится истиной в художественном творении. Истина творения наполняется «миром» – его отображениями, связями, смыслами. Но «мир» вырастает из «земли» и уходит в нее. «Земля» – это материальный состав «мира», это краски, звуки, очертания того, «куда возвращается и в чем устанавливается творение и что выходит наружу и на свет»[186]. Истина возвращает «миру» его собственный облик, делает его несокрытым, но и скрывается в нем.
История философии знала немало знаковых сочетаний «мира» и «земли», среди которых ближе всего к хайдеггеровскому образу мышления стоит, пожалуй, диалектика формы и материи у Аристотеля. Более того, «мир», в котором бытие обретает свое лицо и свой язык (логос), может быть, при известных оговорках, приравнен к тому, что традиционно понимается как «дух», «земля» же, которая наполняет «мир» своей плотью, может быть уподоблена материи. В европейской метафизике «дух» всегда был в той или иной степени причастен божеству, «мир» у Хайдеггера сохраняет эту причастность. Но Бог у него неотделим от истины бытия и только в качестве истины бытия Бог принадлежит мышлению, памяти или художественному творению. «Творение, которое выставляет свой мир и удерживает его в его виде, допускает и бытийно присутствие Бога»[187]. «И такой вид… до тех пор остается разверзстым, пока творение остается творением и пока Бог не оставил его»[188]. «Или, если суждена за-бытость Бога, отсутствие Бога, то и это способ, коим мирствует мир»[189]. Однако у Хайдеггера нет Бога, как высочайшего лица или запредельного сущего, но есть присутствие или отсутствие Бога в качестве двух разных моментов в судьбе бытия. Бог в его мышлении, как и бытие, не может быть какой-либо ценностью, даже самой высокой, поскольку понятие ценности уже несет в себе некоторую опредмеченность того, что никогда не бывает предметом. «Бог» и «бытие» могут мыслиться нами лишь в чистом беспредметном присутствии, своего рода присутствии an-sich.
Когда говорят об атеизме или, напротив, об особой теологии у Хайдеггера, то чаще всего упускают из виду основное свойство его философского метода – мыслить, исходя из немыслимого, ставшего понятием. Такое мышление, это следует подчеркнуть еще раз, не может привести к какой-либо осмысленной верховной сущности, не может дать знания, поскольку оно отказывается оперировать предметом знания. Оно лишь оговаривает любое возможное знание рядом условий[190]. Так, в отношении Бога можно говорить о его присутствии или отсутствии, поскольку то, что мы скажем (если скажем в соответствии с истиной высказываемого), станет «сказанием» (Sage) самого бытия. В «сказании» будут запечатлены признаки бытийности истины-памятности-забвенности, удивленности-бывалости, свечения-темноты, несокрытого-сокрытого. Но там не будет сказано ни об одной «вещи» в Боге, ни об одном Его свойстве, имени, может быть, только о Его близости к нам, или удаленности от нас. Для Хайдеггера это скорее крайняя удаленность, потому что его Бог – лишь отсвет, какая-то невидимая, неосязаемая грань истины бытия. Стоит лишь «сказанию», из которого говорит истина бытия высказываемой вещи, отвлечься от бытийной сущности вещи и обратиться к ее предметной значимости, к ее явлению для нас, т. е. Откровению, стоит «сказанию» истины стать знанием об истине, такое знание тотчас теряет связь со своим истоком – истиной бытия. Поэтому всякое знание, всякая осмысленная определенность в отношении Бога для Хайдеггера уже отворачивается от соприкосновения с бытием, имеющим признаки присутствия Бога. Отсутствие или присутствие Бога есть иная словесная форма того спора, который ведут между собой сокрытое и несокрытое, мир и земля в истине бытия каждой вещи. Бытие вещи Хайдеггер называет единством и спором четырех элементов: «Неба и Земли, Божественного и Смертного»[191].
Элементы (основы или стихии) скрыты и замкнуты в бытии вещи до тех пор, пока вещь не будет раскована в истине бытия. Ибо художественное творение освобождает вещь от ее скованности. Поэтому создание творений – «учреждение спора» – есть в то же время освобождение истины. «Собственно освобождение есть оспаривающее обращение к тому, что являет себя в своем виде и в этом явлении есть несокрытейшее»[192]. Творение освобождает вещь ради истинного ее вида, оно высвобождает истину в бытии сущего.
X. Удивление
Но как происходит это освобождение истины бытия в сущем? Как достигается художником? Каких усилий требует? Традиционная эстетика связывает понятие творчества с созданием художественного образа, понимая под словом «образ» определенную форму отражения действительности, некую осмысленность вещи, выражение ее «абстрактной сущности в конкретной реальности» (согласно Гегелю) и т. п. В образе сосредоточивается фокус творения, в котором оно оказывается собранным в целостное единство. Создание образа есть организация художественного материала ради намеченного или стихийно складывающегося единства творения. Что касается самого процесса создания, так же как и восприятия образа, то его обозначают одним, достаточно широким словом «переживание». Чем глубже и полнее «собран» образ в творении, тем более сильные переживания должно пробуждать в нас искусство. При этом считается, что «способ, каким человек переживает искусство, будто бы разъясняет в чем-то сущность искусства. Не только для пользования и наслаждения искусством, но равным образом и для создания искусства, переживание оказывается важнейшим источником, задающим меру. Все – переживание. И, однако, переживание есть по-видимому стихия, в которой гибнет искусство. И эта гибель искусства происходит столь медленно, что занимает несколько столетий»[193].
Эстетика, которая строится на основе отражения объекта через образ, с одной стороны, и на личностном переживании – с другой, вырастает для Хайдеггера на почве метафизически субъективного истолкования сущего. Сущее, при забвении бытия, проходя через ряд метафизических превращений, постепенно становится только сущим-для-нас, вещью-для-нас, образом-для-нас. Образ обладает только истиной отражения, т. е. определенной достоверностью, через которую проясняется содержание (внешний слепок, «склад формы и вещества», внутренний смысл, «идея») объекта. И если образ в традиционной эстетике служит познанию (или – организующему осмыслению) объективного (для Хайдеггера – субъективистски опредмеченного сущего), то тогда объект познается субъектом, и субъект узнает себя в объекте. Тем самым искусство, переставая быть способом, которым совершается истина бытия, становится в то же время формой эстетического или психологического самопознания человека. Этот процесс сопряжен, с одной стороны, с рационализацией искусства, т. е. подчинением художественного мышления «опредмеченной видимости» сущего, требующей строго определенного порядка видения, порядка, отвечающего логической структуре рассудка, а с другой стороны – со стихийным и бесплодным бунтом души против ratio, когда искусство пытается скрыться в так называемый иррационализм переживаний отдельной личности. Обе стороны выражают собой сущность субъективации («стихия, в которой гибнет искусство»), причем переживание как своего рода рефлексия наоборот или иррационализм, этот «выродок неосознанной рациональности», как называет его Хайдеггер, становятся постоянными спутниками жесткой рационализации искусства.
Однако до тех пор, пока искусство остается еще искусством, суть его не есть отражение действительности, и оно определяется не разумом и не душой человека, но истиной бытия, т. е. спором сокрытого с несокрытым, земли с миром, смертного с божественным. И если спор этот отражается в памяти художника, то это происходит не вследствие рефлективной сложности его натуры или богатства его переживаний, но благодаря его способности к соучастию в этом споре ради истины. Такое соучастие можно назвать творчеством, если оно ведет к соответствию с истиной бытия и если при этом соответствии истина может быть освобождена человеком. Художником становится тот, кто способен выполнить требование самой истины, ибо истина требует освободить себя в человеке, раскрыть себя в бытии. Здесь уже не рассудок рассекает и упорядочивает опредмечен-ный материал сущего, но истина бытия, освобождаясь от материала, очищая себя, настраивает художника на себя. И поэтому для творчества так же, как и восприятия творения характерно то, что художник, словно отказываясь от собственной личности, предоставляет себя звучанию истины, звучащей голосом бытия. Такой отказ не следует понимать психологически; для Хайдеггера – это момент совершения истины. Мышление, в котором истина мыслит себя, уходит от навязанной ему активности; оно пытается замереть и исчезнуть в своей настроенности. Вот что говорится об одной из таких попыток как удивлении:
«В удивлении мы замираем (etre en arret) внутри себя. Как бы отступаем мы перед сущим, перед тем, что оно есть и существует так, а не иначе. Однако удивление не исчерпывается в этом отступлении перед бытием сущего, но, будучи отступлением и замиранием, оно одновременно словно сковано и притянуто тем, от чего оно отступает. Так удивление есть рас-положение (Dis-position), в котором и для которого раскрывается бытие сущего»[194].
XI. От удивления к языку
Можно сказать, что мы у цели. Или почти. Мышление, осмыслив истину художественного творения, приблизилось к своему истоку и через него – к истине бытия сущего. Истина где-то рядом, но как облечь эту близость в мысль? Мышление здесь неслышно отступает и пытается замереть в удивленной неподвижности. И тогда, словно отказавшись от философии, мыслитель начинает говорить о бытии языком поэзии. Он делает это всякий раз, когда бывает вынужден уже не искать и не оспаривать, но осмысливать истину бытия, стало быть, как-то передать ее мыслью. Однако его истина не «выговаривается» на том языке, к которому приучено философское мышление, и потому оно должно уступить ее поэзии. Только поэзия может вместить в себе открытость бытия человеку; только поэзия может рассказать о споре, который совершается в истине бытия. Поэзия сама есть спор, который сосредоточен в «удивлении», когда разум стремится стряхнуть с себя «предметность» мышления, сущностную конкретность здесь-бытия. «Удивление» дает возможность заглянуть в спорность мышления, когда, приблизившись к бытию, мыщление внезапно теряет опору и словно исчерпывает себя. Чтобы мыслить об истине, оно должно продолжать спорить о ней. Философское мышление Хайдеггера совершается в постоянном споре и полнее всего этот спор может быть передан только на языке поэзии. Спор есть процесс, основа и, может быть, даже источник мышления, и в то же время его содержание. В споре заключена истина художественного творения, в споре – истина философского мышления, в споре – рас-чет-веренное (ge-viert) бытие вещи. Само бытие есть некая спорность, das Strittige. Но такой спор – не борьба противоположностей, он не может быть улажен какой-либо диалектикой, или замирен в каком-либо синтезе, где противоречия были бы сняты на более высоком уровне развития. В истине у Хайдеггера не может быть ни развития, ни противоречий, поскольку, во-первых: в качестве истины самого бытия она по-парменидовски неподвижна, едина и свободна от «обмана воображения»; во-вторых: противоречия внутри истины бытия не заключены ни в одном из конкретных предметов (бытие сущего не может быть предметом); в-третьих: они не заключены и в рационально-понятийной системе мышления (бытие сущего не может быть мыслимо как предмет). Философское знание об истине содержится у Хайдеггера не в разрешении, но в онтологическом повторении спора внутри самой истины творения.
«Творение – устойчивый облик истины». Истина в этом облике совершается вновь и вновь в споре несокрытого с сокрытым, мира с землею, божественного со смертным. Происхождение мира и земли у Хайдеггера мы объясняли, исходя из своего рода внутренней необходимости, якобы возникающей по ходу читательского усвоения «странной» идеи спора. Следует, однако, признаться, что мы воспользовались запрещенным, хотя и оправданным в тот момент приемом, нежели честным разъяснением. Мир и земля должны были повторить между собою спор несокрытого с сокрытым, что обусловливалось прежде всего необходимостью онтологической, сохраняющей бытие творения. «Повторение» художественного творения есть вовлечение его в игру языка и восстановление его в поэзии. Мы имеем в виду опять-таки не психологический процесс понимания или восприятия творения, но скорее обратное: то, что творение-произведение искусства, по мысли Хайдеггера, обязано бытием своему имени, т. е. тому, что оно названо, выявлено языком как сущее. «Тем, что язык впервые дает имя сущему, сущее впервые обретает слово и явление»[195]. Иначе говоря, та истина, которая раскрывается искусством, не создается им, но предваряет его как истина. Она уже «подарена» сущему и подарена ему языком.
Для нас привычно представление о языке как об одной из коммуникативных систем. Такое представление так же, как и опирающаяся на него наука, основываются, по мнению Хайдеггера, на том же самом, метафизически субъективном способе мышления, предопределившем всякий познавательный процесс философии Нового Времени. Сущность человека в нем рассматривается метафизикой в качестве мерила всего существующего. Наше я становится тем первым измерением, к которому в той или иной степени принадлежит всякое сущее в бытии. В том числе и язык. Язык – в особенности, поскольку он используется как орудие человека, с помощью которого человек закрепляет бытие некого сущего в качестве такого-то факта, предмета, явления, смысла или слова. Сущее тем самым приобретает в языке свою вторую человеческую природу, делается осознанным. В человеческом мышлении оно становится знаком, который можно передать и воспринять, с которым можно оперировать в границах той или иной системы знаков и т. п. Но, возражает Хайдеггер, все, что передается или осмысливается в слове, уже существует благодаря тому, что было однажды названо. Все, что мы называем сущим, уже обладает своим наименованием в качестве такого-то сущего. «И такое наименование, о-значая сущее, на-значает его к бытию»[196]. Имя – не первосущность и не прообраз бытия всего сущего, но его плоть, его материал, его жилище. «Язык – жилище Бытия», – нередко повторяет Хайдеггер (см. Письмо о гуманизме, На пути к языку и в др.), но жилище, которое не человеком построено, человек лишь допущен к тому, чтобы жить в нем. Он существует под его кровом, поскольку под кровом языка обитает и сохраняется истина бытия. Соответствие с истиной бытия настраивает и определяет (ge-stimmt und be-stimmt) сущность человека. Сама истина говорит человеческим языком, предоставляя и освещая бытие всякого сущего. Истина бытия, которая утверждает и проясняет себя в языке, сохраняя ту несокрытость, на почве которой становится возможным искусство, раскрытие истины в творении.
XII. Язык как граница
Естественно, что такое понимание языка вызывает ряд вопросов. Если сущее приобретает право быть сущим только будучи названо, т. е. в имени, то что же такое сущее вне или до имени? Можно ли считать сущее вещью-в-себе или трансценденцией до того, как оно названо? Можно ли провести по-кантовски четкие границы между названным сущим, т. е. сущим-для-нас, и не названным сущим, т. е. сущим-вне-нас? Все это метафизические вопросы, как мог бы определить их сам Хайдеггер, поскольку они оспаривают его метафизику языка. Метафизические вопросы становятся законным наследием преодоленной метафизики. Они выявляют в ней то, что остается непреодоленным и неопределимым – истолкование самого бытия в языке и мышлении. Каждый вопрос о языке как о «жилище бытия» можно свести к одному нерешенному вопросу: как все-таки мыслить о бытии или как называть его?
Мышление Хайдеггера основывается на коренном различении бытия и сущего. Мы касались проблемы онтологического различения, когда говорили о забвении как о «скрытой сущности бытия». Бытие пребывает в забвении, поскольку память не хранит для него ни одного из тех названий, которые можно было бы отнести к тому, что может быть увидено, осязаемо и помыслено. Бытие забыто, поскольку не названо. Бытие как таковое, бытие вне сущего есть не-сущее, ничто. Метафизическое мышление обнаруживает ничто, когда от названного «явленного» сущего оно обращается к неназванному, «неявленному» бытию. «Если исходить из метафизики (то есть из вопроса о бытии и форме: что есть сущее?), то сокрытая сущность бытия, заказанная неприступность, ближайшим образом обнажается как вообще не-сущее, как ничто. Но ничто, будучи ничтойностью сущего, есть крайняя противоположность ничтожествующего. Ничто никогда не есть ничто, но оно не есть и некое нечто, в смысле какого-либо предмета; это самое бытие, истине которого передоверен бывает человек, когда он преодолел субъекта в себе и когда он уже не представляет сущее, как объект»[197].
Ничто есть «чистое» бытие, бытие вне сущего, которое, будучи противоположностью всего названного, еще не обладает наименованием для себя. Здесь мы говорим о ничто только в связи с учением Хайдеггера о языке. Но мы могли бы говорить о ничто в связи с какой-либо иной проблемой хайдеггеровского мышления. В конце концов, ничто есть точка притяжения всех вопросов в его философии. Эти вопросы столь тесно взаимосвязаны, что осмысление ничто есть только особая форма осмысления онтологического различения бытия и сущего, сущности основания бытия как бытия сущего, сущности истины как свойства бытия или метафизики как вопрошания о бытии в форме «что есть сущее?». Всякий раз мышление Хайдеггера движется в одном и том же направлении, оно по-разному проделывает одну и ту же работу, сущность его мышления в различных проявлениях остается строго неизменной. Речь идет не просто о слаженности идей или о единстве стиля в философской обработке, но об идентичности или о повторяемости самой мыслимой «вещи» – бытия, которое вовсе не есть вещь, а, напротив, «не-вещность» и «без-вещность», Ничто.
Поэтому в любой из работ его мышление выражено целиком, ибо каждая из них под своим особым углом сосредоточивает в себе всю философию Хайдеггера, точнее принцип его философского мышления. Принцип этот проясняется тогда, когда философ, проделав еще раз весь положенный путь в поисках истины бытия и дойдя до границ мышления этой истины, бывает вынужден от нее отступить (отойти или отпрянуть). Такое отступление не бывает явным, осознанным, декларированным, но Хайдеггер знает о нем. Он называет его собственно философией, т. е. шагом на ступеньку вниз от мышления бытия. Эта философия, отступающая перед мышлением (перед изначальным созвучием с Логосом, собирающим в себе бытие сущего), чаще всего выглядит именно разрешением поставленных ею проблем и ответом на все заданные ею вопросы. Но именно благодаря строгости своего мышления Хайдеггер отказывается решить единственный вопрос своей философии – вопрос бытия (Seinsfrage), ибо он смыкается с вопросом о ничто. Ведь бытие сущего есть – не-сущее. Мышление, отступая от бытия и отказываясь от философии бытия в традиционном смысле, «соскальзывает» в ничто. Это мышление, которое постоянно мыслит в категориях немыслимого и опирается на столь диковинную для разума вещь, как истина бытия, никогда не может достигнуть «разумной» гармонии между тем, что называется у него истоком, «изначальным созвучием с Логосом», и обоснованной философской истиной. Поэтому он отступает от истины – в ничто. Он отказывается мыслить об истине как о чем-то мыслимом, доступном языковому выражению.
Если исходить из того, что мы знаем о языке от Хайдеггера, а затем в согласии с принципами его мышления отнести наши вопросы к соотношению языка и мышления, то мы могли бы отвечать на них двояким образом. В одном случае на сформулированный уже вопрос о происхождении или «первенстве владения» языком, мы ответили бы, что соотношение возможно между «субъективным» и «объективным» бытием сущего в языке, что предполагало бы существование уже двух языков: человеческого и бытийственного. В другом случае мы говорили бы о языковом тождестве человека и бытия в духе философии абсолютного идеализма. Таким образом мы ответили бы в форме совершенно бесполезного нам доказательства от противного, поскольку ни один из этих ответов для Хайдеггера, разумеется, неприемлем. Однако простая возможность интерпретаций такого рода, хайдеггеровская незащищенность от возможных выводов из его собственного мышления свидетельствует о том, что подлинная его философия никогда не предстает перед нами до конца раскрытой. Более того, она противится всякому искусственному своему раскрытию (руками интерпретаторов его философии), видимо, желая сохранить в себе источник самой нерешенности спора – в том, что ею мыслится, и в том, как мыслится.
Его философия языка сохраняет в себе эту спорность, идущую из глубины. Мы назвали язык постоянной границей между сущим и ничто; границей, разделяющей понимание бытия, но не само бытие. Эта граница свидетельствует об особой разнокачественности в мышлении бытия, о бытии инобытия в нем. Бытие может мыслиться как ничто (молчание, безымянность), но оно может быть осмыслено и как совокупность (многоимянность) сущего. Молчание же есть нечто, что содержит в себе многоимянность, так же, как в ничто заключена вся полнота сущего. Ничто мыслится диалектически, это не отрицание сущего как сущего в представлении, а стало быть, оставление сущего из его именной конкретной предметности в чистое бытие вне имени, вне предмета, вне мышления о предмете. Ничто есть, напротив, постоянная готовность к претворению в бытие сущего, т. е. готовность к самоотрицанию и восстановлению себя уже в новом ином бытии для сущего. Таким образом, ничто есть вечно иное для сущего, это – признак иного в бытии[198]. Оно есть нечто, что не может быть ни мыслимым, ни сказанным и потому вообще не может иметь бытия для себя. (Но не в качестве мистического объекта, а как онтологическая «безобъектность»). Ничто – в молчании бытия. Но молчание бытия заключает в себе голос каждого сущего, его название, его сущность; молчание бытия есть нераскрытая возможность присутствия-слова, т. е. о-существления. «Молчание (по формуле Хайдеггера) это пролог к разговору»[199].
Так в его философии языка вновь проглядывает «вытесненная» метафизика сущего (или «одного», поскольку единое свойство быть сущим может быть отнесено ко всему, что есть) и не-сущего (или «иного», осознанного как безымянность, бескачественность всеобщего бывания, т. е. бытия как ничто). Два способа, или два образа бытия сталкиваются друг с другом в истине. Истина не принадлежит ни тому, ни другому полностью, но соединяет в себе оба момента одновременно. Соединяет, но не примиряет, поскольку она есть спор между ними. Тема повторяется: истина бытия есть спорность, das Strittige.
XIII. Поэзия как глагол несокрытости
Анализом языка завершается у Хайдеггера философия искусства. Искусство наследует истину языка, возвращает ее себе. Тем самым оно восстанавливает подлинность или бытийную сущность языка, которая являет себя в поэзии. Смысл поэзии вытекает из определения языка как «жилища бытия». Язык выстраивает свое жилище, которое освещает поэзия. Если язык в своем «речении» (Reden) именует сущее, то поэзия придает ему несокрытость. «Язык строит» – это значит, что в разверзтости сущего в целом язык человека «набрасывает поле исследования или творческого созидания». В этой способности языка строить, набрасывать, когда несокрытость сущего облекается в слово, заключена сущность поэзии. «Поэзия есть глагол (Sagen) несокрытости… Сам язык есть поэзия и притом поэзия в существенном смысле»[200]. «Язык хранит изначальную сущность поэзии, слагающей и сочиняющей (sagende)»[201]. Искусство как творческое созидание восстанавливает то, что уже названо («выстроено») языком, оно возвращает изначальные имена сущему. Искусство возможно только в лоне несокрытости языка, т. е. в лоне поэзии. «Поэзия, слагающая и сочиняющая, мыслится здесь столь широко и в то же время в столь глубоком сущностном единстве с языком и со словом, что неизбежно остается открытым вопрос, исчерпывает ли искусство, и при этом искусство именно всею совокупностью способов своего выражения, начиная с зодчества и кончая поэзией, бытийную сущность слагающей и сочиняющей поэзии»[202].
Сам по себе вопрос относится к прежней неразгаданной загадке соотношения человека и бытия. На этот раз берется искусство, которое все же целиком зависит от деятельности человека. Задается вопрос, возможно ли исчерпать искусством во всех его видах «бытийную сущность поэзии», т. е. полноту всей заключенной в языке истины. Если сосредоточиться на этом вопросе в том смысле, какой придает ему Хайдеггер, то его можно истолковать и как вопрос об абсолютном исчерпании (или полном совершении) истины человеком. Такой вопрос не имеет и не может иметь ответа, поскольку всякий ответ поставил бы истину бытия, которая должна быть здесь исчерпана или выведена из сокрытости, на место какого-то определенного сущего, в котором мы могли бы найти меру для исчерпания истины. Любой ответ неизбежно допустил бы где-нибудь точку отсчета или по крайней мере конечную цель «исчерпания», причем неважно, где именно находилась бы эта цель или точка отсчета – в природе или в истории, в Боге или в человеческом разуме. В любом случае, истина так или иначе получила бы свое содержание, свою предметность, осмысленную тем или иным способом, что уже предполагает по Хайдеггеру истину этой предметности при забвении истины ее бытия. Если его вопрос не нуждается в ответе, то его можно понять (в ряду других истолкований) как своего рода указание на границы мыслимого. Таким образом, вопрос о возможности исчерпать истину искусством становится теперь вопросом о возможности мыслить об искусстве в соответствии с истиной, совершаемой искусством. Иначе говоря, это вопрос о знании истока искусства, коль скоро мыслить об истоке искусства означает поиск философского знания.
Мы уже не раз ставили этот вопрос и отвечали на него, но теперь ответ следует повторить еще раз, уже на уровне «философии языка». Знать об истоке искусства – значит мыслить в соответствии с той истиной, которая совершается искусством на основе несокрытости бытия. Несокрытость бытия «сложена» поэзией. Поэзия есть изначальный словесный исток искусства и мышления об искусстве. Мышление в истоке искусства есть «сказание» истины. В этом «сказании» истина возвращается к своему истоку, к слову, пройдя через ряд превращений и совершений в искусстве. Мышление для Хайдеггера есть возвращение к словесному истоку бытия, т. е. к поэзии.
Поэтому знание об истоке искусства – не теория, но онтологическое «иносказательное» возвращение к поэзии. Знание должно повторить в себе истину искусства и выразиться в искусстве мышления. То, что мы имеем в виду, станет наглядным, если вспомнить описание картины Ван Гога. Описание здесь – не только пример, но и попытка возвращения к поэзии, когда истина бытия изображенной вещи должна заговорить («сказаться») на языке мыслителя. Такая философия, если называть ее философией, не ищет свою истину где-то в себе или вне себя, но позволяет ей «сказаться» или совершиться в себе. Она, как мы сказали, освобождает себя ради истины, чтобы повториться в ней.
XIV «Демонтаж» философии
Оглядываясь на сказанное, нетрудно заметить, что и мы также постоянно возвращаемся к истине, уже с первых страниц приоткрытой читателю. Правда, истина бытия, о которой идет здесь речь, каждый раз рассматривается в иной области, получает чуть иное истолкование. И вопросы, которые ставятся, в сущности, повторяют друг друга. И хотя они окружены дополнительными разъяснениями, ни один из этих вопросов не был еще разрешен окончательно. Решения их носят скорее предварительный характер. Мы говорим об искусстве, об истине, о несокрытости бытия, но все еще не знаем, что такое истина, что есть несокрытость бытия, и, определяя одно, мы неизменно ссылаемся на другое. Знанию, скользящему вокруг определений – искусства, истины, несокрытости, – постоянно не хватает точки опоры. Знанию любого рода, чтобы быть знанием, необходимо нечто неподвижное, неделимое, некий предел доказуемости, на которую оно могло бы ориентироваться и опираться. В мышлении Хайдеггера такого предела или такой прочно установленной истины нет. Поэтому его путь к истине ведет нас вокруг истины по спирали. Знание возникает из повторения описаний или символов истины, как «вечное возвращение» к тому, что в знание не укладывается. Истина, которую мы осмысливаем, обязывает нас к «иносказанию» вопросов и ответов. Такое «иносказание» таинственно (в тот момент, когда мы отказываемся от познания, отсекаем волю у разума) совпадает с «бытийной сущностью поэзии», в которой окликает нас истина бытия.
Конечно, то, что мы узнали об истине у Хайдеггера, было только ее интерпретацией. При этой интерпретации мы ставили себе целью распутать узел того мышления, в котором философия становится неотделима от поэзии. Одно как бы незаметно заменяется другим, но эта замена оставляет двойственное впечатление искусственности и одновременно непрозрачной глубины мысли. Замена совершается в двух планах – в сознательном намерении обрести новый способ осмысления истины и в принципиальном отказе от знания истины (как представления, понятия, умозрения, имени). Когда мы говорили о споре в бытии самой истины, мы указывали, что истоки его коренятся в метафизической спорности всего мышления Хайдеггера. В его понимании поэзии этот спор продолжается, ибо поэзия оспаривает истину у рационального мышления. Здесь раскрывается то же противоречие, которое исходит из попытки осо-знать истину Бытия в искусстве и в то же время уклониться от знания, сопряженного всегда с рациональным охватом предмета, а, стало быть, с исчезновением истины, мыслимой в категориях субъекта и объекта. Познание у Хайдеггера, условно говоря, призвано не к тому, чтобы передавать содержание истины, но служить формой, языком, образом ее «сказания». Форма, содержание, язык в истине бытия есть одно и то же. Поэтому наиболее истинный, наиболее сущностный вид знания – это не знание как таковое, но сама истина, говорящая через нас на языке бытия, бытийственная поэзия.
Однако для того, чтобы истина бытия заговорила языком поэзии, должна быть предварительно проделана такая работа философского мышления, которая бы внутренне освободила его от цензуры рационального. Подобная работа ложится опять-таки на разум, вне которого, как бы мы ни воевали с ним, нет и философского мышления. Это освобождение или «очищение» разума ради истины бытия можно было бы назвать собственно «философией Хайдеггера». Философия заключена здесь не в том, что истина провозглашается на языке поэзии, но в самом труде, долгом и кропотливом, при котором совершается процесс очищения истины. Философия строится или возводится на время, подобно тому, как возводятся леса на время ремонта здания или реставрации архитектурного памятника. Когда работа закончена, леса убираются и здание приобретает первоначальный вид. То же самое происходит с истиной. Она не открывается и не добывается философским исследованием, но восстанавливается им. С этой целью Хайдеггер создает свой собственный аппарат исследования, анализа, герменевтики языка, но только на время реставрации. Когда работа закончена, т. е. когда истина перестает быть предопределенной целью философии, но становится несокрытым – истиной бытия, когда истина вырывается из пут предметного, рационального мышления и мышление вверяет себя истине, аппарат отставляется или демонтируется. Конечно, не следует представлять этот процесс во времени, как нарастание событий, идущих к развязке. «Время» в мышлении должно приниматься в расчет, разумеется, условно. Строго говоря, все происходит одновременно, поскольку совершение истины несет в себе не логическую последовательность, но сущность философского акта. Философия строится и демонтируется в одно и то же время. Поэтому всякое утверждение в этой философии имеет и некую отрицательную направленность, которая обращена против всякой понятийно осмысленной сущности. Осмысление истины бытия уже содержит в себе отрицание понятийного мышления. Такое осмысление истины уже оспаривает право истины на то, чтобы быть мыслимой. Поэтому мышление истины бытия есть не только спор в истине, но и спор в самом мышлении. Метафизика как «осмысливающее обращение к бытийной сущности истины» есть не только арена, но и возможность для спора. Для того чтобы истина мыслилась вне своего метафизического истолкования (вне слова, предмета или понятия), метафизика должна переспорить или «демонтировать» себя. Истина должна быть проведена по всем кругам метафизического мышления для того, чтобы освободиться от знания о сущем, затем от знания о самой себе и стать, наконец, самой несокрытостью бытия. Но в конце пути, после всех своих метафизических мытарств истина оказывается как бы исчерпанной. Спор закончен; истина, уйдя от своего традиционного языка, становится «глаголом» – бытийной поэзией. Теперь ей нечего сказать, она умолкает.
XV. «Прошивоборец» в мышлении
«Есть такие истины, которые можно увидеть, но которые нельзя показывать. Их нельзя показывать, демонстрировать, т. е. делать такими, чтобы они были очевидными и всегда по первому требованию являлись на зов. По своей природе они не могут или не хотят быть очевидными. При них всегда есть шапка-невидимка: как только к ним подкрадываются, чтобы изловить, они тотчас покрываются шапкой и пропадают из вида». Это слова Льва Шестова из его книги Власть ключей. Высказанная им мысль удивительно совпадает с видением истины Хайдеггера. Конечно, если бы он сказал нечто подобное, то уж не в столь отчетливой форме, поскольку речь здесь идет об истоках мышления, которые нельзя показать, потому что по своей природе они не могут быть очевидными. Таким образом, хотя и с помощью исключений, но истины получают какое-то определение. Петина у Хайдеггера ничем предметным не определена и потому добраться до нее намного труднее. Шестов, может быть, более классически прямо и просто выразил то, что несет в себе и хайдеггеровское учение: существуют истины, которые не могут быть познаны, т. е. знание о которых не может быть изложено на уровне логически принудительных высказываний. Он противопоставляет им иные истины, которые не вмещает разум и не «выговариваются» на самом искусном языке философии. Их, однако, можно увидеть. Хайдеггер сказал бы услышать (hören), вслушаться в них, принадлежать (gehören) им.
Вся философия Льва Шестова заключена в борьбе против того, чтобы истины были воплощены в идеях и очевидностях, против рациональных, скованных необходимостью логики/этики истин ради истин, не подвластных ни одному из законов человека. Философская сущность этой борьбы у него скрыта за ее внешней, полемической частью. Однако те истины, которые «можно увидеть, но нельзя показать», остаются у Шестова невысказанными. Если же они как-то прорываются в прямую речь, то мимоходом, намеком и, причем, так, что, будучи проговоренными, истины эти как бы выходят за пределы философии. Шестов и сам осознает, что философия занята только «пленными истинами». И все же какой бы отчаянной не была борьба с пленом, сама по себе она не освобождает от него. Но пока он остается философом (хотя отнюдь не всегда он стремится им остаться), его шестовская истина скрывается от философии. Можно сказать, что она избегает самопоказания, поскольку всякая «осознанная истина», ставшая философией, вызывает у нее сопротивление. Но если борьба с философией как с «признанной истиной» есть один из способов философского мышления, то это именно тот способ, которым мыслит Мартин Хайдеггер.
Но у него такая борьба происходит иначе. Мы не фиксируем ее начала, которое можно как-то угадать у Шестова, мы отмечаем только ее последствия. Видим то, как он мыслит «в усильном напряженном постоянстве», говорит слогом тяжелым и изысканным, ни на минуту не впадая в просторечие, рассуждает то строго логически, то скачкообразно, то крадучись на ощупь. Все это происходит у нас на глазах, и мы проникаемся тем, как мыслит Хайдеггер, но отнюдь не всегда спрашиваем, откуда исходит такое мышление. Мы не добираемся до его истоков, пока то, что составляет сущность философского мышления, мы готовы считать причудой или традицией немецкого глубокомыслия, принимая следствия за причины. Отыскать же невидимые истоки его философии, как и назвать настоящих противников в споре-мышлении у Хайдеггера, много труднее, чем у Шестова. Тем более, если искать мы будем исходя из того, что говорит о себе сам мыслитель, который в принципе не должен определять того, как он мыслит.
«Был бы не просто противник, но противоборец в самом мышлении, тогда и сути мышления сопутствовала бы удача»[203]. Удача или благословение (от Gunst – милость, благосклонность) сопутствует мышлению тогда, когда то, что им мыслится, мыслится в соответствии с истиной самой вещи. Мышление, которое мыслит в соответствии с истиной бытия вещи, соучаствует в том споре, который совершается в истине. Соответствие с истиной-спором есть тот же спор, который «разгорается» в самом мышлении. Именно так: спор есть мышление истины. Но «противоборцем» в этом мышлении выступает не обычный логический разум, ratio, с властью необходимости, с правом «вязать и решать все споры на небе и на земле» (как у Шестова), но разум метафизический, который не отделен и не противопоставлен изначальному мышлению истины, но составляет его сущность, его путь, его истину. Для пояснения того, что мы имеем в виду под этим «метафизическим разумом», нам необходим еще один (на этот раз последний) экскурс в метафизику в хайдеггеровском понимании.
XVI. Сущность техники
«В метафизике происходит осмысливающее обращение к бытийной сущности сущего, и в метафизике выпадает решение о бытийной сущности истины. Метафизика основывает целую эпоху, ибо она дает эпохе основу сущностного ее облика тем, что определенным образом истолковывает сущее и тем, что определенным образом постигает истину»[204]. «Осмысливающее обращение» дает основание целой эпохе. Истина предваряет облик времени. История человечества (по крайней мере на Западе) следует за развитием «эпохообразующих» истин. Мы, как считает Хайдеггер, живем в эпоху последней истины, родившейся на почве метафизики, с которой должна начаться уже совершенно иная, еще не известная нам история мысли. Мы не можем знать о ней, поскольку наше философское осмысление будущего предопределено метафизическим мышлением прошлого. Мы знаем о ней только то, полагает Хайдеггер, что истина, которая послужит обоснованием новой эпохи, будет неметафизической. «Сущностный облик» этой эпохи основывается на двух последних истолкованиях сущего, т. е. на двух метафизических истинах. Это – абсолютное самосознание как принцип мышления, совпадающий с целью мирового развития – у Гегеля и «воля к власти», заложенная в «вечном возвращении», т. е. образе бытия сущего – у Ницше. Оба эти решения о бытийной сущности истины участвуют в завершении метафизики. Они суть одно, и это «одно» есть способ, которым совершается теперь судьба бытия.
С известным огрублением можно предположить, что «воля к власти в вечном возвращении» воплощается теперь в предметной деятельности человека, она проникает в его разум, овладевает его сознанием, которому теперь вручается. В истории происходит невиданный скачок в сторону «разумности» и «осмысленности» всего сущего. Это значит, что становится разумным мир человека (в котором сконцентрирована метафизическая «воля к власти») и он устраивает свой мир (историческую действительность, тот универсум, который ему доверен) согласно изобретенной им разумности. Волевое хочет совпасть с рациональным, и это совпадение, которое следует мыслить сугубо метафизически, есть в то же время шаг на пути к освобождению от метафизики. Скажем больше: это последний шаг, когда истина окончательно покидает область сущего в его бытии и заменяется достоверностью мыслимого, т. е. самоотражением разума в мире. В этом освобождении от метафизики для Хайдеггера заключается метафизическая сущность техники.
Сущность техники не имеет ничего общего просто с самой техникой или с чем-то «техническим». Она не скрыта в каком-либо механизме или в формуле, не слагается из суммы человеческих изобретений и не выводится из того или иного методологического единства точных наук. Сущность техники не раскрыта ни Гегелем, ни Ницше: ее нельзя считать следствием или результатом их мышления. Но они метафизически-понятийно (как «абсолютное знание» или как «волю к власти») осмысливали сущность истины бытия, той истины, которая обнаруживает себя для нас в сущности техники. Сущность техники – утверждает Хайдеггер – принадлежит скрытой сущности истины бытия. Эта истина слагалась некогда в изречениях досократиков, затем вошла, растворилась, скрылась в метафизике, невидимо просуществовала в ней две с половиной тысячи лет, переходя от одного истолкования к другому (от Платона до Ницше), постоянно меняясь, но сохраняя свою сущность (которая есть одновременно близость к бытию и удаленность от него, память и забвение), т. е. сохраняя и продолжая свой спор вокруг бытия; эта истина, пройдя весь свой метафизический цикл, завершается теперь в сущности техники. Хайдеггер говорит «завершается», поскольку сущность техники – это последнее истолкование истины, последний из ее обликов. Это – ge-stell, как он называет его, – слово, которое переводится как костяк, каркас, подставка, о-стов. Истина бытия открывается как ge-stell, остов. Это значит, что истина, при своем обнаружении, или истина в своем пребывании выступает только в со-ставе (Bestand) действительности, «поставленной» (ge-stellt) или «заказанной» (be-stellt) человеком.
Иначе говоря, эта новая или грядущая истина есть сама действительность, которую вызывает (herausfordert) человек, ибо она возникает в результате человеческого воздействия. «Действительностью» становится со-став всего про-изведенного или осмысленного человеком. «Действительность» замыкает его в округе произведенных им продуктов, что означает для Хайдеггера не субъективность отдельной личности и не достоверность мыслимого вообще (cogita-tum), но своего рода «тотальную субъективацию», которой подвергается истина бытия. «Тотальная субъективация» есть последнее из совершений истины, при котором сущее в целом (Seiende im ganze) свертывается в определенную «картину мира» (Weltbild), т. е. сокращается, сжимается до действительности, про-изведенной по воле человеческого разума. Картина мира, вобравшая в себя сущность техники, может быть представлена в виде ряда символов или знаковых систем, в виде «сетки» формул, порядка цифр, в виде совокупности фактов, упорядоченных тем или иным способом, в виде «объективности» непреложных законов истории и природы, в виде опыта «действующего субъекта» и т. п. В каждой из этих «картин» истина представлена как о-стов (или каркас) мыслимого, т. е. всего открытого человеку, не только достоверного для рассудка, но в принципе поддающегося рациональному осо-знанию и расчету.
XVII. Есть ли у истины «ради чего»?
Сущность техники есть, таким образом, тот способ открытия истины бытия, при котором прекращается спор внутри истины, а сама истина начинает бесспорно принадлежать человеческому мышлению. Истина становится целиком «разумной», «освоенной», т. е. сведенной к одной структуре или картине «элементов» бытия, к однородному со-ставу, в котором заключено все известное и неизвестное. И, становясь разумной, она идет на небывалую открытость как доступность и небывалую покорность человеку. Но открытость и «покорность» истины бытия есть в то же время последняя ступень сокрытости, когда истина уже не нуждается в метафизическом споре, т. е. не ищет человеческого обращения к ней, не требует для себя нового имени. Истина бытия, если она перестает требовать человеческого осмысления, уходит от человека. Но ее уход «выглядит так, что человек повсюду встречает только самого себя… Человек не находит в истине никого кроме самого себя, т. е. своей сущности»[205]. Иначе говоря, истина целиком опредмечивается или – в дурном смысле – «очеловечивается». Она – во всем, что человек встречает, видит, осязает, исследует, заключает в свой разум. И местопребывание истины – не в горизонте бытия, но в способе человеческого освоения действительности. То, что осваивается, описывается и закрепляется в структурах, соответствующих логическим структурам мышления, провозглашается истиной. Истинно то, что ведет к цели, к освоению-покорению действительности. Истина есть постоянная, всегда отодвигающаяся цель. Накопление знаний способствует тому, что эта цель – истина отодвигается все дальше и дальше, а развитие средств достижения цели (техника) преследует ее по пятам. Вопрос об истине переносится в плоскость чисто количественных измерений, при этом «мир» – сущее в целом – остается качественно однородным, элементарным. Сущее в целом (все, что открыто человеку), куда вписан и сам человек, оказывается только материалом или инструментом (Zeug) в его руках. Материал организуется соответственно тому, как он осваивается мыслью. Он постоянно доводится до своего наиболее целесообразного состояния, до максимальной годности (das Zeughafte). Или, иначе говоря, действительное (как «материал») становится все более разумным (т. е. целесообразно организованным) благодаря тому, что разумное (как способ организации) становится действительным. Эта «разумность» действительного как раскрытие сущности техники есть ge-stell, о-стов бытия. Сущностью техники завершается «осмысливающее обращение к бытийной сущности истины», т. е. метафизика.
Бытийная сущность истины есть, как мы знаем, совершение спора несокрытого с сокрытым (или – Неба с Землей, Божественного со Смертным). Спор есть онтологический статус истины, принадлежащей одновременно бытию сущего и человеку, которому открыто только сущее. Но «человек есть пастух бытия», и только поэтому он – человек. В нем «сказывается» истина бытия. «Сказание» истины есть слово (имя, образ, истолкование) метафизики. Но метафизика, высказываясь об истине или истолковывая истину, подменяет в своем истолковании тайну бывания именем того, что есть. Таким образом, это истолкование или эта истина сосредоточивает в себе спорность (das Strittige) бытия сущего, которое совмещает в себе его сокрытость и несокрытость. Спор между ними происходит в самом бытии, в лоне которого человек – пастух. Хайдеггер настаивает на онтологическом характере спора и отказывается от каких-либо этических, эстетических или теологических надстроек над онтологией. Он не предсказывает его решения. Он вообще избегает каких-то конкретных предсказаний и ни слова не говорит о том, как следует вести себя человеку в этом споре. Инициативу решения следует уступить истине бытия, и человеку надлежит лишь предоставить ей эту возможность. Это значит участвовать в совершении истины. А это, в свою очередь, означает мыслить истину (в рождающейся вместе с ней философии), творить истину (настежь рас-творять ее в художественном творении) и освещать истину (в поэзии или в культуре). Но мышление истины требует ответа на вопрос о смысле (или по-хайдеггеровски – о «направленности») истины, т. е. осмысления того, «ради чего» истина осмысливается. Но вот того, «ради чего» она осмысливается, мы не найдем у Хайдеггера, несмотря на то, что он утверждает, что истина есть всегда «ради чего-то». Мышление для него есть «сказание» самой истины, но не знание того, как истина «сказывается». Истина Бытия может «сказаться», но не умеет или скорее не хочет оглянуться на себя, чтобы себя узнать.
XVIII. Понимание как экзистенциал
Мы снова перед вопросом: как познается истина? О познании у Хайдеггера вообще нет речи, поскольку всякое познание уже предполагает, что истина a priori существует где-то вне нашего знания о ней и знание должно проложить к ней путь. Но истина истинна не тем, что она по мере поиска обретается и организуется человеческим разумом, но тем, что она сама мыслит себя в человеке как истина бытия (которая в метафизике становится истиной о сущем). Это значит, что истина совершается как мышление истины; но вопрос в том, как происходит такое совершение?
Обратимся к работе, которую принято считать основным трудом Хайдеггера, – Бытие и время. В ней речь не идет еще об истине бытия, но о реальности бытия при человеке, вблизи человека – о «здесь-бытии» (Dasein). Так же, как не говорится о мышлении, как о способе, коим совершается истина, но о понимании, входящем в особую структуру (или аналитику) здесь-бытия. Понимание осмысляется не как то, что понимается, и не то, кем понимается, но как некая модальность здесь-бытия. «В понимании заложен экзистенциальный способ здесь-бытия как умения, как можествования быть»[206]. Понимание, таким образом, вкладывается в один из глубочайших модусов (или «экзистенциалов») – в можествование, «возможность». «Возможность как экзистенциал означает не какое-нибудь свободно парящее в воздухе можествование в смысле «безразличия выбора» (libertas indiffirentiae). Здесь-бытие как сущностно расположенное уже втравлено в определенные возможности»[207]. «Здесь-бытие не есть нечто наличное, что в придачу еще что-то может, чем-то способно быть, но оно первично есть бытие-возможность»[208]. Бытие-возможность раскрывает себя в понимании. Понимание исходит из «озабоченного» (т. е. настроенного заботой) устроения мира, из заботливого опекания других. Понимание есть один из тех способов, которым здесь-бытие как бы постоянно выходит за собственные пределы; оно есть осуществление одной из возможностей здесь-бытия. Осуществленная возможность – есть уже «истолкование» мира. Мир истолковывается так, что реально выявляет одну из своих возможностей.
При этом возникает некое знание, т. е. нечто обретает бытие чего-то истолкованного, расположенного по отношению к другому ради этого другого. Знание выражает собой интенциональную направленность, но не работы сознания, как у Гуссерля, а самого здесь-бытия. Отметим еще раз, что речь не идет о личности или о мышлении как таковом, но об онтологическом условии человеческого существования – его включенности в бытие сущего. Здесь-бытие всегда расположено, направлено к тому-то; оно, как говорит Хайдеггер, введено в структуру «как-чем». Иначе говоря, оно – ситуативно, и понимание как можествование здесь-бытия всегда исходит из ситуации. Ситуация выявляет способ бытия такого-то сущего. Ситуация есть «сущностный фундамент повседневного, о-смотрительного истолкования. Последнее каждый раз основывается на некотором пред-намерении, пред-принимании… Усвоение понятого, но еще скрытого, совершает обнажение скрытого всегда под руководством некоторого направленного видения, которое фиксирует то, в направлении взгляда на что должно быть истолковано понятие. Истолкование каждый раз основывается на некоторой пред-усмотрительности, которая подгоняет то, что пред-принято в пред-намерении в направлении какой-то определенной истолковываемости»[209].
Истолкование всегда исходит из чего-то, предварительно данного, из безусловности ситуации. Истолкование пред-полагается пониманием, точнее, оно исходит из определенной направленности понимания, заложенной в здесь-бытии. «Сосредоточение этой направленности в чем-то конкретно понятом (по способу бытия того или иного сущего) становится тем, что мы называем “смыслом”. Коль скоро понимание и истолкование составляют экзистенциальную устроенность бытия здешности, смысл должен быть постигнут как формально-экзистенциальный костяк раскрытости, присущий пониманию. Смысл есть экзистенциал здесь-бытия, а не свойство, которое прилепилось к сущему и лежит где-то как ничья земля»[210].
Смысл (который здесь можно называть и знанием) есть, таким образом, способ, которым отчасти (формально-экзистенциально) присутствует раскрытость сущего. Смысл предопределяется устроенностью здесь-бытия или той ситуативной пред-определенностью, из круга которой никогда не может выбраться человеческое мышление. Экзистенциальная устроенность здесь-бытия об-уславливает всякое знание внутри себя, она замыкает его в круге сущего, определенного по способу своего бытия. «Круг в понимании принадлежит структуре смысла, каковой феномен укоренен в экзистенциальной устроенности здесь-бытия, в истолковывающем понимании. Сущее, для которого как для бытия-в-мире дело идет о самом его бытии, имеет онтологическую структуру круга»[211].
«Структуру круга» имеет и совершение истины бытия и у позднего Хайдеггера. Истина как сущее, становясь мышлением, не порождает иного сущего-знания, но обретает самое себя. Бытие сущего не удваивается познанием, но находит себя в «истине» мышления или искусства. Осознавая себя, мысля о себе, оно как бы замыкает себя в круге, который ему пред-назначен (ge-schickt). При этом сущее осуществляет единственную для него возможность быть тем, что оно есть – таким-то сущим, замкнутым в круге своего бытия. Но «быть», т. е. обрести подлинность бытия, оно может только в слове, причем, в слове «высказанном». «Мыслитель высказывает бытие»[212]. Это значит, что в мышлении бытие высказывает свою истину и мыслит себя в сказанном. Но «сказываясь» в мышлении, истина бытия не должна осмысливать себя как сущее, как объект, противостоящий мышлению об истине. Это означало бы выход за пределы «круга» истины, т. е. нарушение «сущностного условия» единственно подлинной для нее возможности бытия. Однако никакая мыслимая истина не может окончательно отречься от объектности (или предметности) в себе, поскольку именно предметность, противостояние (gegen-stand) истины обусловливает ее доступность для понимания другим. Поэтому истина бытия может стать «сказанием» только частично, или скорее только в замысле о себе самой. «Сказание» есть собственно замысел и борьба за тот идеально построенный «круг» истины бытия, несокрытость которого предстояла бы в качестве наиболее полного раскрытия всех заложенных в бытии возможностей. Но по крайней мере одна из таких возможностей есть уразумение истиной самой себя, т. е. отнесение истины к предмету «разумения». «Сказание» и «разумение» не могут ни примириться, ни уравновесить друг друга. И потому истина бытия, как истина мыслимая, обречена быть только спором ради себя самой. Этот спор с разумением в истине совершается не где-то вне мышления об истине (не в отречении от нее, не в проклятии истины «разумной»), но в глубине самого мышления, в «круге» истины бытия. Разум, как мы сказали, демонтирует себя в мышлении ради «сказания» истины.
Демонтаж (Destruktion) разумения есть та самая спорность истины бытия, которая лежит в основе хайдеггеровского способа мышления. Его философия не принимает истину за точку отсчета, с которой начинается движение к объектам, лежащим вне истины (т. е. не осваивает мир истиной); она не приводит сущее в целом («мир») к определенному «канону разумения» (как это происходит во многих системах философии, где метафизическая истина обрастает слоями этики, эстетики, философии истории и природы), но постоянно возвращается к собственному мышлению и спору внутри него. Эта философия не строит себя в мире, не полагает истину в сущем, но перешагивает через пропасть, разделяющую истолкованное сущее от «немыслимого» бытия. Она обращена к тому, как «совершается» истина бытия в мышлении, и само это «совершение» составляет сущность философии Хайдеггера. «Философия не продвигается вперед, когда она всматривается в собственную сущность», – говорит он. Она топчется на месте, чтобы постоянно мыслить об одном и том же. Дальнейшее продвижение, начиная с этого места, есть заблуждение, которому следует мышление, как будто бы оно гонится за тенью, которую же само отбрасывает…»[213]. «Мы должны решиться на то, чтобы вернуться назад из философии к мышлению бытия…»[214]. Отступая от истины в сущем, доступном предметному уразумению, философия отступает от себя самой. Мышление, в котором совершается истина бытия – уже не вполне философия в классическом смысле. В истине бытия философия исчерпывает себя, отступает от себя и умолкает. И потому сам Хайдеггер совершенно последователен, когда, подводя итоги своему мышлению о «смысле бытия» и затем об «истине бытия», утверждает: «хайдеггеровской философии не существует»[215].
XIX. «Непроявленность» истины
Следует ли понимать эти слова как скрытое отречение Хайдеггера от философии или как признание им собственной неудачи философию построить? Задавая такой вопрос, мы уже выходим из границ его философии, точнее, снимаем ее парадоксальность. Парадокс состоит в том, что не-существование хайдеггеровской философии вытекает из самой хайдеггеровской философии и только из нее. Этот тезис о «несуществовании» выражает собой завершение, развязку, внутренний предел (τέλος) того философского мышления, которое Хайдеггер называет «мышлением бытия» (Seinsdenken). «Хайдеггеровской философии не существует» потому, что философия снимается, преодолевается, «демонтируется» его философским мышлением. Философия в принципе оказывается неподходящим способом выражения истины, ибо неспособна истиной быть. Истина, которая предоставляет себя мышлению бытия, не нуждается в философии. Таков своего рода итог пути «хайдеггеровской философии», который вызван не свержением диктатора-разума истиной, убежавшей из его темницы (как это мы видели у Шестова), и не каким-либо износом философского познания, но тем процессом, который под метафизической оболочкой совершался в лоне истины бытия.
Сущность процесса, как было сказано, состоит в совершении спора между неразделенными и противостоящими друг другу свойствами бытия – сокрытым и несокрытым, миром и землей, божественным и смертным. В споре складывается спорность метафизической истины как «осмысливающего обращения к бытийной сущности сущего». Спор происходит в метафизическом определении того, что при всяком определении сущее (то, что одарено бытием) получает от человека иную сущность, иную действительность, объединяется и сужается иным наименованием (материи, духа, воли и т. п.), так что при этом неизбежно уходит в тень его основа – «дар» бытия. В метафизике «осмысливающее обращение» совершается в лоне бытия, заслоняя его собой. Спор разгорается из-за того, что бытийственная основа в истине стремится преодолеть свою иную, осмысленную человеком природу и вернуться к себе самой. Истина бытия оспаривается истиной, привнесенной познанием сущего как такого-то предмета, знака или определения. И потому спор идет из-за «местопребывания» истины, из-за того, принадлежит ли истина человеческому познанию или бытию сущего. В метафизической истине человек приближается к бытию, но в той же истине бытие отворачивается от человека. Развитие спора между этими двумя видениями истины приводит, в конце концов, к завершению метафизики. Распадается единство спорящих; спор иссякает. Из нераздельности истины-спора вырастает, с одной стороны, так называемое научное или точное знание предмета, при котором любой предмет (все, что реально существует) получает для себя истину, служащую максимальной его пригодности. С другой стороны, из спора выходит истина бытия сущего, которая, собственно, есть бытие и только бытие – т. е. реальнейшее, но при этом не обладающее никакой реальностью в сущем (будь то символ, факт или понятие). Но как раз благодаря тому, что спор угасает внутри метафизической истины, он освобождается для истины бытия. Спор «всплывает» на поверхность мышления, становясь своего рода «содержанием» истины бытия; он остается в истине как отпечаток завершенной уже метафизики.
Угасание истины-спора означает, прежде всего, отмирание истины-компромисса. Эта истина изживается философией по мере того, как философия теряет свою метафизическую почву. Философское познание в целом не может примирить в себе того или иного конкретного знания о сущем с истиной бытия сущего. Истина бытия освобождается от всего того, что человек мог бы признать своим, от того, что освоено его руками или мыслью. В истине бытия «демонтируется» та истинность, в которой были нераздельны несокрытое и сокрытое, божественное и смертное. Демонтаж происходит повсюду, где бытие «высказывает» себя. Истина бытия отступает в ничто. Истина бытия есть ничто. Ничто не требует того, чтобы оно осмысливалось как нечто, как некая сущность. Оно не нуждается в философии для себя. И потому Хайдеггер, отступая от философии к мышлению истины Бытия, неизбежно должен констатировать, что «хайдеггеровской философии не существует».
Однако существует вечно пролагаемый путь к истине, который мы по праву называем философией Хайдеггера. Существует герменевтика Хайдеггера, как и разрешение им тех вопросов, которыми всегда жила философская мысль: что есть истина? что есть бытие? что есть человек, мышление, искусство, язык, логос? Существует переосмысление им метафизики (от Платона до Ницше), его прочтение досократиков, его «пояснения» к поэзии Гельдерлина, Рильке, Тракля и др. Существует, наконец, многотомное собрание его лекций и трудов, а также немало «сумм» хайдеггеровской философии, исследований, опровержений или подражаний ей. Существует немало попыток приложить метод Хайдеггера к отдельным наукам, прежде всего к богословию. Однако все эти неоспоримые доказательства того, что хайдеггеровская философия существует весомо и зримо и обильно заполняет публичное пространство, касаются лишь внешнего ее присутствия в мире. Она существует не в качестве особой, умопостигаемой сущности – истины бытия, на которой сосредоточена ее мысль, но лишь в проявлениях этой истины, которые хайдеггеровская философия как раз подвергает критике. Всякий раз, когда Хайдеггер отправляется на поиск бытия (каждая из его работ начинает этот путь, удивляясь, и как бы впервые), он вынужден проявлять свою истину, как проявляют негатив фотопленки. При этом подлинное лицо хайдеггеровской философии остается отчасти недопроявленным, скрывшимся в негативе. В какую бы форму ни облекалась истина бытия в нашем сознании, она всегда словно насильно вытягивается из ничто, будто принуждая себя к философии. Философское осуществление этой истины содержит в себе внутреннее отрицание. Не диалектическое отрицание ради более высокой ступени развития, но отрицание метафизическое («деструкция»), при котором оспаривается именно то, что утверждает себя в качестве истины о сущем. И потому мышление Хайдеггера отталкивается от вопроса: Почему вообще есть сущее, а не напротив – ничто?[216].
XX. Преодоление метафизики
Этот вопрос лежит в у истоков его философии. «Почему вообще есть сущее, а не напротив – ничто?» Потому, что сущее, – все то, что есть, обретает или основывает себя не в какой-либо всеобъемлющей субстанции, познаваемой человеком, но в самом бытии, которое не имеет никакого основания, кроме себя самого. Сущее есть, потому что есть бытие. Таков его первый ответ. Но если при первом ответе бытие сущего отделяется и противопоставляется ничто, то в последнем – бытие оказывается равным и «единосущным» ничто. Вопрос о сущем ведет к «вопрошанию бытия». Коль скоро сущее есть, и оно – в бытии, то что же такое бытие? Чтобы стать чем-то, чтобы сказаться в нас, бытию следует освободиться от всякого «что», от всякой сущности в себе и освободить от них наше мышление. Ибо «мышление, – говорит Хайдеггер, – начинается тогда, когда мы постигаем, что разум, господствовавший столетиями, есть упорнейший противник мышления»[217]. Освобождаясь от разума, бытие мыслит и познает себя как ничто. Тогда «почему вообще есть сущее, а не напротив – ничто?»
Путь от первого вопроса к последнему есть преодоление метафизики. Метафизика возводит разум к высшей ступени «разумного». Все многообразие сущего она объединяет в единой сущности, она собирает, кристаллизует в особом ведении то, что объявляет истинно сущим. В качестве последней из ее истин Хайдеггер указывает на сущность техники. Если метафизика есть слияние и в то же время противоборство «разумного» и «бытийственного», то в сущности техники исход борьбы уже окончательно решается в пользу рационального и подручного. «Бытийственное», которое для Хайдеггера граничит с чем-то божественным, но никогда не переходит в него, отступает от метафизики. И потому сущность техники, становясь своего рода разрешением-итогом метафизики, в то же время отрицает ее. Точнее: сущность техники отрицает ту истину бытия, которая лежит в основе истины метафизической. Однако истина бытия обретает свою сущность не только как отрицаемая величина, но и путем преодоления того принципа единого начала в сущем, которому предано метафизическое познание. Когда мы говорим о преодолении, мы имеем в виду не произвольный акт разума, но сложный деструктивный процесс, который протекает в основе метафизического познания. Преодоление (Uberwindung) означает внутреннее саморазрешение и саморазрушение метафизики ради сокрытой в ней истины бытия. При этом истина сопротивляется своему раскрытию; отсюда возникает учение о споре. «Истина бытия совершается в споре». Однако за словом «бытие» скрывается ничто; это значит, что мы говорим об истине, которая, оспаривая себя, т. е. двигаясь по «кругу совершения» (понимания и истолкования в хайдеггеровском смысле), познает себя как ничто. Истина бытия, осмысливая себя перед лицом ничто, пребывает в «вечном возвращении» к нему.
XXI. Круг, горечь, тайна
Движение по хайдеггеровскому кругу мы начали с философии искусства как способа «совершения истины бытия». Для того, чтобы объяснить, что это такое, нужно было попытаться показать, как совершается само явление истины. Иными словами, последовать за этим мышлением, воспроизводя и вновь повторяя основные его шаги.
«Истина бытия совершается в споре». В художественном творении – это спор несокрытого с сокрытым, мира с землею; сущности искусства с сущностью техники. Мы говорим: искусство и техника. В греческом языке, в единственном, который, согласно Хайдеггеру, не просто называет ту или иную вещь, но передает непосредственно сущность называемой вещи, искусство и техника обозначались одним словом – τέχνη. Это слово, постигнутое в согласии с греками, именует про-изведение наружу и вовне, на свет некоего сущего; оно есть «про-изведение» именно в том смысле, при котором нечто бытийно-присутствующее именно как таковое выносит его из закрытости и затворенности в несокрытость и незатворенность его наружного «вы-гляда». В про-изведении несокрытого заключалась для греков сущность «технического». Истина бытия сохраняла еще свое единство и в качестве единого была доступна человеческому ведению. Можно сказать, что она совершалась ведением. Ведение обнимало собой все: и творение, и «рукомесленное делание», и поэзию, и мышление. Совершение истины было для греков ведением самого бытия – τέχνη.
Рассказав о том, что истина уже «совершена» исторически (в метафизике), что «круг истины» онтологически замкнулся (бытие есть ничто), Хайдеггер всегда возвращается к ведению греков. Он напоминает о нем, как о неисполненном долге, как о шансе к спасению, некогда нами упущенном. В этом напоминании скрыто понятие истины как образца, эйдоса (с оттенком долженствования, императива) и в то же время безнадежность «исполнения» истины в той мере, в какой истина бытия доступна нашему мышлению. В истине, мыслимой нами, нет и быть не может полной очищенности, совершенной свободы от самопознания, от охвата разумом. Вспомним: «истина… есть не-истина». И это соединение внутри, в глубине истины, «эйдоса-долга» и достоверности в не-истинном создают трудность и неуловимую горечь хайдеггеровского мышления. Однако ни трудность, ни горечь его не разрешаются неким «экзистенциализмом», но как бы сторонятся философии и сохраняются в тайне. При этом сам Хайдеггер, оставаясь все же философом, «вершителем истины», стремится эту тайну преодолеть, победить ее изнутри так, чтобы его мышление целиком «уступило бы» себя истине, целиком «сказалось» бы в ней. Тогда истина одевается в одно из стройных учений, например, в философию искусства. Но следует помнить, что у Хайдеггера истина начинается с отказа от того, что мы привыкли считать философией, со спора с не-истиной, с удивления, с тгабод’а. Сделав круг окрест его философии, мы возвращаемся к тому, в чем собственно сосредоточено учение Хайдеггера. Оно остается все еще не дошедшим до нас, вечно сокрытым, намеренно замолченным. «Учение мыслителя, – говорит он, – это то невысказанное в его высказываниях, чему предан человек с тем, чтобы ради этого расточить самого себя».
1971
В настоящей работе цитировались или использовались следующие произведения Мартина Хайдеггера:
Holzwege (Неторные тропы). Frankfurt am Main, 1963:
Der Ursprung des Kunstwerke (Исток художественного творения).
Die Zeit des Welbildes (Время картины мира).
Nietsches Wort: Gott ist to (Слова Ницше: Бог мёртв).
Der Spruch des Anaximandres (Изречение Анаксимандра).
Platons Lehre der Warheit. Mit einem Brief ilber den Huma-nismus (Учение Платона об истине с приложением Письма о гуманизме). Bern, 1947.
Was ist das die Philosophie? (Что такое философия?) Tubingen, 1966.
Erlauterungen zu Holderins Dichtung (Разъяснения к поэзии Гельдердина). Frannkfurt an Main, 1965.
Was ist Metaphysik? (Что такоое Метафизика?). Frankfurt am Main, 1965.
Votrage unr Aufsatze (Доклады и статьи). Tiibingen, 1959.
Die Frage nach der Technik (Вопрос о технике).
Was heist denken? (Что значит мыслить?).
Das Ding (Вещь).
Vom Wesen des Grundes (О сущности основания). Frankfurt am Main, 1965.
DerSatz vom Grund (Тезис об основании). Pfullingen, 1958.
Aus des Erfahurng des Denken (Из опыта мышления), Pfullingen, 1965.
Unterwegs zur Sprache (На пути к языку), Phullingen, 1962. Einfiirung in die Metaphysik (Введение в метафизику). Tubingen. 1954.
Zur Seinsfrage (К вопросу о бытии); Frankfurt а/M, 1967. Von Wesen der Wahrheit (О сущности истины). Frankfurt a/M, 1962.
Sein und Zeit (Бытие и Время). Tiibingen, 1967.
Постскриптум «Борьба с Богом»
Помню, незадолго до своего отъезда из Москвы в 1981 году, Борис Гройс, ставший впоследствии видным немецким философом, сказал мне, прочитав мои работы о Шестове и Хайдеггере: «Вы делаете их мучениками, но, по-моему, напрасно, на самом деле пафос их философии иной». Возможно, он был и прав. И все же когда «учение мыслителя» говорит с нами, оно не только возвещает что-то, но и озвучивает, выносит из глубины то, «в чем мыслитель готов расточить самого себя». Невысказанное «расточает» себя, оставляя свой след за словами. Оно может стать закваской, пробуждая в слушателях то, что, не находя слов, бродит в них самих. Мысль Хайдеггера не столько «учит» в традиционном смысле, сколько описывает – вместе с читателем – долгие, глубинные круги «на пути к бытию». Путь никогда не заканчивается, в каждой работе он начинается вновь.
Его мысль, взлетая ввысь, уходя в исходно немыслимое, отрывается от твердой мыслительной почвы, но потом словно разбивается, ударяясь о невидимое стекло. Бытие невидимо и «стеклянно», оно есть лишь «присутствие присутствующего»[218] для смотрящего сквозь него разума, но за ним открывается видимый, ощутимый, понятийный мир сущего. Бытийность сущего не умещается ни в одно из понятий, но мышление Хайдеггера сосредоточено именно на ее ускользающей простоте, высказывая то, что в принципе не может до конца уложиться в речь. Отсюда едва различимый мотив «мученичества», который, как бы затаившись на дне мысли, проходит мимо большинства исследователей, занятых тем, что высказано и возвещено. Кажется, главное послание Хайдеггера зашифровано, несет в себе то, что трансцендентно, пребывает по ту сторону мысли вообще. И в то же время в «прозрачности», неразгаданности бытия заключено особое притяжение, обращение, притязание (Anspruch) на личный, напряженный разговор с читателем. Неуловимость бытия провокатив-на, она всегда ищет ответной речи, т. е. диалога с нами. Не отсюда ли феноменальный «успех» этой философии, породившей невиданное для автора философских текстов количество «реплик» на нее – откликов, анализов, исследований, толкований, приложений к другим наукам? Бытие «окликает», как любит повторять Хайдеггер, мы же откликаемся тем, что носим в себе.
Мысль, которая подспудно вызревала во мне как раз во время работы над Хайдеггером, была мыслью о Боге как Ином, далеко отстоящем от любых формул о Нем. Она была лишь завязью мысли, и при рождении казалась слепой, как котенок. Я еще не умел ее разглядеть, не мог подобрать к этой завязи познавательного ключа. Да, Бог открывается не от понятия о Нем, и все же мысль (знание, исповедание, слово) есть та одежда, в которую облекается вера и свет. Бог вызывается из глубины неведомого словом и в слове входит в наше существование. Но оказываясь перед загадкой того, что в слово до конца не вмещается, мы пытаемся вслушаться в нее. Что стоит за понятием или образом бытия, которое не укладывается ни в понятие, ни в образ? Что стоит за именем, которое не схватывается мыслью? Не ведет ли мышление бытия, остающегося запредельным всякому познанию, к области апофатического, «неведающего» богословия? Или скорее оно ударяется о мысль о Боге как о стекло, не видя Его, потому что о Нем не может быть никакого предметного разговора?[219]Чтобы произнести Его имя, нужно было умолкнуть, изгнать всякое привычное рассуждение о Нем. Путь к Богу был зашифрован как путь к Бытию, за которым может распахнуться та «полнота, какой названья нет» (Вяч. Иванов).
Полнота без названья есть «присутствие присутствующего». В таком присутствии нет места для бога-понятия или «бога философов», и Хайдеггер как философ преграждает все пути к нему, некогда проложенные метафизическим, опредмечивающим Бога разумом. Однако делает он это во имя некого «высшего» Бога. «Перед этим
Богом человек не может ни молиться, ни приносить жертвы. Перед Причиной в себе человек не может благоговейно преклонить колени, как не может он творить музыку и танцевать. Соответственно, без-божное мышление, которое отказывается от Бога философии, от Бога как первопричины, возможно, оказывается ближе божественному Богу (gottlichen Gott)»[220]. Такой Бог настолько «божественен», что до Него не добирается ни одна человеческая тропа. Ему не нужна ни наша молитва, ни чаша, ни богословие, ни музыка, ни ладан. Собственно, никакое исповедание, в какой бы символ, оно не укладывалось, такому Богу не нужно. Он неожиданно напоминает Бога Шестова, к Которому обращалась «только вера», sola fide, отряхнувшая с себя прах разума, морали, «доброты» и вообще всякого образа, в котором мы могли бы узнать Его. «И рече безумец в сердце своем: несть Бог. Иногда это бывает признаком конца и смерти. Иногда – начала и жизни. Почувствовавши, что нет Бога, человек постигает вдруг кошмарный ужас и дикое безумие земного человеческого существования и, постигши, пробуждается если не к последнему, то к предпоследнему знанию. Не так ли было с Ницше, Спинозой, Паскалем, Лютером, бл. Августином, даже с ап. Павлом?»[221].
Знание, которое Шестов называет предпоследним, рождается из безумия как яростно растоптанного разума. Здесь оба они, Шестов (неявно), а Хайдеггер в отдельной работе, ссылаются на того, во многих цитатах прославленного «безумца» из Веселой науки Ницше, которому Хайдеггер посвятил пространный доклад Слова Ницше: Бог мёртв. Зажегши фонарь среди бела дня безумец (явный alter ego автора), появляется на площади с криком «Ищу Бога! Ищу Бога!» и вдруг горестно восклицает «мы его убили – вы и я». Бог в устах Ницше, разъясняет Хайдеггер, это «наименование сферы идей, идеалов». Это значит: «Сверхчувственный мир лишился своей действенной силы»[222]. Предпоследнее знание утверждает: Бог, сотворенный разумом и поставленный от него в зависимость, умер. Для Хайдеггера же разум – «наиупрямейший супостат мышления»[223]. «Супостат» мыслит определениями, свойствами, категориями, настоящее мышление отвергает их как метафизические конструкции, делая Бога целиком непознаваемым.
Но когда непознаваемость становится точкой отсчета, она приводит к торжеству малопродуктивного агностицизма (термин, которым Хайдеггер сознательно не пользуется). При этом непознаваемость Бога (странное совпадение) это и начало церковной традиции, о которой говорит во всех смыслах далекий предшественник Хайдеггера, автор Ареопагитик. Признанный Церковью святым, хотя и оставшийся «таинственным незнакомцем», он писал вещи, которые могут звучать необычно на слух верующего, едва ли не на пределе кощунства. Бог непознаваем, но Он есть причина всего чувственного и всего умственного.
Это «не душа, не ум, ни воображение, или мнения, или слова, или разумения Она (Причина – В. 3.) не имеет; и Она есть ни слово, ни мысль. Она и словом не выразима и не уразумеваема; Она и не число, и не порядок, не величина и не малость, не равенство и не неравенство, не подобие и не отличие, и Она не стоит, не движется, не пребывает в покое, не имеет силы и не является ни силой, ни светом; Она не живет и не жизнь; Она не есть ни сущность, ни век, ни время; Ей не свойственно умственное восприятие; Она не знание, не истина, не царство, не премудрость; Она не единое и не единство, не божественность или благость; Она не есть дух в известном нам смысле, не сыновство, не отцовство, ни что-нибудь другое из доступного нашему или чьему-нибудь из сущего восприятию; Она не что-то из не-сущего и не что-то из сущего; ни сущее не знает Ее такой, какова она есть, ни Она не знает сущего таким, каково оно есть; Ей не свойственно ни слово, ни имя, ни Знание; Она не тьма и не свет, не заблуждение и не истина…»[224].
Мысль или весть Ареопагита, заключенная в этих словах, как и всего позднейшего апофатического богословия (от св. Григория Назианзина до св. Игнатия Брянчанинова и Владимира Лосского): всякое бо житейское отложим попечение… Это не просто охранение себя от суетного знания или исповедание чистого незнания о Боге, но скорее Херувимская песнь, переложенная на язык философии. (Поскольку у Ареопагита речь идет о непонятийном понятии Бога, я думаю предпочтительней говорить в данном случае скорее о философии, чем о богословии, которое оперирует уже готовыми знаниями). Оставим попечение о Боге, созданном благочестием и сотканном мыслью, говорит Ареопагит, Бог открывается как немыслимое, непостижимое, неизреченное. Однако Херувимская песнь не молчит, она есть именно песнь, вложенная в уста Ангелов, предваряющая Литургию верных. Мысль Хайдеггера далека от ангельского пения, она оспаривает разум и мучится Богом, потому что почти ничего не может сказать о Нем, отстраняясь от речи и ответственности за нее. Как будто она налагает запрет на такую речь. В отличие от Ареопагита, славящего Бога в Его непостижимости, мысль автора Бытия и Времени останавливается на безмолвии и пребывает в нем на протяжении всего своего пути. Безмолвие как воздержание от слова выбрано им сознательно, потому что истина бытия отторгает от себя «метафизическое» (в хайдеггеровском смысле) понятие о Боге. Он уходит за дальний горизонт бытийствующего, будучи исключен из того, что есть и может быть названо. Он становится тенью священно-божественного.
«Лишь из истины Бытия впервые удается осмыслить суть Священного. Лишь исходя из существа Святыни можно помыслить существо божественности. Лишь в свете существа божественности можно помыслить и сказать, что должно называться словом “Бог”. Или мы не обязаны сначала точно понимать и уметь слышать все эти слова, чтобы быть в состоянии в качестве людей, т. е. эк-зисти-рующих существ, иметь опыт отношения Бога к человеку? Как же тогда человек современной истории мира сможет хотя бы просто с должной серьезностью и строгостью задаться вопросом о том, близится ли Бог или ускользает, если этот человек упустил вдуматься прежде всего в то измерение, в котором только и можно задать такой вопрос? А это измерение Священного, которое даже и как измерение остается закрытым, если не высветилось, и своим просветом не приблизилась к человеку открытость бытия. Возможно, отличительная черта нынешней эпохи состоит в закрытости измерения Священного. Возможно, тут ее единственная беда»[225].
Не укрыто ли здесь признание? Или даже исповедание неявного философского мученичества немоты, вызванного отказом от общения со Священным в слове, способном разгадать его? Если сопоставить эти слова о Боге, выступающем из Святыни, с образом «Причины всего» у Дионисия Ареопагита, то на рациональном, речевом уровне мы не обнаружим разительного контраста. Различие – в тоне, в вести, звучании, в ощущении беды, укрывшейся за словом. Оба текста вращаются вокруг одного: предстояния перед Богом, Который есть, но не умещается ни в одно из человеческих имен или того Бога, чье «Есть» рождает или скорее не рождает Его суть. В одном случае нам передается интонация восхищенного созерцания, в другом – магического, по-своему давящего безмолвия, которое не ищет выхода в слово. В таком предстоянии решается судьба разума. Мышление, выбрасывая все его «продукты» как негодные и просроченные, снимает рациональное слой за слоем, оставаясь лишь с неким «измерением Священного», пребывающего закрытым и немым. У Хайдеггера можно расслышать здесь и вызов оставленному им католичеству и почти всей традиции томистского мышления, утверждавшего тесный союз веры и разума. Такая связь на иной манер утверждается и Франком, который называл себя учеником Николая Кузанского в философии, а тот много наследовал от Ареопагита. У Хайдеггера иной мотив, и его легко выразить знаменитыми словами Витгенштейна, завершающими Логико-философский трактат: «то, о чем нельзя говорить, об этом следует молчать». Молчать потому, что все слова оказываются лишь проекциями нашей субьективности. Это не радостное, «светящееся» молчание, оно болезненно, ибо слово, зачатое в нас, ищет, но не знает как родиться. И здесь также приходит на ум замолчанная мука Шестова, не принимающего Бога рациональных конструкций.
Но и Хайдеггер столь же загадочно молчит о Боге, Который не находит своего словесного крова в человеке. Он не тратит столько красноречия, чтобы выразить эту бездомность. Менее всего он похож на разгоряченного безумца из Веселой науки, скорее он холоден и спокоен. Все наши слова о Нем одеваются в одежды, цвета, смыслы, сущего, запечатленного отражениями того, о чем нельзя, да и не следует говорить. Истина бытия, у причала которой бьётся его мысль, означает алетейю, непотаенное, несокрытое. Бытие открыто, распахнуто, недоступно. Бытие, выходя из потаенного в непотаенное, выступает на свет Божий и отдает себя человеку, основная характеристика которого – выход во вне, эк-зистенция.
В таком выходе происходит освобождение Бога как одного из сущих, как метафизического понятия в просвет или близость бытия. В просвет входит мыслитель, который хочет расколдовать эту близость. «В этой близости к нему выпадает, если вообще выпадает, решение о том, откажут ли и как откажут в своем присутствии Бог и боги и сгустится ли ночь; займется ли, и как именно, день Священного; сможет ли с восхождения Священного вновь начаться явление Бога и богов и как именно сможет. Священное же, которое есть пока еще лишь сущностное пространство божественности, опять же еще только хранящей измерение для богов и для Бога, взойдет в своем свечении только тогда, когда сначала в долгой подготовке просветлится и будет воспринято в своей истине самое бытие…»[226].
Но кто выносит это решение о существовании Бога или богов? Что мог бы ответить Хайдеггер, если говорить о «позднем» его периоде, переступившем границы описания человеческой экзистенции в Бытии и времени? Его ответ: решение принадлежит самой истине бытия как непотаенности. Непотаенность освещает все вещи, которые входят в ее округу, отблеск ее падает на все существующее. «Но света источник таинственно скрыт» (Ахматова). Источник и есть потаеннейшее, немыслимое, не пронизываемое ни мыслью, ни взглядом. Но мы ощущаем его близость, мы можем приблизиться к этому источнику. Точнее, он сам может открыть нам себя.
Все являемое есть свет, – говорит ап. Павел (Еф 5:12). Свет, непостигаемый мыслью, но доступный человеческому восприятию, – не есть ли та истина, та алетейя, о которой повсюду говорит Хайдеггер, никогда об этой строке не вспоминая? Свет – непотаенное, несокрытое, дар бытия, который приходит к человеку. Приходит откуда? И если посылается, то Кем? У Хайдеггера есть тайна дарения, но нет ни образа Дарующего, ни получателя дара. Дар-Свет являет себя лишь в виде отражения или излучения Священного. У Дионисия Ареопагита Священное то, что открывает Бога и закрывает познание. Настолько закрывает, что мы и Богом не можем Его назвать, а если и называем, то лишь условно. Священное Хайдеггера то – в чем гипотетически может открыться или не открыться Бог. Может – но возможностью этой не пользуется. Может – значит изначально е с т ь, но не раскрывает себя в бытии. Только оно «выносит решение» о Его открытости. Бог не становится Сущим и Светом, но становится свойством и отсветом. Или неким растворенным повсюду Священным.
Но Священное есть лишь сияние или благоухание Того, Кто излучает Свет, но не экзистенциальный исток его. Тот, Кому мы решаемся дать имя «Бог», всегда уходит от этого имени. В имени Он говорит с нами как Являемое, Открывающееся в Истине, Красоте, Совести, Слове, Лице… или безмолвствует в мученичестве, но не как стоянии за веру, но как невозможности эту веру исповедовать, себя в эту веру вкладывать, этой верой любить. Философия Дионисия Ареопагита – это светлое мученичество разума, приносящего себя в жертву. Но бывает и мученичество любви. Достоевский, ссылаясь на Исаака Сирина, определял ад как невозможность любить. Любить, дерзну предположить, в свете этих слов означает видеть, узнавать, людей в Боге, общаться с ними. Бога не видел никто никогда, но Он может являть Себя во всем, что вышло из рук Его. Прежде всего в сердце человека. Однако Хайдеггер, сторонящийся всяких субъективных «переживаний», «разоблачитель» метафизики, картезианского «эго», уходит, возможно, слишком далеко от реального человека, оставляя за ним роль существа или сущего, пребывающего в просвете бытия, которое «как событие, посылающее истину, остается потаенным. В этом эк-зистирующем стоянии он утрачивает «самостоянье человека», делающего выбор, допрашивающего то бытие, внутри которого он эк-зистирует и говорящего с истиной, являющей себя как алетейя, непотаенность.
Непотаенность – истина, которая немотствует, не ищет слов и не нуждается в них. При этом не создает никакой «программы» из своей бессловесности. «Говорение и писание о молчании порождает развратнейшую болтовню», – настаивает Хайдеггер. И все же: «Кто способен просто молчать о молчании?»[227]. Непотаенность немотствует в слове. Поэтически жительствуя на земле, человек предоставляет слово своему жительствованию. Слово распахивает «пространство», в котором бытие может сказаться, открыться в речи, выйти в непотаенное. «Слово есть условие вещи как вещи… Слово допускает вещи присутствовать как вещи»[228]. В том же докладе Слово Хайдеггер несколько раз цитирует две строки из стихотворения Штефана Георге (1919): «Так я скорбя познал запрет: не быть вещам, где слова нет»[229].
Что это за вещь, которой отсутствие слова отказывает в существовании? Предполагаю, лишь предполагаю, что эта вещь и есть человек, но не только как чистая экзистенция, но и как общение, диалог, любовь, тайна, творение. Таковых вещей нет в словаре Хайдеггера, они пребывают в скорбном невыговаривании себя, которое к тому же он о своем молчании запрещает себе говорить. У Шестова это «невыговаривание» выставлено напоказ. У Хайдеггера «невы-говаривание» растворено в мысли, потому что отсутствующие, «запрещенные» для слова вещи имеют голос, но не имеют языка. Бог, сосланный в сказку Священного и даже дальше и спрятанный где-то на дне его, человек, отрезанный от выговариваемой губами и сердцем связи с Богом, находящимся под запретом, познает Его в скорби, в мученичестве невыговаривания. Скорбь даже не в том, что он отказывается верить и облекать Бога в называемый кем-то понятийный образ (пусть даже «мучительный и зыбкий», по слову Мандельштама), а в том, что эту невозможность он делает предметом мышления, эк-зистирует в ней, описывает круги вокруг нее, приближается к ней, не касаясь. «Учение мыслителя, – повторим еще раз, – это то невысказанное в его высказываниях, чему предан человек с тем, чтобы ради этого расточить самого себя».
Дионисий Ареопагит, Франк, Шестов, Хайдеггер выразили одну и ту же мысль: о чем нельзя говорить, следует молчать, озвучивая, осмысливая свое молчание. Но выразили ее по-разному. Хайдеггер – расточая мысль «на пути к бытию», как присутствию присутствующего. Шестов – на пути к Богу, остающемуся бесконечно далеким, не-вместимым не только в какие-либо определения, но и по сути в любые верования. Франк – в живом, жарком общении с Непостижимым как высшей реальностью, которую человек обретает в самом себе, в своем я, могущем это Непостижимое вместить. Наконец Дионисий Ареопагит – в невыразимом удивлении, которое перехватывает все слова и приносит их тайне Неведомого Бога. Всякий раз мысль, проходя через самоотречение, испытывает и скорбь и радость, хотя у Дионисия и у Франка радости бесконечно больше. Шестов и Хайдеггер очень по-разному исповедуют скорее скорбь. Когда к отсутствующим предметам относятся такие понятия как «Бог», они отсутствием своим имеют свойство причинять боль, заглушаемую потоками скорбных слов и бедствующе глубоких, отточенных мыслей.
Но у этого «расточения мысли» на пути к тому, что называть нельзя, есть неисчерпаемый источник. Хайдеггер, Шестов, Франк, Ареопагит и столько других могут говорить о неисчерпаемом и неназываемом бесконечно. Словно оно само выговаривает себя через них.
Хайдеггер говорит также об «озарении, которое вводило говорящих и слушающих в бесконечную глубину тяжбы между людьми и богами» (Слово). В этой тяжбе пребывает он сам. Незаметно она становится его религией. Mi religion es luchar con Dios, моя религия – это борьба с Богом, сказал другой великий романтик непознания Тайны Мигель де Унамуно, ссылаясь на ночную борьбу Иакова с таинственным Пришельцем. Бог не дает узнать Себя, но Иаков, борясь с Ним, добивается именно знания, произнесения имени. И борьба Хайдеггера по-своему драматична, хотя и протекает в разреженном пространстве отвлеченной антиметафизической мысли, которая отказывает себе в знании. Это борьба за Слово (имя, несомое устами, но произносимое сердцем), которое было бы достойно выразить то, что связует Бога и человека. Но Слова-имени у него нет. Скорбь мыслителя изгоняет любого кандидата служить этим словом. Борьба с Богом не добивается у него знания имени. Сама философия Хайдеггера, существование которой как особой метафизической конструкции он отрицал, есть одно из самых «чистых» выражений той самой борьбы Она лежит в глубине всякого человека. В этой борьбе или тяжбе мыслитель «расточает» себя в бесконечных анализах, сотнях курсов и экскурсов, десятках увесистых томов в поиске «вещи», для которой нет и не может быть умозрительного, философского слова. Потому что это слово есть любовь.
«Почему любовь богаче всех других человеческих возможностей и сладостным бременем ложится на охваченных ею? Потому что мы сами превращаемся в то, что мы любим, оставаясь самими собой. И тогда мы хотели бы поблагодарить возлюбленного, но не в состоянии найти что-либо достойное его»1. Эти слова влюбленный Мартин Хайдеггер писал когда-то юной Ханне Аренд в период работы над самым сухим, безлюбовным и знаменитым из своих сочинений, выразившем глубинный опыт кромешной тоски. Эти два послания, насколько мы можем судить, никогда не соединились в нем, не встретили друг друга.
Alles Vergagliche ist nur ein Gleichnis. Все преходящее – только притча. Можно позволить себе переиначить эту максиму Гете, которую любил повторять Вячеслав Иванов. Все, что не есть Бог, есть притча о Боге. Для меня философия Хайдеггера открылась однажды как грандиозная притча борьбы с Богом за недостающее, единственно верное слово о Нем. Скажи, как имя твое, – спрашивает Иаков. Но не получает ответа. Такая борьба не может не быть мучительной. Она ведется за обретение имени. Занимаясь много лет назад Хайдеггером, я не умел произнести его, не знал или не хотел знать, о каком имени может идти речь. Но он манил меня именно напряжением недосказанности. Возможно, та же борьба за него происходила на каких-то подступах моего сознании. Ненаписанная диссертация оказалась подступом или площадкой ночной борьбы за обретение Слова.
Ты от небытия в бытие приведый всяческая, – говорится в анафоре Литургии св. Иоанна Златоуста. Σὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες. Ты – это Кто? То разумное Воление, то мыслящее Чудо, то любящее Лицо, для Которого человек находит имя в глубине духа, извлекает или добывает его и вводит в оборот своей речи, наполняет им жизнь, молитву, таинства, дыхание, смерть, посмертие.
Когда-то двадцатилетний Хайдеггер, еще до-философ, написал стихотворение, которым мне хотелось с ним проститься. Привожу его в оригинале и в вольном, но великолепном переложении Григория Хубулавы:
P.S.S
Wir wollen warten Vorm Tor zum Friihlingsgarten wollen wir horchend warten, bis die Lerchen steigen, bis Lieder und Geigen, das Murmeln der Quellen, die silberhellen Glocken der Herden Zum Weltchoral der Freude werden[230]. Мы ждать хотим… Мы ждать хотим в растрепанном саду У маленьких ворот, у входа в сад, Где музыка, застывшая во льду, Оттает и желанья зазвучат. Мы будем видеть, как птенцы растут, И песни их взрослеют на глазах, Застигнет нас в саду последний суд, В благоговенье превращая страх. Мы будем ждать, и с нами дикий сад Во сне преображенья подождет, Когда тасует день колоды стад, И радость хоровая настает.Частное сообщение. По словам профессора Изабель де Андиа, бывшей когда-то его студенткой, незадолго до своей кончины Мартин Хайдеггер пожелал быть похороненным по обряду католической Церкви.
2016
V
Гегель и государство абсолютного субъекта (Ленин)
Гегель прожил много жизней в России, и последняя из них только что завершилась[231]. В этой последней его жизни все, о чем Гегель мыслил, обрело, наконец, какое-то подобие действительности, как бы согласованной с высшим разумом, притязавшим явить собой мысль и волю самой истории. Кто не испытывает сегодня хотя бы мимолетной тоски по той грандиозной конструкции, при всей ее тесноте, корявости и отдельных недостатках? Кто втайне не сожалеет, что то мироздание, в котором мы жили, неподвижное, как звезды над нами, и необоримое, как нравственный закон внутри нас, вдруг возьми да и тресни, и рассыпься как гнилая труха? И кто осмелится бросить камень в его еще дымящиеся развалины, зная, что камень наш только добавит энтропии и беспорядка к смятению умов в этой части человечества, вырвавшегося наконец на свободу и решившегося, по словам Достоевского, «по собственной глупой воле пожить»? И потому, если сегодня я возвращаюсь к теме и рукописи, над которыми работал годы назад, то делаю это не без некоторой ностальгии по тому по-гегелевски стройно разумному, но столь внезапно развалившемуся космосу, в котором так легко мыслилось и так подпольно, попутно и весело писалось, но так безнадежно и порой боязливо складывалось в стол.
Стол этот, утлое убежище диссидента и маргинала 70-х годов, набитый рукописными темами и вариациями, сначала политическими, затем философскими, потом богословскими, тоже имел свою переменчивую судьбу. И до него не раз добирались профессионально снующие руки государства, извлекая на свет то, что автор не успевал припрятать или, напротив, прятал столь усердно, что припрятанное первым делом и попадало ему прямо в пасть, разинутую на всяческое дурномыслие. Однако именно там, в самой пасти, Гегель с его Абсолютным Духом как раз неожиданно и приходил автору на помощь. Натыкаясь на какое-нибудь из его высказываний, эта пасть, иногда пытавшаяся украсить себя человеческим лицом и к тому же давно лишившаяся охотничьего азарта, тотчас теряла к автору свой специфический интерес. Ибо какую поживу могла она найти, скажем, во фразе из Предисловия к Феноменологии Духа о том, что «Дух становится предметом, ибо он и есть это движение, состоящее в том, что он становится для себя чем-то иным, т. е. предметом своей самости…»1? Видимо, поперхнувшись на Духе, обленившееся чудовище махало на неудобочитаемого автора рукой и потому и не торопилось глотать его вслед за проглоченными рукописями.
Между тем именно в этой и тысяче подобных гегелевских фраз можно найти вполне крамольное, философски безупречное описание всей системы, состоявшей, по сути, лишь из отражений своей идейной самости, своего идеологически замкнутого в-себе-бытия. Мы, население, и были этими говорящими и передвигающимися предметами, в которых совершалось движение Мирового Духа и где Дух, отчуждаясь от самого себя, ежедневно познавал себя в своем Ином, соединяясь с ним в окончательном синтезе. Все предметы, одушевленные, говорящие или просто предметы, служили инобытием некоторого Знания, опосредовавшего собой все, к чему оно прикасалось, все, что оно собой обнимало и истолковывало. Прикасалось же оно ко всему на свете, вкладывало в него свой смысл, обнимало и понимало мироздание. Трудно найти в истории более умозрительное общественное устройство, чьим знаменем был, как мы помним, лозунг о первичности материи и вторичности сознания. Но при этом то, что называлось «материей», находилось в ведении верховного разума, творящего свою историю в процессе самопознания мира.
Однако о каком же разуме идет речь?
Государство, мыслившее абстрактно
Было бы наивно представлять себе государство, построенное на Разуме или Знании, в качестве его непосредственной материализации. Знание или, точнее, Со-знание – ноуменальная вещь, как говорит Сартр в Критике диалектического разума, оно стоит за горизонтом вещей и явлений и не встречается в нашем мире людей и вещей. Но каждый из предметов, включенных в это государство и «опосредованных» им, содержит в себе «при-сутствие» этого Знания, служит его вестником и жилищем, он предельно абстрактен и ноуменален в своей телесной конкретности.
Для разъяснения этой мысли воспользуемся известным примером Гегеля, который показывает суть абстрактного мышления на примере рыночного скандала. Стоит какой-то покупательнице поругаться с торговкой, как та преподносит ей урок абстрактного мышления, понося ее на чем свет стоит. «Что? – кричит та. – Мои яйца тухлые?!.. Ты мне смеешь говорить такое про мой товар! Ты! Да не твоего ли отца вши в канаве заели, не твоя ли мать с французами крутила, не твоя ли бабка сдохла в богадельне!» Все в этой покупательнице, поясняет Гегель, «от шляпки до чулок, с головы до пят, вместе с папашей, с остальной родней – она подводит исключительно под то преступление, что та нашла ее яйца тухлыми. Все окрашивается в ее голове в цвет этих яиц»[232].
На протяжении 70 лет во всей печатной и устной продукции, издаваемой и извергаемой шестой частью суши, мировоззрение гегелевской торговки воспроизводилось с точностью вплоть до деталей. Это было пространство, управляемое и организуемое мышлением, предельно абстрактным, где все на свете было окрашено в два непримиримых цвета, светлый для себя, черный для всех других. Ленинская кухарка (правнучка торговки) научившись управлять государством, сделала его столь же абстрактным, сколь и сварливым. И то и другое вытекало из его, абстрактной «идейности».
Когда мы пытаемся анализировать эту идейно одноцветную систему, то первая же трудность, с которой мы сталкиваемся, заключается в самом ее именовании. Сразу становится ясно, что традиционные обозначения типа диктатуры, деспотии, народной демократии и прочего, никак не улавливают ее суть. Этот режим можно называть идеологическим, вслед за Аленом Безансоном[233], логократическим, вслед за Чеславом Милошем[234], или просто идеократией, словом, который выковали для нее евразийцы, однако все эти термины, хотя последним из них мы должны будем пользоваться, все же достаточно расплывчаты. Мы рискнем заимствовать модель такого режима у Гегеля, что безусловно рискованно, но ничуть не рискованней, чем объяснять суть абстрактного мышления, исходя из рыночной сцены с якобы тухлыми яйцами. Представим себе систему, в которой некой абстракции удалось целиком облечься в каменную, застывшую плоть государства. Или вообразим ее в виде града, воздвигнутого из идейных кирпичиков-человечков или в образе кургана человеческих душ, знаменующего собой некое идейно-материализованное единство и утверждающего себя в виде высшей общественной формации.
Впрочем, неважно, что там этот курган сам о себе утверждает. Сейчас мы заключаем в скобки все марксистское содержание государственной идеологии и оставляем лишь ее «интенцию», ее модель или ее дух, коль скоро мы хотим сохранить верность гегелевскому языку. Ибо если суть системы свести к изначально умозрительной точке, если заключить ее в некий «магический кристалл», сквозь который можно увидеть ее целиком, мы обнаружим ее в идее Сознания, отчуждающего и познающего себя в своих отчуждениях и отражениях. Эта идея Духа, созидающего реальность, отчуждаясь от себя самого в процессе своего самопознания, конечно, сильно обмирщилась и поизносилась в реальной истории, особенно такой пассионарной, как российская, но нисколько не потеряла своей изначальной потусторонности. От высочайшей хартии до любой газетной статьи, словно написанной гегелевской торговкой, Идея господствовала повсюду в своей непостижимой простоте и недостижимой абстракции, запредельной для зрения смертных.
В последние годы существования идеологического режима ни о чем не говорилось так часто, когда разговор был приватным, как о его пресловутой безыдейности, о безнадежном его цинизме и всеобщем лицемерии. Но сама эта безыдейность была не более, чем наивным или обыденным восприятием «инобытия» идеи, она только подчеркивала ту запредельную ее субстанцию, что могла обходиться без всяких идей. Идея-в-себе была предметно, содержательно «безыдейной», но при этом в высшей степени опредмеченной. Она как раз и существовала в своей повседневной вещности и функциональности, вполне довольствуясь в качестве собственно идеологии фантастической своей ирреальностью.
Если кредо системы и не всегда проходило через отдельные мыслящие особи и прививалось к ним, оно отлично мыслило и чувствовало себя во всех иных видах заряженной им материи. Вся постройка идеологического режима опиралась на непрерывное превращение убеждений, неважно, сколько было вложено в них души и искренности, в газетные слова, провозглашаемые факты и отчетные цифры, она состояла в переводе запредельной ирреальности в самую земную, подчас неожиданную телесность. Так называемый утопизм системы^ утверждая себя в делах и вещах и в эмпирической их конкретности, заявлял о подлинном абстрактном своем бытии. Так, утопию писали не только в статьях кремлевских мечтателей, но и в партийных докладах, пятилетних планах, ордерах, протоколах заседаний Политбюро и в протоколах допросов, утопию строили в виде могучей империи, великих каналов и фабрик, правительственных санаториев, иерархических лестниц, ее производили в качестве ракет и товаров народного потребления, ею оказывали братскую помощь и ее принимали в помощь, ее превращали в стихи и детские завтраки, ею кормили через зонд и ею морили голодом, ее собирали в урожаях с колхозных полей, выплавляли в стали, носили на толстых усах и потных лысинах, словом, трудно придумать такую материю, в которую бы не облекали идейность, и такую сущность, которая не была бы у нее на посылках. Для всякого предмета и индивида она, выражаясь по-гегелевски, была его познанной и опосредованной реальностью. Разве не принадлежало к этой реальности все, что вообще мыслимо и ощутимо? И не была ли утопия тем способом познания реальности, «с помощью которого овладевают абсолютным, при помощи которого его видят насквозь»[235]?
Определение реальности: дядя и племянник
Хайдеггер определяет гегелевскую философию как «метафизику абсолютного субъекта»[236]. Идея (или саморазворачивающийся из себя самого мысленный проект), которая тождественна субъекту, есть то, что придает «разумность» или идейную субстанциональность любому «внутриутопическому» предмету. Эту субстанциональность предмет получает от хозяина всей предметности, т. е. от государства, устроенного разумно.
«Государство, – говорит Гегель, – как действительность субстанциональной воли, которой (действительностью) оно обладает в возведенном в свою всеобщность особенном самосознании, есть в себе и для себя разумное. Это субстанциональное единство есть абсолютная, неподвижная самоцель, в которой свобода достигает наивысшего, подобающего ей права, так же как эта самоцель обладает наивысшей правотой в отношении единичного человека, наивысшей обязанностью которого является быть членом государства»[237].
Если мы включим сюда конкретно-историческое содержание самосознающей себя воли, то получим определение государства, основной субстанцией которого служит некая сумма общеобязательных убеждений или верований. Иными словами, идеология этого государства становится непосредственной реальностью, данной нам в ощущении (перефразируем здесь ленинское определение материи), опосредующей собой бытие и развитие всех вещей.
Суть этой реальности в ее диалектике с бульдожьей грубоватостью (правда, извинившись за грубость) определяет Бертран Рассел в своей Истории западной философии. Вот как он излагает диалектику Гегеля: «Реальность есть дядя». Это – тезис. Но из существования дяди следует существование племянника. Поскольку не существует ничего реального, кроме абсолюта, а мы теперь ручаемся за существование племянника, мы должны заключить: Абсолют есть племянник. Это антитезис. Но существует такое же возражение против этого, как и против того, что абсолют – это дядя. Следовательно, мы приходим к выводу, что абсолют – это целое, состоящее из дяди и племянника. Это синтез. Но этот синтез еще не удовлетворителен, потому что человек может быть дядей, только если он имеет брата или сестру, которые являются родителями племянника. Считается, что таким способом одной лишь силой логики мы можем прийти от любого предлагаемого предиката абсолюта к конечному выводу диалектики, который называется «Абсолютной идеей»[238].
Рассел говорит нам: не так или не всегда важно, что вкладывается в понятие «абсолютной идеи» у самого Гегеля, важно прежде всего то, что она, идея, охватывает собой совокупность или абсолютность логических, в нашем случае, идеологических, связей. Высшая реальность идеологического государства заключена в опосредствованное™ связей «идеей» или неким Знанием. Дядя, племянник, брат и сестра получают свое качество, приобретают свое «в-себе-бытие» от идеи родства. В государстве, построенном на некой заданной ему разумности, называйте его, как хотите, всякое человеческое существование обретает свой онтологический статус, свое «в-себе-бытие», свою легитимность в качестве члена этого государства, от родства или, лучше сказать, мыслящего тождества с идеей, той верховной, абсолютной, всеобъемлющей Реальностью, которая может быть по своему содержанию не «идейной» вовсе, но должна функционировать в качестве таковой.
Продолжим расселовский пример: пусть абсолют есть семья. Если вашей наивысшей обязанностью является принадлежность государству, вы должны стать идейным родственником той реальности, которая служит выражением его самосознающей, субстанциональной воли. Иным словом, идеологии. Вы не можете отказаться от этого членства в ней, ибо оно – и это самое существенное – вкладывается в вас как собственная ваша сущность, которая вытекает из идейной субстанции государства. Если вы притязаете на обладание иной, «несемейной», сущностью, членство в этой семье отчуждается от вас, тем самым, отчуждая от вас то, что государственная семья дает вам: работу, хлеб, место в обществе, свободу, часто и саму жизнь. Система, в которой вы находитесь, принимает вас только в качестве родного племянника того дяди, который есть коллективное Я, гипостазированное как Учение (Дух, Идея, пламенная Вера и т. п.). Дядя выполняет роль идеологического посредника между вами и государством как миром, в котором вы обитаете. Подлинной субъектностью обладает лишь дядя-государство, ваше маленькое, случайное, подверженное заблуждениям я существует лишь постольку, поскольку оно отражает собой Я государственное, устойчивое, большое. Ибо коль скоро вы сочли для себя разумным родиться на территории дяди, в его семье, вы неизбежно принимаете как должное, что он записывает вас к себе в близкую идейную родню, и только в качестве его родственника вы начинаете как для себя, так и для него, существовать. Есть тождество территории и родства, относительности вашего краткого существования и того Абсолюта, из которого проистекает все, что вообще существует. Если вы тем или иным способом отрекаетесь от этого родства (или всего лишь оказываетесь заподозренным в отречении тайном), вы ставите (вас ставят) под вопрос ваше пребывание на законной территории дяди, то есть само ваше гражданское или физическое бытие.
Простой пример. Уже на закате режима – 20 лет спустя это казалось средневековьем – была торжественно принята последняя Советская Конституция, где гегелевская «субстанциональная воля» была определена на ленинском, политическом, правда, уже застоявшемся языке, в качестве воли рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, воли всех наций и народностей страны. Всеобщность самосознания такой воли выражает собой Партия. Но сама партия есть прежде всего сложенное из людей тело идеологии. Если мы переведем былую нашу Конституцию на расселовский язык, мы объявим крестьянство, рабочий класс, интеллигенцию и все народы, жившие под ней, племянниками того абсолюта, который облечен в партию и воплощает собой разумность, объемлющую собою всю мыслимую действительность. И потому неудивительно, что свобода племянников достигает наивысшего расцвета только в субстанциональном, семейном единстве с дядей.
Так неожиданно Гегель раскрывается в советском, ленинском его прочтении.
«Не надо 3-х слов»
«Афоризм: Нельзя вполне понять Капитала Маркса и особенно его 1 главы, – записывает Ленин, – не проштудировав и не поняв всей Логики Гегеля»[239]…, ибо «в этом самом идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, всего больше материализма. Противоречиво, но факт»[240].
Доверимся факту. Заглянем на минуту в ленинские штудии, в те сугубо приватные Философские тетради, когда они были лишь черновиком мышления, его как бы интимным дневником, ведомым лишь для уяснения собственной мысли. Ленин засел за философию, чтобы разобраться, может ли она служить или мешать его пролетарскому делу, но он был не из тех учеников, что способны долго внимать другому, будь он самим Гегелем. Едва начав свою учебу, он тотчас усаживает учителя за парту и принимается не только лупить его линейкой по пальцам, но и производить над его мыслью хирургическую операцию, извлекая из-под идеалистических напластований то, что должно стать его материалистическим плодом. Гегель здесь рождается заново, чтобы быть поставленным с головы на ноги, и стоять прямо, вслед за Лениным, т. е. с ним проделывается та работа, которая была оставлена Марксом и недоделана Энгельсом, поскольку логика их научной мысли в зрелый период еще не требовала исследования себя самой.
Суть этого переворачивания, как мы помним, заключается в том, что там, где Гегель видел инобытие диалектически развивающейся Идеи, постигаемой истинным философским мышлением и тем самым этой Идеей становящимся, Ленин видит объективное развитие самого материального мира, правильно отражаемого диалектическим мышлением философа, активно осуществляющего путем революционно-диалектической практики имманентный, действующий в этом мышлении, непреложный, как сама наука, закон истории. «Примерно так: Гегель гениально угадал в смене, взаимозависимости всех понятий, в тождестве их противоположностей, в переходах одного понятия в другое, в вечной смене, движении понятий в диалектике понятий… – так читает Логику Ленин. – Именно угадал, не больше»[241].
Предмет логики, по Гегелю, не вещи, а суть, познание вещей. Предмет диалектики по Ленину – движение или логика самих вещей, отражаемых теорией познания. Впрочем, «не надо 3-х слов», отмечает он, то есть не нужно никакой диалектики вещей отдельно от их логики, не зависимой от теории познания, «это одно и то же материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед»[242], ибо «законы логики суть отражения объективного в субъективном сознании человека»[243]. В этом сворачивании трех понятий в одно, в сплаве мира как такового с видением мира уже заложено метафизическое – с виду ленинское, но изначально гегельянское! – и при благоприятных марксистских условиях легко прорастающее зерно идеологического режима. «Мир есть инобытие идеи», выписывает Ленин гегелевскую формулу[244], которая вполне согласуется с разъяснением Энгельса: «Над всем нашим теоретическим мышлением господствует с абсолютной силой той факт, что наше субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому они и не могут противоречить друг другу в своих результатах, а должны согласоваться между собою»[245].
Если Хайдеггер с некоторой провокативностью мог говорить, что атомная бомба впервые взорвалась уже в мышлении Гераклита и Парменида, то путем тех же рискованных аналогий, хотя и не забираясь так далеко, можно утверждать, что в этом «мире как инобытии идеи», в этом ленинском «не надо 3-х слов», в этом абсолютном господстве гносеологического солипсизма или спонтанном, «волевом» сочленении субъекта и объекта, столь притиснутых друг к другу, что субъект перестает отдавать себе отчет в границах своего лив отличии своих идей от того, что происходит за его пределами, когда некое я воображает себя самой воплощенной исторической необходимостью и диалектикой природы, в этом неотрефлектированном доверии к анонимно абсолютной объективности собственного мышления в свернутом виде уже спрятана будущая диктатура пролетариата и заключен весь Гулаг[246]. Или, иными словами, за мистерией тождества, извлеченного Марксом-Энгельсом из умозрений и примененного Лениным к истории, спрятаны «исток и тайна» тотальной идейной власти с бесконечным ее насилием, которое даже не отдает себе в этом полный отчет.
Впрочем, в реальной истории в отправлении этой власти сохраняется вечная двусмысленность, обернутая в игру и загадку. В обществе, живущем под идейной властью, с одной стороны, неизбежно исчезают идеи, которые принимаются всерьез, ибо здесь функционируют лишь заранее заготовленные речи и реплики, жесты и формулы, здесь лежит готовый и завизированный сценарий, что волей и неволей разыгрывается актерами, а с другой, нет никакой власти, которой бы обладали индивидуумы, оперирующие идеями. Они выступают лишь стражниками, жрецами, уполномоченными по идейному распоряжению людьми, но никак не хозяевами идейных сущностей. Они суть служители магического культа, который существует сам по себе и способен обойтись без любого из них. В обществе, скованном тотальной властью, как ни странно, очень нелегко добраться до субъекта-распорядителя этой власти, ибо на какой бы высокой ее ступени мы не останавливались, каждая форма господства вырастала из другой, каждая ступень была делегирована или, скажем по-гегелевски, опосредствована иной и служила ее отражением.
Но где находился источник самого принципа властности? В верховенстве идеологии, т. е. в том тексте, который записан до нас и без нас и делает нас неотличимыми друг от друга? Всякий текст (в данном случае набор идей) должен иметь автора, то есть выражающего себя в нем субъекта. «Мы утверждаем, – говорит Луи Альтюссер, кстати, один из последних верных ленинцев в философии, – что структура всякой идеологии, превращающей индивидов в субъекты именем Субъекта Универсального и Абсолютного, зеркальна и зеркальна вдвойне: зеркальное удвоение конститутивно для идеологии и обеспечивает ее функционирование. Это означает, что всякая идеология центрирована, что Абсолютный Субъект занимает уникальное место в Центре и превращает бесконечное число окружающих его индивидов в субъекты двойной зеркальной взаимосвязи. Внутри нее идеология подчиняет субъектов Субъекту, предоставляя им в Субъекте – в коем каждый может созерцать собственный образ (настоящий и будущий) – гарантию, что речь идет о них и о Нем, что все происходит по-семейному»[247], – здесь, добавим от себя, тотчас вспоминается расселовский дядя с идейно родными племянниками.
Суть ленинского «вклада в философию» заключается, на наш взгляд, в закреплении этого зеркального удвоения субъекта в объекте, удвоения столь удавшегося, что познающий субъект перестает отличать себя от Субъекта Абсолютного, а этот последний диалектически сливается с объектом в его имманентной логике, то есть с познаваемой и изменяемой действительностью. И такого удвоения он, возможно, не мог бы достичь, не пройдя школу Гегеля, не получив в руки те спекулятивные инструменты, коими он бессознательно воспользовался.
Гегель строит свою философию духа как науку о сознании, «которое стремится к тому, чтобы это свое явление сделать тождественным со своей сущностью, поднять достоверность самого себя до истины»[248], Ленин принимает истину уже готовой, изначально достоверной в сознании, отражающем честно, без идеалистического обмана, объективное развитие вещей. Достоверность истины исходит из ленинского определения материи «как философской категории для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его»[249], определении, представляющем собой, если чуть подумать, плод изумительной самомистификации, коль скоро в сущности в него можно вложить все, что вы хотите вложить в «ощущения человека». Материя есть все, что существует, все то, что человек отражает, копирует, фотографирует своими ощущениями. Отсюда следует знаменитая теория отражения, которая также извлечена в перелицованном виде из Науки Логики, ибо она, теория, служит эрзацем и упрощением тонкого диалектического процесса освоения разумом познаваемого им предмета.
В ленинском определении материи обратим внимание на слова «дана человеку». Кто есть в данном случае «человек»? Он всеобщ как понятие, безлик как толпа, наивен как младенец и в то же время уже вторичен, ибо производен от своего места в историческом процессе. Он есть тот познающий субъект, что должен быть социально поставлен в условия, которые делают возможным истинное, совпадающее с логикой самих вещей познание. Здесь уже брезжит призрак того Абсолютного Субъекта, в котором скрыто тождество познающего и познаваемого. Классовое Сознание Ленина никоим образом лично себя не абсолютизирует, ни за что на свете о себе не скажет: То, что абсолютный Субъект и есть мое я, то, что мир есть мое представление, а история есть объект действия моей воли, никогда этим субъектом не признается. Не потому не признается, что хочет скрыть, нет, ему и в голову такое не может прийти, ибо его эмпирическое, ленинское, персонально скромное я (коему, кроме власти над творением, лично для себя ничего не надо) растворялось во всеобщем Классовом, Материалистическом, Пролетарском Сознании целиком и без всякого рефлектирующего остатка. Его смирение заходит так далеко, что оно как бы жертвует своим я, перестает ощущать его, а ощущает вместо него только некий Неумолимый Ход истории, пролагающий свою дорогу в марксистско-ленинской мысли, в его, ленинском, историческом действии. Но именно тогда, когда исчезает наше личностное я, когда познание мира перестает быть только моим познанием и становится самопознанием мира в нас, философский Субъект начинает жить собственной, никак не зависящей от нас жизнью, и здесь мы чувствуем гегелевскую школу – там-то оно забирает себе такие права, какие и не снились прежним все до конца додумывающим и потому о главном не догадавшимся германским идеалистам[250]. Радикальный материализм служит своего рода «покрывалом Майи» для тотального спиритуализма, столь же агрессивного, сколь и анонимного.
Именно идея слияния (или точного отражения) объективного мира с познающим его субъектом, идея, выпестованная спекулятивной мыслью, начиная с Декарта, подхваченная и гениально развитая Гегелем, была поставлена по-настоящему на ноги Лениным и осуществлена в основанном им строе. Советский режим – есть не что иное, как идеальная общественная модель идеи тождества, тождества марксисткой мысли и столбовой дороги истории, тождества государства (как малого мироздания, коему надлежало охватить собою большое) и каждого из его подданных, тождества территории и текста, как скажет затем Андре Глюксман[251]. Разумеется, торжество этой идеи было тем более полным, чем более это тождество было безликим и безглазым, и даже не только незрячим в отношении самого себя, но и слепым принципиально, яростно отрицающим всякий намек на реальную свою природу. Но когда Энгельс, скажем, в знаменитой цитате определяет диалектическую философию как простое отражение общественных процессов в мыслящем мозгу[252], ему не приходит в голову задаться вопросом о субъективности, бренности, «малости» этого мозга. Тем самым он лишь подтверждает: объект есть не что иное, как самопроекция субъекта, не ведающего иной реальности, кроме самого себя.
Идеологический режим и есть зеркальное удвоение этого проецирующего себя на общественные процессы субъекта, заменяющего собой всякого субъекта эмпирического, будь то целое общество или отдельный индивид. До сих пор философы лишь различным образом объясняли мир – помнит ли кто еще 11-ый тезис Маркса о Фейербахе? – но дело заключается в том, чтобы сам мир понял, объяснил и переделал себя моей головой и управляемой ею разумной волей. Еще более важное дело состоит в том, чтобы мое объяснение мира стало моим государством, которое мыслит моим мозгом и учреждает себя силой моей (партийной и пролетарской) революционной практики.
Практики, впрочем, никогда и не скрывавшей, что она является лишь эвфемизмом (т. е. благоречием в переводе) насилия.
Превращения Духа
Если нельзя понять Капитала без Логики Гегеля, то в силу того же поворота мысли нельзя понять или вполне ощутить вкус и запах идеологического режима, в особенности на начальном его этапе, не подышав перед тем в атмосфере Феноменологии Духа. «Движение, направленное к тому, чтобы раскрылась форма знания Духа о себе, есть, работа, которую он осуществляет как действительную историю»[253]. «Цель духа, – говорит он в другом месте, – как сознания состоит в том, чтобы это свое явление сделать тождественным со своей сущностью, поднять достоверность самого себя до истины»[254]. Но Мировой Дух в силу известной своей хитрости не задержался на спекулятивных высотах и от абсолютного знания себя самого стал прокладывать дорогу в историю. Такая история могла начать свой путь только тогда, когда Дух забудет о себе как о Духе или какой-то еще идеалистической сущности, когда, перехитрив самого себя, он со спекулятивных высот бросится вниз, сольется с массами и, овладев ими, станет госаппаратом, партией, тайной полицией, пятилетками, потоком времени наконец. Он спрячет свою идентичность, забудет свое имя, утратит царственное право называться Духом, его будет трясти от бешенства при одном упоминании об Абсолюте, причем тогда, когда он им, собственно, и станет в лице абсолютной – не в политическом только, но и в метафизическом смысле – власти. «Если вы хотите действовать в мире, – скажет Ренан, – ваше собственное я должно умереть». Умереть в качестве Мирового Духа, чтобы вновь родиться неузнанным в качестве Классового Сознания, «магистральной линии развития», чтобы действовать затем эффективнее в роли ноуменальной Диктатуры Пролетариата, чтобы сморщиться затем до сильно неказистой, но вполне конкретно и властно функционирующей фигуры Кремлевского Горца. Гегелевский Дух, прочитанный и явленный материалистически, пройдя экономическую школу Маркса и катехизацию у Энгельса, отчуждает себя в качестве Орудия или даже Демиурга Истории у Ленина, а затем начинается череда таких отчуждений, что и Ленину не могли присниться.
Разумеется, если бы сам Ленин слышал это, он мог ответить только своим дробным заливистым смехом с хрипотцой. Классовое сознание – демиург истории? Архичушь, ахинея, выдуманная дипломированными лакеями поповщины! Слова Гегеля, что «в логике идея становится созидательницей истории», Ленин так заливисто и комментирует в своих Тетрадях: «!! Ха-ха!»1. Чтобы мифологема удалась, ей надо освободиться от малейшего спекулятивного завитка, очистить себя от всякой зауми, опроститься до самой наглядной, подкупающей простотой достоверности. Никаких Субъектов или Демиургов; закон сохранения анонимности – наиважнейший в идеократии. В этом смысле весьма поучителен наметившийся конфликт Ленина и молодого Лукача, тоже попытавшегося было «гениально угадать» самого Ленина с помощью инструментов гегелевской логики. В своей книге История и классовое сознание (1923) Дьёрдь Лукач, стремившийся философски додумать ленинскую революционную практику, возведя ее до категорий Классового или Истинного Сознания, которое сверху – из мыслящей головы партии – организует диффузное и незрелое сознание пролетариата. Но когда материализм истории «реконвертируется» в гегелевские термины Истинного Сознания (в противоположность ложному сознанию буржуазной идеологии, разоблаченной Марксом), самому этому Сознанию сразу становится ясно, что псевдоним его раскрыт, и Лукач, изо всех сил старавшийся на спекулятивном уровне «объяснить» Ленину его спекулятивное величие, от него же первого и получает достойный отпор. «Статья Лукача (речь идет о статье К вопросу о парламентаризме), – пишет Ленин в одном из писем, – очень левая и очень плохая». И чтобы впредь ни у кого никогда не возникло искушения сближать классовое сознание мыслящего пролетариата с каким-то Духом/Сознанием, как бы они там ни назывались, чтобы заранее оградить нас от этой замаскированной гегелевщины, ахинеи и детской левизны, Ленин повсюду – начиная с каждой страницы своего Материализма и Эмпириокритицизма – выставляет заградительный барьер того, что затем станет называться «основным вопросом философии»; о него потом еще долго – лет семьдесят – будут разбивать хмельные идеалистические головы.
Сегодня трудно понять, как это целая эпоха так долго могла притворяться обманутой столь примитивным приемом этой тупой и агрессивной книги, как будто наша присяга на верность первичности материи, долбимая с упорством дятла, что-то меняет в реальной, философской сути дела. Ибо когда материя ленинской головой определяет себя в качестве «объективной реальности, данной нам в ощущении», весь мир, согласно знаменитой теории отражения, столь объективно умещается в отражающей его голове, что практически стирается грань между этой головой и реальностью вокруг головы, так что они легко могут меняться местами, как два модуса «для-себя-бытия» все того же гегелевского Духа.
Когда Классовое Сознание прокламирует и утверждает себя в качестве подлиннейшего, научнейшего и вместе с тем партийнейшего отражения действительности, т. е. аксиомы, то грань между яростным материализмом и тотальным спиритуализмом постулируется лишь неким догматическим суждением априори типа того же сермяжно нехитрого «основного вопроса». Основной вопрос по сути лишь стоит на страже того же гегелевского Мирового Духа, сокрывшегося в сугубо материалистическом диалектико-революционном ходе истории.
Правда, здесь вновь возникает другой, побочный вопрос: а в чьей, собственно, голове помещается это Сознание, через которое проходит ось мирового развития? У Гегеля ненавязчиво, но достаточно ясно предлагается решение, что Мировой Дух обитает в берлинской квартире г-на ординарного профессора, хотя нигде, насколько я помню, не утверждается: «Der Weltgeist ist, eigentlich, Ich»[255]. В ленинской системе, как мы говорили, эмпирическое жилище Классового Сознания еще более затушевывается; нигде не говорится: история истинно познает себя только во мне, или: мозг Партии умещается в моей черепной коробке, поступательное развитие творится в моем шалаше или рабочем кабинете, но и нигде прямо как бы явно и не оспаривается такое притязание. Место жительства Истинного Сознания подразумевается само собой, оставаясь неким «почтовым ящиком» без конкретного адреса. Идеологическую продукцию оно выпускает, народы ведет за собой, указано куда, но не очень уточнено откуда. Оно всюду, где царит его власть, а власть его воцарилась над шестой частью планеты со всем ее человеческим и производственным содержимым. Со всей объемлемой им материей, в общем. Здесь оно являет собой разум истории, «мудрое руководство», диалектику реальности, при этом нигде не выпячивая своего я. Строгая наука, она существует сама по себе, объективно, всеобще, всемогуще, а не гнездится в каком-то одном индивиде, открывшем ее законы. И, разумеется, воплощающему ее ЦК всегда казалось абсурдным и несправедливым, что вот по эту сторону государственной границы действительность разумна, светла, упорядочена, а по другую власть разума тотчас прекращается, что само по себе является угрозой и провокацией для системы, которая потенциально должна накрыть собою все мироздание. Поэтому у него и не может быть постоянной государственной прописки; в любом уголке мира Классовое Сознание («рабочее дело», «прогрессивное человечество» и т. п.), надев любую из своих марксовых масок, утверждает, что вся правда мира, и в рациональном, и в нравственном смысле, осуществляется его исторической волей и практикой, но осуществляется всегда так, что всякое индивидуальное я растворяется в ней быстрее, чем в царской водке. Так, воля Ленина к власти никогда не была персональной, ницшеанской волей, она была волей мирового пролетариата, выражающей себя в классовой борьбе и диктатуре, и таковой им и осознавалась и в этом качестве себя осуществляла. Всякое маленькое индивидуальное я исчезало в жерле Классового Сознания (или одного из его псевдонимов), чтобы дать место тому громадному, всеобъемлющему Я Абсолютного Субъекта Истории (или одной из исторических его ролей), что было тем более объективно действенным, чем более было субъективно безликим.
В этом слепом, тотальном, всепоглощающем, анонимном, скрытом тождестве субъекта и объекта, тождестве, над которым веками билась европейская мысль, за которым неумело гонялись всякие изобличаемые Лениным «эмпириомонисты», ибо когда это пресловутое тождество не вызывало у него вспышки негодования, оно вызывало взрыв хохота – в этом удавшемся наконец совпадении некоего мыслящего мозга с познаваемой им реальностью Мировой Дух осуществил сокровенный философский акт своего самопознания, совершив при этом невиданный в истории мысли акт автопародии и саморастоптания. И то, что это карнавальное самопознание наконец удалось, – не заслуга несказанной гениальности диалектического материалиста и философа Ленина, превзошедшего умозрительными способностями всех Шеллингов и Гегелей, напротив, оно поразительно удалось как раз благодаря отсутствию у него философской рефлексии о собственном методе мышления. Субъект, по сути, не ведает себя в качестве субъекта и мыслит о себе так, как если бы он был объектом (смыслом истории и мировым развитием, осознающей себя борьбой классов, тем, что делать, а чего делать нельзя и т. п.), и только благодаря своей «наивности» ему удается такой самообман, который был бы немыслим у Гегеля, но только он и мог стать той удавкой, накинутой на историю и потащившей ее за собой.
Ленин читает Науку Логики с восхищением, когда находит в ней диалектику вещей (явлений, мира, природы), гениально угаданную в диалектике понятий, и со слепящей яростью, когда наталкивается на все идеалистические и религиозные экскурсы Гегеля. Но не прячется ли в этой ярости тот самый хитрый, лукавый дух, что то и дело клятвенно взывая к своему основному вопросу, на самом деле ревниво стережет собственную анонимность, или, как бы мы сказали по-гегелевски, свою «снятость»? У Ленина растворяется абстракция идеального Субъекта, исчезает гипостазированное Понятие, охватывающее собой объективные процессы в мире и субъективное человеческое мышление о них, оно прячется в нем ради захвата безмерной (сначала «научной, умозрительной, затем реальной, кровавой) власти над миром, осуществляемой неузнанно и безлико. Материалистическое прочтение Гегеля есть систематическое устранение субъекта (в самом Гегеле еще очень различимое), идеальным образом преодолевающего в себе осознанную объективность, т. е. инаковость мира, отождествляя его с самим собой.
В ленинской системе это отождествление не достигается с помощью диалектической логики, оно уже изначально и несомненно дано, коль скоро всеобъемлющий объект-мир существует как бы совсем без человеческого субъекта, его познающего, ибо суть этого познания сводится к созданию лишь субъективного отпечатка (отражения) в человеческой голове, материально включенной в этот мир, т. е. к воспроизведению одним более сложным фрагментом мира более простого его фрагмента. Именно поэтому логическое тождество субъекта и объекта отрицается диалектическим материализмом, что оно присутствует в нем априори, в виде гносеологического упразднения субъекта в Абсолютном Субъекте Истинного (Классового, Пролетарского, Партийного, Верно-понявшего-марксизм-и-потому-всесильного) Сознания. Философия Ленина, коль скоро она существует, представляет собой самопознание мира, которое, в отличие от гегелевского, совершается самим миром, наконец осознавшем себя в революционной партии рабочего класса, без идеалистического я, привносящего в это познание свои собственные буржуазные галлюцинации и всякую «этическую отсебятину».
Система Абсолютного Субъекта
Тот же процесс, который происходил на умозрительном уровне теории познания, самым грубым и жестким образом пролагает дорогу в действительности. Знание как действующая сила истории изменяет ее и становится основой идеологического государства. Субъект познания настолько отождествляет себя с историческим процессом, что уже не замечает своего насилия над ней, создавая при этом вездесущий и всепроникающий аппарат такого насилия. Насилием познают, строят, ведут от победы к победе; насилие совпадает с самим мировым процессом. Оно осуществляется всегда, независимо от того, работает ли в данный момент или отдыхает гильотина. Ленин едва ли был способен искренне признать лично себя диктатором или насильником, ибо воспринимал себя как воплощенную волю самой Революции. Он – Разум истории, которая силой имманентных законов своего развития должна заменить отжившую общественно-экономическую формацию на другую, социалистическую, прогрессивную. Он – сама идея и сила такой замены, которая происходит благодаря объективному, строго научно марксистскому отражению исторического процесса в его ленинском мозгу. Подобно тому, как ленинский разум материалистический, спонтанно следуя гегелевскому, считал отражение в себе материального развития вещей диалектикой, логикой и теорией познания, взятых вместе, так ленинский разум исторический полагал свою практику, слитую с партией, с волей самого мирового развития. Насилие становится даже не повивальной бабкой истории, а самой историей; оно не помогает родиться чему-то новому, но само есть результат родов.
Не следует понимать насилие только буквально, физически, но и метафизически, как господство отвлеченного разума над действительностью, когда этот самый разум перестает отличать себя от нее. Ленин, желая следовать Марксу, пародирует Гегеля, не отдавая себе в том отчета, ибо создает режим идеологического солипсизма. Это режим, при котором мир, вернее, та его часть, которая (пока временно) находится в России, становится отражением Субъекта истории в виде диктатуры пролетариата. «Пролетариат» правит от имени всесильноверного марксизма-ленинизма, партии большевиков, ее ленинского ЦК, а затем общенародного государства, в котором достигается гармония между классами. Субъект, познавая мир или «данную ему в ощущении» действительность, делает ее зеркальным своим отражением, стараясь нигде не выдать при этом собственной субъективности. В этой индустрии самопознания (идеологии, видящей свои отражения в своем другом) существует не только развитая и поддерживаемая режимом корпорация философов, но и всякий ее цех в конечном счете производит идеологический продукт, т. е. из себя проецируемый образ отражения мира. Или согласный с ним способ изменения мира. Или вытекающий из него способ управления миром. Не надо 3-х слов. Одного достаточно: Ленин.
Здесь уместен комментарий Хайдеггера, на Ленина, разумеется, время не тратившего: «Субъект, будучи субъектом, – говорит он, – всегда и везде удостоверяется в самом себе – заручается достоверностью самого себя. Он оправдывает себя перед полагаемым им самим притязанием на справедливость»[256].
В идеологическом государстве наука (истинное знание) и мораль (высшая справедливость) не могут не совпадать, ибо и то и другое служит отражением (удостоверением) одного и того же анонимно господствующего субъекта, порождающего имманентную ему вселенную. Это опущенный на землю, изуродованный – но не искаженный! – гегелевский абсолют, развернутый и разыгрываемый в виде бесконечного и кровавого балагана мысли Первого Мыслителя-Болыневика Планеты, обустраивавшего действительность-Россию в согласии с как бы заложенной в ней, в самой действительности, планом. Все, что находится на его территории: земли, города, машины, люди, базисы, надстройки, партийные ячейки, верховные поселковые советы, профсоюзы, институты, тюрьмы, суды, тексты, фильмы, стихи, памятники и судебные процессы, суть продукты Абсолютного Субъекта, в которых он познает инобытие самого себя.
Да, именно Ленин сумел завести 70 лет работавший механизм идеологического монизма, где все исходило из некого анонимно-запредельного Субъекта (генсека-партии-рабочих масс, 3-х слов не надо). «Опосредуясь» в материи («созидательном труде», производстве, аппарате насилия), Субъект без конца воспроизводил самого себя. Сознание этого Субъекта (каждый может легко заменить это идеалистическое слово любым из его материалистических псевдонимов) пронизывало собой все. В государстве-сознании, безраздельно владевшем языком, на котором должны были говорить и мыслить его граждане, не остается такой вещи, которую можно было бы назвать «вещью в себе» («пустая абстракция», по слову Владимира Ильича), то есть реальностью неапробированной, необъясненной, непознанной, по-гегелевски неразумной, т. е. политически вредной. Даже религия и та, несмотря на всю свою очевидную историческую «неразумность», допущена временно существовать, не только как поблажка пережиткам, но и как иллюстрация «свободы совести» (обреченной, но марксизмом по великодушию пока позволенной), т. е. опять-таки опосредствована тем же Субъектом, сочинившем для себя Конституцию «не хуже, чем у других». Разум его зеркально отражается в инобытии всякого индивида и восходит от него к своему в-себе-бытию в единстве души-всеобщей семьи-государства. Самоосуществление этого вселенского сознания и есть подлинное существование мира. Познавая мир, оно сообщает ему единственную мыслимую реальность. При этом только в себе самом оно несет критерий объективной истинности своего познания.
Если проследить за истоками идеологической монополии, ее можно угадать и в лейбницевской монадологии и во всем последующем развитии немецкой классической мысли. Однако только у Гегеля мы впервые находим не только интуиции и догадки, но и развернутый чертеж-набросок тотальной власти, которая была затем осуществлена совсем под иным прикрытием и предлогом. В лице Гегеля в последний раз и на головокружительной высоте выразила себя вечная и младенческая истина метафизики: «Одно и то же есть мысль и то, о чем мысль существует» (Парменид). Ну, а в «долине сени смертной», в нашей низине та же истина заперла нас в клетке кошмарного солипсизма, абсолютного тождества гражданина-меня и его-государства, спаянных, переплавленных в символической, но вполне реальной фигуре Абсолютного Субъекта, идеократического посредника, забывшего о своем умозрительном родстве.
Шокируя ученый мир, я должен признаться, что перешагнув через Ленина, философская эта система достигла своего совершенства только в сталинской модели творения. Сталин был своего рода живым фетишем идеократического посредника, обезьяной того Духа, благодаря которому все смыслы, все личности, все предметы и факты могли называться племянниками одного дяди и получали право существовать. (Заметим, как только не стало живого, напитанного кровью идола, идеократический режим стал медленно, но с почти биологической фатальностью распадаться). В этом образе все существующее, все освоенное познанием собиралось в некое трансцендентное единство. Единство обладало телом, было историческим персонажем, обитало лишь отчасти в Кремле, но большей частью в тысяче своих бюстов и повсюду – в людских головах. Оно называлось иногда «Лениным сегодня» (Барбюс), хотя могло вполне носить и титул «Гегеля эпохи построения социализма в отдельно взятой стране». Ибо лишь несколько десятилетий назад все виды отвлеченного познания, любые науки – математика, химия, почвоведение… – должны были получать санкцию на само бытие свое от худосочной брошюрки Марксизм и вопросы языкознания, где за подписью И.Сталин можно было угадать последнее превращение абсолютного, себя самого перехитрившего Духа, наконец овладевшего всей реальностью и приведшего ее в окончательную систему.
Назовем это пародией, карнавалом? Нет, дело гораздо серьезнее и несмешнее. Ленин, опять-таки гениально угадав духовный посыл грандиозной системы Гегеля (неважно при этом, что он в нем понял да и читал ли вообще), извлек из нее особую религию, в которой должен был действовать Верховный Жрец, выступавший от имени Демиурга, творца действительности. Мир/История познается/ устрояется Мировым Духом, действующим через свою Касту/Орудие, с которым себя отождествляет. Оставим в стороне все марксистские маски, материалистические псевдонимы и строгие, серые облачения. Карнавальное действо выразило тайну первоначального замысла, что, видоизменяясь внешне, сохранил свою солипсистскую суть. Мы видим то, что заложено в наши глаза. Мы мыслим так, как мыслит в нас мироздание. «Марксизм образует систему координат, – писал когда-то ревностный и последовательный борец за него Роже Гароди, – которая только одна позволяет рассматривать и определять мышление в какой угодно сфере, от политической экономии до физики, от истории до морали»[257]. Именно так, блестяще угадано и увидено! И какой же холодный, чисто гегелевский восторг должен был охватывать служителя этой наукорелигии, устанавливающей свою предустановленную гармонию, в которой все «вещи мира» движутся в согласии с нашим взглядом на мир! И этот взгляд – мой! Моей партии, моей страны, в недалеком будущем всего человечества![258] И таковым – всепроникающим-знанием/ насилием – марксизм оставался до последнего дня жизни, хотя и все с меньшей уверенностью в себе.
Уже Ленин успел заглянуть в неисчерпаемость электрона, и, оставаясь в той же системе координат, было легко узнать, как повлияла колониальная политика на систему общественного кредита или что на самом деле хотел сказать Вагнер своими операми, Шиллер – своей поэзией, Гегель – объективным идеализмом, а Достоевский – человеком из подполья. Все на свете состояло из тех же ленинских проницаемых электронов, и марксистская, а по сути, крипто-гегелевская, система координат совпадала с границами космоса и разгадывала секрет всякой затерявшейся в нем души. В эти границы предполагалось заключить все имеющееся пространство и время, охваченное единым законом, от коего не убежит ни одна трепещущая клетка, не уклонится на чужую орбиту ни одна звезда. Свет, падавший из кремлевского окошка, освещал творение вплоть до самых тайных его уголков. Последние вещи, укрывшиеся в-себе, как и люди, где-то в себе спрятавшиеся, выявлялись и отправлялись в изгнание как «враги народа». Они лишались идейного, а затем и физического бытия, их отсылали в царство теней, на иную половину действительности. Туда, где никогда не восходит солнце Духа и отдыхают диалектические Законы.
Сознание-подполье и действительность-геенна
Однако в этом смешении идеологического субъекта со всеми своими подданными-двойниками, тождество не бывает полным. Так начинается раздвоение действительности, которое с самого начала обрекает на поражение это мироздание, выросшее из фантома. Ему при всех усилиях познания и полиции никогда не удается слиться со всей подвластной ему реальностью, т. е. познать и освоить ее, и он ее, неосвоенную сущность «вещей-в-себе», энергично выталкивает. В государстве, пронизывающем все и вся своими словами и лозунгами, есть действительность, обязательная к употреблению, и есть действительность, предназначенная на выброс, на вытеснение в ничто.
Это так называемая под-действительность, внизу-реальность, выгребная яма для метафизических отбросов, что в одержимо идейном, манихейском мире становится свалкой человеческих душ и тел. Иными словами, Архипелаг Гулаг, если воспользоваться известным, все еще работающим термином. Гулаг – не одно лишь всеохватывающее учреждение-насилие, не только разросшийся тюремно-лагерный бегемот, это – реальность-призрак, оставшаяся за пределами власти абсолюта. Это проклятая земля пасынков, о которой всегда помнят, но никогда не говорят, где кончается территория идейности (хотя не прекращается идейное воспитание), где больше нет семьи с племянниками и дядей, где действительность не совпадает с разумностью, а необходимость перестает быть исторической. Это пространство, где жизнь – подвал, подпол, куда заталкивается все то, что выбрасывается из государства-храма. Там не должно было быть ни родственников, ни имен.
Подвал существовал в Большом государственном Доме, но был вырыт и в каждой частной голове, даже самой идеологически ангажированной и закаленной. Ибо чем ревностней, не за страх, а за совесть, служила эта голова филиалом Абсолютного Субъекта в его персональном идеологическом исполнении, тем более делалось ее сознание несчастным, как Гегель некогда определяет его в своей Феноменологии. «Это несчастное, раздвоенное внутри себя сознание – так как противоречие его сущности есть для себя одно сознание – всегда должно, следовательно, в одном сознании иметь и другое, и, таким образом, тотчас же, как только оно возомнит, что оно достигло победы и покоя единства, оно из каждого сознания должно быть снова изгнано»[259].
Абсолютный Субъект вносит всегда раздвоение, несет несчастье в себе, ибо между большим его содержанием и частным потоком всякой психологии таится противоречие, которое не может быть снято. А раз не может, значит, должно быть подавлено и оттеснено. Просто «человеческое» и беззаветно «идейное» в принципе не совпадают окончательно, отчего «идейное» никогда не может отделаться от своего рода комплекса завоевателя на «территории человека», а «человеческое» – от комплекса неполноценности перед «идейным борцом». История раздвоения, подавления и вытеснения и была истинной историей Истинного Сознания в лицах при созданном им режиме. Идеология, работающая на уровне масс, на уровне индивида, и на этот раз оказалась до конца неисполнимой. Однако сама эта неисполнимость была закрыта от ее разумения, она была скрыта в ее сознании, не желающем ведать о своем несчастье. Несчастье ее материализовалось в истории, оно стало той кошмарной зловонной ямой, где копошились чудища, отвергнутые ее коллективным разумом. Абсолютный Субъект не мог прожить без монстров, им же и порождаемых, без тех самых уродов антиразума, на которые он должен был проецировать зло, которое сам же творил. Эти существа гнездились в нем самом, под хлипким полом, отделявшим верхнюю площадку сознания от нижней. Была действительность, насажденная и взлелеянная высшим Разумом (именуемым «марксизмом-ленинизмом» или «мудрым руководством»), и проецируемая в будущее, но была еще и повседневность-Гулаг, и обе они помещались не только в государстве, но и во всякой душе с ее трепетно счастливым «несчастным сознанием». Всякий смысл имел под собой антисмысл, всякий текст – подтекст, всякое сознание – подсознание, всякая достоверность – свое подполье. И они не были разделены китайской стеной, они существовали в единстве и борьбе противоположностей, и эта борьба в подсознании нашей эпохи оставила немыслимые гекатомбы жертв.
Альбер Камю где-то сказал: «Думали, что двадцатый век будет веком Маркса, а он оказался веком Достоевского». Сегодня можно было бы сказать иначе: Думали, что двадцатый век был веком Достоевского, а он вдруг оказался еще и веком Гегеля, как и веком Фрейда, веком призрачной сверхразумности, овладевшей историей, и темного огня, выплеснувшегося из тех глубин в человеке, о которых не ведает и он сам. Следуя Гегелю, со всей скрупулезностью начертавшему, как построить действительность разумно, история руками свергнувших его учеников, выпустила на волю чудовищ, притаившихся под тонким слоем сознания. И в этом «выбросе» из подполья Мировой Дух оказался всего лишь прикрытием. При видимом торжестве своем в качестве «системы координат» он послужил лишь своего рода «трансцендентальной иллюзией», и в качестве иллюзии был сброшен иными духами со своего для себя-бытия в под-себя-бытие, в поддых истории, в солнечное сплетение мира или скорее в anus mundi[260].
Логика и вина
Можно ли говорить об ответственности Гегеля за все последующие «злоключения диалектики» (Мерло-Понти)? Не больше, чем об ответственности мудреца за орла, который по античной легенде когда-то уронил ему на голову черепаху. Стоит ли говорить о виновности Мирового Разума, перехитрившего историю и самого себя? Ну, в таком случае лучше нам сразу припомнить ползучего искусителя, соблазнившего нас некогда плодами с древа познания. В каждую эпоху мы заново поддаемся на этот хмельной соблазн, и только потом, задним умом, в тяжелом похмелье, догадываемся, что угроза человеку исходит прежде всего от нас самих. Существует, однако, бесконечно более сложная проблема ответственности отвлеченной мысли, которая «отчуждается» от ее автора и в реальной истории живет уже сама по себе, находя своих адептов среди тех, кто никакой мысли бывает и не причастен.
Никогда не прикоснется к этой проблеме тот, кто будет звать «назад к Гегелю», к подлинному Гегелю многотомного собрания сочинений, ни к тому Was Marx wirklich sagte[261] (Что действительно говорил Маркс). Как нельзя объяснить «великий Октябрь», исходя из белизны первоначальных намерений юного Ильича-кудряша или вывести Сталина из мелодии Интернационала. Суть дела в имманентной логике истории, всякий раз перешагивающей через голову своего предшественника, а затем легко освобождающейся от него. Эта логика обнаруживала себя в ряде последовательных перевоплощений или «похищений», когда из-под благих намерений основоположника всякий раз извлекалась, выкрадывалась, если угодно, гениально угадывалась настоящим его учеником ее реальная, ее духовная суть. Однако угадывалась, однако похищалась эта суть не без тайного с ее стороны умысла, не без трепетного ее желания быть разгаданной, похищенной, оскверненной. «Скверна истории» даже входит в ее программу. Как говорит Гегель, «Мировой Дух не обращает внимания даже на то, что он употребляет многочисленные человеческие поколения для этой работы своего осознания себя, что он делает чудовищные затраты возникающих и гибнущих сил; он достаточно богат для такой затраты, он ведет свое дело en grand, у него достаточно народов и индивидуумов для такой траты»[262]. «Двуногих тварей миллионы…», по-пушкински говоря, и превращения, которые происходят внутри философской мысли, далеко не всегда бывают чисто философскими. Отвлеченная мысль часто проявляет, выносит на поверхность свой истинный духовный подтекст, свою сокрытую интенцию, что может затем раскрыться, т. е. стать текстом той истории, которую поведет за собой некий «гениально угадавший» зов истории заклинатель и собиратель толп. И какой бы дорогой ни двигалась логика самопознания духа из себя самого, – сего изобретения чудовищно раздувшегося Субъекта, проецирующего себя на мир – от освоения действительности познающего в ней себя разума до тотального идеологического насилия над ней, в нашем случае дорога от Гегеля к Гулагу, – это был один из возможных ее путей, по-своему не менее логичный и последовательный, чем путь классической и великой философии от одной глубокой о ней диссертации до другой.
И если мы задаемся вопросом об ответственности этой логики, то суть самого вопроса можно выразить не логикой вовсе, но какой-нибудь заведомой провокацией, подобно уже упоминавшемуся в нашей книге «коану» Т.Адорно: «Всякая культура после Освенцима – мусор»[263]. Но каким коаном сможем мы передать ту негативную диалектику истории, в которой спекулятивный разум обернулся серийным систематическим убийцей? Несложно оправдать Гегеля на процессе о его возможной причастности к марксизму-гулагизму, как, впрочем, и оградить его от препарирующих его ученических Философских тетрадей. Да и в самих Тетрадях тоже еще нельзя найти ни благословения «массовидности террора» (ленинское письмо от 26.11.1918), ни проекта лагеря на Соловках. Но независимо от наших оправданий, история распорядилась с гегелевской мыслью по-своему. Опыт идеологического насилия, сконцентрированного далеко не только в Гулаге, выявил духовные корни этой мысли и вместе с тем трагедию ее; человек создает идола из своего познания. Но идол вдруг оживает, и вопреки намерениям своего создателя, после ряда неожиданных диалектических метаморфоз обращается против него. Поэтому Гегеля (как и всякую отвлеченную мысль) можно постигать не только отвлеченной мыслью, но и «слышать сердцем», как говорил бл. Августин. И потому мы вправе читать его и сквозь опыт того потрясения оснований земли (Ис. 24, 18), отдаленные раскаты которого соединились с абстрактнейшей логикой, вновь возжелавшей как бы сотворить мир заново из мысли, гордыни и пустоты.
В этой тайне беззакония (2Фесс 2:7), всегда действующей в мире, но с внезапной, ошеломляющей силой раскрывшейся в российской, а затем и в мировой истории, просвечивает другая, тайна свободы Божией. Бог не препятствует богоборчеству человека. Он позволяет ему осуществить сполна все задуманное и Сам становится вольной жертвой его замыслов. Он дает распять Себя человеческой свободе и тем самым – изнутри – покоряет ее. Имеющие уши, да слышат; с высоты Креста – со дна Освенцима, из подвалов Гулага – всегда доносится весть о Его победе.
Думали, что XX век будет таким-то или еще чьим-то веком, он, однако, оказался временем новых языческих религий, но и веком Креста Господня.
1996, 2016
Между титаном и вепрем (Яков Голосовкер)
Что ж, пусть это я создал это чудесное существо, эту мысль. Вдруг меня не стало.
Почему же должно исчезнуть и оно?
Потому что сгнил или сожжен мой мозг?
Разве это существо не получило от меня жизнь и не вошло тем самым в общую человеческую и мировую жизнь, не унеслось из моего мира, из моего воображения в мир другого мыслящего существа, в воображение другого? Быть может, оно проникло в него неведомо как и когда для него самого? Меня не стало, но остался он, мыслящий. И вдруг из окна своего темного туннеля, уже в своем воображении, он увидел мою мысль, мое чудесное создание: оно пронеслось мимо… Он считает его своим, он даже не знает обо мне, и оно теперь не мое, а его. Но оно было моим, оно возникло из меня – из материи, которая была мною.
Каждый ищущий истины поймет меня. Но истина – не идол, но только путь.
Я. Э. Голосовкер. О чем думал юноша.I
Помимо юношеского стихотворного сборника Сад души моей (1913), немногих статей, поэтических и прозаических переводов, а также развернутых примечаний к ним, Яков Эммануилович Голосовкер опубликовал к концу жизни лишь две не слишком объемистых авторских книги: Сказания о титанах и Достоевский и Кант. Годы спустя после его кончины вышли Логика мифа, Сожженный роман, Засекреченный секрет, Имагинативный Абсолют. Книги эти, отчасти повторяющие друг друга, можно рассматривать как разрозненные фрагменты единого и большого Труда или Сказания его жизни, оставшегося недовершенным, невосстановленным или не успевшим сложиться. Но все созданное его воображением, а затем погасшее, полузабытое, продолжает по-своему тревожить нас – прежде всего тех, кто знавал и замыслы, и труды автора, – как бы ходатайствуя о своем праве на жизнь в культурном наследии потомков. Голосовкер не был тщеславен, а если и был честолюбив, то лишь в каком-то ином, древнем, нежитейском смысле. Не раз упоминал он о «грандиозном тщеславии эллинов» (Оргиазм и число), и если примерить эту грандиозность к нему самому, то ее никак не могла бы насытить наша вялая читательская благосклонность. После выхода Титанов известность как будто приблизилась к нему, но ничем не согрела и не утешила. Как и многие мыслители, он хотел не того, чтобы его как-то особенно славили, он нуждался в том, чтобы им мыслили, его воображением жили, его образы постигали и по ним учились познанию. И оттого к любой благожелательной или юбилейной похвале он отнесся бы, верно, с той же присущей ему колко-снисходительной усмешкой, что и к очередному нападению идеологической метлы. Но при этом он всегда как-то мощно, болезненно желал, чтобы таящаяся в нем мыслящая сила заявила о себе однажды во всеуслышание, чтобы на Платоновом Пиру избранных умов, вслед за метафизиками и провидцами, вослед знаменитым речам Чистого Разума, Абсолютной Идеи, Мировой Воли, было, в конце концов, предоставлено слово и его Имагинативному Абсолюту.
Трудом жизни Якова Эммануиловича Голосовкера было созидание Знания. Знанию как-то мало было заявить о себе лишь буквами на бумаге или преподноситься лекцией в академическом зале. Оно было для него одушевленным существом, способным к перевоплощению, требовало для себя пластической формы, нуждалось в красоте. Все прочее – написанное или задуманное – было или же могло стать живыми столпами его святилища, созданного, как он любил говорить, «смыслообразами». Так, его Сказания о титанах вовсе не родились ради еще одного изложения известных мифов с целью просвещения детей старшего возраста; это извлеченный из архаики героический эпос, воссозданный на основе немногих уцелевших фрагментов. Так и могучая, составленная им Антология античной лирики, размышления-изыскания о Гёльдерлине или разгадывание повести Лермонтова были значимы для него не столько сами по себе, сколько как составные, хотя и вполне самостоятельные части единой картины его авторского мира, в которой все они плотно и органически прилегают друг к другу. В каждой из этих частей философ узнает и открывает себя в избранном им герое, потому что только «он знаток… той эссенции, которую изготовляет» (комментарий к драме Гёльдерлина Смерть Эмпедокла).
Вершиной, главенствующим смыслом этого мира было самопознание мысли в себе и в других, т. е. рождение Философии. Но мало было только воспроизвести ее на свет, т. е. заключить в теоретические труды, ее еще нужно было вольно и широко разместить в обществе избранных и родственных душ. Такое общество надо было самому построить, оградить от других, скрепить единым, созидательным замыслом. Отсюда – все его экскурсы и исследования, комментарии, переводы, где под чужими именами и ликами обитала его, Голосовкера, мысль. На них ему так и не хватило жизни. Он был «из тех, которым не надобно миллионов» (положения, славы, семейного очага и т. п.), «а надобно мысль разрешить»[264]. Скорее самой его мысли необходимо было разрешиться от бремени, причем не только в трактатах, но и в стихах, переводимых им лириках, в титанах, столь на него похожих, в сказаниях его жизни. Ничуть не умаляясь в своей культурной или имагинативной реальности, они служили и общему философскому делу. На его пиру они творили мысль вместе с мыслителями самого высокого ранга.
«Когда мы, однако, философствуем? – спрашивает Хайдеггер. – Очевидно тогда, когда вступаем в беседу с философами» (Was ist das – die Philosophie?). Но если для непосвященных эта беседа – только более или менее интересная «история философии», то для самих философов она имеет смысл как увлекательнейшее и диалектическое освобождение окончательной истины из-под спуда всяких шифров, софизмов и умозрительных заблуждений. Тот, кто открывает для себя философскую истину, всегда указует и на то, в чем другие философы заблуждаются. Ибо истина – это не памятник культуры и тем более не почетный музей многих каменных изваяний, истина – путь, и завершает его тот, кто увенчивает умозрения других и объявляет, что цель достигнута.
Наверное, еще с юности Голосовкер был убежден, что принадлежит к этим посвященным, что рано или поздно, но скажет и он свое последнее освобождающее слово и прочие небожители мысли выслушают его как равного. Это убеждение, должно быть, жило в его сознании еще до того, как он написал первую строчку. И когда рукописи его горели в огне, каменели в хранилищах, растаскивались по чужим страницам и идеям, он едва ли до самого конца отказывался верить, что эти враждебные стихии: огонь, забвение, житейские горести или чужие корысти – ив самом деле сумеют окончательно сжечь, стереть ту радостную неоспоримую правду, которая так повелительно созидалась в его душе.
Есть авторы, которые подобны примечаниям на полях своих книг. Или послесловиям, подписанным именами-тяжеловесами, которых никто не читает; ведь самое интересное было сказано раньше. Но есть авторы (их куда меньше), сочинения которых – только введение в науку или в драматическую фабулу их личности. Что бы они ни написали, они всегда крупнее, неожиданнее, загадочнее ими созданного. Таким был и Яков Эммануилович Голосовкер. «Его учение было его поведением, а не книгой» (Оргиазм и число), сказано им о Сократе, но на самом деле о себе самом. Он недаром мыслил о себе как о персонаже героического, на высоких подмостках разыгранного мифа. Но такого героя нельзя сыграть, им надо родиться. Другое дело – стоило ли ему родиться в эпоху, которая навязывала свои, слепленные по единому трафарету маски, как и мифы, далеко не эллинские.
В пятьдесят лет он написал опыт автобиографии: Миф моей жизни. Тогда он только что вернулся из лагеря, где просидел три года – по тем временам всего три года, – хотя слово «всего», столь уместное в контексте тех лет, легко произносить лишь никогда не сидевшим. Его взяли еще до того, как начали брать всех без разбора, – за то, что работал в издательстве Academia, которым заведовал Каменев, а заодно и за портрет Ницше на стене у себя дома, из чего, по законам нашего двора в то время, непосредственно выводилось намерение взорвать динамитом Кобу и Кремль. Но поскольку это был лишь 36-й год и машина террора не была еще до конца раскручена, то в случае полного непризнания вины могли дать минимальные эти три года. И здесь – опять-таки удача! – конец тех трех лет пришелся на первые послеежовские месяцы, когда удав решил чуть-чуть помягчеть и ослабить хватку. Голосовкер, не догадываясь тогда, что это чудо, одно из немногих настоящих везений в его жизни, вышел со своего лесоповала в 39-м году. По его рассказам он добирался домой полгода, прошел зимой и весной от Воркуты до Александрова чуть ли не пешком, переправляясь через большие северные реки, иногда перед самым ледоходом, и, вернувшись в Москву, обнаружил, что труды его жизни погибли. Они были сожжены былым другом, неким «инфернальным художником», которого, видимо, не желая почтить славой Герострата, он при мне избегал называть по имени.
«Оно (сожжение) было трагедией для меня, вернувшегося с каторги[265], – писал Голосовкер в Мифе моей жизни (1940). – Это была вторая каторга – каторжнее всякой каторги. Мне осталось только воображение – память, в которой живет мучительно то, чего уже нет безвозвратно. Я вижу рукописи, я вижу страницы, передо мною, как призраки, проносятся былые мысли…, но того, что жило словом, образом, ритмом, что было сплавлено в целостность замысла, – этого нет. Я остался бездетным».
И все же, за изображением страдающего героя, за трагедийным плащом здесь все еще проглядывает надежда. Через отчаяние прорывается катарсис, очищение. Рукописи погибли, как гибнут герои трагедий, оставив зрителей (пусть даже единственного «внутреннего зрителя») с освобождающей ясностью смысла. Страницы горят, но самой мысли еще далеко до смерти, она еще не начала стареть. Пусть все, что сожжено, – тот звонкий смысл, который звучит в душе, обретет для себя новый образ. Прежних слов и ритмов больше нет на бумаге, неиссякающая мощь воображения, обитавшая в них, подарит им новую жизнь. У него еще есть сила хотеть, творить, приказывать. То новое и неведомое, что живет в нем, все еще покорно его творческой воле. «Войдет ли оно в мир, придет ли к людям, или, быть может, снова злой волей или безразличием людей будет сожжено или затеряется и погибнет, что могу я? – писал он в Мифе. – Сейчас я только исполнитель внутреннего веления».
Да, все сгорит еще раз, хотя теперь лишь по воле злого случая, и еще раз будет восстановлено и воссоздано. Отчаяние в ту пору еще не могло перебороть его силы. Должно быть, именно тогда он и стоял на вершине своей жизни.
II
Судьба свела нас в начале осени 1960 года, через двадцать лет после тех строк и событий. «Внутреннее веление», о котором он писал в Мифе, было только что – ив последний раз! – исполнено. Главный труд был вновь возрожден, основные дела, ради которых стоило приходить в этот мир, наконец сделаны. Ощущение внутренней победы сделало его общительнее. Былой отшельник умел, оказывается, заразительно смеяться, вчерашний фанатик своих «культуримагинаций» мог со вкусом и с толком порассуждать о собирании грибов. Именно таким изображает его фотография, напечатанная в Засекреченном секрете[266]. За его чуть насупленным, ласково-пронзительным, словно чуть гипнотизирующим взглядом, иронической полуулыбкой стоит сознание своей силы. Кажется, вот-вот он произнесет по вашему адресу что-нибудь умно язвительное (но не столь уж обидное) и всегда немного загадочное. В ту пору он вышел из затвора одного лишь воображения, и не то чтобы стал искать учеников, но, по крайней мере, перестал их слишком чуждаться. К семидесяти годам ему слегка наскучило сидеть одному за своим пиршественным столом. Если бы те из его современников, в чьей порядочности и культуре нельзя было усомниться, попросили его тогда рассказать нечто об историческом развитии эллинской мифологии или об инстинкте воображения, он, пожалуй, не стал бы упрямиться. Может, не стал бы отмалчиваться, если бы «племя младое, незнакомое», умей оно вести себя поприличней, попросило его растолковать ему законы стихосложения в древности и после нее, или, если бы собратья-философы пригласили его на диспут, но с гарантией, что не будет ни кражи, ни распродажи его идей… Ну а вообще-то Голосовкер совсем не просто шел на контакты. К тому же и современники, годились ли они ему в ровесники, сыновья или внуки, тоже не очень торопились эти контакты завязывать. И ему приходилось иной раз самому искать их, чуть ли не вслепую.
«Почему вы не приходите? Это ваш отец запретил вам приходить?» – требовательно, безо всяких любезностей и заходов спросил он меня, встретив случайно на Тверской, у дверей ресторана Дома актера, где только что пообедал. По правде говоря, я не помнил о его приглашении. Действительно: «заезжайте ко мне», сухо и как бы случайно, на ходу, брошенное почти подростку, к тому же имевшему сомнительный статус «сына критика» и пока не допускавшемуся до серьезных разговоров в кабинете отца, – все это как-то с трудом можно было счесть за серьезное намерение общаться. Помню, что через несколько минут подскочили мои друзья, решившие, что моя беседа со столь живописным старцем дает и им право в ней участвовать; Яков Эммануилович тотчас похолодел, полуотвернулся и стал вдруг похож на седую хищную птицу. Мгновенное самозамыкание – такой нередко была первая реакция на посторонних у бывших лагерников. Но со мной отношения как-то сразу сложились, и с той поры я стал бывать у него, и мне довелось стать одним из очень немногих, едва ли не единственным из тех – если не говорить о племяннике, – кто стал постоянным свидетелем последнего, вершинного периода его жизни и ее душераздирающего конца.
Голосовкер стал появляться на даче моего отца, вероятно, с середины 50-х годов. Атмосфера тех лет включала в себя какой-то едкий и опасный запах полулегальности, полузапретности, который оставался от только что появившегося пока слова «реабилитация», еще не освоившегося в государственном языке. В безупречные, добротно и прочно стоявшие на земле дома «реабилитированные», как правило, не ходили, а если уж случалось такое, то как-то отдельно от прочей публики. Мне казалось, было два вида реабилитированных: одни долго мешкали и спотыкались у входа, и, прежде чем успевали войти, входила какая-то их загнанность, их побитость, неуместность пребывания в доме с положением и приличной ухоженной обстановкой. Тогда уже у входной двери на лицах хозяев само собой возникало то специфическое выражение, которое, не таясь, гласило: «дать совет, если уж очень надо, рубль-другой, пожалеть, пожурить, спровадить». Но были реабилитированные, и даже вовсе не реабилитированные, чуть ли не лагерные, кто входил резко и угрожающе, словно из какой-то иной, ледяной, только что оставленной за порогом запретной жизни, о которой и говорить-то в полный голос было непозволительно, так что устойчивость теплых, крепко стоящих домов вмиг представлялась какой-то ненадежной, временной декорацией, и обитатели уютных кабинетов с креслом и корешками книг за стеклом непроизвольно ёжились в их присутствии.
В самой манере появляться у Голосовкера было что-то статично-иератическое; он не входил, а как-то внезапно вырастал на пороге дома со своей полуулыбкой, и было не понять, чего выражалось в ней больше: приветствия или желчной иронии. Скорее всего, она сочетала и то и другое, так что сама дверь, словно отступив перед ним, еще до хозяев сама приглашала его войти. Она почтительно пропускала в охраняемое ею жилище не каторжника, битого судьбой, и не жалобщика-просителя-бедолагу; вместе с Голосовкером в дом вступало всегда нечто непривычное и значительное, от чего тесно становилось в любой московской квартире. Войдя, он сразу же задавал тон разговора, и его внутренний мир как бы опрокидывался на собеседника. Говорить с ним, даже людям маститым и остепененным, значило то и дело натыкаться на какие-то неудобные углы, проваливаться в ямы в своем образовании или же взбираться на высоты с разреженным воздухом; к беседам с ним тоже надо было иметь вкус. И потому встречи с моим отцом, да и не только с ним, не всегда, вероятно, бывали к взаимному удовольствию. Но Голосовкеру тогда нужны были люди, никакие не собратья по перу, не «инженеры душ», а просто понимающие собеседники. Скорее всего, лишь слушатели. В ту пору в предисловии к сборнику своих стихов он писал:
«Моя мысль долгие годы голодала. Я не находил умов, с которыми мог бы накоротке общаться. В эти годы людям было слишком трудно, а иногда и слишком страшно. Я говорил часто с мне неведомым. Я знал, что они существуют и что их мысль также голодает, как и моя, и также страдает. Поэтому я и назвал свой сборник стихов Волчий голод».
III
Волчий голод с годами только рос и оставался неутоленным. Голод стал частью его самого. Люди, с которыми Голосовкер мог бы накоротке общаться, так и не нашлись. Была ли в том его собственная вина или вина других? Прежде всего, он сам не умел расколдовать своего одиночества. К тому же, он, как и былые или несостоявшиеся его друзья, был связан своим прошлым. Яков Эммануилович чудом устоял, промыслительно не погиб, поневоле вписавшись в свое время, продолжая числиться в той среде, где только и мог найти собеседников. Но пути в культурное общество всегда, а в ту эпоху в особенности, бывали уклончивы и извилисты. Дорога же Голосовкера была вызывающе, прямо-таки оскорбительно прямой. Она всех почему-то задевала, даже когда не пересекалась, не соприкасалась с другими гибкими тропами. У него и не могло быть многих попутчиков, с коими можно было бы открыто поговорить. Он мог окатить недоуменным холодом, прижечь остротой да еще с опасной политической колючкой внутри. Его шутки никогда не приспосабливались ни к литературным, ни к иным вкусам его слушателей.
Я застал его в последний, в лучшем случае предпоследний цветущий год его жизни. Якову Эммануиловичу было семьдесят лет. Впереди, казалось, еще семьдесят. Он сделал то, что хотел. Он напоминал персонажей своих сказаний – статью, мудростью, осанкой, радостной печалью и самим «бессмертием». Картинная седобородость, седобровость, седогривость его, казалось, только подчеркивали его бодрость, силу и молодость. Он излучал иронию и доброту и какую-то еще перестоявшуюся, изголодавшуюся по титаническим подвигам волю. Его знания искали для себя выхода, открытые и завоеванные им истины не могли оставаться отрешенными, им не хватало честного рыцарского турнира. Миф его жизни был почти завершен, записан и нуждался в орхестре. Ноша отрешенности стала тяготить его.
«Отрешенное я в Элладе означало общественную казнь. Остракизм как замена смертной казни был ни чем иным, как таким отрешением» (Оргиазм и число).
Может быть, вчерашний школьник, который навещал его, служил для него последней попыткой вырваться из того остракизма, к которому он был приговорен. Для самого же гостя тот год или полтора были временем сплошного слушания. Или скорее «годом интересного разговора». В небольшом трактате Интересное Голосовкер определяет его как разговор с самим собой. Это разговор не келейный, а со всем человечеством, с прошлым и с будущим, самый открытый разговор, какой только может вести человек. Что за беда, если пред тобой лишь юнец! Воображение автора может легко поставить на его место плеяду самых изысканных умов. Когда мыслитель создает свой труд якобы в глубоком одиночестве, он обращается, по сути, даже не к современникам, а ко всей мировой и вековой аудитории своих слушателей. И уж меньше всего он имеет в виду специалистов.
«Освободитесь от заблуждения, – писал Голосовкер, – что автор-философ – специалист… Он – мыслитель, а мысль не имеет специальности» (Имагинативный Абсолют). Это означало: философская мысль не должна связывать себя никакими сложившимися до нее приемами или обременять накопленным до нее культурным материалом, она может обращаться с ним по выработанным ею самой, а не по чужим устоявшимся правилам. Она свободна, она создана воображением художника. Не нужно ей ученых степеней, не вмещается она ни в какие академические институты. Но она обращена к человеку, наделенному особым слухом для восприятия мысли как искусства, творимого интеллектом.
Древние классики, немецкие романтики, а также поэты всех эллинских, латинских, немецких времен были обычно хозяевами «интересного разговора». Досократики, Платон, Шеллинг, Кант, в особенности Ницше, Шопенгауэр и Гёльдерлин не сходили с уст. Из поэтов чаще всех поминался Тютчев. Воздух, который окружал их, прозрачный, терпкий, чуть хмельной, был для Голосовкера тем небом, под которым он по-настоящему и мог дышать. Он подолгу любил бывать на своих вершинах, не смешивая в одну кучу идеи и житейские воспоминания, но свои экскурсы он часто прерывал чтением стихов. Он читал их в подлиннике – Сафо или Алкея, Горация или Катулла, – а затем в своем или чужом переводе. И в этих переводах иногда оживала та часть его «я», которая оставалась в тени.
Нет, не исчезла прелесть игривая Анакреона. Дышит, как встарь, любовь. Тот же жар в напевах давних Девы Эолии, дивной Сафо. (Гораций, Фрагмент)О непереводимости Горация он написал особую статью и переводил его блестяще.
Но чаще он выбирал строки погрустнее, пожестче. В памяти моей оживает его голос:
О, как грустно, Необула, избегать игры Амура, Не осмелиться похмельем смыть тоску, а осмелеешь, Языком отхлещет ментор.Или, когда бывал встревожен и тосклив:
Худо, друг, твоему Катуллу, худо, Худо, мой Корнифиций, нестерпимо, С каждым днем, с каждым часом – хуже, хуже…После Катулла или Горация он любил прочесть что-нибудь по-итальянски, утверждая, что только в их латыни уже можно расслышать язык Петрарки. Вслед за голосом в памяти возникает его поразительное лицо, так неожиданно напоминавшее многим Рабиндраната Тагора. Облик Якова Эммануиловича, когда потом я вспоминал его, стал для меня с годами ликом или «смыслообразом» самой его мысли, его судьбы: высокий белый лоб, окруженный серебром волос и бровей, глаза чуть навыкате, напряженный взгляд, обращенный на невидимого собеседника в отдаленных веках и чуть застывший в состязании диалога, чуть разочарованный, когда собеседник напротив оказывался кем-то иным. Пробеседовав часа три, обежав три раза вокруг Олимпа, углубившись в дубовые рощи немецких романтиков, мы вдруг круто сворачивали в самую неожиданную сторону: к Тютчеву, к Достоевскому, а от него – зигзагом снова к Канту (напечатанная книга имела еще несколько устных, проговоренных вариантов) или, скажем, к Сократу, затем вдруг к Ленину; в поисках истины и тот и другой обратились к искусству маевтики, в их мыслительных приемах есть некоторое сходство (тогда, Ленина еще не читав, я не догадался спросить, за что, собственно, Сократ пригласил его в сотрапезники своей мысли), но Сократ никогда не брался за рычаг политики и потому поплатился за свое искусство собственной смертью… Ленин же взялся за этот рычаг, насилием погубив свою мысль…
– Для меня революция, сделанная в октябре, просуществовала два месяца, – заявлял он внезапно и твердо, отвлекаясь от предметов, о которых стоило говорить. – До декабря 1917. Как только была организована ЧК, я сказал себе: с революцией покончено. Начинается террор, подлость, измельчание человека. «Свинство рябых Калигул», как говорил Борис /Пастернак – В. 3./. Мне это стало неинтересно.
– Тогда почему вы вернулись из Германии, куда отправились в конце 20-х годов?
Как я теперь понимаю, это был трудный для него вопрос. Как ему – с его старой университетской выучкой, немецкой ученостью и героической эллинской статью – было проходить сквозь наши пустозвонно двадцатые, стальные тридцатые, лихие сороковые, душные пятидесятые и последние трескучие шестидесятые годы, равно истребительные для его, Голосовкера, мысли? Почему он вернулся – о том, вероятно, он не раз спрашивал себя сам. И отвечал как бы обходным манером – скорее себе, чем собеседнику:
– В то время легко было получить паспорт. И многие уезжали насовсем. Но я вернулся. Почему? Ну, что сказать? – была женщина (он выговаривал это с усилием), которую я любил. А потом – как-то не верил я, что все это так надолго. Мне Лосев говорил еще тогда: «Что вы, Яков Эммануилович, все бунтуете? Эта история с большевиками лет на двести…». Для меня это было немыслимо, я не хотел верить, думал, все скоро кончится. Не верю и сейчас. Сколько у нас прошло этой «новой эры»? Сорок четыре года? Ну, лет двадцать пять-тридцать еще, может быть, и протянется. Пусть государство у нас дурак, не может же оно всех поголовно сделать дураками. На двести лет – не может. И потом: Запад Западом, но меня все время тянуло в Россию.
Тот сюжет его жизни, который был связан с женщинами (привлекательность которых отнюдь не проходила мимо его взгляда) и бессемейственностью, остался для меня нераскрытым.
«Я пожертвовал любовью, писал он в Мифе моей жизни (после того, как узнал, что все труды его сожжены), – любовью в том смысле, в каком я понимал подлинную любовь. Я любил, любил, как, быть может, не умеют уже любить в XX веке, но еще умели любить в XVIII – и я отдал любимую женщину в жертву пошлости, банальности, комфорта. Я стоял перед выбором: любимая женщина или мое дело… Это была большая жертва – жертва счастьем, жертва душой. На некоторое время я окоченел, чтобы пережить разлуку. Такая жертва должна была быть оправдана. Она не оправдана. Моя нужда, нищета, одинокость, покинутость – не оправдана. Вот почему моя исповедь не мораль, а жизнь».
Но и в старости он любил поговорить о любви. В высоком и драматическом смысле, с присущей ему примесью романтической иронии.
IV
За «интересным разговором» иногда заезжал его племянник, известный уже в ту пору историк Сигурд Оттович Шмидт – нанести визит, а заодно подбросить новости и продукты, и тогда между ними начинался тот диалог эсхиловского Прометея с эсхиловским же Гермесом, тот турнир трагедийного юмора, который я в ту пору не догадывался записать. «Строптивостью такой и своеволием корабль свой ты загнал уже на камни бед». «Мои страдания, слышишь, не сменяю я на услужение Зевесу. Да не будет так!» (Строптивость означала хроническую неуживчивость, вздорную непрактичность, неумение ладить с редактором, нежелание найти нужный тон с директором Гослитиздата и т. п. «Зевес» подразумевал систему вообще, Академию наук в частности, конкретно же – карьеру, диссертацию и партийность). Яков Эммануилович был царственно, хотя порой несколько тяжеловесно ироничен; его собеседник, в доспехах более легких, тоже не оставался в долгу.
Все высокое было ему по росту, сценическое, но безо всяких масок, как-то к нему очень шло. Он строил культуру, но и сам был явлением культуры, отлично сознавая это. Он не был просто обладателем знаний, в каком-то смысле он сам был воплощенное знание. Доблестное, титаническое, печальное, седое и, как многим казалось со стороны, никому не нужное знание. Знание отливалось в тексты и беседы, дышало, мучилось, шутило, беседовало с друзьями, ходило в магазин. В его манере говорить о книгах, о природе, о людях и даже о пище, добротности которой он всегда уделял большое внимание, была своего рода чистота и законченность стиля. Перечитывая теперь – через десятки лет – Кентавра Хирона, я неожиданно услышал живые интонации его автора.
Язон спрашивает Кентавра:
«“Научи, отец, как нам взять Железного Вепря!” Отвечает Хирон: “Пойти и взять. Разве боги Олимпа спрашивают? Хотят одолеть – одолевают. Надо уметь хотеть, как боги хотят. Сегодня не забавный день для Хирона. Сегодня он потерял героев”».
Порой это звучало как выговор, когда надо было поставить на вид какую-нибудь оплошность или нерешительность: «сегодня не забавный день для Хирона». Если не в тех словах, то в таком приблизительно ключе. Помню, Хирон потребовал почему-то немедленно принести ему одну его припрятанную рукопись (он их непрерывно перепрятывал), а мальчишка-первокурсник, коим был я, со Знанием-Храмом в портфеле решил по дороге, не позвонив, еще и забежать к приятельнице – о, сколь незабавен был этот день для него и меня! Два часа Знание болталось неизвестно где, когда на каждом шагу его караулила смертельная опасность. Тогда у меня еще не было опыта утраты рукописей, и я не вполне мог понять того великого гнева – до сердечного приступа у обоих; тот выговор запомнился мне на всю жизнь. И все же мудрость Хирона была тогда еще сильнее силы Железного Вепря.
Актеон спрашивает Хирона, почему горестям и утратам он дает серебрить его волосы. Тот отвечает: «Ты, мальчик, прав. Так говорил я вам и себе. Я видел утраты – и свои и чужие, но тогда я еще не познал их. Утрату познают, когда любят. Тогда впервые слышишь голос Ананки-Неотвратимости. Я слышал ее голос. И учусь сейчас новому мужеству, более твердому, чем былое».
Так писал Яков Голосовкер, и само собой получалось, что так и жил. Безо всякого наигрыша. Ананка-Неотвратимость, познание утрат, мужество, все более твердое, чем былое. С обликом и словами мудрого титана, в двух шагах от Железного Вепря.
V
При этом мысль его была внутренне светла. Она не пряталась в тень от солнца, на ней не видно было следов тяжелых вепревых копыт. Она текла или пробивала свою дорогу упорно, мощно, не останавливаясь. Обращаясь сегодня к его текстам, я припоминаю их сказанными. Они спрессовались в моей памяти, ибо проговаривались мыслителем, который не мог ждать, пока его издадут. Яков Эммануилович мыслил и проповедовал и за чайным столом, у него не было пустых, незасеянных мыслью полей времени, залузганных болтовней. «Воображение, имагинация, абсолют, инстинкт культуры…» – словно витали вокруг него. Но что таилось у корней этих слов? Какая догадка, интуиция, ностальгия питала их на той глубине, на которой мысль еще не родилась, «она и музыка и слово» (Мандельштам)?
Эту чуть приоткрытую им глубину я нахожу в слове «бессмертие». «Бессмертие» то и дело всплывает в его мыслях, хотя подлинный «побуд» к нему скорее скрыт, чем объявлен во всеуслышание. Не «бессмертие души», не «воскресенья чудо» – оно было им сразу отклонено, но взамен найдено другое, не просто найдено, но и по-своему прожито, заброшено в мировую мысль, в воображение слушателя. «Борьба смертного за свое бессмертие, гордое чувство своего права на бессмертие, его соперничество с богами, жажда славы, как жажда увековечить себя, – эта большая тема богаче других развита и до конца раскрыта в мифологии эллинов, выражая полное торжество логики образа при его продвижении по кривой смысла» (Имаги-нативный Абсолют).
Мифология эллинов была для Голосовкера не музеем, но былью его жизни, тем непогасшим светом, который, вспомним еще раз Мандельштама, «как вечный полдень длится». Приобщившись к его теплу, Голосовкер мог твердо выстаивать против обступившего его хищного мира. В его исповедании «спасение (было) от эллинов» в том потерянном и восстанавливаемом им рае, где единственным первородным грехом было отсутствие воображения, неверие в силу «чудес», наделенных по воле художника сказочным «смыслом несмыслицы». «Чистым чудесным открывается обетованная страна с ее карикатурой на нее же – страной наизнанку» (Логика мифа). Но самое чудесное в этой стране, что она не область каких-то необыкновенных, на голову поставленных объектов, что она находится в вечном изменении, что она подвластна человеческому воображению, которое непрерывно создает из людей и предметов небывалые комбинации, бросающие вызов формальной логике и здравому смыслу. Правда, здравый смысл мог родиться позже мифа или же в то время, когда оба они были младенцами, могли мирно уживаться друг с другом. Но самые интересные комбинации возникают из идей, которые чудесным образом делаются вещами. «Донаучный мир не знает “реализма законов”. Он знает только “реализм вещей”. Поэтому его имагинативные образы и даже метафоры суть для него вещи» (Има-гынативный Абсолют).
Само слово «Абсолют» кажется холодной и жесткой, заемной раковиной, в которой дышала, пульсировала тоска по бессмертию.
Миф оперирует мыслями и образами как живыми телами, но уже сбросившими свой телесный вес, преодолевшими силу земного притяжения. По воле воображения они легко перемещаются и оказываются в немыслимых ситуациях. Они могут стать новыми сущностями и даже пророчествами, подобно античному «телу тени», в котором Голосовкер усмотрел будущий оттиск еще не открытого электрона. По его мысли эта предугаданная тень айда возвестила собой о рождении той физической реальности, которая явится тысячелетия спустя. «Объекты науки о микромире, – утверждает он, – созданы по образу и подобию объектов микромира. Воображением познают» (Имагинативный Абсолют).
Воображение одновременно создает идеи и познает их как смыслообразы. Смыслообраз – это познанная, конкретно осмысленная идея. Он рождается из инстинкта смыслотворения, который вызывает к жизни требуемые им формы. «Образ не есть обязательно художественный образ, внешний образ. Образ есть прежде всего внутренний образ, внутренняя форма, в которой заключен смысл. Внутренняя форма не имеет ни длины, ни ширины, ни высоты: она имеет только глубину, и эта глубина беспредельна, – она апейрон» (Имагинативная эстетика).
Беспредельность раскрывается как внутренняя мощь человека; в системе Голосовкера (он отнюдь не чурался слова «система») она была антропологическим проектом. Философия есть искусство, не устает он повторять, она живет по законам, которые ближе к поэзии, чем к логике, и эллинский миф – язык ее вести. Это весть о внутреннем побуде или духе воображения, заложенном в человека, который не только прокладывает путь науке, но и утверждает свое непреходящее бытие в «смыслообразах» культуры именно тогда, когда делается их распорядителем. Голосовкер не хочет быть академическим исследователем античности, каким он предстает со стороны, толкователем мифов или даже изобретателем их, он чувствует себя полноправным их обитателем. И когда он повторяет и даже выносит в эпиграф как лозунг свою сдвоенную максиму: «Эстетика у эллинов – онтология, мифология у эллинов – гносеология», то имеет в виду прежде всего науку о бытии, свою теорию познания, хотя и вполне искренне и научно прикрытую эллинами. Обращаясь к Прометею (Оргиазм и число), он отмечает в нем прежде всего дар провидца, который все знает наперед и все же прокладывает «героический путь к культуре»; он добывает искусство знания, которое само утверждает бытие созданных им предметов или мифов. И когда от мифов остаются одни осколки, он собирает их в единое целое, созидая философское знание в образах. Под видом якобы существовавших сказаний.
В его сказаниях человек бессмертен, но лишь в силу того, что живет в культуре и воспринимает все ее наследие, похищает, точнее, восхищает знание о своей имагинативной божественности. Однако знание, добытое у богов (т. е. плодов его мощной творческой фантазии) и дарованное затем людям, нередко обрекает его на муку. Такое знание воплощает собой Прометей, и оттого оно становится его карой. Неожиданно и необыкновенно проницательно Голосовкер раскрывает механизм этого карающего знания в книге Достоевский и Кант.
Может быть, это самый тонкий и вместе с тем жесткий спор с Кантом, который существует в мировой философии. «Достоевский рассекречивает Канта», – пишет автор, на самом деле это делает он сам устами и поступками братьев Карамазовых. Он разверзает «ад ума», скрытый в Критике чистого разума под видом спора Тезиса с Антитезисом, явленный и разыгранный в судьбах Алеши, Ивана и Мити. Кант, который не столь уж часто поминается в его книге, неожиданно облекается в Достоевского и разоблачается им – пером исследователя – изящно и беспощадно. Это не лобовое отрицание, подобное неприятию Канта о. Павлом Флоренским, не перелицованный экзистенциальный бунт Киркегора против «всеобъясняющего» рационалиста, но следование за разумом (в лице «криптокантианца» Ивана), теряющим самого себя на вершине своего самопознания.
При этом Голосовкер, выступающий как внимательный читатель, с изумительной аналитической техникой не навязывает никаких выводов. Вслед за Достоевским он, выбравшись из ада познания, в котором одна мысль оспаривает другую, предлагает лишь «нежность к надежде на какую-то светлую, большую прямую хрустальную дорогу и солнце в конце ее». (,Достоевский и Кант).
Это означает «искусство: там, где человек погибает в истине, там он спасается красотой» (там же).
Спасающая красота (мысли, образа, книги, поступка) есть инобытие истины, пусть и самой трудной для жизни.
Мне думается, красотой Голосовкер спасал не себя, а других.
VI
Надо было бы сказать и о книге его стихов. Помню увесистую папку, на которой было написано «Стихи и поэмы»; он любил читать их вслух. Голосовкер не принадлежал к тем поэтам, которыми рождаются, а скорее к тем, которые сами себя делают поэтами, когда видению вещей, правде чудес становится тесно в прозе. Но он, несомненно, обладал даром слова, его дар слышен с каждой страницы Сказаний о титанах. Строго говоря, он не был поэтом, но склад его был таков, что сам легко ложился в строку и в образе, в тайне поэтического произведения был как-то на месте. У меня нет и никогда не было его стихов под рукой, но какое-то время две ахматовские строки из стихотворения Данте столь упорно навязывали мне себя в качестве строк Голосовкера (мне казалось, что они – из его поэмы Джиордано Бруно), что на время заставили забыть об их настоящем авторе:
Факел, ночь, последнее объятье, За порогом дикий вопль судьбы…Словно ритм, словарь, замысел, «отвес» этих строк возвращал моей памяти облик Голосовкера. Его упрямое противодействие слепой торжествующей силе, его превосходящей.
Но босой, в рубахе покаянной, Со свечой зажженной не прошел По своей Флоренции желанной, Вероломной, низкой, долгожданной…«Вероломной, низкой, долгожданной» была в то время земля его мудрости – философия. Она видел ее продажной, захваченной проходимцами, приспособленцами и ворами. В его жизненной позиции или, скорее, в повадке было нечто от эллинского трагика, оказавшегося в стране варваров, которым был непонятен его язык. Или «великого романтика» (так называется мистерия, написанная им в юности), попавшего в руки инквизиторов. В мою слуховую память врезался образ того, кто осудил Бруно на сожжение.
Это он с себя рубашку снял В подаянье нищему еврею, Это он светлейшим днем назвал Из ночей одну – Варфоломея.Кстати, переводы его в Антологии античной лирики превосходны.
VII
Голосовкер всегда хотел быть и являться людям прежде всего мудрым и знающим. Но если спросить, какое свойство я считаю в нем основным, то, поразмыслив, сказал бы: мужество. Мужество, а потом уже мудрость. Голосовкер был одним из самых сильных и стойких людей, которых мне довелось встретить в жизни. В эпоху, которая гнула каждого и вила из всех веревки, он умудрился ни разу не согнуться, не искривиться ни в чем. Ни строчкой, ни упоминанием портретных имен, ни даже той дежурной улыбкой, которая приклеивается автоматически, как марка к письму, чтобы дошло куда надо. Его никак нельзя было снизить до безобидного чудака, до жюль-верновского Паганеля от философии, оказавшегося на территории кровожадного дикаря. Сама его неудача с трудами и публикациями объяснялась и тем отчасти, что он был сделан совсем не из того материала, из которого обычно делаются мирно пасущиеся ученые. Материал его личности был неплавким, негнущимся, сломать изнутри его можно было только болезнью. В стране изгнанья, в которой он жил, он так и не овладел до конца местным наречием и кодом поведения. Легче было представить его на Троянской войне, чем на заседании ученого совета. Он готов был схватиться с самой Ананкой-Неотвратимостью, но не всегда умел воевать с издательством или с редактором, который правит его рукописи. Мужество – дар, как и мудрость, но опасный и неудобный. Он ставит не только на край жизни и смерти, но часто и на грань несуразности и трагедии. Живи он в античную эпоху, он мог бы подарить Диогену Лаэртскому много отличных и острых сюжетов.
Один из таких сюжетов запечатлен на запомнившейся мне старой фотографии: Голосовкер стоит там рядом с Фадеевым в каком-то из подмосковных домов творчества, кажется, в Голицыне. Ростом Фадеев выше на полторы головы, от него, генерального секретаря Союза писателей СССР, зависит судьба этого античника и неудачника (именно он, Фадеев, добился для него московской прописки в 1942 году); один – член ЦК, другой – вчерашний зэк, на дворе – крутая зима и культ личности, но всякий взглянувший на эту фотографию не усомнится, кто на кого смотрит снизу вверх. С одной стороны – картинное изваяние самой незыблемости культуры, которая беззаботно хохочет в свою Зевесову бороду, с другой – идеологический часовой эпохи, подтянутый, словно стоящий на трибуне и чуть ли не при орденах; почтительно улыбаясь, он как бы обходит этот живой памятник боком.
Иногда казалось, что время, не сумев ни измельчить его, ни сдвинуть с места, решило и на самом деле обойти его стороной. В последние годы оно вообще старалось не заглядывать в пещеру старого кентавра. К тому же «тысячелетье на дворе» интересовало Голосовкера лишь поверхностно, тысячелетье, которое было ему мило, обитало в нем самом. (Останься в Германии, он, боюсь, и 1933 год счел бы в высоком смысле культурно неинтересным, к нему, еврею, прямого отношения не имеющим). Он жил с некоторым запасом непреходящего времени, и у него не было двух языков, двух способов речи – один для высокой, созданной ученостью и воображением эпохи, другой – для близкой, презренной, путающейся под ногами.
Но когда говорят: он жил не с нами, а в каком-то дальнем собственном времени, то это разговор не всерьез. Он жил там, где довелось ему жить, но через душу, через судьбу, через само жилище Голосовкера всегда, казалось, пролегала граница с иными культурными мирами. Близость древней Эллады почти физически ощущалась в его квартире. Помню наши вечера и беседы: ты сидишь справа от большого письменного стола наискосок от Якова Эммануиловича, он что-то рассказывает, смотря куда-то вверх, его лицо освещено лишь настольной лампой, а за спиной у него в полумраке, кажется, вот-вот расступятся стены с книжными полками, заплещет Эгейское море, откроются вольные пастбища у подножья Пелиона… Но Греция, которая видна была с высоты его жилища, была отчасти Грецией его, Голосовкера, имагинаций. Она отнюдь не была скопирована с классических образцов Винкельмана, Гёте или Ницше. Греки Голосовкера более всех народов были одарены гением воображения, бессмертным инстинктом культуры. «Реальность воображения поразительна, – писал он. – Разве не пьянеют от воображения? Разве воображение при внушении и самовнушении не творит чудеса?.. Разве мнимые иллюзии не приобретают большую реальность, чем сама реальность?» (Имагинативный Абсолют).
Высокая философия начинается с простых вопросов. Порой она даже гипнотизирует себя простотой. «Для тех, кто хочет знать истину, – писал Голосовкер в Предисловии к Имагинативному Абсолюту, – мысли, изложенные здесь, принадлежат к самым здравым мыслям на земле». (Такова, впрочем, уверенность едва ли не всех философов: их мысли представляются им самыми разумными и «ясными как солнце» – для всех). Его ответ на поставленные вопросы, в сущности, также прост, хотя для него понадобилась вся его ученость, эрудиция, философская культура старой классической выучки. Он записан не только в текстах, но и в судьбе их автора. «Книжный» ответ таков: «Когда мы, философы, наглядно созерцаем, мы воображаем идеи, т. е. воображаем смыслообразы. Но воображая, мы их одновременно понимаем, то есть когда для философа его философское воображение создает смысл, оно понимает реальную суть этого смысла» (Имагинативный Абсолют). Между созерцанием, воображением, пониманием реального смысла и творческим его созиданием ставится знак равенства. Знак, который, тем не менее, создает множество проблем. Не становится ли Абсолют воображения неким гипостазированным сверхсубъектом, пусть и растворенным во всей мировой культуре и вместе с тем представленным на земле эмпирическим «я» философа? Не оказывается ли мыслитель просто опьянен своим воображением или пленен им? Где он черпает критерии, чтобы отличать свою правду чудес от вымысла словес? Не оказывается ли также «суть вещей» продуктом воображения, а воображение – коллективное, культурное, гениальное – сутью вещей?
Ответ жизненный на поставленные им вопросы был еще проще, но и жестче, сильней.
VIII
Вспомним, как умирал бессмертный кентавр Хирон; зараженный ядом Лернейской гидры, что был на конце царапнувшей его стрелы Геракла, он не смог победить боль и болезнь и добровольно сошел в аид, раздарив перед тем друзьям половинки своего бессмертия. Лютый яд коснулся и Голосовкера; ведь открытый и превознесенный им имагинативный инстинкт умел творить не только сверхправду сказаний, но и совсем иную, неприглядную изнанку жизни. Я спрашивал себя: как случилось, что вокруг него, никакого поста не занимавшего, зла никому не делавшего, собралось такое сонмище всяких недоброжелателей и грабителей? В последние же светлые годы тема литературного грабежа вокруг его наследия, тема бесстыдной кражи мыслей и рукописей стала одной из самых навязчивых. Затем она стала быстро расти, как нарыв, как раковая опухоль.
Сейчас трудно судить, насколько злокачественна была ситуация на самом деле. При всей силе характера Голосовкер социально и житейски был беззащитен. Люди, с которыми ему приходилось сталкиваться, часто бывали мельче и корыстнее его. Но шла ли речь о реальном воровстве или о реальности воображения, которое всегда для него было правдивее жизни? Могла ли официальная вымуштрованная мысль что-то утащить с территории чуждого ей мышления, куда ей и заглядывать-то было возбранено? К тому же, пусть даже украденная идея, изъятая из одного философского организма и пересаженная в другой, принимает на себя его свойства. В новом теле она становится неузнаваемой. Но Яков Эммануилович умел ревниво, страдальчески узнавать их украденными даже там, где узнать их было действительно мудрено. Даже у А.Ф.Лосева, с которым его связывали какие-то застарелые отношения дружбы-вражды с явным перевесом, впрочем, последней. Лосев был для Голосовкера своего рода антииконой приспособленчества. Я не замечал в нем зависти, но горечь в нем, несомненно, была, особо обострявшаяся перед лицом своего куда более плодовитого и удачливого соперника.
Мы вступаем в период, когда отрава уже начинала мутить его мысль и трудно было отделить одну от другой. Едва освоившись в его солнечном, гиперионовом мире, мне пришлось стать свидетелем его упадка и разорения. Всю жизнь он умел побеждать волей и воображением ужасы и тяготы существования. Теперь они словно брали реванш, вырывались наружу, но уже не из внешних обстоятельств, но из глубины его духа. Внешняя жизнь как будто устроилась: была выхлопотана пенсия, кончилось скитальчество по чужим дачам и домам творчества, в конце 50-х обретен и «тихий уголок», о котором он мечтал десятилетиями, – однокомнатная, но уютная квартира на Университетском проспекте, выросли книжные полки, стали выходить книги, переводные и даже свои. Поздно. Мир воображения обратился против своего создателя. Он, писавший всю жизнь о солнечной его мощи, не только писавший, но и веровавший в нее, словно не подозревал, что воображение может быть и злейшим врагом. Оно подстерегло его как раненый разъяренный вепрь и начало топтать.
С самого начала его мысли всегда не хватало дела. Менее всего Голосовкер был кабинетным мыслителем, хотя никто решительней его не оспаривал связи между историческим деянием и отвлеченной мыслью. Обвинение Ницше в духовных связях с нацизмом он, что бы ни говорили, считал обидной и полнейшей глупостью; «точно также можно доказать, – настаивал он, – прямую зависимость морского разбоя от поэзии Байрона». И тем не менее сам он хотел быть творцом философии как поступка, создателем того деятельного знания, которому необходимо было отдавать себя подвигу, чему-то служить.
О таком знании он говорит устами своих героев, гостей Хирона.
«Сказал Тиресий:
– Знание – скука, когда некому служить этим знанием. Оно вечно кипящее варево, в котором выкипели живые соки. Тогда уж лучше ничего не знать. Скука никому не служит.
Заговорил Телем:
– Знание всегда служит – иначе оно умирает. Оно тоже смертно. И когда оно отдает себя, тогда оно питается и растет, и зреет, и радуется. Я, врачеватель, это знаю…».
Но с кем было радоваться, кого врачевать? Всякое дело, которое могло бы изобрести или предложить его чудесное, созданное им знание, натыкалось на стену полной социальной невозможности, но еще до того – на глухоту одиночества. Да и кому из окружавших его мог он предложить творить титанову правду в этом мире и по ней жить?
Телем продолжает: «Теперь я люблю знать для себя и измерять про себя глубину знания. Радостно мне видеть эту глубину и ее сияние. И чем глубже эта глубина, тем сильнее в ней сияние».
Глубина осталась, но сияние ее погасло.
Были ли у него друзья? Да, пожалуй, были. Мне казалось тогда, что они принадлежали какой-то минувшей эпохе его существования, что они являлись ненадолго и как-то бесплотно в жизни Голосовкера. Раз в неделю телефонный разговор с поэтом Арсением Александровичем Тарковским (к телефону подходил всегда сын Андрей); раз в один-два месяца встреча с философом Валентином Фердинандовичем Асмусом, если говорить о самых близких. Нельзя не вспомнить благодарным словом академика Николая Иосифовича Конрада, столько сделавшего для продвижения его книг, пытавшегося даже и после кончины Якова Эммануиловича опубликовать непечатаемый в то время Имагинативный Абсолют. Отношения более теплые и простые связывали его с Василием Николаевичем Романовым, с которым он вместе сидел, с артистом театра Вахтангова Николаем Николаевичем Бубновым и, в особенности, с его женой Наташей. Но все они или общались по телефону, или забегали на минуту или на часок, озаряли его одиночество, а потом уходили в свою жизнь, оставляя его наедине с вечно кипящим, ожесточавшимся знанием. А когда оно стало уже перекипать, исчезли и друзья. Между тем друг, спутник, слушатель нужен был ему тогда постоянно. В поздней старости стал ему особенно необходим человек, с кем он мог разделить мысль, пришедшую в часы утренней ясности, скоротать ужин с оливками, сыром и бутылкой «Мукузани» (Яков Эммануилович слишком много переводил греческих и римских поэтов, чтобы за всяким застольем не видеть малого симпозиона), кому, наконец, он мог бы поведать ужас ночи, когда его раздраженное, не нашедшее дела воображение, вырвавшись из узд, бросалось на него самого.
О таком ужасе, коему не раз был свидетелем, расскажу со слов одного из моих друзей, которого в те годы я как-то привел к Голосовкеру. Был он юноша рассудительный, но доверчивый, к тому же еще моложе меня. Разговор начался как обычно, обычный же разговор его всегда производил впечатление как размахом и высотой, так и частыми, неожиданными зигзагами в область литературных краж и изворотливой человеческой низости. Но дело к ночи, пора уходить. Требовательным и непритворно несчастным тоном Яков Эммануилович просит одного из нас непременно остаться, чтобы завтра что-то ему купить, обязательно, причем с утра. Я, отговорившись завтрашними занятиями, убегаю на последний автобус, мой друг остается. Вот его рассказ. Разговор продолжается, но теперь уже весь уходит в один странный, болезненный зигзаг. Его сюжет – наблюдение, объектом которого он, Голосовкер, чувствует себя постоянно. Почтительно и со всей серьезностью приятель мой пытается слегка возражать – не по сути, конечно, а лишь по некоторым плохо увязанным между собой деталям, но это лишь подливает масла в огонь. – «Я вижу, вы сомневаетесь? Вам нужно доказать? Да вот возьмите стул, на котором сейчас сидите, если вы его, молодой человек, перевернете и поищете хорошенько, то найдете там подслушивающее устройство! – В стуле? – Да, именно в стуле, давайте искать!» Все это говорилось с той же серьезностью, с которой час назад речь шла о самых познавательных и интересных вещах, но с тем острым, напряженным страданием, которого не передаст мой рассказ. В стуле подслушивающего механизма не оказалось, не оказалось его ни в тахте, ни в письменном столе, ни в розетке на кухне. Но поиски продолжались, и, как заметил мой знакомый, чем интенсивнее они шли, тем менее напряженным становился страх Голосовкера, ослабевала боль снедающей его мысли. Деятельность час за часом поглощала страх, словно разряжая его. Так продолжалось до утра. Перед рассветом (дело было зимой) Яков Эммануилович, утомленный, отчасти даже успокоенный, но ничуть не убедившийся в обмане и наваждении, только лишь на время смирившийся с тем, что враждебного устройства все равно не найти (его хитро спрятали), отпускал молодого человека на один из первых автобусов, а сам уходил наконец спать.
Та ночь, как не раз вспоминал потом мой друг, была для него тяжела.
IX
Сколько их было, таких ночей? И что происходило, когда он был один? Уходить от него становилось все более мучительным; когда он закрывал за мной дверь, в глазах его была настоящая мольба, зов о помощи. Пару раз я вырывался в последнюю минуту и все же опаздывал на последний автобус и зимними ночами шел пешком от Университетского проспекта до своего Камергерского (Проезда МХАТа), отогреваясь в незапиравшихся тогда парадных. (Хорошо помню, последней остановкой был двухэтажный домик на Полянке, за ним через мост Красная Площадь, а там уж недалеко).
Он уже не мог быть один на один со своим врагом. «Мечущаяся необходимость», о которой он учил в своей философии, заметалась в нем самом. Она стала его мукой, старостью, болезнью, недотыкомкой, свернувшейся в знание-ужас. Все что жило в нем прежде – замыслы, горести, беды, лишения, сражения – казалось, начинало бродить и закипать в нем, как яд в теле умирающего Хирона. Железный вепрь, с которым он всю жизнь боролся, спрятался где-то внутри него и оскалил клыки. И вдруг с ревом и воплем вырвался из подземелья, словно сорвался с цепи. И Хирон больше не знал, как взять этого вепря. Уже не мог сказать: «пойти и взять». Мощная система самозащиты, на построение которой ушли годы жизни, стала рушиться на глазах.
Тот, кто привык бояться всю жизнь, научается как-то договариваться с опасностью, стерегущей в засаде, и как-то ее обходить. У Голосовкера, не имевшего такого навыка, не выработалось и защиты. Невыносимо было смотреть, как человек, прежде не знавший страха, погибает именно от него. Он преследовал его столь же неотступно и злобно, как Эринии Ореста в воображении древних. Но было бы, пожалуй, слишком просто выводить этих Эриний лишь из серных испарений эпохи, не только не ведавшей, что живет еще такой мыслитель Голосовкер, но и сделавшей все, чтобы такого мыслителя вообще не было. Его собственный кризис был, мне думается, каким-то крупным, изломанным отражением кризиса того языческого, титанического гуманизма, который он, не ведая, носил в себе. Кто знает? Может быть, невидимое зерно помешательства таилось в самой его мысли уже в ее трезвую, утреннюю пору. Некоторые фразы в Достоевском и Канте, поздней, но столь емко и молодо написанной книге, прочитываются сегодня как шифры или иносказания его судьбы.
«Не Митя, не Иван, не Смердяков виновники убийства (Федора Павловича Карамазова. – В. 3.), а черт, ум, диалектический герой Кантовых антиномий, – вот кто виновник, – настаивает Голосовкер. – И совесть, рыцарь-страха-и-упрека, вооруженная единственным аргументом, победила героя, вогнав его в безумие, вогнав в него безумие» (Достоевский и Кант).
Может быть, даже не лагерь, не вечное положение изгоя, не гибель и расхищение его трудов, а черт, ум, одинокий и неистовый двигатель воображения, именующий себя Абсолютом, что видит лишь свое отражение и сияние, – вот кто виновник, убийца его рассудка. Мысль словно растолкли в ступе, она стала несмыслицей, Знание, переродившись в муку и страх, начало пожирать рассудок. Все произошло так, как было открыто и предсказано его философией: инстинкт воображения предугадал судьбу автора, а затем каким-то хитрым, ведомым ему образом подвел и подключил к ней и жизненные обстоятельства.
Полем действия последней его драмы была огромная Антология античной лирики в русских переводах – три собранные им тома почти в 2 тысячи страниц, на которые ушли годы жизни и горы труда. (Они были изданы лишь недавно)[267]. Хорошо помню его битву за Антологию; тогда казалось, Голосовкер оборонялся от полчищ каких-то мелких невидимых бесов. По правде говоря, братья-переводчики действительно подкладывали всякие камни под его колесницу, а сам он по крупности и, может быть, анахроничности натуры не был способен усвоить их специфические приемы. Он умел лишь шумно негодовать и страдать, но уж никак не ходить по парткомам и инстанциям. (У него в словаре не водилось, и с уст никогда не слетало слово такое: партком). Появись эта книга тогда, когда она стала бы литературным событием, мы получили бы доступ в еще одну лирическую «страну святых чудес» – Россию Эллады и Рима, которая, может быть, и была его настоящей родиной. Надежда на издание Антологии все время манила, вела за собой и не приводила никуда. Голосовкер годами вел изнурительную борьбу за эту книгу, спешил за ней как за каким-то вечно убегающим факелом и, в конце концов, понял, что уперся в стену. «История неиздания», как назвал ее С. О. Шмидт в своей статье, такова была судьба Антологии с начала 50-х годов, если не раньше, длившаяся до самой кончины автора, а затем забытая еще почти на 40 лет.
Раздобыв – и не без труда – эти три прекрасно изданных тома, перечитав их все, от вступительной статьи до примечаний уже не в какой-то слежавшейся пожелтевшей машинописи, наблюдая за тем, как эта книга была им построена, уложена, обихожена, я ощутил, наконец, в чем состоял исток его не вполне понятной мне тогда трагедии. Если Имагинативный Абсолют и все, что шло и мыслилось в его русле, было им самим, философом Голосовкером, стержнем его личности, его умом, напором, его вторым я, обращенным к миру, то Антология стала его возлюбленной, что-то ему обещавшей и всегда изменявшей и скрывающейся.
Между Абсолютом и Антологией существует прямая связь; Логика мифа вырастала непосредственно из воскрешенной жизни мифа, которой пронизана ранняя поэзия Эллады. Религия древних поэтов, уже при жизни их была, вероятно, не столько верой, требовавшей поклонения, сколько цветником образов, пластических статуй и сюжетов, в которые так легко и естественно вкладывалась их жизнь, мысль, любовь и мучившая их загадка смерти. Для Голосовкера их религия стала культом воображения, который он назвал Абсолютом. Он исповедовал ее как свою философию, излагая академически и системно, но мысля и жительствуя в ней страстно и поэтически. Порой кажется, что вы читаете одну и ту же книгу, одну, изложенную смыслами и суждениями, другую – поэтическими строчками.
«Антология – книга для чтения. Антология означает цветник. Это сад для прогулок читателя. Так мыслила античность… Установка на читателя является краеугольным камнем для ее построения». Так легко, словно беседуя, начинает Голосовкер свою вступительную статью О построении антологии античной лирики. Он любовно возделывает свой сад имен; по одну сторону: Сафо, Алкей, Стесиор, Алкман, Ивик, Эсхил, Софокл, Теогнид, Ион Хиосский… вплоть до Катулла, Горация, Овидия и Теренция Мавра, последнего поэта в книге, по другую – Батюшков, Пушкин, Фет, Мей, Мережковский, Вяч. Иванов, Ф. Ф. Зелинский, А. Пиотровский, Л. Блуменау, В. Нилендер, Ии. Анненский, В. Вересаев, Ф. Корш, М. Грабарь-Пассек… наконец сам Голосовкер, собравший их всех в неком звучащем, вечно длящемся полуденном Эдеме, у врат которого он поставил стражу… На земле античности он, по сути, открыл особую страну русской поэзии. В примечаниях он рассказывает о «своих» поэтах как о давних знакомых, не отказывая себе и в дружеской иронии на их счет.
Вот портрет Архилоха: «Утонул брат: ну что ж? Плачем беды не поправить. Хуже не будет, если сесть за пиршественный стол. Живи сегодняшним днем. Не мудрствуй. Говори о деле… От отчаянья неудачника он с нарочитой грубостью солдата-наемника, скрывая горечь, говорит о продажной любви, бросая обществу вызов. Страсть к Необуле он выражает столь же откровенно. Ему не нужны ни царства, ни богатства. Хлеб и вино у него на острие копья…» (Примечания ко 2 тому Лирики Эллады).
Страна Антология имела четко обозначенные границы не во времени только, но и в душе составителя. Открывали ее поэты VI века до Рождества Христова, завершали поэты VI века после Рождества, но Яков Эммануилович не то, чтобы не пожелал заметить этой черты, но, не знаю, сознательно или нет, захотел как бы стереть ее вовсе. Словно не случилось ничего особого в мире. Как тогда, в начале, на каждой поэтической странице царили и шалили Зевсы, Эроты, Киприды, полные в те времена своей имагинативной сказочной реальностью, так и в конце, через 12 веков, те же – они. Но теперь после Григория Богослова, в эпоху Романа Сладкопевца, былые боги и герои выглядят уже как потрескавшиеся, запылившиеся гипсовые статуи. Таков, однако, был выбор автора, обусловленный, конечно, государством-вепрем, но столь же и личный: великих христианских поэтов не только нельзя встретить в его собрании, но и никаких тем, мелодий, образов, расцветших «после Рождества», не отыщешь в нем; хозяин Антологии ревниво охранял свой поэтический симпозион или языческий полис поэтов, не пуская в него посторонних.
Этот полис был как бы целиком его. Помню, выходили другие переводческие издания, которые были ему чужими, а, стало быть, и враждебными: Греческая эпиграмма (1962), Катулл, Тибулл, Проперций (1963); Яков Эммануилович воспринимал эти выходы как враждебные выпады, с обидой, тоской, болью. Антология уходила все дальше, разменивалась, дробила свою полноту, а он бежал за ней, пытаясь вернуть, спотыкаясь, падая, получая новые удары от каких-то повсюду таившихся заговорщиков. Между тем силы, которым еще год назад, казалось, можно было бы позавидовать, изменяли ему стремительно, с каждым днем.
Однажды, встретив меня на пороге своей квартиры, он сразу же сообщил с выражением какого-то потрясшего его, поднимавшегося изнутри ужаса:
«Я смотрю на эти буквы и ничего не понимаю. Я забыл греческий язык!»
X
Последние годы его жизни – история сплошной боли. Боль часто уродует, корежит. В книге Интересное он написал однажды, что то, что считалось гениальным, может потом представиться и уродливым. Гениальное – то, что было изначально присуще его личности, – стало искажаться, теряя свой внутренний образ, свой иконописный, почти жреческий лик. (Помню, когда мы гуляли с ним неподалеку от храма на Воробьевых горах, выходившие из него старушки норовили подойти к нему под благословение, от чего Я. Э. не без раздраженного сарказма отмахивался). И все же мания преследования в ее клиническом варианте, которой он страдал в последние годы жизни, не сделала его до конца жалким, хотя как будто все приложила, чтобы добиться этого. Да и не была ли эта мания просто реакцией несломленной личности на другую манию преследования, ставшего политикой, одной из несчитанных жертв которой он сам пребывал большую часть жизни? Подслушивающие устройства, которые он всюду искал, вмонтировались прежде всего в человеческую душу.
То, что всегда казалось ему немыслимым – что рукописи его превратятся в пыль или сгорят еще раз, мысль исчезнет, – стало вдруг для него очевидным. Вспомним, что писал юноша о неуничтожимости этой юной мысли (тот юноша – alter ego автора). Теперь того юноши больше не было. Был безумный старик, его разбитая жизнь, обреченность. Помню его осенью 63-го года; прижав руку ко лбу, с развевающейся бородой и седыми прядями, он почти бежит по Арбату, громко – на всю улицу – повторяя: «Теперь все погибло! Все погибло! Кончено! Кончено! Кончено все!» Погибло – что? Антология? Мысль? Труд жизни? Творческая мысль, бессмертный инстинкт, надежда, память, сама жизнь, наконец? При капле воображения и сочувствия пораженные прохожие могли бы увидеть тогда обезумевшего от горя короля Лира в степи. В его болезни была своя стать, своя «логика чудесного», вывернутая наизнанку. В нем не было той бесформенной, бессмысленно тупой тяжести, что иногда так давит в психических больных. Следуя в жизни за вечными спутниками и интимнейшими друзьями – Гёльдерлином, Ницше, за кентавром Хироном, он получил и их конец.
«Примите же и мой уход как радость, – завещал Хирон. – Зачем жить дольше Хирону?
Не могу я больше искать корней познания. Не могу ходить по земле: не поднимают мои ноги мое тело, не в силах они поднять и дело мое… Весь я полон страдания. Уже давно перелилось оно через край. Лишь печалю своей мукой других. Мое зрение мутнеет, и скоро я буду слепым, как Тиресий. Меркнет мое прозрение вместе с глазами. Не видя мира, не смогу я мыслью создавать новые миры! А ведь в этом вся радость мысли».
Радость мысли, уже исчезнувшая, помещалась в массивной папке, на которой собственноручно было написано: ИМАГИНАТИВНЫЙ АБСОЛЮТ. Папка была единственным жилищем для Абсолюта, домом без дверей. В ту пору, когда Голосовкер воплощал свою мысль, в официальном мире мысли еще доживал свои дни так называемый «основной вопрос философии». У каждого на входе он тотчас спрашивал: како веруеши, что первично? материя или сознание? И сам отвечал, рубя с плеча: знаем твердо, материя первична, и там, где стоит наша власть, сознание отражает материю, как и положено, незыблемо и партийно. Тех, чье сознание уклонялось от правильного отражения, основной вопрос до мышления не допускал и ставил на строгую заметку (это была «философия проглоченных аршинов», как именовал ее Я. Э.). В ту пору его победа завершалась нотой какой-то игривой гастрономической триумфальности: доказательство существования пудинга есть его поедание (в старом переводе с энгельсо-английского). Доказательством небытия идеалистической философии было также ее поедание. Не для того ведь государство вооружалось несокрушимым марксизмом, чтобы запускать умозрения как воздушные шарики в небо, орудие это ковалось из металла как молот и как топор. Идеалистическая философия существовала в прошлом как диалектический этап становления мысли, пришедшей к власти; поверженная, она и сегодня все еще влачит свое обреченное существование на Западе, состоя на содержании буржуазии и обслуживая ее интересы. Но на территории победивших идей никакой служанки чужих господ просто не может быть. А ту «философию», которая кем-то еще подкармливалась, откуда-то засылалась, следовало поскорее съесть и забыть.
Мне кажется, что Имагинативный Абсолют был съеден этим господствующим основным вопросом в каком-то похмельном сне. По крайней мере, он даже не догадывался о существовании сего Абсолюта. Но сам философ отлично видел, как умирает его труд под копытами слепого, клыкастого зверя, затаптывающего мысль насмерть. Переводить эллинских поэтов – еще куда ни шло, потому что было разрешено и даже когда-то рекомендовано обогащать свою память всеми богатствами, которые выработало человечество, но сочинять небылицы об Абсолюте, когда вот-вот мы перегоним Америку по производству мяса и молока?.. Топор, рубя, не отличался субтильностью. Для Голосовкера это значило: для воплощенных им идей, для бьющего изнутри инстинкта воображения в этом мире места нет. Что нам, после стольких истребительных язв и пожаров, скорбеть еще и об Абсолюте? Но Яков Эммануилович, на все желавший смотреть с точки зрения вечности, здесь как раз никак не мог такой взгляд разделить. Он был как отец, боготворивший своего позднего ребенка, которому сказали: случай ваш безнадежен; здесь мы вашего сына лечить не умеем; ищите средства за рубежом.
И он начал было искать. Но где, как, у кого? Как было туда попасть, в зарубеж? Как спасти Мысль в толстой папке? Это была эпоха, когда идея передачи туда была еще очень нова. Она была равносильна участию в холодной войне на стороне противника, и расплачиваться за него нужно было не только скромным благополучием, «но полной гибелью всерьез». Пастернак передал свой роман и – выиграл. Он умер победителем, повторял Голосовкер. Но к нему самому не ходило никаких иностранцев (да и соотечественников почти не ходило). Как передать? Просто подойти на автобусной остановке к первому попавшемуся иностранцу – и сунуть папку в руки? И уже составлялись фразы на разных европейских языках, чтобы убедить иностранца в культурной ценности передаваемого. А если он отнесет Абсолют на Лубянку? Если он завербован и специально заслан, чтобы украсть его, Голосовкера, Мысль? Завербован и наверняка; бедный Яков Эммануилович, боюсь, ни на Лубянке, ни на заморской Антилубянке, едва ли кто бы приневолил себя его Мысль прочесть.
«Вот они уже стали строить высотный дом напротив моих окон – разве тебе не ясно зачем?…»
XI
Так уходил Голосовкер от боли в болезнь. Сопротивлялся ей и уступал. Но уйти в болезнь до конца не мог, оставался при своей боли. «Нравственная боль бывает столь же нестерпимой, как и физическая» (Логика мифа), но может и перерастать в нее, становиться изнеможением физической нашей природы. Радость мысли ушла от него окончательно, но мысль осталась. И, словно с цепи сорвавшись, бросилась на своего хозяина. Знание стало его врагом.
Это была третья его каторга, каторжнее первых двух.
Когда в пятьдесят лет он писал Миф моей жизни, он даже в отчаянии умел черпать горькую титанову радость. И извлекал из нее надежду. Теперь все было позади – радость, надежда, глубина знания и, может быть, даже упование на что-то большее, чем бессмертие своей мысли, неуничтожимость творческого «я». Как раз в ту пору – он уже был в больнице (после многократных душераздирающих уговоров, коих я был свидетель, его убедил туда лечь племянник) – я стал было осваивать замысловатый философский алфавит и складывать из букв собственные слова, – тождество субъекта и объекта, мышления и бытия в духе раннего Шеллинга, – и это занятие показалось мне увлекательным. Поделившись с ним своим открытием, я был буквально обожжен страданием в его взгляде: «Ведь все это было у меня, все это так начиналось, а теперь ничего нет, нет ничего…». Может быть, стыд, который я тогда испытал, стал для меня противоядием против «чистой», созерцающей лишь себя философии. Как раз в то время вышел столь долго ожидавшийся, столь мучительно пробивавшийся Достоевский и Кант – и не принес никакого облегчения. Да появись тогда сам Имагинативный Абсолют, Труд Жизни, тревога за который и была как раз наиболее изматывающей, сводящей с ума, думаю, что он уже не сдержал бы тогда этого натиска страдания и страха. Трагедия, которую он в себе нес, не могла быть переиграна. Она была глубже ее видимых причин и внешних событий.
С тех пор я спрашивал себя, был бы он вполне и устойчиво счастлив, если бы все труды его издавались, если бы ни одна каторга не пересекла его путь, ни один пожар не уничтожал бы его рукописи, ни один вор не протянул бы к ним руку, а его идеи преподносились бы с университетских кафедр? Думаю, что все-таки нет, не мог бы он быть вполне удовлетворен всем этим. Голосовкер был слишком масштабной и неудобной личностью, чтобы до конца насытиться столь земной, умеренной, профессорской пищей. Он был обречен пережить и изжить в себе ту ущербность языческой, превознесшей себя культуры, равно как и ту романтическую коллизию одиночества и толпы, которую отчасти унаследовал, отчасти создал для себя сам. И по-своему он должен был их искупить. Пройти до конца через одиночество среди людей, одиночество в социуме, одиночество против неба. Его титаново «я» населило небо своими сказаниями, но не разбогатело для другого, не открылось ни для какого живого и реального «Ты». Однако для меня, когда во время его болезни и долгого умирания распадалось все созданное им для бессмертия и культуры, раскрывалось нечто самое глубокое, человеческое, подлинное в его жизни. Абсолют воображения, радость мысли, сияющей для себя самой, рассыпались, гибли физически и культурно.
«Но истина – не идол, но только путь».
(Слова эти неожиданно пересекаются с другими – о Личности, которая сама есть Путь, и Истина, и Жизнь. И я не могу не взглянуть на путь Голосовкера – из глубины этих слов. И отсюда – так мне представляется сегодня – многое из того, что он вкладывал в слово «путь», напоминает скорее «идола». Для меня, после прожитой с того времени эпохи, всецело человеческий мир культуры, созданный исключительно взлетами воображения, – уже не путь. Не путь, на который вступил не только лично Я. Э. Голосовкер, но и отчасти вся великая традиция отвлеченной европейской мысли. Но об этом, пожалуй, неуместно говорить – здесь. Тема моего очерка – не спор с философией Голосовкера и не обсуждение ее. Цель его – только пробуждение памяти, великая признательность за подаренную дружбу, за редкий и лучший за мою жизнь урок мужества, за все, что он дал мне увидеть и понять).
Последние годы он провел в «психейном доме» (термин, изобретенный им в Сожженном романе), умирая медленно, потому что телом мог еще жить и жить (не помню, чтобы он когда-нибудь жаловался на физические недуги). Но сроки, отмеренные его душе, уже кончались; постепенно он почти разучился писать, потом и читать, забывал языки, которые знал (мучительно вспоминал, потом забывал вновь и уже окончательно), сохранив лишь последнюю силу духа, годную лишь на то, чтобы терпеть свою пытку. Я приведу странную запись, которую он сделал мне – рукой уже очень нетвердой – на экземпляре своей книги Достоевский и Кант:
«Авторская книга не должна проходить через чистилище, но эту книгу я дарю тебе все же как авторскую, как трагедию Ума, разыгранную в пандемониуме».
Это было на исходе 1963 года, в самом конце его относительно светлого периода. Он прожил еще три с половиной года, почти до 77 лет. Я редко навещал его в том месте «трагедии Ума», которое тогда называлось больницей Кащенко. Кроме бреда и муки крушения своей жизни он уже больше ничем не мог поделиться. Моя вина, она со мной и по сей день.
XII
Если взглянуть еще раз на тот «миф», внутри которого Яков Эммануилович Голосовкер строил свою жизнь и свое творчество, то я вижу в нем семь сюжетных разветвлений.
Создание целостной философской системы, в рамках которой книга Имагинативный Абсолют, мыслилась им началом того пути, что, оттолкнувшись от эллинской мифологии, должен был пройти по главным вершинам мировой мысли и культуры. Здесь при жизни его постигла полная неудача – рукописи его погибали дважды, автора их даже не пустили на порог того, что называлось в его время мыслью.
Другой сюжет – «странствования по душам» (по формуле Шестова) – те загадывания и разгадывания загадок отдельных мыслителей и художников, которые должны были иллюстрировать его метод проникновения в тайны их замыслов. От тех странствий осталось несколько блестящих экскурсов – об Эмпедокле, Гельдерлине, Лермонтове, Братьях Карамазовых. Но подобных «странствий» замышлялось много больше.
Третий замысел был собрать, откомментировать и переосмыслить весь свод античной лирики как единое целое. Замысел был более крупным, чем создание еще одной большой антологии – 2000 стихотворений, 135 авторов-переводчиков, включая и составителя, чьи переводы – одни из лучших – намерение Я.Э. шло гораздо дальше: вернуть столь любимую им античность в мир русской культуры, соединить две страны, которые были для него родными. Замысел был осуществлен, но при жизни автора не реализован, за исключением небольшого томика собственных его переводов и комментариев к ним: Поэты-лирики Древней Эллады и Рима, вышедшей еще в 1931 году.
Четвертая линия – собственная его проза, самым важным произведением которой был Сожженный роман, написанный в 20-х годах, обнаруживший неожиданные переклички с Мастером и Маргаритой. Эту книгу сам Голосовкер считал сначала сожженной, а затем просто сгоревшей. Самой пронзительной перекличкой стала знаменитая фраза «рукописи не горят», что и неожиданно подтвердилось именно с этой, какими-то обстоятельствами спасенной рукописью, о чем автор так и не узнал до конца жизни. Он всегда говорил о ней как о безнадежно утраченной. К этой же прозаической линии относится краткий, но столь исповедально яркий и покоряющий Миф моей жизни. Сюда же вписывается тема Голосовкера-переводчика философской и поэтической прозы; на память приходят прежде всего мастерские его переводы Заратустры Ницше и Гипериона Гельдерлина. «Какой солнечный текст», – говорил он о Гиперионе.
Не забыть и объемистого тома стихов, оставшегося в полном забвении (и, видимо, уже обреченного на него), за исключением юношеского (и наименее интересного) сборника Сад души моей.
Наконец та часть его творчества, на чью долю выпал наибольший литературный «успех», но которая как раз менее всего интересовала автора: Сказания о титанах, эти пересозданные или изобретенные им мифы, удивительно пластичные и в то же время целиком авторские и при этом подкупающе подлинно эллинские. Подлинность их и по сей день сбивает с толку читательское воображение: сказания легко принимаются за еще один талантливый пересказ чего-то уже известного. Между тем по жанру они гораздо ближе Властелину колец или Хроникам Нарнии, чем Мифам Древней Греции Куна.
Я думаю, замыслов, «сюжетов», текстов было на самом деле больше. Только через 30–35 лет после кончины автора книги его стали выходить и даже переиздаваться. Но хоть «рукописи не горят», настоящее признание редко согревает их. Бессмертие бывает нужно автору живым, причастным его здешней жизни, а не потусторонним, лишь «уважающим память». Иногда книги рождаются уже седыми, почтенными памятниками, они уже не вписываются в новую эпоху, не вызывают в ней «брожения умов». Случайными, хоть и почетными гостями приходят они на чужое новоселье.
Был еще один интимный уголок творчества Голосовкера, куда он особенно любил заглядывать (это седьмой сюжет), и где, как в теплице, он выращивал свои замыслы, которые засевались семенами афоризмов, набросков, черновиков. Предполагалось, что все эти всходы когда-нибудь разрастутся, составят, может быть, не одну книгу. Книга эта осталась в его и по сей день неразобранном архиве, в соседстве с рукописями, которые, как известно, не горят.
Вероятно, после него осталось еще множество писем, которые часто бывают интересней всего.
XIII
Последнее, что я помню в один из последних месяцев его жизни: лицо, до недавних «нормальных» дней еще отмеченное резко очерченной красотой и породой, ставшее теперь почти страшным, искаженное судорогой и кровоизлиянием в глаз, сгорбленную фигуру в дверях и прижатую к груди рукопись Имагинативного Абсолюта[268], его хрупкое здешнее бессмертие в ветшающих листочках. Ныне оно стало такой уязвимой, обреченной вещью, с которой он не расставался ни на минуту, пряча под матрацем койки своей палаты (чтобы не украли!). Он взял эту рукопись с собой, когда провожал меня до лестницы, до запертой больничной двери.
«Те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним – умиранием и смертью», – говорит Сократ. И потому Яков Эммануилович Голосовкер, скончавшийся в «юродоме» (другой термин из Сожженного романа, обозначавший больницу Кащенко), умер Сократом XX века, выпив до дна горькую, приготовленную для него цикуту. Последний акт умирания занял четыре года: 1963-67. Умирание стало последней его философией. Она вырастала из «трагедии Ума», которой не было разрешения в каторжном мире, даже озаренном потускневшим солнцем «имагинативной» античности. Для внешних, здешних наших глаз такая трагедия становится болезнью, поражающей зрячесть разума. «Боль мешает его мысли видеть», – писал он о кентавре Хироне. «Моя мысль – только боль», – говорит Хирон. И все же, когда разум слепнет, Ум, вовлеченный в трагедию, из которой не может вырваться, остается зрячим, живущим неисцелимой болью.
Умер Яков Эммануилович по-больничному, как-то обидно по-советски. Случайное падение в больнице, перелом шейки бедра, многодневное лежание почти в полной неподвижности, пролежни в спине, воспаление легких, быстрая кончина. Его некому было переворачивать и массировать ему спину. И подарить частицы своего бессмертия ему тоже было некому. Он умирал «бездетным» и разоренным, о чем, несмотря на болезнь, не забывал до последнего дня. Урна с его прахом захоронена на переделкинском кладбище, почти напротив могилы Пастернака. На могильном камне выбито изображение Голосовкера улыбающегося, «олимпийского», дарящего знание.
Я помню его по большей части иным. «Внутренним велением» моим было рассказать не о книгах его, но о том, что всегда остается за их страницами.
Что сохранилось от этой встречи, протянувшейся через жизнь? Радость познания, память о трагедии ума, пережитой в одинокой личности, судьбе и смерти, долг незавершенной, неожиданной, незаслуженной дружбы, недоразделенная боль. Она до сих пор во мне. Но отчетливей всего – вопреки давности, наперекор разности вер – благодарность.
XIV
И вместе с тем ощущение незавершенности, пронзительной краткости и певучести этой жизни, словно вложенное в изумительное стихотворение Гельдерлина. Перевод Якова Эммануиловича, столько раз слышанный в его чтении, звучит для меня – не знаю как назвать? – вздохом? пророчеством? завещанием?
Как ты, песнь, коротка! Или не мила тебе Ткань напева, как встарь? Некогда, в юности, В дни надежд, – иль забылось? — Нескончаемо песнь ты длил. Миг – и счастье и песнь. В зорю вечернюю Окунусь ли – темно, и холодна земля, И, мелькая, все чертит Птица ночи у глаз крылом.1987, 2012, 2016
История публикаций
На пире Платона во время чумы… Впервые на итальянском языке в Viac. Ivanov е М. Gersenzon. Corrispondenza da ип angolo alValtro. Dodici lettere russe. Под псевдонимом А. Руднев. At convi-to di Platone in tempo di peste, pp. 5-33, La Casa di Matriona, 1976. Первая публикация по-русски в самиздатском журнале Выбор № 3 1988. С. 214–257; перепечатано в газете Русская мысль 1989, 3748–3754, затем в сокращенном виде в журнале Наше наследие 1990, № 3. Зелинский в. Страна изгнания или земля обетованная: забытый спор о культуре, С. 132–134. Есть польский перевод: Zeilinski Wladimir, Krai wygnania czy zemia obiecania/ Zapomniany spor о kulture, Znak 1990, Rok 42 (2/3) 2417/418 SS. 41–51. Последняя публикация: Вестник Европы, том XLIV, 2016.
П. Я. Чаадаеву. Частное письмо. Доклад на конференции Русская мысль, 7 июня 2016 в Бенедиктинском монастыре Тынец (Краков). Публикуется впервые.
О музыке и смерти. Вестник РХД № 132, 1981, Грани 251–252, 2014.
Великий молчальник. Вестник РХД № 130. 1980. Перепечатано в Л. И. Шестов. Pro et contra, Русский путь, 2016.
Рождение мысли из сострадания и свободы. Вестник РХД, № 126, 1974 под псевдонимом. А. Колосов. Неюбилейные размышления.
Мышление: узнавание неисповедимого. Доклад на английском языке The “God of Philosophers” or the “Other God”? прочитанный на конференции по русской религиозной философии, состоявшейся в июне 1993 в университете гор. Мэдисон (Висконсин, США). В русском переводе публикован в альманахе Христианос IX, «Бог философов или Бог «иной»? и в Вестнике РХД, № 205, 2016). Благодарю свою жену за выполненный ею перевод этого текста.
Смерть с Толстого в нашей памяти. Континент, № 145, 2010 под заголовком Смерть Толстого в русской памяти.
Разговор с Оливье Клеманом. Континент, № 145. 2010.
От русской любви ко вселенской. Послесловие к книге: Монах Восточной Церкви. Иисус очами простой веры. Общедоступный Православный Университет, основанный протоиереем Александром Менем. Москва, 2012.
Истина, спор, молчание. «Пролог к разговору о Хайдеггере. Публикуется впервые.
Посткриптум. «Борьба с Богом». Публикуется впервые.
Гегель и государство Абсолютного Субъекта. Доклад на русском языке на гегелевской конференции в Ганновере, декабрь 1996. Впервые опубликован в сборнике: Die Folgen des Hegelianismus. Herausgegeben von Peter Koslowski, в немецком переводе: Hegel und der Staat des absuluten Subjekts, Miinchen, S. 319–345, 1998; затем в сокращенном виде в сборнике Судьбы гегельянства, М., 2000. С 305–322.
Между титаном и вепрем. Текст доклада, впервые прочитанного на вечере памяти Я. Э. Голосовкера в Москве в 1987 году. Перепечатан в качестве Послесловия в книге: Я. Э. Голосовкер. Сказания о титанах. М. 1993, С. 293–318. Последняя публикация в расширенном виде: Вопросы литературы, 2014, № 3.
Примечания
1
«Наше священное ремесло существует тысячу лет».
(обратно)2
Сударь! Однажды Вы написали письмо даме, которое попросту забыли отправить. Неожиданно ставшее знаменитым после публикации семью годами позднее, оно так и осталось без ответа, ибо, как с самого начала можно было подозревать, Вы намеревались проповедовать всему миру, начиная с самого себя, а не просто некой женщине. И все же форма частного письма (или, по крайней мере, частным казавшегося) не была чистой формальностью, но приглашением к спору, открытому не только для той, которая могла бы стать Вашей собеседницей, но и для Ваших современников, как и их потомков. Прежде всего для тех, кто горячо ввяжется в эту бесконечную и неисчерпаемую дискуссию. Ваша мысль, по сути, не могла выразить себя иначе, как в обмене или столкновении идей. Разрешите же принять участие в этом разговоре лично и непосредственно, в той манере, которую Вы избрали, чтобы изложить Ваши идеи и сделать их общим достоянием.
(обратно)3
Письмо Бенкендорфу от 15 июля 1833.
(обратно)4
См.: Л. С. Пушкин Письмо Чаадаеву от 6 июля 1831 года: «Mon ami, je vous parlerai la langue de l’Europe, elle m’est plus familiere que la notre…» (Мой друг, я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего…»).
(обратно)5
Illustrissimi. Lettere del Patriarca di Albino Luciani. 1978.
(обратно)6
Первым приходит на ум имя Николая Ивановича Тургенева (1789–1871), автора «Записок о крепостном праве» и многих других книг, одного из первых русских либералов.
(обратно)7
Энциклика Fides et Ratio 1998 года.
(обратно)8
Речь идет об издателе журнала Телескоп Н. И. Надеждине, отправленном в ссылку.
(обратно)9
Беседа с писателем Мих. Шишкиным.
(обратно)10
Первое философическое Письмо.
(обратно)11
Вадим Михайлович Борисов (1945–1997), историк, публицист.
(обратно)12
Париж, YMCA-PRESS, 1974.
(обратно)13
Нам же.
(обратно)14
Из-под глыб, Париж, 1974. С. 199.
(обратно)15
См.: Борис Тарасов. Чаадаев, М.1990. С. 277.
(обратно)16
Из стихотворения А.Хомякова.
(обратно)17
Письмо графу Сиркуру, 1846 год.
(обратно)18
Письмо А. И. Тургеневу, 1843 год.
(обратно)19
См. П. Я. Чаадаев. Pro et contra, СПБ, 1998, статья Е. В. Спекторского. С. 458.
(обратно)20
Там же, статья Я. Кузнецова.
(обратно)21
Там же, статья о. Василия Зеньковского. С. 485.
(обратно)22
А. И. Тургеневу, И. Д. Якушкину, Сиркуру и др.
(обратно)23
См. его Историю русской философии.
(обратно)24
Письмо от 6 июля 1831 года.
(обратно)25
Второе письмо.
(обратно)26
Четвертое письмо.
(обратно)27
Второе письмо.
(обратно)28
Третье письмо.
(обратно)29
См.: Седьмое письмо.
(обратно)30
Четвертое письмо.
(обратно)31
Пятое письмо.
(обратно)32
Пятое письмо.
(обратно)33
Шестое письмо.
(обратно)34
Пятое письмо.
(обратно)35
О. Мандельштам. Петр Чаадаев, ПСС Т.2. М. 2010, С. 32.
(обратно)36
Восьмое письмо.
(обратно)37
Из последнего стихотворения Г. Державина.
(обратно)38
«Смеяться над философией, значит поистине философствовать». Паскаль.
(обратно)39
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в современном русском переводе. М., ББИ. 2015.
(обратно)40
Лев Шестов. Афины и Иерусалим. Париж, 1951. С. 91.
(обратно)41
«Шекспир и его критик Брандес» (1898), «Добро в учении гр. Толстого и Фр. Нитше» (1900), «Достоевский и Нитше» (1903), «Апофеоз беспочвенности» (1905), «Начала и концы» (1908), «Великие кануны» (1912), «Potestas Clavium» (1923), «На весах Иова» (1929), «Киркегард и экзистенциальная философия» (1939), «Афины и Иерусалим» (1951), «Умозрение и Откровение» (1964), «Solafide» (1966). Затем: «Жизнь Льва Шестова» (1983), двухтомная биография, написанная его дочерью Н. Барановой-Шестовой с обширными фрагментами переписки. По ее словам, неизданными остаются еще четыре тома статей и университетских курсов. Один из таких курсов «Лекции по истории греческой философии» был издан в Москве (Русский путь-YMCA-PRESS, 2001) под редакцией Анатолия Ахутина. К этому следует добавить брошюру «Что такое русский большевизм», которую мне довелось прочесть лишь во французском переводе.
(обратно)42
«Нет, философия есть рефлексия». Лев Шестов. Умозрение и Откровение. Париж, 1964.
(обратно)43
Лев Шестов. На весах Иова. Париж, 1929. С. 2
(обратно)44
Там же.
(обратно)45
Прот. В. Зеньковский. История русской философии, Т. II. Париж, 1950. С. 324–325.
(обратно)46
Лев Шестов. На весах Иова. С. 75.
(обратно)47
Лев Шестов. Potestas Clavium. Берлин, 1923. С. 127.
(обратно)48
Лев Шестов. Sola fide. Париж, 1966. С. 61–62
(обратно)49
Лев Шестов. Potestas Clavium. С. 64
(обратно)50
«Невыносимая монотонность Шестова». Albert Camus. Carnets I.
L. Althusser. Lenine et la philosophic. 1969. P. 36.
(обратно)51
О Ленине у Шестова я нашел единственное высказывание на ту тему, что в истории нет никакого смысла, и смысла нет даже искать его. Вернее, «история сама по себе, а смысл сам по себе. От копеечной свечи Москва сгорела, а Распутин и Ленин – тоже копеечные свечи – сожгли всю Россию» (Лев Шестов. Афины и Иерусалим. О втором измерении мышления, XVII)
(обратно)52
Лев Шестов. Афины и Иерусалим. С. 97.
(обратно)53
Лев Шестов. Умозрение и Откровение. С.169.
(обратно)54
Лев Шестов. На весах Иова. С. 333.
(обратно)55
Лев Шестов. Умозрение и Откровение. Р.: YMCA-PRESS, 1964. С. 305.
(обратно)56
Лев Шестов. Афины и Иерусалим. С. 268.
(обратно)57
Лев Шестов. На весах Иова. С. 71.
Иисус будет в агонии до конца мира, нельзя в это время спать».
(обратно)58
Лев Шестов. На весах Иова. С. 200.
(обратно)59
Там же. С. 197.
(обратно)60
Вестник РХД № 120. С. 115. (Плотин).
(обратно)61
Лев Шестов. На весах Иова. С. 80–81.
(обратно)62
Там же. С. 79.
(обратно)63
Современные записки. Париж, 1936, XII. С. 376.
(обратно)64
Николай Бердяев. Основная идея философии Льва Шестова. Умозрение и Откровение. С. 10.
(обратно)65
Священник Павел Флоренский. Философия культа. М., 2004. С. 103.
(обратно)66
Лев Шестов. Киркегард и экзистенциальная философия. Париж, 1939. С.60.
(обратно)67
Лев Шестов. Умозрение и Откровение. С.247.
(обратно)68
Лев Шестов. Киркегард и экзистенциальная философия. С.74.
(обратно)69
Там же. С. 17.
(обратно)70
Лев Шестов. Умозрение и Откровение. С. 320–321.
(обратно)71
Там же. С.321.
(обратно)72
См. например: Е. Mounier. Introduction aux existentialismes. P., 1947. Или: В. Ф. Асмус. Экзистенциальная философия: ее замысел и результат (Лев Шестов как ее адепт и критик). В сборнике: Человек и его бытие как проблема современной философии. М., 1978.
(обратно)73
Николай. Бердяев Русская идея. Париж, 1971, С. 237.
(обратно)74
Я. G. Hadamer. Uber die Naturanlage des Menschen zur Philosophic. Universitas 1972. Heft 5. P.494.
(обратно)75
Лев Шестов. На весах Иова. С. 148.
(обратно)76
Karl Barth. Philosophic und Theologie. In: Philosophic und christliche Existenz. Basel und Stuttgart, I960.
Там же.
(обратно)77
Лев Шестов. На весах Иова. С. 145.
(обратно)78
Aller a la selle – испражняться. См.: Лев Шестов. Афины и Иерусалим. С. 60.
(обратно)79
Лев Шестов. Умозрение и Откровение. С. 63.
(обратно)80
Цит. по изд Библия… 2015.
(обратно)81
Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из двух углов. П., 1921. С.50.
(обратно)82
Там же.
(обратно)83
Лев Шестов. Киркегард и экзистенциальная философия. М.: Гнозис, 1926.
С. 129.
(обратно)84
Лев Шестов. Афины и Иерусалим. С. 234.
(обратно)85
Лев Шестов. Киркегард и экзистенциальная философия.
(обратно)86
Священник Павел Флоренский. Философия культа. М., 2004. С.112.
(обратно)87
Лев Шестов. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше.
(обратно)88
Лев Шестов. Современные Записки. Париж. С. 377–378.
(обратно)89
Лев Шестов. На весах Иова. С. 89–90.
(обратно)90
Jean Danielou. Dieu et nous. Paris. P. 62.
(обратно)91
Лев Шестов. Sola fide. С. 238.
(обратно)92
Там же. С. 218.
(обратно)93
Достоверность. Достоверность. Ощущение. Радость. Мир. Бог Иисуса Христа.
(обратно)94
Цит по: Я. Баранова-Шестова. Жизнь Льва Шестова, Т. I. Париж, 1983. С. 286.
(обратно)95
Там же. С. 287.
(обратно)96
Лев Шестов. Апофеоз беспочвенности. Петербург, 1912. С. 39
(обратно)97
Лев Шестов. На весах Иова. С. 170.
(обратно)98
Там же. С. 92.
(обратно)99
Там же. С. 49.
(обратно)100
Впрочем, это восприятие принадлежит уже прошлому. В наше время, по крайней мере в Западной Европе, самым читаемым и почитаемым православным мыслителем стал священномученик о. Павел Флоренский.
(обратно)101
Бердяев вспоминает, что когда перед высылкой в 1922 году он зашел к о. Алексию Мечову (ныне прославленному Церковью), тот сказал ему: «Ваше слово должен услышать Запад». Что он имел в виду? На Западе философствуют совсем иначе, профессионально, четко, исходя из той или иной традиции, но не из светлых волн, не из мыслей, взлетающих подобно искрам над костром. Это напутствие означало примирение. Церковь может не только прощать грехи, она может примириться и с тем, что кажется ей заблуждением. Но это заблуждение, вызванное тревогой, смятением духа, поиском истины входит в какой-то более широкий, скрытый от нас план домостроительства, в котором участвуют не только домостроители таинств, но вопрошатели тайн. Бердяев остро ощущал эту разность призвания священника и пророка. Но в отличие от Соловьева он был более сосредоточен на их конфликте.
(обратно)102
Учение о бытии как даре разовьет впоследствии современный французский философ Жан-Люк Марион. Откровение лица станет основой многих богословских размышлений Оливье Клемана.
(обратно)103
Тотальная свобода станет основной темой метафизики Сартра.
(обратно)104
Канонизированного Русской Православной Церковью в 1991 году.
(обратно)105
Всем известные исключения – митр. Филипп Колычев и патр. Тихон.
(обратно)106
К чести Бердяева следует сказать, что он не поддержал обновленчества, которое могло быть близким ему, по крайней мере, в своих интенциях. Критерий его был несгибаем и прост: никакая реформация не начинается с доносов в ЧК.
(обратно)107
Речь на магистерском диспуте 24 ноября 1874 года в С.-Петербургском Университете.
(обратно)108
M. Heidegger. Was ist das – die Philosophie? München, 1967 (“Das Erstaunen ist als πάθος die άρχή der Philosophie” – «Изумление как πάθος есть первоначало философии». Р. 24).
(обратно)109
В скобках указан год первой публикации.
(обратно)110
«“Понять” значит “узнать”, т. е. в новом распознавать знакомое, старое. И на практику этого процесса опирается руководящая нами предпосылка… что и бесконечный, еще неведомый нам, скрытый от нас остаток мирового бытия – то, с чем еще никогда не встречался и с чем еще не соприкасался наш познавательный взор, – в конечном итоге окажется тоже повторением уже знакомого и привычного». Непостижимое. Цит. по: Семен Франк. Сочинения. Москва, 1990. С. 187.
(обратно)111
Семен Франк. Сочинения. С. 229.
(обратно)112
Семен Франк. Онтологическое доказательство бытия Бога. Цит. по: По ту сторону правого и левого. YMCA-PRESS. Р., 1972. С. 111.
(обратно)113
Семен Франк. По ту сторону правого и левого. Париж, 1972. С. 119.
(обратно)114
О. Мандельштам.
(обратно)115
См. Владимир Лосский. Мистическое богословие Восточной Церкви.
(обратно)116
Семен Франк. Непостижимое. Сочинения. М. С. 415.
(обратно)117
Сочинения. С. 218.
(обратно)118
Семен Франк. По ту сторону правого и левого. Paris, 1972. С. 150.
(обратно)119
Наше сознание потенциально объемлет бесконечность…». Сочинения. С. 210.
(обратно)120
«В живом знании и, следовательно, в религиозном сознании структура отношения между объектом и субъектом действительно совершенно иная, чем в знании предметном. А именно, в нем сама духовная жизнь совпадает с реальностью того, что составляет ее объект, ибо есть откровение, самораскрытие самой реальности этого объекта. Душа, горящая верой в Бога, не может заблуждаться…». Там же. С. 231.
(обратно)121
Мы не касаемся здесь франковской концепции «всеединства», поскольку наша тема – соотношение философского и религиозного познания. «У Франка, – пишет С. С. Хоружий, – именно гносеологическое рассмотрение последовательно ставится во главу угла. Центральная дефиниция его реальности, Непостижимое, носит отчетливо гносеологический характер, и само исходное узрение реальности как всеединства достигается посредством гносеологии (С. С. Хоружий. После перерыва. Пути русской философии. М., 1994. С. 59).
(обратно)122
Там же. С. 279.
(обратно)123
Там же.
(обратно)124
Karl Jaspers. Der philosophische Glaube. Miinchen, 1988. P. 16.
(обратно)125
Семен Франк. Сочинения. С. 285.
(обратно)126
«Wir ahnen das Wesen des Denkens als Gelassenheit» («Сущность мышления, мнится нам, это невозмутимое самораскрытие»). См. М. Heidegger. Gelassenheit. Tubingen,1964. Р. 52.
(обратно)127
Семен Франк. Сочинения. С. 323.
(обратно)128
Известна оценка о. Василия Зеньковского: «Я без колебаний должен сказать, что считаю систему Франка самым значительным и глубоким, что мы находим в развитии русской философии. Замечательный дар ясного изложения, точность и четкость мысли образуют лишь формальную основу ее философских “достижений”. Важнее всего замечательное единство построений Франка». В. В. Зеньковский. История русской философии, Т. II, Ч. 2. Л., 1991. С. 177.
(обратно)129
Семен Франк. Сочинения. С. 324.
(обратно)130
Там же. С. 447.
(обратно)131
Там же. С. 465.
Там же. С. 314.
(обратно)132
Семен Франк. Философия и религия. София, 1923. С. 13 (Обратный перевод с английского).
(обратно)133
Семен Франк. Сочинения С. 463.
(обратно)134
Там же. С. 467–468.
(обратно)135
Там же. С. 468.
(обратно)136
Там же. С. 315.
(обратно)137
Там же. С. 468. Почти дословно, не зная о Франке, эти слова в одной из своих работ повторяет Пауль Тиллих.
(обратно)138
Там же. С. 348.
(обратно)139
Там же. С. 392.
(обратно)140
У Симоны Вейль можно даже найти мысли, близкие Франку. «Реальное – это для человеческой мысли то же самое, что добро. Таков таинственный смысл утверждения: Бог существует… Реальное – это Слово» (См.: Simone Weil. Cahiers. II. Р. 1972. Р. 276).
Симона Вейль умерла в Лондоне в 1943 году в возрасте 34 лет. Больная туберкулезом, она отказывалась принимать пищу больше той, которую давали заключенным евреям и участникам сопротивления в нацистских лагерях.
(обратно)141
Семен Франк. С нами Бог. Paris, 1964. С. 42.
См.: М. Бубер. Два образа веры.
(обратно)142
Семен Франк. С нами Бог. С. 57.
(обратно)143
Там же. С.147.
(обратно)144
Семен Франк. Сочинения. С. 468.
(обратно)145
Frank Darnour, Olivier Clement. Un Passeur. Quebec, Canada, 2003.
(обратно)146
Olivier Clement. Memoires d’esperance. Entretiens avec Jean-Claude Noyer. Paris,
(обратно)147
Olivier Clément. L’autre soleil. Paris, 1975.
(обратно)148
Добротолюбие (греч. φιλοκαλείν– Филокалия) – сборник духовных произведений древних пустынников и аскетов IV–XV веков.
(обратно)149
Монах Восточной Церкви. Иисус очами простой веры. М.: Общедоступный Православный Университет, основанный протоиереем Александром Менем, 2012.
(обратно)150
Настоящая цитата приводится по изданию: Мартин Хайдеггер. Работы и размышления разных лет. Исток художественного творения. Составление и перевод А. В. Михайлова. М., 1993.
(обратно)151
Философия начинается для него там, где кончается наука, где полностью исчезают следы научного мышления. Разумеется, противопоставление философии и науки – давно не новость, но Хайдеггер доводит это противопоставление до предела. Он отрицает научность в философии столь же твердо, сколь и научная философия отрицает какую бы то ни было философскую значимость его подхода к вещам. Она усматривает в них очередное метафизическое надувательство (идет ли речь о сущем, о бытии, или тем более о смысле бытия). Карнап, например, считает, что метафизику можно преодолеть путем логического анализа языка (относительно Хайдеггера см. его Егkenntnis П), Бертран Рассел в своей популярной «Истории западной философии», не упоминая о Хайдеггере, говорит о «субъективистском безумии современной философии» и т. п. Если считать это критикой, то вряд ли она может относиться к мышлению Хайдеггера, скорее она служит внутренним целям, т. е. доказательству от противного, преодолению метафизического искушения.
(обратно)152
Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения.
(обратно)153
Там же.
(обратно)154
Нам же.
(обратно)155
Там же
(обратно)156
Мартин Хайдеггер. Время картины мира.
(обратно)157
Гегель. Лекции по истории философии. Собр. Соч., Т. IX. М., 1932.
(обратно)158
Причина этого отступления остается недостаточно раскрытой. Хайдеггер нередко упоминает о «судьбе бытия» (Seinsgeschick), совершение которой включает в себя моменты его близости и дальности по отношению к человеку (или несокрытости-сокрытости); человек сам, будучи про-изведением бытия, будучи осуществлением собственно судьбы бытия, не может обладать одновременно и знанием этой судьбы.
(обратно)159
Сам Хайдеггер в полной мере отдает себе отчет в этой трудности собственного мышления. Он знает, что то, вокруг чего описывает круги его мысль, недоступно для мысли. «Он знает», но остерегается говорить об этом, как о знании. Загадку мышления бытия он не формулирует как проблему человеческого познания. Он сознательно избегает переноса упора на человека и осмысления бытия в его человеческом преломлении. Ибо тогда «мышление Бытия» соскользнуло бы в ту самую метафизику мыслящего субъекта, от которой он столь решительно отталкивается. Хайдеггер последовательно, хотя и не подчеркивая этого, отказывается рассматривать бытие с точки зрения феноменологии мышления бытия. Поэтому он неизменно сторонится какого-либо гносеологического уклона и проблему познания (в традиционном смысле) заменяет указанием на тайну мышления. В подкрепление этих слов приведем характерный отрывок из «Письма о гуманизме». «Речь идет о том, как выразить “бытие” в языке. В то же время выражение “es gibt” (имеется….) употребляется для того, чтобы не пришлось сразу же сказать: “das Sein ist” – “бытие есть”, потому что обычно это “есть” говорится о том, что есть. Мы называем то, что есть, – сущим. Но бытие как раз не “есть” сущее. Если сказать “есть” без последующего истолкования бытия, тогда бытие слишком легко будет представлено неким “сущим”, по способу уже известного сущего, которое действует как причина и про-изводится как действие. Однако уже на заре мышления Парменид сказал “Есть собственно Бытие”. В его словах скрыта изначальная тайна для всякого мышления. Возможно, это “есть” может быть сказано только в отношении Бытия, так что ни о каком сущем никогда нельзя сказать “есть”. Но поскольку мышление, которое озабочено точностью, должно, прежде всего, добиться того, чтобы возгласить Бытие в его истине, для него всегда останется открытым, “есть” ли Бытие и “как” оно “есть”». (Мартин Хайдеггер. Учение Платона об истине с приложением Письма о гуманизме).
Итак, мышлению об истине предстоит постоянно сталкиваться с тайной бытия и ставить вопросы о бытии. Но если оно попытается не только спрашивать, но и отвечать, оно тотчас превратит немыслимое бытие в «субстанцию» немыслимого, в метафизическую подмену бытия сущим, определенным по способу его мышления субъектом. Поэтому Хайдеггер предпочитает оставить бытие неназванным, безымянным. Но, отказываясь от определения, т. е. от понимания бытия, отстраняя от себя метафизику, он обращается к «антиметафизической метафизике» ничто (см.: ХМартин Хайдеггер. Что такое метафизика?).
(обратно)160
Нужда эта обусловливается загадкой «сокрытости» бытия. «Проистекая из сущности самого бытия, эта нужда остается недоступной понятийному мышлению. Она сказывается в человеке, т. е. она открывает человека для “оклика” бытия и пробуждает в нем способность отозваться на этот “оклик” (Zuspruch)» (см. Разъяснения к поэзии Гельдерлина).
(обратно)161
За рассудок в данном случае следует принимать просто мышление того, что есть, т. е. только сущее.
(обратно)162
Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения.
(обратно)163
Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения.
(обратно)164
Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения.
(обратно)165
Там же.
(обратно)166
«…Платон, – пишет Хайдеггер, – должен утверждать истину еще как характер сущего, ибо сущее как при-сутствующее имеет бытие в самоявлении и приносит с собой несокрытость. Но в то же время вопрос о несокрытости переносится на само-явление вида, а тем самым на подчиненное ему видение, на правильное и на правильность видения. Поэтому в учении Платона лежит неизбежная двойственность. Именно она свидетельствует о невысказанном прежде и теперь имеющем быть выраженным изменении существа истины» (Мартин Хайдеггер. Учение Платона об истине…). И далее: «подобная же двузначность в определении существа истины господствует еще у Аристотеля. В заключительной главе девятой книги, где аристотелевское мышление о бытии сущего достигает высшей точки, несокрытость есть господствующая надо всем основная черта сущего (Мет. 10 105/а 84 сл.). Но в то же время Аристотель может говорить:… (Мет. 4 1027 в 25 слл.) “ведь нет ложного и истинного в вещах (самих), но (они) в рассудке”» (Там же. С. 44).
(обратно)167
«Величие их систем в том, что они развертываются не на основе субъекта как ego и substantia finita, а на основе трансцендентной сущности конечного разума, как у Канта, или на основе бесконечного “я”, как у Фихте, или на основе духа как бесконечного знания, как у Гегеля или, как у Шеллинга, на основе свободы как необходимости всякого сущего, каковое всегда определяется, будучи сущим, различением основы и экзистенции» (Мартин Хайдеггер. Время картины мира).
(обратно)168
Хайдеггер имеет в виду следующее положение Ницше: «Истина есть тот род заблуждения, без которого не мог бы жить определенный род живых существ» (Фридрих Ницше. Воля к власти, п. 493).
(обратно)169
Hoheres schwindel – слова Ницше.
(обратно)170
Мартин Хайдеггер. Что такое философия?
(обратно)171
«Настроение» (Stimmung) – слово, под которым Хайдеггер подразумевает не внешнюю окраску чувств, а глубочайшее выражение человеческого существования.
(обратно)172
«Неявная гармония лучше явной» (Гераклит, фр. 54). «Созвучие есть (гармония). Это означает, что обе сущности переплетены друг с другом, что они изначально связаны, поскольку они друг другу подчинены. Это есть выделение в гераклитов-ском понимании любви» (Мартин Хайдеггер. Что такое философия?). Удивление «созвучно» гармонии.
(обратно)173
Мартин Хайдеггер. Изречение Анаксимандра.
(обратно)174
Ср. «Сущее в целом раскрывает себя, как 0i3oiq, природа, которая означает здесь не какую-то отдельную область сущего, но сущее как таковое в его совокупности, и именно в значении выступающего присутствия» (Мартин Хайдеггер. О сущности истины).
(обратно)175
Платон, Менон 81.
(обратно)176
Т.е. истина принадлежит изначально «вещам» (идеям или судьбе бытия), а не человеческому разумению.
(обратно)177
Мартин Хайдеггер. Что значит мыслить?
(обратно)178
Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения.
(обратно)179
Там же.
(обратно)180
В книге Артура Хюбшера «Мыслители нашего времени» (М., 1962) в очерке о Хайдеггере подобрано несколько примеров такого рода переосмыслений. Однако философский их смысл там не затрагивается.
(обратно)181
См.: Мартин Хайдеггер. О сущности основания. 1929.; Мартин Хайдеггер. Тезис об основании. 1957.
(обратно)182
Здесь можно говорить о «долге» человека перед истиной бытия, что вызвало уже несколько попыток реконструировать «этику Хайдеггера».
(обратно)183
«Одним из существенных способов, коим истина устрояется в разверзаемом ею сущем, есть способ творящейся в творении истины, полагающейся вовнутрь творения. Другой способ, коим бытийствует истина, есть деяние, закладывающее основы государства. Еще один способ, когда начинает светиться истина, есть близость такого сущего, какое, вообще говоря, уже не есть ничто сущее, но какое в своей бытийности бытийнее любого сущего. И еще один способ, коим полагается основа для истины, есть приношение в жертву существенного. И еще один способ, коим становится истина, есть вопрошающее мышление, каковое мыслит бытие и даст имя вопрошающему бытию» (Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения).
(обратно)184
Мартин Хайдеггер. Из опыта мышления.
(обратно)185
Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения.
(обратно)186
Там же.
(обратно)187
Там же,
(обратно)188
Там же.
(обратно)189
Там же.
(обратно)190
Вот одна из характерных для него оговорок относительно знания веры: «… на основе определенной веры, именно веры в Библию, сущее в его целокупности заранее представляется как нечто созданное, то есть, как в данном случае, нечто изготовленное. Философия этой веры способна, правда, уверять нас в том, что созидательные деяния Бога следует представлять иначе, чем делание ремесленника. Но, однако, если вместе с тем или даже еще прежде того, вследствие того, что полагают, будто томистская философия призвана к истолкованию Библии, enc creatum (сотворенное сущее, тварь – прим, перев.) мыслится на основе единства materia и forma, то тогда вера истолковывается на основе такой философии, истина которой покоится в несокрытости сущего и притом несокрытости совсем иного рода, нежели мир, в который верует вера» (Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения. С. 24). Здесь критикуется только знание, выросшее на основе веры, но из всего сказанного можно заключить, что критикуется оно как раз потому, что оно недостаточно «познало» собственную веру, что оно не сумело стать верой (отказавшись, таким образом, от самого себя), истина которой «покоится на несокрытости». Весь отрывок носит характер своего рода продуманной недоговоренности.
(обратно)191
См.: Мартин Хайдеггер. Вещь.
(обратно)192
Мартин Хайдеггер. Учение Платона об истине…
(обратно)193
Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения.
(обратно)194
Мартин Хайдеггер. Что такое философия?
(обратно)195
Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения.
(обратно)196
Там же.
(обратно)197
Мартин Хайдеггер. Время картины мира.
(обратно)198
Ср. диалектику единого и иного в диалоге Парменид у Платона. («Единое не может быть ни отлично от иного, ни тождественно самому себе». – С. 139). Если отвлечься от онтологического смысла бытия и ничто у Хайдеггера, то в его истолковании этих понятий много общего с ходом мысли платоновского Парменида.
(обратно)199
Мартин Хайдеггер. На пути к языку.
(обратно)200
Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения.
(обратно)201
Там же.
(обратно)202
Там же.
(обратно)203
Мартин Хайдеггер. Из опыта мышления.
(обратно)204
Мартин Хайдеггер. Время картины мира.
(обратно)205
Мартин Хайдеггер. Вопрос о технике.
(обратно)206
Мартин Хайдеггер. Бытие и время. Параграф 31.Присутствие как понимание.
(обратно)207
Здесь уже до некоторой степени оспаривается то понимание свободы, которое возникло потом у Сартра.
(обратно)208
Там же.
(обратно)209
Там же.
(обратно)210
Там же.
(обратно)211
Там же.
(обратно)212
Мартин Хайдеггер. Что такое метафизика?
(обратно)213
Мартин Хайдеггер. Письмо о гуманизме
(обратно)214
Мартин Хайдеггер. Из опыта мышления
(обратно)215
Этих слов, насколько нам известно, нет ни в одном из его произведений. Но они были произнесены им несколько раз в ряде бесед с журналистами. Стоит привести их еще раз в контексте:
– Нужно мыслить Хайдеггера вопреки Хайдеггеру, – говорили Вы в своих лекциях.
– И это как раз то, что я сам пытался делать. В течение тридцати лет я не прочел ни одной лекции о Хайдеггере.
– Но говорят о хайдеггеровской философии…
– Я уже говорил: хайдеггеровской философии не существует. В течение уже шестидесяти лет я пытаюсь понять, что такое философия, а не предлагать свою собственную. (Из интервью, опубликованном во французском еженедельнике L’Express № 954 от 20–26/П-1969 г. по случаю 80-летия Мартина Хайдеггера).
(обратно)216
См.: Мартин Хайдеггер. Введение в метафизику.
(обратно)217
Мартин Хайдеггер. Изречение Ницше: Бог умер.
(обратно)218
Мартин Хайдеггер. Время и Бытие. Из диалога о языке между японцем и спрашивающим. М., 1993. С.289. Перев. В. В. Бибихина.
(обратно)219
Именно так построен фундаментальный курс англиканского богословия проф. John Macquarrie Principles of Christian Theology, 1966 (когда-то, в советские времена, переведенного мной для неведомых хранилищ Журнала Московской Патриархии). О самом Боге мы ничего не можем сказать, но именно от этого «ничего не можем сказать» в хайдеггеровском смысле начинается курс систематического богословия с описанием источников Откровения, понятия Церкви, теории таинств и т. п.
(обратно)220
Martin Heidegger. Identitat un Diffferenz.Tubingen, 1857. SS 64–65.
(обратно)221
Лев Шестов. На весах Иова.
(обратно)222
Мартин Хайдеггер. Слова Ницше: Бог мёртв. М., 1993. С. 174. Перевод. А. В. Михайлова.
(обратно)223
Там же. С. 217.
(обратно)224
Дионисий Ареопагит. О мистическом богословии. СПБ., 1995. С. 365–367. Перевод Г. М. Прохорова.
(обратно)225
Мартин Хайдеггер. Время и Бытие. Письмо о гуманизме. М., 1993. С.213. Перев. В. В. Бибихина.
(обратно)226
Там же. С.206.
(обратно)227
Мартин Хайдеггер. Время и Бытие. Из диалога о языке между японцем и спрашивающим. М., 1993. С. 301. Перев. В. В. Бибихина.
(обратно)228
Там же, Письмо о гуманизме. С. 206
(обратно)229
Там же, доклад «Слово». С. 309.
(обратно)230
В. Бибихин Два стихотворения раннего Хайдеггера. URL: / dva_stihotvoreniy_haydeggera.
(обратно)231
В 1996 году можно было уверенно сказать, что та эпоха, о которой пойдет речь, завершилась бесповоротно. Впечатление оказалось обманчивым.
(обратно)232
Гегель. Работы разных лет. Т.1. М.,1976. С. 393.
(обратно)233
A. BesariQon Les origines intellectuelles du leninisme. P.,1977.
(обратно)234
C. Milosz La Pensee Captive. P., 1951.
(обратно)235
Гегель. Феноменология Духа. С. 41.
(обратно)236
См.: Martin Heidegger. Nietzsche. Vittorio Klostermann Verlag, II. C. 200
(обратно)237
Гегель. Философия права. М-Л., 1934. С. 7, § 263.
(обратно)238
Б. Рассел. История западной философии. N.Y., 1981. С. 748.
(обратно)239
Ленин В. И. Поли. Собр. Соч. Т.29. С. 162.
(обратно)240
Там же.
(обратно)241
Ленин В. И. Поли. Собр. Соч. Т. 29. С. 178–179.
(обратно)242
Там же С. 301.
(обратно)243
Там же. С. 165.
(обратно)244
Там же.
(обратно)245
Ф. Энгельс. Диалектика природы. М., 1955. С. 213.
(обратно)246
Под этим емким словом понимается здесь не только система тюрем и лагерей вместе с красным террором, раскулачиванием, голодомором, выселением народов, преследованием инакомыслящих и т. д., но прежде всего сочетание бесконечной утопии с бесконечным насилием и обманом.
(обратно)247
L. Althusser. Ideologic et appareils ideologiques d’Etat. Pensee. P., 1970.
(обратно)248
Гегель. Энциклопедия философских наук. Сочинения. Т. 3. М., 1977. С. 223.
(обратно)249
Ленин В. И. Поли. Собр. Соч. Т. 18. С. 131.
(обратно)250
Против таковых идеалистов, желавших дополнить марксистскую теорию «совестью» и «добром», выступает Э. В. Ильенков в своей статье Ленинская идея совпадения логики, теории познания и диалектики (1974): «Принципиальный вред кантианской идеи соединения “науки” с “системой высших этических ценностей” заключался в том, что она ориентировала самую теоретическую мысль на совершенно иные пути, нежели те, на которых развивалась мысль Маркса и Энгельса. Эта «гносеология» намечала и для социал-демократических теоретиков свою, кантианскую стратегию научного исследования, смещала представления о столбовой, магистральной линии развития теоретической мысли, о тех путях, на которых можно и нужно искать научное решение реальных проблем современности. Эта “теория познания” прямо ориентировала теоретическую мысль уже не на строго теоретический анализ материальных, экономических отношений между людьми как фундамента всей остальной пирамиды общественных отношений, а на построение надуманных конструкций “этики”, морально интерпретируемой политики, общественной психологии бердяевского пошиба и прочие для рабочего движения абсолютно бесполезные (если не вредные) занятия».
(обратно)251
A. Glucksman. Maitres penseurs. Р., 1977.
(обратно)252
Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии.
(обратно)253
Гегель. Феноменология Духа. С. 420.
(обратно)254
Гегель. Энциклопедия философских наук. Философия духа. М., 1956. С. 205.
(обратно)255
«Мировой Дух – это, собственно, я и есть». Приведу здесь комментарий Мартина Бубера: «Начало осуществления абсолютной идеи он (Гегель – В. 3.) усматривал в собственной эпохе и собственной философии, так что диалектическое движение идеи во времени, должно было, судя по всему, идти к концу». М. Бубер. Два типа веры. Проблема человека. М. 1995. С. 179.
(обратно)256
Мартин Хайдеггер Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 198.
(обратно)257
См.: J.-P. Sartre. Critique de la raison dialectique. P., 1961.P. 30.
(обратно)258
Напомню: L’Humanite – c 1920 no 1994 год официальный орган Компартии Франции.
(обратно)259
Гегель. Феноменология Духа. С. 112.
(обратно)260
Задница мира. Выражение нацистского врача в Освенциме, отбиравшего работоспособных евреев от тех, кого сразу посылали в газовые камеры.
(обратно)261
Franz Marek, Ernst Fisher. Was Marx wirklich sagte. 1968
(обратно)262
Гегель. Лекции по истории философии. Сочинения. Т. IX. М., 1932. С. 39–40.
(обратно)263
“Alle Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kritik daran, ist MM”.
(обратно)264
Слова Достоевского.
(обратно)265
У него был не только свой стиль речи, но и подобающий ему словарь. Я не помню, чтобы он когда-либо произносил такие слова, как лагерь, срок, зэк, Гулаг или засорял свой язык советизмами. Слегка анахроничная, но все же родственная миру культуры «каторга» была одним из тех терминов былых времен, обозначавших его отношения с новым и чужим ему миром. В этот стиль вписывалась и его борода, которую он сумел не позволить (!) сбрить себе даже в лагере.
(обратно)266
Изд-во Водолей, Томск, 1998.
(обратно)267
Антология античной лирики в русских переводах: Лирики Рима. Томск, Водолей, 2004. Лирики Эллады, Т. 1–2. Томск, 2006.
(обратно)268
В 2010 году эта книга, наконец, была опубликована в издательстве Центра гуманитарных инициатив. Университетская книга. СПб.
(обратно)



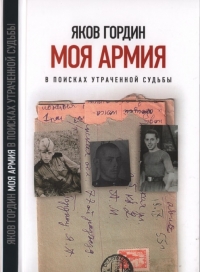
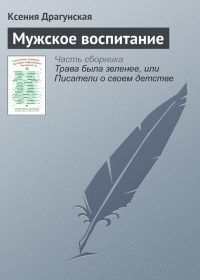
Комментарии к книге «Священное ремесло. Философские портреты», Владимир Корнелиевич Зелинский
Всего 0 комментариев