Давид Фельдман, Юрий Бит-Юнан Василий Гроссман. Литературная биография в историко-политическом контексте
© Бит-Юнан Ю.Г., Фельдман Д.М., 2015
© Издательский дом «НЕОЛИТ», 2015
От издательства
Эта книга продолжает монографию, посвященную жизни и творчеству В.С. Гроссмана – одного из наиболее известных русских писателей ХХ века. Первая часть ее опубликована в прошлом году нашим издательством.
В первой книге были обозначены неисследованные биографические проблемы. Установлено, что Гроссман в довоенные и послевоенные годы оказался, можно сказать, в эпицентре литературных и политических интриг высших партийных функционеров. Ареста избежал чудом.
При исследовании биографических проблем авторы стремились воссоздать историко-политический контекст сталинской эпохи. В первой книге речь шла о юности Гроссмана, его становлении как писателя, начальных этапах стремительной литературной карьеры, и, наконец, интриге, связанной с романом о Сталинградской битве – «За правое дело».
Новая книга – о создании романа «Жизнь и судьба». Его рукописи были конфискованы сотрудниками КГБ СССР в феврале 1961 года. Ну а впервые полностью роман был опубликован за границей почти двадцать лет спустя.
С тех пор роман Гроссмана переведен на все европейские языки, многократно опубликован. Он признан классикой мировой литературы.
История создания и публикации романа «Жизнь и судьба» неоднократно описана мемуаристами и литературоведами. Но, как доказывают авторы данного исследования, она изначально «мифологизирована» сообразно различным политическим установкам. То же самое можно сказать и о биографии самого Гроссмана.
При подготовке этого издания использованы материалы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива новейшей истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.
Часть I. Оттепель и заморозки
Награда побежденному
Если судить по формальным показателям, то результатом пятилетней интриги в связи с изданием романа «За правое дело» стала победа Гроссмана. Вопреки стараниям Бубеннова и, разумеется, Суслова.
Да, с 13 февраля 1953 года, когда на фоне «дела врачей» шла в прессе антигроссманавская кампания, очевидной казалась победа Суслова и Бубеннова. Руководство ССП отреклось от автора романа «За правое дело».
Но положение изменилось уже 4 апреля, когда «дело врачей» официально было признано фальсификацией. В мае прекратилась и антигроссмановская кампания. Опала длилась менее четырех месяцев.
Да, Фадееву не пришлось доложить Сталину, что проект ЦК партии – «военная эпопея» – почти реализован именно тем, кого поддерживало руководство ССП. В 1953 году Сталинскую премию Гроссман не получил.
Но и Бубеннов – за второй том романа «Белая береза» – тоже не получил Сталинскую премию. Ее вообще не присуждали после смерти Сталина.
Бубеннов – с агитпроповской помощью – оттеснил Гроссмана, а все равно не выиграл. Утратил прежний статус и Суслов. Организатор кампании «борьбы с космополитизмом» был понижен в должности.
Кстати, Министерством обороны как раз тогда проводилась очередная аттестация офицерского состава, и 22 июля автору романа «За правое дело» – как подполковнику запаса – выдана была вполне комплиментарная характеристика. В личном деле ее копия сохранилась. Кроме прочего, там указывалось: «В настоящее время И.С. Гроссман продолжает активно заниматься литературным трудом, принимает активное участие в общественной жизни Союза советских писателей СССР, является членом Правления Союза советских писателей СССР, членом Комиссии по приему в Союз советских писателей СССР»[1].
Отсюда следует, что Гроссман летом 1953 года – вовсе не гонимый, а вновь авторитетный прозаик. И даже с полномочиями литературного функционера. Неважно, пользовался ли. Главное, что сохранил прежний статус, определявший уровень влиятельности. И гонорарные ставки, кстати, тоже.
С 1954 года роман «За правое дело» был фактически признан советской классикой. Но функционерам требовалось еще и объяснить, почему же автора так бранили ранее.
Осенью 1954 года статус Гроссмана подтвержден книжным изданием романа «За правое дело». Сам факт выпуска книги еще и подразумевал, что все прежние негативные оценки были ошибочными.
Получилось, что в первую очередь ошибся тот, чья статья обозначила начало антигроссмановской компании: Бубеннов. И ему – в качестве автора романа «Белая береза» – пришлось выслушать много нелестного на II съезде ССП.
В 1955 году вторым книжным изданием романа «За правое дело» было вновь подтверждено, что все претензии к автору деактуализовались. Правда, лишь «по умолчанию». Официально так и не были дезавуированы инвективы, публиковавшиеся с февраля по май 1953 года. Извинения в подобных случаях не предусматривались традициями советской печати.
Компромисс все же нашли. Писательским руководством было направлено в ЦК КПСС представление к ордену Трудового Красного Знамени. Копия документа попала в личное дело Гроссмана[2].
Довольно высокой была награда. Аналог ордена Боевого Красного Знамени, только не за военные заслуги, а сообразно государственно важным достижениям в какой-либо профессиональной области.
Награждал, понятно, не ЦК партии. Указом Президиума Верховного Совета СССР это оформлялось. Но решения принимались именно там, куда обратилось писательское руководство.
Мнение руководства ССП относительно уместности награды было согласовано в ЦК партии до формального обращения. А иначе сама инициатива не имела бы смысла.
Наградить просили, что называется, по оказии. Это сразу же обозначалось: «12 декабря 1955 года исполнилось 50 лет со дня рождения писателя Гроссмана Василия Семеновича (Иосифа Соломоновича)».
Такая практика награждения к юбилею стала традиционной еще в сталинскую эпоху. «На день рождения» ордена и медали получала элита: функционеры, писатели, ученые, конструкторы, актеры, художники. Но и во второй половине 1950-х годов это было исключением, а не правилом.
Представление к награде следовало обосновать. И руководство ССП ссылалось на мнение того, чей авторитет считался незыблемым: «Литературной деятельностью В. Гроссман начал заниматься в 1934 г. Его первая повесть “Глюкауф” о героях первой пятилетки – шахтерах Донбасса – была положительно оценена А.М. Горьким».
Аргументация развивалась. Удачным объявлен не только дебют: «Значительным произведением советской литературы явился роман-трилогия В. Гроссмана «Степан Кольчугин» (1940). В нем В. Гроссман создал выразительную картину революционной борьбы пролетариата, начиная с кануна революции 1905 г. до начала первой мировой войны. Роман «Степан Кольчугин» получил признание широких масс советских читателей и был переведен на ряд иностранных языков».
Перечислены и военные заслуги. Точнее, относившиеся к военной поре: «С первых дней Великой Отечественной войны и до окончания ее В. Гроссман находился в частях действующей армии как специальный корреспондент газеты «Красная звезда». Корреспонденции, очерки и рассказы В. Гроссмана, опубликованные в центральной и фронтовой печати, такие, как «Сталинград», «Треблинский ад», его талантливая повесть «Народ бессмертен» (1943) вдохновляли советских людей на упорную борьбу с врагом».
Далее речь шла о событиях недавних. Так, сообщалось: «После войны В. Гроссман успешно работает над созданием произведения о беспримерном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. В настоящее время вышла в свет первая книга романа «За правое дело»».
Авторы представления знали, что «первая книга романа “За правое дело”» не «в настоящее время вышла», а тремя годами ранее. Конечно, учитывали, что это известно в соответствующем отделе ЦК партии. Ошибки или обмана не было – в документе лишь подчеркивалось: на исходе 1955 года претензий к Гроссману нет, а все прежние уже признаны неуместными.
Этот тезис и обосновывался. Причем вполне последовательно: «В своих произведениях В. Гроссман обращается к наиболее значительным событиям из истории нашей родины, стремится правдиво показать русского рабочего – борца и созидателя социалистического общества».
Отнюдь не случайно упоминание именно о «русском рабочем». Памятно было время, когда гроссмановский роман характеризовали как «антирусский», вот и подчеркивалось, что это – ошибка.
Затем определен статус награждаемого. Акцентировалось: «В. Гроссман принимает активное участие в работе правления Союза писателей СССР».
Обозначены заслуги именно функционерские. Были, нет ли, главное, что упомянуты. Далее – вывод: «Правление СП СССР ходатайствует о награждении писателя Гроссмана Василия Семеновича (Иосифа Соломоновича) за заслуги в развитии советской литературы – орденом Трудового Красного Знамени».
Представление утверждено 18 января 1956 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР опубликован «Правдой» на следующий день: «За заслуги в области художественной литературы и в связи с пятидесятилетием наградить писателя Гроссмана Василия Семеновича (Иосифа Соломоновича) орденом Трудового Красного Знамени»[3].
Руководство ССП итог подвело. И баланс. Ответ на погромные рецензии 1953 года – орден Трудового Красного Знамени, врученный Гроссману прежде всего «за заслуги в области художественной литературы».
Не Сталинская премия, конечно, так ее уже и не было. Награждение Гроссмана подразумевало, что инцидент исчерпан. Окончательно.
Это было ясно и до награждения. Гроссману фактически вернули статус классика советской литературы. Интервью с ним печатались в периодике, было известно, что он пишет вторую книгу романной дилогиии о Сталинградской битве.
Все неудачи и унижения вроде бы остались позади. Берзер в упомянутой выше мемуарной книге подчеркивала, что как своего рода этап давнего знакомства ей запомнились коктебельские встречи с Гроссманом лета 1955 года: «Он улыбался тогда, здоровался издали, весело махал рукой. Я со стороны смотрела на него: высокий ясный лоб, за очками синие глаза, черные волнистые волосы зачесаны назад… Он был ровен, казалось – счастлив и спокоен. Я знала, что он пишет новый роман. И печать счастья, творчества и творческого покоя лежала на его лице. Он казался здоровым, загорелым и молодым. На фоне коктебельского синего моря и сказочных гор его прекрасные синие глаза казались особенно синими. Этот синий свет не угасал до последних минут жизни. Очки круглые были частью его лица. А рот нес страдание – рот библейских мучеников и мудрецов. И улыбка тоже».
Не исключено, что двойственное впечатление не столько запомнилась в 1955 году, сколько позже сложилось – по итогам осмысления писательской судьбы. Трагических событий уже не столько прошлого, сколько будущего. Почти тридцать пять лет спустя Берзер, подобно другим мемуаристам, создавала гроссмановский биографический миф.
Допустимо, что впечатление и впрямь было двойственным. Как мироощущение самого Гроссмана. Внешне – «печать счастья, творчества и творческого покоя», но прошлое не прошло бесследно, и «новый роман» ожидали все те же цензурные препоны.
Судя по формальным признакам, Гроссман выиграл, а реально – проиграл: он вышел победителем из очередной литературно-административной интриги, зато как писатель оказался побежденным.
Еще в юности он принял социалистическую идеологию. Но ей не соответствовала практика – государственный террор. С этим пришлось мириться, точнее смириться. Гроссман, подобно миллионам советских граждан, привыкал к атмосфере постоянного страха. От большинства отличался тем, что унижение осознавал – в том числе и от антисемитских кампаний. Прагматику их понимал еще на исходе 1920-х годов, хотя его лично они не касались.
Однако «делом врачей» Гроссман был унижен, как никогда прежде. Среди прочих и его фамилия под «Обращением еврейской общественности», где признавалась доказанность обвинений и уместность расправы с обвиняемыми.
Подчеркнем еще раз: документ, подготовленный в аппарате ЦК КПСС и отправленный на утверждение Маленкову 29 января 1953 года, не был тогда опубликован. Аналогично и другой вариант, завершенный через три недели. Сама идея утратила актуальность. Но суть не изменилась – для Гроссмана. Он не мог не понимать, что вместе с другими представителями советской элиты одобрил убийство заведомо невиновных. Согласился принять сторону палачей, а не жертв.
Теоретически у него была возможность отказаться. Практически – нет. Многократно возросла бы вероятность ареста, причем всей семьи тоже. По меркам 1953 года хватало оснований: Гроссман не раз указывал в анкетах, что еще до Первой мировой войны одна из сестер матери стала гражданкой Аргентины, отцовская же в Болгарию уехала[4].
Он знал, что наличие родственников за границей – опасность для гражданина СССР. По административной логике сталинской эпохи прежние контакты с эмигрантами могли быть истолкованы как шпионаж. Доказательства не требовались, довольно было признаний, и добиваться их следователи МГБ умели. Но скрывать известное, например, в Бердичеве – тоже риск. Оставалось лишь надеяться, что не воспользуются недоброжелатели сведениями о «заграничных связях».
Надо полагать, воспользовались бы, отклони Гроссман предложение ЦК КПСС. Трактовали бы это как обусловленную «заграничными связями» попытку содействия «врачам-вредителям». Припомнили бы и ссыльную кузину, и расстрелянных друзей. Тогда бы он непременно попал в категорию «безродных космополитов», пособников иностранных разведывательных служб. Последствия легко угадывались.
Очередным унижением была погромная кампания в связи с романом «За правое дело». Ее антисемитскую прагматику организаторы не маскировали – порою даже акцентировали. И последствия могли бы оказаться весьма серьезными. А тут еще и угроза депортации.
Правда, итог – орден Гроссману. К юбилею, но и по заслугам. В Российской империи так награждали чиновников – «за двадцать лет беспорочной службы».
Орден вручали побежденному, которого объявили победителем.
Гроссман не мог не осознавать свое поражение. С юности он хотел стать писателем, оказался же служащим по ведомству литературы.
Итоги поражения
14 февраля 1956 года в Москве начался XX съезд КПСС, завершившийся через одиннадцать дней. Как известно, сенсацией тогда стал доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях».
Подготовка XX съезда партии заняла почти три года. Смерть едва ли не обожествленного Сталина обозначила новый период истории советского государства.
К марту 1953 года социалистическая империя оказалась буквально на вершине могущества. Нацистская Германия была побеждена и половина Европы, по сути, контролировалась Сталиным.
Но это – с одной стороны. А с другой, положение Советского Союза было критическим. Против него ополчились почти все недавние союзники: шла «холодная война».
Меж тем сельское хозяйство оставалось в упадке. Так называемая «колхозная деревня» голодала. До обещанного изобилия далеко было и в городах. Все ресурсы страны уходили на военные нужды.
Экономический кризис усугублялся идеологическим. Вопреки обещаниям, государство справедливости не удалось создать. Равенства не было. Никакого.
Вместо имущественного равенства – несопоставимость бытовых условий элиты и большинства граждан. Принцип отказа от этнической дискриминации был, по сути, попран антисемитскими кампаниями и депортациями целых народов.
Ко всему прочему, миллионы советских граждан – в лагерях и тюрьмах. Угроза ареста была актуальна и для сталинского окружения. Генсек явно готовил очередную смену элиты, что подтверждалось «делом врачей». А в стране одна пропагандистская кампания следовала за другой, все более нагнетая военную истерию. Третья мировая война становилась все ближе – теперь уже атомная.
Но Сталин умер, и его преемники спешили изменить ситуацию. Символом перемен должен был стать XX съезд партии в 1956 году.
К этому времени в советской прессе и официальных документах понятие «культ личности» стало политическим термином. С июня 1953 года так обозначали многолетнюю кампанию восхваления Сталина. Идеологи еще не решались объявить самого генсека ее инициатором, вот и понадобился эвфемизм. Выбрали довольно неуклюжий, зато и суть была понятна, и появилась возможность не упоминать прежнего лидера[5].
Хрущев нарушил это правило. Инкриминировал Сталину не только истерию самовосхваления, но и организацию фальсифицированных процессов второй половины 1930-х годов, и узаконенную практику истязаний подследственных, и преступную самонадеянность, обусловившую поражения в начале Великой Отечественной войны, и неоднократно проводившиеся депортации по этническому критерию, и «дело врачей», да и вообще измену базовым установкам марксизма. Соответственно, большинством высших функционеров было решено не печатать доклад, объявить его секретным. Первая советская публикация в прессе – лишь в 1989 году, когда шла очередная кампания «разоблачения культа личности»[6].
Однако уже весной 1956 года Хрущев добился иной формы обнародования. По всем учреждениям, предприятиям и прочим организациям на открытых партийных собраниях, куда приглашали всех сотрудников, доклад читали вслух так называемые читчики, назначенные районными или городскими комитетами партии.
Ограничения были несущественны и трудноконтролируемы: слушателям запрещалось что бы то ни было записывать или обсуждать как во время собрания, так и после. Но реально доклад обсуждали по всей стране.
Создана была лишь видимость секретности. Даже если б на партийные собрания не пришел ни один беспартийный, все положения доклада стали бы широко известны.
К антигроссмановской кампании доклад имел непосредственное отношение. Новый лидер характеризовал «дело врачей» как «позорное».
Так Хрущев обозначил антисемитскую прагматику «дела врачей». Соотнес ее с тем, что именовал «грубым попранием основных ленинских принципов национальной политики Советского государства».
Вполне прозрачным был намек – для современников. Бубенновские инвективы, а заодно и все им подобные, оказались противоречащими актуальному политическому контексту. Применительно же к положению Гроссмана это подтверждало уместность новой публикации романа «За правое дело». И в 1956 его выпустило издательство «Советский писатель»[7].
Гроссман уже давно был в литературной элите. Всесоюзно знаменитый писатель и журналист, классик советской литературы, что подразумевало высокие гонорарные ставки.
Отметим, что к началу 1950-х годов за авторский лист – сорок тысяч печатных знаков – платили в среднем три тысячи рублей. Классикам советской литературы – высшая ставка, т. е. почти в полтора раза больше. Переиздания же приносили от пятидесяти до шестидесяти процентов начального гонорара.
Соответственно, ежегодные доходы некоторых литераторов порою превышали миллион рублей. Из-за чего в ЦК партии не раз обсуждался вопрос о необходимости введения прогрессивного налога. Однако до подобного рода ограничений не дошло – пропагандистская элита[8].
Гонорарные суммы уместно сравнить с доходами и расходами обычных советских граждан. Тут следует учесть, что средняя месячная заработная плата тогда – шестьсот пятьдесят рублей. Мужские ботинки стоили примерно триста рублей, зимнее женское пальто с меховым воротником обходилось в 700 рублей[9].
Гроссману каждое переиздание романа «За правое дело», объем которого превышал тридцать авторских листов, приносило не менее четырехсот тысяч рублей. Очередной выпуск «Степана Кольчугина» – почти в полтора раза больше.
Все публикации романа «За правое дело» по-прежнему лоббировало руководство ССП. Можно сказать, что Гроссману – по сумме гонораров за книжные издания – неоднократно компенсировали неполученную Сталинскую премию. Даже и первой степени.
Писательское начальство, санкционируя переиздания, демонстрировало всем: инцидент, обусловивший антигроссмановскую кампанию 1953 года, исчерпан. Окончательно.
Разумеется, причина благоволения не только и не столько в том, что литературные функционеры пытались загладить свою вину. Сталинский проект – «военная эпопея» – оставался политически актуальным и после нового раздела власти в партийной элите, а Гроссман был самым перспективным из прозаиков.
В этом аспекте характерно суждение И.П. Золотусского. Маститый критик постулировал в предисловии к очередному советскому изданию романа «Жизнь и судьба»: «Сразу после 1945 года заговорили о том, что нужна современная «Война и мир». Считалось, что масштаб события этого заслуживает. Но не о масштабе политическом шла речь. Имелась в виду идея охвата всей войны, ее корней и последствий, ее ядра и периферии»[10].
Золотусский не вполне точен, ведь ему лишь пятнадцать лет исполнилось в 1945 году. Еще двумя десятилетиями ранее литераторы обсуждали возможность создания эпопеи гражданской войны, что уже отмечалось. Да и «масштаб политический» – условие всегда обязательное в СССР. Однако в главном Золотусский прав. Сам проект «военной эпопеи» стал особенно актуальным со второй половины 1940-х годов. И десятилетие спустя не утратил актуальность.
Частично задачу создания «военной эпопеи» решил Гроссман. В каждом издании романа «За правое дело» указывалось, что публикуется лишь первая книга. Читательский успех ее был несомненным, причем не только в СССР. Планировалась и продолжение. Вот почему автора поощряли всеми доступными средствами. Заботились о его престиже, обеспечивали максимально комфортные условия работы. Точнее, выполнения того, что считалось тогда «социальным заказом».
Подчеркнем еще раз: опала Гроссмана длилась менее четырех месяцев. А затем он вновь «обласкан властью», обозначившей таким образом, что обиды следует забыть и служить по-прежнему верно.
Кстати, пафос хрущевского доклада – верность. Преступления же, совершавшиеся правящей элитой, предложено считать лишь последствиями «культа личности».
С учетом сказанного можно отметить, что XX съезд КПСС не повлиял на политические взгляды Гроссмана: в хрущевском перечне злодейств не было таких, о которых не знал бы или не догадывался.
В феврале 1956 года Хрущев официально подвел итоги сталинской эпохи. Закончилась же она гораздо раньше, и для Гроссмана ее окончание подразумевало, что можно не опасаться ареста в любой момент. Страх отступал. Тем яснее становилась мера пережитых унижений.
Ни одна его публикация не обошлась без цензурного вмешательства. Тотальный контроль и редакторский произвол предусматривались негласными правилами. Изначально приняв их, Гроссман многократно пережил унижения компромиссами. Сталинская эпоха закончилась, но в хрущевском докладе не ставилась проблема отмены партийной цензуры. Это и означало, что все книги романа о войне будут исковерканы, как первая.
Устранить произвол Гроссман не мог. Однако попытался избавиться хотя бы от самоцензуры. Характеризуя роман «Жизнь и судьба» в упомянутых выше мандельштамовских дефинициях, следует признать: он не относится к «разрешенной» литературе. Наоборот, соответствует критериям «написанной без разрешения».
Кстати, проблема игнорирования официального идеологического дискурса рассматривается в романе «Жизнь и судьба». Отношение к ней выражено суждениями физика-атомщика Штрума, alter ego автора.
Так, замечание относительно противоречия современных научных концепций основам марксизма ученый парировал с опасной иронией. Заявил, что «физике нет дела, подтверждает ли она философию»[11].
Штрум и сам напуган своей дерзостью. Фразу, произнесенную сгоряча, недоброжелатель может интерпретировать как «антисоветскую пропаганду», случаев подобного рода немало. Однако выясняется, что мнение обиженного ревнителя идеологии уже не сыграет никакой роли. Для решения военных задач нужны работы физика, он стал неприкосновенным, и функционерам приходится с этим смириться.
Отметим, что проблема игнорирования официального идеологического дискурса рассматривается и в булгаковской повести «Собачье сердце». Преуспевающий московский хирург Преображенский дерзит функционерам нижнего звена, да еще и рекомендует своему ассистенту не читать советские газеты. На недоуменное же замечание относительно того, что других нет, отвечает: «Вот никаких и не читайте»[12].
Преображенский тоже неприкосновенен. Он, в отличие от Штрума, осознает это и постоянно использует преимущества такого статуса. Здоровье представителей высшей партийной элиты зависит от хирурга-уникума, вот ему и позволительна аполитичность.
И Преображенский, и Штрум – лишь представления литераторов о возможностях самоизоляции от режима. Так сказать, проекции мечты на литературу. Врач Булгаков считал надежной защитой статус хирурга-уникума, а химик Гроссман полагал, что надежно защищены создатели атомного оружия. Но при всех сюжетных различиях варианты тождественны на уровне формализации: неприкосновенновенность уникального специалиста, от которого зависят влиятельные функционеры или же государство в целом. Уровень безопасности определяется масштабами влияния покровителя. О свободе и речи нет.
Теоретически допустимо, чтобы деятельность уникального специалиста в естественнонаучной области не регулировалась партийными директивами. Но применительно к литературе такое недопустимо и в теории. Советский писатель сталинской эпохи прилежно читал газеты, потому что там была отражена воля правительства, вне которой заведомо исключалась профессиональная реализация[13].
Гроссман как писатель формировался именно в сталинскую эпоху. Потому не мог не понимать: роман, где игнорируется официальный идеологический дискурс, не будет опубликован. И все же продолжал работу. На что надеялся – можно лишь догадываться. Гипотезы строить.
Самая простая – счет унижений оказался слишком велик. Потому Гроссману и понадобилось вновь почувствовать себя писателем, а не служащим по ведомству литературы. Заботы же о публикации отложил до завершения второй книги романа. Оставалось еще несколько лет – немалый срок, если речь идет о свободе от постылой самоцензуры.
Нет оснований сомневаться: Гроссман осознавал, что угроза возникнет, как только рукопись книги окажется в редакции. Однако после XX съезда парии арест был маловероятен. В крайнем случае – обсуждение крамольного романа литературными функционерами и запрет публикации.
Кампания травли в масштабе 1953 года практически исключалась. Подобного рода скандалы стали неуместными, значит, из ССП тоже вряд ли бы исключили. Ну, возможно, переиздавали бы не так часто, доходы стали бы меньше.
В 1956 году такие прогнозы Гроссман мог бы считать оптимистичными. Получалось, что под угрозой только привилегии да уровень жизни семьи.
Но семьи как таковой у Гроссмана уже не было. Распалась.
Липкин в мемуарах рассказывал об этом, не обозначая хронологические рамки событий. Рассуждал лишь о причинах: Гроссман, «например, считал, что его мать, погибшая в бердичевском гетто, осталась бы жива, если бы Ольга Михайловна незадолго до войны не воспротивилась бы тому, чтобы мать приехала к ним в Москву, и та вынуждена была навсегда расстаться с сыном».
Трудно судить, насколько версия мемуариста близка к истине. В письмах отцу Гроссман сообщал, что хотел бы перевезти мать из Бердичева.
Однако сначала было некуда – сам жил у родственников. А когда доходы выросли, так вскоре новая семья появилась, вот и ждал, пока ССП квартиру предоставит.
На исходе 1930-х годов располагал вроде бы достаточно просторным жильем и все же решение вопроса о переезде откладывал, лишь посылал матери деньги. Потом война началась.
Действительно ли Губер перед войной «воспротивилась» переезду свекрови, нет ли, Гроссман в первую очередь винил себя. И, видимо, не это стало причиной распада семьи.
Липкин – в цитированных выше мемуарах – ситуацию характеризовал по обыкновению невнятно. Порассуждав о гроссмановских претензиях, добавил: «Но я думаю, что Ольга Михайловна была ему неплохой женой. Все дело в том, что он разлюбил ее и полюбил другую».
Допустим, «разлюбил ее и полюбил другую». А когда это произошло и что дальше было – все равно непонятно.
Ситуацию характеризовала и дочь писателя в уже цитированном интервью журналу «Лехаим». По ее словам, семья отца распалась ко второй половине 1940-х годов. Конфликты же были и раньше.
Более подробно ситуация описана в интервью с корреспондентом газеты «Мир новостей». Оно напечатано 9 января 2013 года – под заголовком «Екатерина Короткова-Гроссман: “С отцом мои отношения были доверительными”»[14].
К 1955 году она успела закончить английское отделение Харьковского института иностранных языков, несколько лет преподавала в средней школе. Затем переехала в Москву. Там поступила на работу в Библиотеку иностранной литературы, стала переводчицей. С отцом встречалась довольно часто. Однажды Гроссман спросил, уместно ли его считать старым – «ему уже было за 50. Я ему отвечаю: “Старый, конечно”. Я-то тогда совсем молоденькой была. Сказала не подумав. Он расстроился и говорит мне: “Ну, все-таки у меня средний возраст”. Я обрадовалась этому слову – “средний”. Головой закивала. А потом он мне так загадочно заявляет: “Как ты думаешь, у меня еще может быть роман?”, имея в виду романтические отношения. Потом обнаружилось, что он уходит к жене Николая Заболоцкого, Екатерине Васильевне. Его вторая жена, Ольга Михайловна была человеком твердым, жестким. А Екатерина Васильевна – прямая противоположность: добрая, мягкая, дружелюбная».
Значит, к 1956 году планировался новый брак. В связи с чем Гроссман и просил ССП о предоставлении так называемого рабочего кабинета. Получил, но это была лишь комната, по словам дочери – «12 метров. Там иногда втроем ютились: я, отец, Екатерина Васильевна».
Для большинства московских семей и такие условия тогда – удача. Гроссман, разумеется, мог бы добиться большего, но пришлось бы ждать дольше. У него двухкомнатная квартира, а вскоре должен был получить новую, трехкомнатную. По тем временам – вовсе роскошь.
Он по-прежнему содержал жену и ее сына, уже получившего высшее образование. Все-таки прожили вместе двадцать лет.
Дочь опять приняла выбор отца. Но специфику новой ситуации отметила: «С Ольгой Михайловной он так и не развелся. В общем, было сложное сплетение отношений. Екатерина Васильевна то уходила, то возвращалась. Если какие-то официальные приемы, то все это проходило у Ольги Михайловны. Я думаю, дамы между собой договорились, как им себя вести».
Пусть и «договорились», прежней семьи не было, новой тоже. К весне 1956 году рисковал бы Гроссман только статусом классика советской литературы. Вероятно, не считал эту потерю непомерно большой.
Контекст негласного запрета
Уместно подчеркнуть еще раз: Гроссман задумал написать вторую часть романной дилогии «без разрешения» отнюдь не потому, что был опальным и гонимым. О бедности тоже нет речи.
Гроссман тогда преуспевал. Первая часть романной дилогии была признана классикой советской литературы, что подтверждалось динамикой публикаций.
Однако на уровне осмысления романа еще не были, так сказать, расставлены акценты. По советской традиции надлежало объяснить читателям, за что Гроссмана бранили раньше.
Задача объяснения была достаточно сложной. Требовалось определить хоть какие-то причины, избегая возвращения к теме антисемитских кампаний.
Компромисс найден уже после XX съезда КПСС. В этом аспекте характерна интерпретация скандала, предложенная И.П. Вишневским. Без преувеличения образцом мастерского ухода от нежелательной темы можно назвать статью критика «Роман В. Гроссмана “За правое дело”». Она стала главой в сборнике работ о военной прозе[15].
Согласно Вишневскому, ничего экстраординарного в 1953 году не произошло. Одни критики роман хвалили, другие бранили, дело обычное. Но вот и пора итоги подвести: «Теперь, когда страсти улеглись, можно сказать, что как поклонники этого произведения, так и его порицатели, очевидно, имели основания и для восхваления, и для хулы».
Даже Бубеннов, если верить Вишневскому, ошибся не во всем. Какие-то его соображения обоснованны. В частности, Гроссман недостаточно уделил внимания солдатам, не вполне убедительно изображены некоторые командиры и комиссары.
Но, по Вишневскому, ошибся Бубеннов в главном. Акцентировалось: Гроссман «правильно раскрывает в романе “За правое дело” перспективы войны, показывает ее всенародный характер, подчеркивает организующую и направляющую роль Коммунистической партии».
Беспочвенными, по словам Вишневского, были и обвинения в клевете на армию. Речь шла о катастрофе 1941 года: «Повествуя о первом этапе войны, В. Гроссман не преувеличивает сил противника, но и не преуменьшает опасности».
Необоснованными, согласно Вишневскому, были и обвинения в искажении «образов советских людей». Напротив, утверждал критик, Гроссман – реалист, «он рисует характеры людей, события, избегая нарочитой героизации, показного молодечества».
В итоге Гроссман был оправдан. И обвиняемыми стали его не в меру азартные оппоненты. Логически уместным оказалось бы указание причин, обусловивших столь ожесточенные нападки на роман. Однако Вишневскому объяснять это не позволялось.
Надо полагать, он знал, что взялся за неразрешимую задачу. Решить, понятно, не сумел, но главное сделал: была создана видимость решения.
По этому пути шли другие критики и литературоведы, писавшие о Гроссмане в дальнейшем. Кому-то Вишневский подсказал уловку, кто-то сам нашел ее эмпирически, существенно же, что другие пути были запретными.
Упомянул Вишневский и о продолжении романа «За правое дело». Оно, по словам критика, вполне уместно: «Начало сделано неплохое. Его обязательно надо продолжить».
Гроссман, разумеется, продолжал. Имел возможность не заботится о заработке постоянно. В 1958 год опубликован еще один сборник очерков, повестей и рассказов – воениздатовский[16].
Объем сборника превышал тридцать авторских листов. Даже с учетом того, что почти все было опубликовано ранее, Гроссман получил не менее четырехсот тысяч.
Предисловие к сборнику написал Левин. Это довольно пространная статья, озаглавленная «Василий Гроссман»[17].
Автор предисловия тоже полемизировал с участниками антигроссмановской кампании 1953 года. Явно и неявно. Прежде всего, доказывал, что роман – именно эпопея: Гроссман «сделал своим героем народ и правду о нем»[18].
Фактически Левин по пунктам отвергал все тезисы, что были выдвинуты Бубенновым и другими противниками Гроссмана. Но, как Вишневский, не имел возможности описать причины, обусловившие кампанию 1953 года.
С точки зрения самой возможности продолжения романа такие объяснения были и не нужны. Гроссман приступил ко второй части дилогии весной 1952 года, о чем официально и сообщал руководству ССП.
Правда, скандал 1953 года работу прервал, затем Гроссман занимался подготовкой нового издания первой части дилогии, что тоже потребовало немало времени.
Однако уже в 1955 году вторая часть дилогии была главной задачей. А роман «За правое дело» переиздавался, и это избавляло автора от хлопот о постоянном заработке.
Нет оснований предполагать, что Гроссман уже тогда планировал несанкционированную иностранную публикацию. Жизненный опыт исключал бы такой план – как суицидальную попытку.
Выше отмечено, что советской издательской моделью изначально подразумевалась монополизация издательской области. К 1920 году почти все частные издательства и периодические издания были закрыты, и большинство писателей лишилось заработка. Выбор – служить за паек советскому правительству, либо менять профессию. Это и констатировал Е.И. Замятин, статью которого опубликовал в первом номере 1921 года один из немногих уцелевших кооперативных петроградских журналов – «Дом искусств». Заголовок был полемический: «Я боюсь»[19].
Речь шла о писательском быте и характере его изменений. Согласно Замятину, государству, ставшему главным покупателем литературной продукции, требовалась гипертрофированная советскость, и спрос готовы были удовлетворить не талантливые, а «юркие авторы».
Замятин не отрицал, что энтузиасты тоже были. Но тон задавали «юркие». Они «давя друг друга и брыкаясь, мчатся в состязании на великолепный приз: монопольное право писания од, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию».
Те, кто не желали приспособиться, лишились права на публикации. Соответственно, Замятин утверждал, что писатель, «который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем».
Ничего подобного не прогнозировалось даже при самодержавии. Потому, заключал автор, «я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое».
Другому бы писателю, даже и знаменитому, дерзость обошлась бы дорого. Но Замятин большевиком стал еще в 1905 году, прошел тюрьму, ссылку и хоть политическую деятельность прекратил, связи остались. Его и раньше арестовывали чекисты, выручали же влиятельные функционеры[20].
Ответить Замятину решено было в печати. Дискуссия не удалась: большевистские публицисты ничего, по сути, оспорить не сумели. Аргументация свелась к попыткам объявить автора недальновидным и вообще нелояльным советской власти. Ограничились «выражением неудовольствия»[21].
Правда, литературная ситуация вскоре стала иной. Началась эпоха нэпа, открывались частные издательства, государственные тоже ориентировались на прибыль, соответственно, писатели могли выбирать заказчиков. Даже цензура, став централизованной, несколько смягчилась.
Более того, советское правительство заигрывало с эмиграцией. Провоцировались конфликты в среде противников нового режима, и беженцев, готовых примириться с ним, привлекали различными способами[22].
Литература играла особо важную роль. Практиковались негласные субсидии дружественным или хотя бы невраждебным эмигрантским издательствам и периодическим изданиям. Советским писателям там не запрещалось печататься, эмигрантов тоже публиковали на родине[23].
В 1923 году многие литераторы – эмигранты и граждане СССР – еще надеялись, что впереди перемены к лучшему. Как раз тогда Гроссман и переехал из Киева в Москву. Литература уже была в сфере его интересов. Однако шесть лет спустя частные издательства закрывались под различными предлогами, и цензура становилась все более строгой. Ситуация возвращалась к донэповской, характеризованной Замятиным.
Неизвестно, знал ли Гроссман о скандале, обусловленном статьей «Я боюсь». Однако не мог не помнить другой, гораздо более масштабный, именовавшийся «делом Пильняка и Замятина»[24].
Формально скандал начался 26 августа 1929 года. В этот день «Литературная газета» поместила статью рапповца Б.М. Волина «Недопустимые явления»[25].
Речь шла об изданиях за границей повести Пильняка «Красное дерево» и романа Замятина «Мы». Стоит подчеркнуть еще раз: иностранные публикации советских писателей, даже и в эмигрантских издательствах, были тогда вполне обычны. Политическая оценка на родине зависела от содержания опубликованного.
Отметим, что в СССР иностранных писателей могли издавать без ограничений: соответствующие конвенции не были подписаны, и вопросы гонораров решались произволом издателей. Аналогично и за границей защита прав советских писателей не гарантировалась. Впрочем, там случаи нарушений были единичными.
Разумеется, советские писатели относились весьма осторожно к предложениям иностранных, тем паче эмигрантских, издателей. Памятуя о специфике уголовного законодательства, лишь то и публиковали, что было б нельзя интерпретировать как «антисоветскую агитацию».
Но Волин предложил другой критерий. Объявил преступлением сам факт сотрудничества с эмигрантами: «Борис Пильняк напечатал свой роман «Красное дерево» в берлинском издательстве «Петрополис». Как мог Пильняк этот роман туда передать? Неужели не понимал он, что таким образом входит в контакт с организацией, злобно враждебной Стране Советов?».
Вопрос риторический. Далее Волин утверждал: «Пильняк напечатал роман за границей, потому как не нашлось «оснований к тому, чтобы это произведение было включено в общий ряд нашей советской литературы».
Аналогичное обвинение выдвигалось и против Замятина. Статья заканчивалась призывом: «Мы обращаем внимание на этот ряд совершенно неприемлемых явлений, компрометирующих советскую литературу, и надеемся, что в их осуждении нас поддержит вся советская общественность».
За статьей Волина – буквально шквал выступлений в печати. А первую полосу следующего номера «Литературной газеты», вышедшего 2 сентября, открывали аннотации статей, походившие, скорее, на лозунги: «Против буржуазных трибунов под маской советского писателя», «Против переклички с белой эмиграцией», «Советские писатели должны определить свое отношение к антиобщественному поступку Пильняка»[26].
В печати бранили главным образом Пильняка, а Замятина даже не каждый раз упоминали. Это обусловлено различиями на уровне литературно-политического статуса каждого из писателей.
Репутация автора повести «Красное дерево» формировалась с начала 1920-х годов. Лишь тогда он стал знаменитостью и оказался в гуще политических интриг: на его успех ссылались критики, отстаивавшие литературную доктрину Троцкого, рапповские же буквально травили. Но, вопреки стараниям напостовцев, Пильняк считался писателем именно и только советским. Он сам постоянно акцентировал это в интервью[27].
Вот почему критики и обвиняли Пильняка в лицемерии. Даже в предательстве. Ну а Замятину инкриминировать такое было б странно. Он стал знаменитостью в досоветский период, о своих разногласиях с новым режимом не раз заявлял открыто. Писателем советским его обычно именовали с оговорками. А порою называли даже «внутренним эмигрантом».
Отсюда различия тональности и, конечно, частотности нападок. Характерна в этом аспекте статья Маяковского «Наше отношение». Ее поместила «Литературная газета» 2 сентября[28].
Маяковский сразу обозначил специфику дискурса. Отметил с иронией: «Повесть о «Красном дереве» Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его, и многих других, не читал».
Получается, что рассуждал о непрочитанным. И акцентировал уместность такого подхода именно в данном случае: «К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов».
Далее следовал главный вывод. Разумеется, обвинение: «В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене».
Маяковский все же смягчил инвективу. Оговорил, что публикация могла быть обусловлена и ошибкой Пильняка в оценке «классовости».
Но оговорка не меняла суть. В том же номере «Литературной газеты» секретариат РАПП обратился «ко всем писательским организациям и одиночкам – с предложением определить свое отношение к поступкам Е. Замятина и Б. Пильняка»[29].
Каждому литератору надлежало высказаться – в печати, либо на собрании какой-либо писательской организации. Рапповцы настаивали, что жизнь «формулирует перед попутчиками вопрос резко и прямо: либо за Пильняка и его покрывателей (sic! – Ю. Б-Ю., Д. Ф.), либо против них».
Это и означало, что не высказавшиеся «против» будут рассматриваться как пособники обличаемых. Последствия легко угадывались.
Скандал обсуждался во многих изданиях. Так, 20 сентября критико-библиографический журнала «Книга и революция» опубликовал другую волинскую статью под еще более агрессивным заголовком «Вылазки классового врага в литературе»[30].
В журнале «Земля Советская» развивал эти тезисы И.А. Батрак. Прагматику его статьи тоже обозначал заголовок: «В лагере попутчиков»[31].
Контекст подсказывал, что лагерь – едва ли не вражеский. С этим вполне коррелировала оценка публикаций Замятина и Пильняка: «Здесь примерно шахтинское дело литературного порядка».
Истерия стремительно нарастала. Три года спустя Замятин вспоминал, что «Москва, Петербург, индивидуальности, литературные школы – все уравнялось, исчезло в дыму этого литературного побоища. Шок от непрерывной критической бомбардировки был таков, что среди писателей вспыхнула небывалая психическая эпидемия: эпидемия покаяний».
В первую очередь заявил о своем раскаянии Пильняк. Формально и был после этого прощен властью – до поры. Замятин же пытался оправдываться, но в итоге при посредничестве Горького добился разрешения на выезд за границу.
Истерия в «деле Пильняка и Замятина» пошла на убыль только в конце октября 1929 года. Партийное руководство, не оспаривая рапповские оценки заграничных публикаций, объявило, что в ходе кампании были допущены некоторые «перегибы».
Таковыми признали, главным образом, проявления рапповской агрессивности по отношению ко всем «попутчикам». Проблема эта и ранее обсуждалась в периодике. Вину же за «перегибы» традиционно возложили на исполнителей.
Но «перегибы» были не более, чем заренее планировавшимися издержками тщательно продуманной пропагандистсокой кампании… Выбор объектов травли также был отнюдь не случайным.
Еще раз подчеркнем: если Пильняк считался писателем именно и только советским, то Замятин – не вполне. В указанном диапазоне мог бы найти свое место любой «попутчик», вот и урок получили все сразу. И каждый уяснил, что несанкционированная иностранная публикация – вне зависимости от содержания – рассматривается как диверсия, «вредительство».
Подход вполне понятный, если учитывать специфику издательской модели. Советскому писателю надлежало получать гонорары лишь в контролируемых правительством организациях. Конкуренция отечественных издателей с иностранными не предусматривалась. Именно для этого и была вновь монополизирована печать на исходе 1920-х годов. Коль так, несанкционированные заграничные публикации – способ обретения финансовой независимости посредством нарушения государственной монополии. Что и следовало исключить.
Конечно, рапповские лидеры планировали не только пресечь сложившуюся практику несанкционированных иностранных публикаций. Главная цель – подготовка новой резолюции ЦК партии о политике «в области художественной литературы». Это и обеспечило бы некогда обещанную «гегемонию пролетарских писателей» – на издательском уровне.
Но кампания была прекращена, и новую резолюцию ЦК партии тогда не принял. Сталин, в отличие от рапповских лидеров, свои задачи уже решил.
«Дело Пильняка и Замятина», во-первых, дискредитировало Троцкого. Снова демонстрировалось, что его доктрина ошибочна.
Во-вторых, дискредитирован был и Бухарин – как автор прежней резолюции ЦК партии, опубликованной в 1925 году. Получилось, что и он покровительствовал «шахтинцам в литературе».
Наконец, правительству не понадобилось запрещать несанкционированные иностранные публикации законодательно. Литераторы уяснили, что запрет уже введен, хоть и негласный.
Почти что полвека спустя Л.С. Флейшман в фундаментальной монографии о Б.Л. Пастернаке подвел итоги скандала. Он утверждал, «что это была первая в истории русской культуры широко организованная кампания не против отдельных литераторов или текстов только, а против литературы в целом, ее автономного от государства существования»[32].
Автономность литературы исключалась – такова прагматика скандала. Своего рода инерция «дела Пильняка и Замятина» влияла на литературный процесс и после смерти Сталина. Шок был силен. Потому вновь подчеркнем: крайне мала вероятность, чтобы Гроссман изначально планировал иностранную публикацию.
Пограничные инциденты
Обычно изменения политической ситуации после смерти Сталина соотносятся с деятельностью Хрущева как лидера партии. Этот период даже получил неофициальное именование – «оттепель»[33].
Споры о хронологических рамках «оттепели» и происхождении самого термина ведутся давно. Не входя в полемику, отметим только, что он – буквально – обозначает перемены заметные, однако не радикальные и отнюдь не обязательно необратимые. Вероятно, поэтому и метафора была принята современниками.
О причинах «оттепели» споры тоже ведутся издавна. Бесспорным считается лишь то, что изменение политической ситуации обусловлено не только произволом группы функционеров, пришедших к власти после смерти Сталина. Хватало и объективных факторов.
Как известно, к марту 1953 года террористическая истерия в СССР вновь достигла пика. Очередной раз под угрозой ликвидации оказалось едва ли не всё сталинское окружение. Родственники некоторых высших функционеров уже были в лагерях, ссылках, тюрьмах. А это и само по себе подразумевало возможность ареста в любой момент.
Панику в партийной элите усугубляло «дело врачей». Функционерский опыт подсказывал: за исключением Сталина пособником мнимых «вредителей» может быть объявлен каждый их кремлевский пациент, если он в материалах следствия не числится среди намеченных жертв.
«Дело врачей» вызвало и международный резонанс. После разгрома нацистской Германии, когда термин Холокост стал обиходным, шоковое впечатление производила откровенно антисемитская кампания в одной из держав-победительниц.
У сторонников «холодной войны» появился весьма убедительный аргумент, подтверждавший, что рассуждения советских идеологов о равенстве, гуманизме и стремлении к миру не соответствует реальным целям Сталина, нагнетавшего в стране террористическую истерию. Она воспринималась как вызов мировому сообществу.
Вскоре после смерти лидера его преемники договорились о полной ликвидации «дела врачей». Ради этого и понадобилось трансформировать значение термина «реабилитация». В новом варианте осмысления он использовался для ускоренного – в обход предусмотренной законом процедуры – оправдания осужденных и подследственных[34].
Упрощенная процедура требовалась и для скорейшего оправдания родственников, а также других представителей элиты, близких к группе сталинских преемников. Но почти каждый случай признания чьей-либо невиновности еще и подразумевал рассмотрение материалов других уголовных дел по аналогичным обвинениям. А их – десятки и сотни тысяч. Процесс «реабилитации» мог стать лавинообразным.
Соответственно, понадобились аргументы на уровне идеологии. Было бы нефункционально в массовом порядке отменять юридические решения, вынесенные при Сталине, и по-прежнему клясться его именем. Надлежало убедить население в том, что происходящее – вполне законно[35].
Однако новые идеологические установки еще не были определены. Сталинские преемники отнюдь не сразу нашли удобные формулировки, потому и не обошлось без конфликтов. Характерный пример описан Симоновым в мемуарной книге «Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине»[36].
19 марта 1953 года «Литературная газета», редакцию которой Симонов тогда возглавлял, поместила передовую статью «Священный долг писателя». Она, в сущности, не отличалась от других передовиц аналогичной тематики. По обыкновению, там декларировалось: «Самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов – бессмертного Сталина».
Но уже 26 марта опубликована передовица «Достойно показывать великие дела народа». Сталин там вообще не упомянут. Главной же писательской задачей объявлено изображение «простого советского человека, строителя коммунизма».
Быстрое и кардинальное изменение «главной задачи» Симонов объяснил вмешательством Хрущева. Тот, по словам мемуариста, позвонив в редакцию и Президиум СП, объявил что «считает необходимым отстранить меня от руководства «Литературной газетой», не считает возможным, чтобы я выпускал следующий номер».
Симонов интерпретировал телефонный звонок секретаря ЦК КПСС в эмоциональном аспекте. Предположил, что «это был личный взрыв чувств Хрущева, которому тогда, в пятьдесят третьем году, наверное, была уже не чужда мысль через какое-то время попробовать поставить точки над «i» и рассказать о Сталине то, что он счел нужным рассказать на XX съезде».
Нет оснований сомневаться, что вмешательство Хрущева было. Сомнительна же описанная Симоновым причина – «личный взрыв чувств».
К 19 марта 1953 года, еще до официального дезавуирования «дела врачей», редактору «Литературной газеты» уже полагалось знать: пропагандистская ситуация изменилась. О том он был специально извещен. Свидетельство – записи секретаря ЦК КПСС П.Н. Поспелова. Ныне они хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории[37].
Согласно этим записям, 10 марта 1953 года – на следующий день после похорон Сталина – Маленков созвал заседание Президиума ЦК КПСС. Где объявил, что ранее «были крупные ненормальности, многое шло по линии культа личности».
Поспелов записал полученные указания. Маленков, сообщив о «крупных ненормальностях», требовал «прекратить политику культа личности».
Что конкретно имелось в виду – Маленков не пояснил. Но из контекста следовало: требовалось прекратить многолетнюю кампанию восхваления Сталина. Именно Поспелову было тогда поручено обеспечить контроль прессы. Срочно вызванные в ЦК КПСС редакторы центральных газет и журналов получили инструкции – тоже посредством намеков, хотя и весьма прозрачных.
Вероятно, шестикратный лауреат Симонов несколько фрондировал, публикуя статью, не соответствовавшую поспеловским намекам. Подчеркивал, что не желает вот этак срочно и без определенных причин отрекаться от ранее написанных им стихов о генсеке. Ну а Хрушев – в привычной сталинским администраторам манере – объяснил и фрондеру, и писательскому руководству, почему нельзя игнорировать новую пропагандистскую установку.
Такая версия куда более правдоподобна, чем изложенная Симоновым. Однако в любом случае очевиден итог. Тут мемуарист не отступил от истины. На заседании Президиума ССП 24 марта 1953 года статья «Священный долг писателя» была признана ошибкой редактора, и ее исправила через два дня та же «Литературная газета».
Симонов тогда остался секретарем правления и даже заместителем генсека ССП, а вот должность руководителя «Литературной газеты» утратил. Впрочем, без особого скандала. Формально – по собственной же просьбе был «освобожден от обязанностей».
Истинную причину в ССП знали. Благодаря инциденту литературные функционеры уяснили, каков, так сказать, вектор перемен. Но очевидной стала лишь главная установка – отказ от восхваления Сталина. Относительно прочего ясности не было по-прежнему. Что вполне закономерно.
В группе сталинских преемников шли споры о пределах критики. Уровень допустимого определили эмпирически: посредством инцидента, связанного уже с деятельностью Твардовского – как редактора журнала «Новый мир».
Он, при всей конформности, пытался и в начале 1950-х годов решать задачи, самостоятельно поставленные. Это отмечает, например, М. Аскольдова-Лунд в опубликованной журналом «Свободная мысль» статье «Сюжет прорыва. Как начинался “Новый мир” Твардовского»[38].
Согласно Аскольдовой-Лунд, новомирский главред лавировал, не оспаривая цензурные запреты, но обозначая направление, которое считал главным. Позже оно получило официальное название – «деревенская проза».
В начале 1950-х годов термина еще не было. Зато само направление, по мнению ряда историков литературы, уже формировалось, чему во многом способствовал редактор «Нового мира». И Аскольдова-Лунд утверждает: «Деревенская проза выразила одну из главных трагедий русской жизни – разрушение деревни, ее быта, уклада, нравственного идеала. Война и трагедия деревни слились для Твардовского в единую трагическую стихию, в поток, который питал журнал. Он поступал так в страшное время советской истории – на излете сталинского самовластья».
Суждение эмоциональное, однако небезосновательное. Исследовательница отсылает читателей к этапу биографии Твардовского, довольно широко обсуждавшемуся критиками и литературоведами в 1990-е годы. Сын крестьянина, ставший комсомольским поэтом и журналистом, отрекся от «раскулаченной» семьи. Причина отречения понятна – литературная карьера. Вскоре, правда, раскаялся, помогал ссыльным родственникам, был прощен. Чувство же вины, надо полагать, осталось. Не исключено, что пытался искупить ее, способствуя публикациям о деревне.
Одним из основоположников пресловутой «деревенской прозы» считается В.В. Овечкин. Первый из серии его сельских очерков – «Районные будни» – опубликован «Новым миром» в июльском номере 1952 года[39].
Публикация воспринималась как литературное событие в масштабах страны. Удивляло неидеализированное описание быта деревни, тяжелого труда колхозников, полностью зависимых от произвола секретаря райкома партии, чванливого и хамоватого карьериста. Он, впрочем, противопоставлен в очерке другому руководителю, скромному и дельному. Но таковы были условия игры, понятные также читателям, что и отмечают биографы Твардовского.
Об этом, в частности, пишет А.М. Турков. Он утверждает: «Очерк Овечкина подготовил рождение так называемой деревенской прозы и облегчил ее прохождение»[40].
Исследователь называет «прохождением» этапы цензурного контроля. К «деревенской прозе» партийные инстанции относились настороженно. Ситуация изменилась лишь во второй половине 1953 года, когда «Новый мир» публиковал сельские очерки Г.Н. Троепольского и аналогичной тематики повести В.Ф. Тендрякова, тоже казавшиеся необычно смелыми[41].
Общему политическому контексту «оттепели» все это соответствовало. Резкое же неприятие партийных инстанций вызвала новомирская литературная критика. Прежде всего – опубликованная в двенадцатом номере 1953 года статья В.М. Померанцева «Об искренности в литературе»[42].
Сама постановка проблемы напоминала о спорах начала 1920-х годов. Тех, что были вроде бы давно забыты. Померанцев у тверждал: «Искренности нет не только в шаблоне, и шаблон не худший из видов неискренности. Он отнимает действенность вещи и оставляет нас равнодушными, но ещё не порождает прямого неверия в литературное слово. Это происходит от другого вида неискренности, который назван у нас «лакировкой действительности». Порожден он не только ханжеством критики – в нём не меньше повинны и сами писатели. Пустил он глубокие корни и стал многообразен по способам».
Далее рассматривалась техника пресловутой «лакировки действительности». Постулировалось, что прием наиболее «грубый – измышление сплошного благополучия. Иную книжку прочтешь – вспомнишь тот затерявшийся в истории литературы период, когда действие романа происходило под солнцем неизвестной страны, а пейзажем служили лианы. Как от этих романов исходил аромат чудесных неведомых фруктов, так от ряда наших вещей вкусно пахнет пельменями. Наиболее явное зрительно-носовое ощущение дал этот неуклюжий приём в киносценариях, где люди банкетно, смачно, обильно, общеколхозно едят. Сценарии фильмов дали писатели, тон писателям давали подобные фильмы».
Суждения Померанцева были по тому времени крайне резкими. Общее впечатление не меняли и упоминания о высмеиваемой тогда «лакировке действительности», и оговорки, акцентировавшие лояльность режиму: «Но зачем нам выдуманное благополучие, когда у нас есть завоёванное, подлинное, большое и капитальное! К счастью, показ жизни “через пельмени” уж слишком топорен, чтобы быть слишком распространённым».
Вряд ли опытный журналист полагал, что в деревне – изобилие «подлинное, большое и капитальное». Но публикация статьи без подобного рода оговорок была б невозможна.
Померанцев эвфемистически именовал «неискренностью» ложь. Доказывал, что она не способствует, а препятствует решению пропагандистских задач: «Влияние книг постепенно, подспудно, и проследить его нелегко. Но не невозможно. Если бы комиссия критики по продуманной и непредвзятой программе изучила влияние книг на разные возрасты и слои населения, мы извлекли бы немало неожиданных и поучительных выводов. Мы увидели бы, что тиражи иных книг не всегда пропорциональны мере влияния книги на человека, что и в очень известных, очень распространённых романах человеку часто «не хватает чего-то». Докапываясь, доискиваясь, мы установим, что не хватает ему подлинного, не книжного конфликта».
Вряд ли Померанцев и Твардовский осознавали, что не только писатели-конформисты высмеяны в статье. Из нее следовало, что интерес к советской литературе – современной – падает, а колоссальные тиражи большинства книг и журналов не соответствуют уровню читательского спроса.
Так и было. Невостребованную продукцию издательств – сотнями тонн – постоянно отправляли с торговых складов на бумажные фабрики. Для переработки. Однако правительство не планировало отказ от внеэкономической издательской модели, потому агитпровские функционеры имели основания интерпретировать суждения критика как антисоветские[43].
Ожесточение вызывали и другие новомирские критики. Особенно – Ф.А. Абрамов, опубликовавший в апрельском номере 1954 года пространную статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе»[44].
Как заведомо «лакировочные» там были высмеяны книги лауреатов Сталинской премии. Дежурные ссылки на опубликованные высказывания Маленкова и Хрущева опять не меняли общее впечатление. Скандал был настолько громким, что Абрамова вынудили признать статью политически ошибочной[45].
Твардовскому это не помогло. 23 июля 1954 года принято решение Секретариата ЦК КПСС «Об ошибках редакции журнала “Новый мир”»[46].
В руководстве ССП у Твардовского не было поддержки. Сказались конфликты начала 1950-х годов. Потому он и был лишен редакторской должности[47].
Таким оказался второй наглядный урок. Он тоже был сразу усвоен литературными функционерами – в силу очевидности причинно-следственной связи.
Инциденты с редакторами «Литературной газеты» и «Нового мира» обозначили границы допустимого. В печати исключалось восхваление Сталина – как рецидив пресловутого «культа личности». Разрешалось обсуждать саму возможность перемен. Но «колхозный строй» пока что оставался вне критики[48].
Трудно судить, задумал ли Гроссман уже тогда повесть «Все течет…». Если и были замыслы, не мог не убедиться, что пока реализовать их нельзя.
Эволюционный проект
Гроссману смена руководства «Нового мира» была лишь постольку важна, поскольку обозначала новую границу допустимого. Но и только. Какие-либо перспективы вряд ли прогнозировались, соответственно, планы не менялись.
Отношение Гроссмана к новомирской интриге прослеживается в переписке с Липкиным, разумеется, относящейся к послесталинской эпохе. Столичные литераторы переписывались, когда один из них уезжал в командировку, санаторий и т. д.
Эти письма не поступили в РГАЛИ. Туда мемуарист передал лишь ксерокопию одного из них – о событиях 1958 года. Хранится она в фонде Липкина, формировавшемся еще при его жизни.
Сама же переписка хранилась у вдовы – И.Л. Лиснянской. Затем документы были сканированы по просьбе британского литературоведа и переводчика Р. Чандлера и переданы ему. Все или частично – трудно судить. Оригиналы же остались у наследников.
Выдержки из некоторых гроссмановских писем Липкин привел в мемуарах. Цитировал не всегда точно, да и часто без датировки. Потому мы приводим цитаты по сканам, любезно предоставленным нашим британским коллегой.
Характерно, что Гроссман, описывая 2 августа 1954 года столичные новости уехавшему в Ташкент Липкину, не выражает свое отношения к отставке давнего знакомого. Речь идет лишь о слухах: «Говорят, что Твард[овский] уже не работает в «Н[овом] мире», но я не знаю, верно ли это. Как всегда, называют много всяких кандидатур, среди них и Симонова».
Узнать, «верно ли это» Гроссман мог бы в Правлении ССП, где ему полагалось на заседаниях присутствовать. Но административными обязанностями советский классик обычно пренебрегал, и, судя по сказанному, не проявил интереса к перипетиям карьеры Твардовского.
Липкин в мемуарах ситуацию интерпретировал по-своему. Это было целесообразно в аспекте создания биографического мифа Гроссмана. Надлежало объяснить, почему же Твардовский оказался вне круга общения писателя-нонконформиста.
Согласно мемуарам, Гроссман поссорился с Твардовским в феврале 1953 года. Ранее ссор не было, делали одно дело, но все изменилось, когда «Правда» напечатала бубенновскую статью.
Далее началась кампания отречений. И Твардовский «на секретариате Союза писателей каялся в том, что опубликовал роман в своем журнале».
Романист был, согласно Липкину, оскорблен. Специально «зашел в «Новый мир». Он хотел выяснить свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа «За правое дело». Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо».
Но свидетельство мемуариста не подтверждается гроссмановским «Дневником прохождения рукописи романа «За правое дело» в издательствах». В этом документе нет упоминаний о разговоре, описанном Липкиным.
Да и вряд ли Гроссман отправился бы в редакцию «выяснить свои отношения с Твардовским». Судя по дневниковым записям, все уже давно было ясно. Липкин, правда, о том не знал. Или – упоминать не хотел, чтобы своей концепции не противоречить.
Ссора Твардовского и Гроссмана была отнюдь не первой – с 1949 года. И не впервые главред «Нового мира» отрекался от романа «За правое дело».
У Гроссмана и Твардовского к февралю 1953 года не осталось личных отношений – только деловые. Нет оснований сомневаться, что лишь они и были возобновлены, когда ситуация радикально изменилась.
Внешне Гроссман и Твардовский оставались если и не приятелями, то добрыми знакомыми. Не так уж редко встречались: оба бывали на заседаниях Правления ССП. И все больше отдалялись друг от друга.
Гроссман на исходе октября 1954 года принимал от коллег поздравления: книжное издание романа «За правое дело» поступило в магазины. Твардовского поздравлять было не с чем. Он тогда – бывший главред. Его заместитель уже в сентябре подписал к печати очередной номер журнала[49].
Решение Секретариата ЦК партии о смене редактора «Нового мира» стало очередной агитпроповской победой. Впрочем, руководство ССП уже не проигрывало, наоборот, вполне солидаризовалось с недавними противниками. Тактически это было целесообразно.
За Твардовского заступился тогда Хрущев. Предложил немедленно прекратить травлю поэта, знаменитого не только всесоюзно[50].
Кандидатуру нового главреда в ЦК партии обсуждали долго. Назначен был тот, кого Твардовский сменил в 1950 году – Симонов. Декабрьский номер он подписал к печати[51].
В 1950 году из «Нового мира» Симонов, как говорится, ушел на повышение, а затем утратил должность редактора «Литературной газеты». Его возвращение на прежнюю, тоже высокую, свидетельствовало, что опала закончилась. Но главное, журнал стал новым проектом. А вскоре и своего рода символом «оттепели».
Причина, обусловившая тогда возникновение новых проектов, была вполне очевидна. Вызвав агитпроповский гнев, ее обозначил Померанцев. Критика бранили, но его выводы подтверждались итогами розничной продажи: не востребованы тиражи книг большинства советских писателей, а что не куплено – не прочитано. Меж тем шла подготовка к XX съезду КПСС, и требовалось повысить эффективность пропаганды средствами литературы.
Характерно, что падение интереса к советской литературе первыми фиксировали в печати эмигрантские критики. Тема обсуждалась еще в 1930-е годы. Как утверждали авторы обзоров, становилось все труднее найти хоть что-то примечательное среди книжных и журнальных новинок[52].
С началом послесталинской эпохи тема литературной деградации стала уместной и в советской печати. Обычно причиной объявляли все ту же «лакировку».
Но вполне очевидно было, что «лакировка» – лишь один из результатов, обусловленных утверждением донэповской издательской модели в 1931 году. Двадцать лет спустя общий уровень русской литературы оказался несопоставимым с прежним – даже и нэповских времен. Редкие исключения, как говорится, не меняли картину. Экономически ситуация вполне объяснима: качество продукции непременно должно падать, если нет реальной конкуренции, борьбы за покупателя, т. е. читателя.
Попытки заменить литературную конкуренцию какими-то иными факторами – такова прагматика новых проектов. Едва ли не первым из них стал, подчеркнем вновь, журнал, возглавленный Симоновым. Проектная же новизна заключалась в том, что полномочия редактора существенно расширились. Он мог себе позволить не считаться с актуальными цензурными установками, а сразу решать спорные вопросы – на уровне высшего партийного руководства.
Симонов был выбран закономерно. Не только известный поэт, драматург, прозаик, военный журналист, еще и опытный редактор. После того, как он возглавил редакцию «Нового мира» в 1946 году, интерес к журналу рос постоянно.
Бесспорно, инцидент в марте 1953 года сказался на симоновской карьере. Но тем удачнее была кандидатура: опальному функционеру надлежало еще доказать, что он сумеет «оправдать доверие».
Он и действовал гораздо решительней, чем прежний главред. Правда, несколько иными были предпочтения. К примеру, литературным событием 1955 года стала публикация рассказов и очерков И.А. Бунина[53].
Эмигранта, крайне резко характеризовавшего советский режим, не печатали на родине уже двадцать шесть лет. Но Бунин умер в 1953 году, с тех пор изменились пропагандистские установки, и Симонов добился разрешения.
«Деревенскую» тематику тоже не игнорировал. Журналисты и прозаики, обозначившие это направление при Твардовском, печатались в «Новом мире» по-прежнему[54].
Не обходил редактор и темы гораздо более провокативные. Еще одним литературным событием 1955 года стала повесть Ю.Е. Пиляра о советских военнопленных в лагере смерти Маутхаузен – «Все это было!»[55].
Как известно, нацистская Германия отнюдь не полностью соблюдала международные законы о военнопленных, а на граждан СССР такие нормы права и вовсе не распространялись. Формальная причина – соответствующие конвенции не подписаны. Сталин их попросту игнорировал: факт плена считался изменой, почему и не рассматривались проблемы выживания тех, кого государство уже объявило предателями. Сотни тысяч умерли от непосильной лагерной работы и голода, были расстреляны, но даже совершившие побег нередко оказывались в других лагерях – советских.
После войны отношение к военнопленным несколько смягчилось. Формально их уже не считали преступниками, хотя сам факт пребывания в плену аксиоматически признавался компрометирующим. Ну а Пиляр описывал повседневность лагеря смерти, деятельность подполья в Маутхаузене, подготовку восстания. И это неизбежно провоцировало аллюзии. Стойкость и мужество узников, их верность патриотическому долгу были противопоставлены – пусть лишь имплицитно – бесчеловечности советской внутренней политики.
Казалось бы, Симонов опять рисковал. А на самом деле он использовал свои полномочия для утверждения новых, пока лишь намеками обозначенных пропагандистских установок. В контексте подготовки к XX съезду КПСС была вполне допустима повесть о военнопленных, обличавшая уже деактуализировавшиеся правовые нормы «периода культа личности».
Симонов постоянно расширял область допустимого. К 1956 году популярность журнала опять возросла. И рост продолжался. Событием тогда стала опубликованная «Новым миром» повесть Тендрякова «Саша отправляется в путь». Позже она получила другое заглавие – «Тугой узел»[56].
Вряд ли случайно публикация была приурочена к началу XX съезда КПСС. Она воспринималась современниками как весьма резкая критика именно «колхозного строя».
Не обошлось, конечно, без дежурного противопоставления компетентных и справедливых партийных руководителей – бездушным карьеристам. Однако подобного рода приемы были привычны читателям, почему и не скрывали прагматику тендряковской повести. Соответственно, реформы, инициированные после смерти Сталина и существенно ограничившие прежнее закрепощение крестьянства, осмыслялись в качестве давно назревших.
Подготовка идеологического обоснования началась после сталинских похорон. К XX съезду КПСС она была завершена. Аргументация – пресловутое «разоблачение культа личности» и признание незаконности так называемых «массовых репрессий»[57].
Стоит подчеркнуть: хронологические рамки допустимого применения термина «массовые репрессии» были в докладе Хрущева точно обозначены. От декабря 1934 года, когда в связи с убийством Кирова начались аресты представителей большевистской элиты, и до конца сталинской эпохи. Речь шла только об арестованных тогда. Этому указанию редакторы всех издательств и периодических изданий следовали неукоснительно[58].
Вопрос уместности «колхозного строя» не рассматривался в докладе Хрущева. Подразумевалось, что надлежит лишь оптимизировать методы партийного управления. Но и это воспринималось как либерализация. Тендряковская повесть не противоречила новым пропагандистским установкам в области сельского хозяйства.
В других областях новации тоже были осмыслены. Так, буквально сенсационным оказался публиковавшийся с августа по октябрь роман В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым»[59].
Действие романа начинается после войны. Главный герой – Лопаткин – выпускник университета, офицер-фронтовик, затем школьный учитель физики. Живет в сибирском поселке, выстроенном для сотрудников большого завода, проектирует машину, благодаря которой можно существенно ускорить и удешевить производство дефицитных чугунных труб. Но аналогичную задачу в столичном институте решает группа инженеров и ученых под руководством профессора Авдиева. Он весьма опытный интриган, потому своевременно пресекает все попытки конкурента добиться в соответствующем министерстве объективного рассмотрения нового проекта.
Вне советской юридической специфики конфликт романа вообще непонятен. За границей создатель новой технологии, оформив патент, мог торговать правом ее использования. Так было и в Российской империи. Однако позже все изобретения были признаны собственностью «государства рабочих и крестьян». Изобретатель, регистрировавший свой проект официально, получал лишь так называемое авторское свидетельство. Далее государственные инстанции решали, уместно ли использовать новации в промышленности. Если да, то автору полагались выплаты – в размерах, тоже определенных законодательно.
Мало кто за границей знал о такой специфике. Зато советским читателям не требовались пояснения: тема борьбы изобретателя-энтузиаста с бюрократами не была новой. Соответственно, конфликт воспринимался как традиционный – «производственный». Нетрадиционным было его развитие.
Противостояние Лопаткина и его антагонистов длится годами. А когда он, переехав в Москву, все-таки добивается министерского решения, и реализация проекта контролируется на правительственном уровне, победа ускользает. На стороне Авдиева – заместитель министра и даже генерал-майор госбезопасности, курирующий работу конструктора. Они используют привычный метод – политический донос. Изобретатель, ложно обвиненный в разглашении государственной тайны, осужден. Впереди, согласно приговору, «заключение сроком на восемь лет в исправительно-трудовом лагере».
Однако через полтора года обвинение признано недоказанным. Лопаткин возвращается в Москву. Стараниями единомышленников его проект уже реализован, труболитейная машина работает. Изобретатель получает высокую должность, впереди – триумф и, разумеется, новые масштабные задачи.
Впрочем, противники Лопаткина отнюдь не повержены. Их карьера лишь замедлилась. Они по-прежнему влиятельны, даже предлагают сотрудничество триумфатору. С их точки зрения, это взаимовыгодно. Разумеется, предложение отвергнуто, герой верен себе.
Гроссман читал роман «Не хлебом единым». Об этом он сообщил Липкину в письме, отправленном из дома отдыха ССП в Коктебеле 23 сентября 1956 года. Журнальная публикация еще не завершилась, и было отмечено: «Прочел Дудинцева в двух номерах – хорошая, смелая вещь. Отношения между людьми (деловые) – реальны. Это очень важно, т. к. литература отвыкла от реальных отношений между людьми. Личные отношения написаны плохо – любовь, дружба. Но спасибо и за деловые. Живые фигуры служащих, чиновников, ученых».
Далее тезис обосновывался. Согласно Гроссману, «дело не в оценке таланта, а в определении вида литературы – как то: чёт-нечет, черное-белое, брехня-правда. Это не брехня. А что талант не так велик, это уже второй, следующий вопрос».
Оценка, значит, не относится к эстетическому уровню романа. Подобного рода вопросами, по словам Гроссмана, интереснее заняться позже, «когда таких произведений – реальных – станет много. Пока же хочется радоваться появлению в прериях первых скрипучих телег, на которых едут смелые пионеры. Честь им и хвала, и всяческой удачи».
Еще через месяц, когда новомирская публикация завершилась, роман Дудинцева был уже неслыханно популярен. Современниками он воспринимался как откровенно антисталинский.
Контекст скандала
Если верить мемуарам Липкина, то в сентябре 1956 года Симонов предложил и Гроссману сотрудничество. Встретились они в здании, принадлежавшем ССП.
Об этом мемуарист, по его словам, узнал из письма. Гроссман рассказал, как Симонов «очень горячо и очень по-деловому настаивал, чтобы я печатал вторую книгу в «Новом мире»».
Речь шла не о проявлении вежливости. Гроссман указал далее, «что в момент нашего разговора Кривицкий звонил мне домой с тем же предложением. Сказал Ольге Михайловне: «Как я рад, что попал на вас, зная сложный характер В[асилия] С[еменовича], думал, что он меня пошлет по матушке»».
Далее мемуарист счел нужным описать контекст редакционного предложения. Но – кратко: «Надо объяснить, что в это время Симонов опять стал редактором «Нового мира», а Кривицкий – его заместителем, а просили они у Гроссмана будущую «Жизнь и судьбу», еще не зная ее содержания. Симонов и Твардовский, как некоторые древние иранские шахи, попеременно надевали на себя корону владык “Нового мира”».
Копии такого письма нет среди полученных Чандлером. Правда, отсюда еще не следует, что Симонов не предлагал сотрудничество. Аналогично и Кривицкий, выполняя поручение главреда, мог и позвонить Гроссману. В истории Липкина сомнительны детали.
Про обычаи «древних иранских шахов» можно не спорить. Это шутка, пусть и не очень удачная. Липкин, конечно, знал, что «короной» распоряжался ЦК партии, а не редакторы «Нового мира».
В детали мемуарист явно не желал вдаваться. Зато все сказанное про опасения замглавреда коррелируется с изложенной Липкиным историей отказа Симонова и Кривицкого печатать роман «За правое дело»: год они медлили с ответом, затем собрались вернуть рукопись автору.
Однако на самом деле ничего подобного не было. Как отмечалось выше, дневниковые записи Гроссмана свидетельствуют, что в «Новом мире» и главред, и его заместитель сразу же согласились печатать роман. Вариант рукописи, полученный ими в 1949 году, прошел редактирование. А потом руководителем журнала стал Твардовский, вот он и отказывался. Уступал лишь настояниям Фадеева, Симонова и Суркова.
В 1953 году от романа отреклись все. И не Кривицкий первым. Его деловые отношения с Гроссманом позже восстановились. Аналогично и симоновские. Так что замглавреда мог бы и не опасаться услышать матерную брань в ответ на предложение сотрудничества. Этот вариант не был обусловлен событиями, относившимися к периоду редакционной подготовки.
Неважно, сообщил ли Гроссман в письме Липкину о предложении Симонова и опасениях Кривицкого. Предложить сотрудничество классику советской литературы вполне мог любой главред, а новомирский – тем более. Допустимо, что его заместитель подразумевал какой-нибудь другой конфликт, не выдуманный мемуаристом. Существенно же, что в сентябре 1956 года роман «Жизнь и судьба» был еще далек от завершения.
Зато публикация романа «Не хлебом единым» стала тогда не только дудинцевским успехом – симоновским тоже. И, конечно, успехом руководства ССП.
Развивая успех, руководство ССП организовало 22 октября обсуждение на заседании секции прозы в Центральном доме литераторов. Приглашались и все желавшие участвовать. Отчет был опубликован «Литературной газетой» пять дней спустя – под заголовком «Обсуждаем новые книги»[60].
В отчете не отражено, что здание ЦДЛ оказалось буквально осажденным читателями. Триумф был очевидным, бесспорным. О нем тридцать лет спустя подробно рассказывал сам Дудинцев – в книге «Между двумя романами»[61].
Жанр ее определен автором. Это не только воспоминания как таковые, но и «автобиографическая повесть».
Выбор заглавия и определение жанра обусловлены биографическим контекстом. Дудинцев остался в истории литературы именно как автор двух романов. Второй – «Белые одежды» – опубликован уже в 1987 году, когда советские идеологи вновь объявили, что необходимо окончательное «разоблачение культа личности».
Новый роман Дудинцева опять соответствовал актуальному политическому контексту. Тема – судьба биолога, противостоящего интригам сталинских функционеров в разгар кампании «разоблачения буржуазной лженауки генетики».
Сюжетно оба романа схожи. Герой второго тоже борется с карьеристами и прочими злодеями. Он побеждает, отстояв свой научный проект, но опять победа не выглядит закономерной.
Второй роман не принес такой известности, как первый, эпоха другая, и все же успеха автор добился. О нем Дудинцев и рассказывал в «автобиографической повести», намекая, что почти тридцать лет был чуть ли не изгоем среди писателей. Как говорится, пострадал за правду.
«Автобиографическая повесть» изобилует противоречиями, но в том, что касается триумфа первого романа – сомнений нет. Свидетельство Дудинцева не опровергается другими. Писатель акцентировал: «Перед Домом литераторов – толпы народа. Вся улица Воровского, насколько охватывает глаз, – головы, головы, головы… Сегодня должно состояться обсуждение моего романа «Не хлебом единым». Окна, двери, крыша Дома литераторов забиты людьми. Чуть не на проводах висят».
Руководство ССП не предвидело такого ажиотажа. По словам Дудинцева, не хватало «конной милиции, которую кто-то вызвал».
Действительно, конную милицию тогда вызвали к зданию ЦДЛ – для упорядочивания движения по улице. Правда, обошлось без инцидентов. Ну а причины ажиотажа Дудинцев описал кратко: «Общество ждало открытого слова – слова правды. И, видно, мне выпало такое счастье – сказать его, да еще быть понятым. После стольких лет лжи правда нуждалась в защите. Вот и собрались люди – защищать мой роман».
Это, можно сказать, примета времени. В сталинскую эпоху такая попытка читательской защиты была бы немыслима. Однако после XX съезда партии страх несколько отступил.
Дудинцеву тогда не понадобилась читательская защита. Ни один из писателей, выступавших в ЦДЛ, не формулировал какие-либо обвинения. Редактор же «Нового мира» подвел итог: «Мне роман В. Дудинцева дорог тем, что в нём живёт глубокая вера в силу советской власти, в силу нашего народа и общества. И, исходя из утверждения самых дорогих принципов нашего общества, В. Дудинцев критикует всё, что нарушает эти принципы, что мешает нашему движению вперёд. Без этого, без борьбы за будущее, мы не сможем обеспечить исправление былых ошибок. В такой борьбе очень помогает роман В. Дудинцева».
Симонов высказался дипломатично, предупреждая возможные обвинения: в группе сталинских преемников единства не было по-прежнему, а угодить всем и сразу нельзя. Главред «Нового мира» свой выбор сделал, тем не менее, осторожность соблюдал. Обычная редакторская тактика послесталинской эпохи.
Для Гроссмана же публикация романа «Не хлебом единым» стала очередным свидетельством перемен: еще недавно запретное оказалось вполне допустимым. Однако вскоре начался скандал.
Первый симптом проявился 24 ноября. В этот день «Литературная газета» опубликовала статью «Реальные герои и литературные схемы»[62].
Автор цитировал выступления на состоявшемся в ЦДЛ заседании секции прозы. В целом соглашался с положительными характеристиками, спорил лишь о деталях. И все-таки отметил, что роман «Не хлебом единым» отчасти противоречив. Заключается же противоречие в том, что молодые читатели, не имеющие ясного представления о реалиях недавнего прошлого, могут прийти к выводам, не предусмотренным Дудинцевым.
Намек был прозрачным. Хотел ли Дудинцев критиковать советский режим, нет ли, а роман можно интерпретировать в качестве такой критики.
Это уже и к Симонову относилось. Согласно его выступлению в ЦДЛ, дудинцевский роман обеспечивает «исправление былых ошибок», но получалось, что и способствует появлению других – идеологического характера.
Затем пришло время пространных рецензий. И журнал «Октябрь» поместил в декабрьском номере статью Д.И. Еремина «Чем жив человек»[63].
Она подготовлена к публикации в ноябре и соответствовала актуальному контексту. Еремин указал, что Дудинцев, «пожалуй, первым из писателей с такой резкостью, с гневом и горечью попытался показать одну из теневых сторон нашей недавней жизни, раскрыть в художественных образах те обстоятельства, которые мы сейчас называем «нарушением ленинских норм» в работе государственного и партийного аппарата».
Таковы были похвалы. Далее же критик отметил, что в романе Дудинцева «немало очень существенных идейных и художественных просчётов. Однако при оценке произведения советского писателя важно выделить, прежде всего, то, в чём это произведение сильно и разумно, чем оно помогает Родине в её великом созидательном труде. И характерно, что первым читательским соображением, первой эмоцией при чтении романа оказалась симпатия к творческим исканиям автора».
Согласно Еремину, «первой эмоцией» не следовало руководствоваться. Критик настаивал: «Как это показало, в частности, обсуждение романа «Не хлебом единым» в секции прозы Московского отделения СП, многие даже склонны при этом закрывать глаза на очень серьёзные недостатки романа, предпочитают эмоциональную односторонность объективному анализу».
Отсюда следовало, что объективен именно Еремин. Далее – выводы: «Романы, как люди – нет совершенных. Но несовершенство несовершенству рознь. То, что искажает основы жизни, что предвзято выдаёт уродливые наросты на могучем дереве жизни за сущность и «нормальную» структуру самого дерева, – то не может быть значимым и долговечным. Думается, что роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» при некоторых его удачах всё же не раскрывает с подлинной большевистской правдивостью решающие закономерности недавнего этапа нашей жизни».
Статья дополняла ноябрьскую публикацию в «Литературной газете». Там же 15 декабря опубликован отчет о партийном собрании киевских писателей – «Социалистический реализм – наше оружие»[64].
Дудинцева и Симонова на том собрании осудили. Им не ставился в вину лишь преступный умысел: «Никто не может сказать, что у автора этого романа были злые намерения, когда он писал это произведение. Никто не может сказать, что такие намерения были и у редакции «Нового мира», напечатавшей этот роман. Но если присмотреться к роману Дудинцева, мы увидим, что в нём розовый лак, применявшийся прежде всего во многих произведениях, осужденных нашей общественностью, заменён дёгтем, не менее вредным».
Едва ли не все ораторы инкриминировали Дудинцеву избыточное внимание к недостаткам советской административной системы – при игнорировании успехов. В общем, пресловутый «дёготь»: «Если же принять этот роман за полную правду, то станет непонятным, каким же образом именно у нас создана первая в мире электростанция на атомной энергии, откуда грандиозные достижения нашей страны в области, например, химии, откуда в нашем государстве тысячи, миллионы талантливых изобретателей и рационализаторов, которые славятся на весь мир, откуда несокрушимая мощь нашего государства».
Роман Дудинцева обсуждался писательскими организациями и в других регионах. Итоговая статья опубликована «Литературной газетой» 29 декабря под заголовком «На партийных собраниях писателей»[65].
Выступавшие там фактически цитировали друг друга. И, конечно, воспроизводили инвективы, уже опубликованные «Литературной газетой». Так, постулировалось, что отдельные «творческие работники, в частности литераторы, под видом борьбы с культом личности проявляют подчас нигилистические настроения, пытаются перечеркнуть достижения советской литературы и искусства, высказывают ошибочные суждения о методе социалистического реализма».
Даже в конце 1956 года это весьма серьезное обвинение». Ну а далее – вывод: «Советские писатели должны быть особенно стойкими и зоркими в борьбе обывательщиной, активно бороться за претворение в жизнь решений XX съезда КПСС. В нынешней сложной и напряжённой международной обстановке, когда реакция пытается перейти в наступление против сил мира и социализма, писатели-коммунисты считают своим первейшим делом повышение революционной бдительности, создание произведений, в которых правдиво, без лакировки и в то же время без дёгтя показывались бы жизнь и борьба советских людей за торжество коммунизма».
Резкое изменение тональности отзывов о романе – результат новых указаний, поступивших из ЦК КПСС. О причине упоминали редко, но она всегда подразумевалась.
На исходе октября 1956 года в Будапеште – восстание. Как известно, просталинский венгерский режим, копировавший «московские процессы», разваливался, местная служба государственной безопасности вызывала у многих ненависть. И хотя большинство населения столицы не присоединилось к вооруженным акциям повстанцев, 1 ноября началось массовое вторжение советских войск. Сопротивление было подавлено. Буквально – танками.
Пресекались акции протеста и в других европейских странах, контролируемых СССР. Ситуация была критической.
Официальной пропагандой это привычно интерпретировалось как результат интриг, приведших к возрождению фашизма в Венгрии. Ответственность возлагалась на ЦРУ. Аргументация была традиционной, знакомой еще с начала 1950-х годов. Писатели, выступавшие на партийных собраниях, утверждали, что «реакция пытается перейти в наступление против сил мира и социализма».
Но и большинство выступавших знало, что дело не только в интригах ЦРУ. Другая причина была вполне очевидна. После смерти Сталина обозначился идеологический кризис, потому и политический оказался неизбежным.
Кризис идеологии сталинские преемники отчасти компенсировали, изменив некоторые пропагандистские установки. Но деактуализация одних провоцировала критическое осмысление прочих. Это грозило разрушением всей идеологической основы тоталитарного государства.
Отсюда и своего рода амбитендентность сталинских преемников. С одной стороны, негативно окрашенный термин «культ личности» эмблематизировал необходимость реформ. А с другой, постулировалось, что в целом коммунистическая партия непогрешима, ее идеология неизменна. Значит, любая критика прошлого может быть интерпретирована как «идеологическая диверсия».
Амбитендентность проявилась изначально. Потому вполне закономерным стало и возвращение прежних функций Суслову. Как известно, еще при Сталине Политбюро было переименовано в Президиум ЦК КПСС, а генеральный секретарь назван первым. Но структура аппарата не менялась, и специалист в области идеологии вновь оказался востребованным.
Конечно, некоторые из организованных Сусловым кампаний были ранее признаны неуместными. Однако с 1955 года он – в Президиуме ЦК КПСС. И опять курирует решение проблем «агитации и пропаганды».
Востребованным оказался и сусловский административный опыт. Судя по итогам, куратор советской идеологии пытался сохранить ее цельность.
Для Симонова же возвращение Суслова означало, что у «Нового мира» появился еще один влиятельный противник. Более того, имевший право непосредственно контролировать журнальную политику.
Правда, в 1955 году Суслов не мог еще ограничить полномочия Симонова – шла подготовка к XX съезду КПСС. Да и после его завершения эффективность нового литературного проекта была вполне очевидна. Ревнителю идеологии оставалось только выжидать.
Удобный момент – начало акций протеста в Будапеште. Ликвидация восстания подразумевала аналогии в литературной политике. Тем не менее, автор романа «Не хлебом единым» стал тогда одним из самых известных советских прозаиков. Издание книги Дудинцева не было запрещено, и Симонов не лишился должности главреда. Ему не пришлось даже каяться публично – в декабре 1956 года. А вскоре скандал прекратился.
Кампания, организованная Сусловым, лишь корректировала новые границы допустимого в литературе. Однако вскоре скандал возобновился. И критика стала гораздо более агрессивной.
Парадоксы скандала
Три январские недели 1957 года – период затишья в прессе. Затем – новый этап обсуждения романа.
Как повелось, тон задала «Литературная газета». 26 января там опубликован пространный отчет о партийных собраниях в писательских организациях Москвы и Ленинграда. Заголовок – в духе эпохи: «Создавать произведения, достойные нашего народа»[66].
Дудинцевский роман все характеризовали негативно. Издание признавали политической ошибкой: «Пессимистичные, чернящие нашу действительность произведения свидетельствуют, что некоторые писатели иногда не задумываются серьезно над идейной стороной своих произведений, подменяя принципиальную критику критиканством».
Речь шла не о единичной ошибке. Практически каждый оратор настаивал на обобщении: «За последнее время в нашей литературе появилась нигилистическая тенденция, порождающая нездоровую атмосферу вокруг некоторых произведений и выступлений»[67].
К «выступлениям» относилось сказанное на обсуждении романа в ЦДЛ. Все положительные отзывы были признаны «нигилистическими».
Разумеется, «нигилистическими» по отношению к советской идеологии. Ораторы настаивали, что в дудинцевском романе «не ощущается ясной, продуманной позитивной программы».
9 февраля 1957 года «Литературная газета» опубликовала отчет о пленуме литовского отделения ССП. Заголовок – «С чувством ответственности перед народом. За литературу большой жизненной правды»[68].
Это был необычный пленум. Среди приглашенных – композиторы, художники, режиссеры, актеры. Гости из Москвы тоже были. Повестка – «XX съезд КПСС и задачи литовской советской литературы».
Одной из наиболее важных тем стало обсуждение дудинцевского романа. Споров не было. Характеристика – однозначно негативная: «В последнее время в произведениях некоторых писателей замечается стремление одну крайность заменить другой. Наша критика недостатков должны укреплять, а не расшатывать советское общество. Станет ли читатель после окончания книги сильнее, увереннее или придет в уныние? – вот в чём определяется звучание произведения».
Подразумевалось, что «звучание» дудинцевского романа не соответствует актуальным установкам. Особо же агрессивно формулировался главный тезис: «Высказывания врагов советской литературы не могут поколебать единства наших писателей, но и оставлять эти нападки без ответа мы не можем».
Что за нападки, кто напал и когда – не объяснялось. Впрочем, ссылка на происки неких «врагов советской литературы» была приемом традиционным в публицистике охранительного характера.
Роман Дудинцева осуждали и на других партийных собраниях литераторов. Сценарий первого этапа кампании воспроизводился[69].
Опубликовал негативный отзыв и журнал «Коммунист». Это было уже знаковое событие. Примечательно, что номер подписан к печати 23 февраля 1957 года, а заголовок редакционной статьи – «Партия и вопросы развития советской литературы и искусства»[70].
Главный партийный журнал подвел итоги. Постулировалось: «Наряду с большим количеством интересных, подлинно правдивых и острых произведений, как очерки Овечкина и Троепольского, повести Тендрякова и.т.д., “Новый мир” напечатал и произведения, неправильно отражающие нашу жизнь, например, роман Дудинцева «Не хлебом единым»…».
Редакция ссылалась на мнения коллег-литераторов. Так, были упомянуты критические суждения о дудинцевском романе, высказанные «на собраниях писателей и в печати».
Далее обвинения конкретизировались. Речь шла вновь о симоновских подчиненных: «Редакция журнала не помогла молодому писателю В. Дудинцеву осознать неверные тенденции его произведения и поспешила опубликовать роман, содержащий ложные обобщения, дающий искаженные представления о советской действительности».
Правда, не обошлось и без оговорок. Злой умысел опять был исключен: «Нет оснований сомневаться в том, что автор романа исходил из честных побуждений, стремясь заклеймить бюрократизм и его носителей в нашем государственном аппарате. Но он, увлеченный пафосом разоблачения, потерял перспективу, впал в панику, преувеличил опасность, представив бюрократизм в наших условиях по существу непробиваемой стеной, а работников аппарата, да и науки показал почти сплошь как перерожденцев. Вместо живой и могучей силы советских людей, под руководством партии выжигающих бюрократизм, в романе ему противостоят только честные одиночки, терпящие за свою честность бесконечные лишения и страдания. Роман не зовет по-ленински бороться со злом, а сеет уныние, порождает анархическое отношение к государственному аппарату».
Статья в «Коммунисте» – рубеж. После нее агрессивность критических суждений возрастала постоянно. Можно сказать, апогей достигнут на пленуме Московского отделения ССП. Отчет был опубликован «Литературной газетой» 19 марта – под заголовком «Подводя итоги»[71].
Разумеется, для автора романа и редактора «Нового мира» итоги были отнюдь не утешительными. Полный разгром.
Дудинцев пытался оправдываться. Утверждал, что замысел романа обусловлен памятью о первых днях войны, когда из окопа наблюдал «воздушный бой: “мессершмитты” (sic! – Ю. Б-Ю., Д. Ф.) сбивают наши самолёты, которых значительно больше. В ту минуту во мне началась какая-то ломка, потому что я до этой поры всё время слышал, что наша авиация летает лучше всех и быстрее всех. Говорят, что я выражаю «чернительные» тенденции. Это не так. Просто хочется, чтобы то, что ты видел, не повторялось. И я имею право так хотеть!».
Аргументация Дудинцева – имплицитная ссылка на антисталинские суждения Хрущева. Все обвинения в свой адрес романист отверг. Используя фразеологию военных лет, назвал своих обвинителей «паникосеятелями».
Но и оппоненты следовали пропагандистской традиции. Причем тоже ссылались на военный опыт: «Когда у писателя неточная память, она играет скверные шутки. Он помнит наши горящие самолёты в первый период войны, но забыл о самолётах побеждающих».
Характерно, что обвинения становились все более похожими на политический донос. Подразумевались уже не только ошибки, еще и умысел: «Мы все помним, как народ пошёл на войну и как победил. Почему же не помнит этого Дудинцев? Что это – плохая память или позиция?».
Симонов уже не спорил с оппонентами. Отметил, что Дудинцев, отвергая обвинения, старается «под внешним покровом смелости уйти от прямого, по-настоящему смелого и требующего действительного гражданского мужества ответа на вопрос – что в романе, вопреки основному замыслу автора (а я хочу продолжать в это верить), оказалось работающим не в ту сторону?».
Далее Симонов развил тезис. Заявил, что Дудинцев «не хочет подумать вслух о недостатках и ошибках своего романа. Он предпочитает жаловаться. Зададим себе вопрос: на что? Может быть, на то, что ему не дали высказать своих мыслей и чувств, и роман мертвым грузом лежит в рукописи? Нет, его роман, отвергнутый в одном издательстве, был принят в другом и был напечатан в журнале стосорокатысячным тиражом, то есть таким тиражом, который, как правило, и сниться не может молодому писателю в буржуазном обществе. Значит, право напечатать то, что Дудинцев написал, было ему представлено».
Симонов не указал, где был получен отказ, и кто дал согласие. Надо полагать, слушатели располагали такими сведениями.
О причине отказа рассказывал тридцать лет спустя Дудинцев – в цитированных выше мемуарах. По его словам, роман обсуждался в «Молодой гвардии», там заключили договор, выплатили аванс, завершили редакционную подготовку. А потом начальство, испугавшись гнева ревнителей идеологии, приняло другое решение, автор же передал почти готовую к публикацию рукопись в издательство «Советский писатель»[72].
Возможно, Дудинцев именно так воспринял события, а не просто выдумал их. Судя же по архивным документам, решение принимали вовсе не в редакции «Молодой гвардии». Туда из ЦК КПСС поступила в январе 1957 года рекомендация – передать рукопись в издательство «Советский писатель»[73].
Тут своя логика, пропагандистская. «Молодая гвардия» изначально была издательством ЦК комсомола, соответственно, вышестоящая инстанция решила передать оказавшийся скандальным роман в другую издающую организацию, формально относившуюся к ССП.
Ну а Симонов на мартовском пленуме подчеркнул, что в «Новом мире» рукопись приняли сразу. И почти не правили: «Может быть, роман не был напечатан в том виде, в каком хотел его напечатать автор, и он протестует против редакторского насилия? Нет, такого насилия не было. Добавлю к этому, что, к сожалению, редакция журнала, который я здесь и представляю, не проявила достаточной твердости и, хотя и провела вместе с Дудинцевым редактуру романа, однако не увидела до конца сама и не постаралась убедить автора в том, что роман требовал серьезного преодоления его однобокости в изображении нашего общества».
Редактор объявил и себя виновным. Судя по выступлению, пытался такой ценой остановить скандал. Мешал же неуступчивый романист. В сущности, к нему Симонов и обращался: «На что жалуется Дудинцев? На то, что его критиковали, на то, что “Литературная газета”, поместив ряд положительных высказываний о его романе, поместила затем статью с преимущественно отрицательной оценкой романа. Да, в печати о романе Дудинцева, наряду с признаниями тех удач, которые в нём есть, было сказано немало горьких слов об ошибках автора. Но даже в самом жёстком отзыве о романе, помещённом на страницах журнала “Коммунист”, были отмечены и добрые намерения автора, и ни одним оскорбительным словом не была поставлена под сомнение его честность».
Прагматика рассуждений вполне очевидна. Симонов, обращаясь, прежде всего, к Дудинцеву, напоминал, что отнюдь не все отзывы были отрицательными, готовится книжное издание, да и в партийных инстанциях нет претензий лично к романисту, следовательно, беда невелика. Редактор «Нового мира» буквально подсказывал: надлежит выждать, а не отстаивать роман «как некий программный документ эпохи».
Роман «Не хлебом единым» и в самом деле воспринимался «как программный документ эпохи». Но ситуация изменилась, и Симонов, надо полагать, учитывал это.
Однако наиболее интересен в данном случае не скандал как таковой. В аспекте истории литературы гораздо важнее парадоксы, оставшиеся вне сферы внимания исследователей.
Как выше отмечено, Дудинцева опять бранили коллеги-литераторы, против него выступил и журнал «Коммунист» в феврале 1957 года. Но это – с одной стороны. А с другой, верстка романа «Не хлебом единым» была 20 марта года подписана к печати в издательстве «Советский писатель»[74].
Руководство издательства не могло не заметить возобновившийся скандал. Значит, имело основания игнорировать его.
Меж тем к 20 марта 1957 года скандал не закончился, как это было ранее. Вновь публиковались разгромные отзывы писателей, а в апрельском номере журнала «Коммунист» опубликована статья, где роман «Не хлебом единым» осужден еще более категорично[75].
Но типографский заказ не был отменен. В июне книга Дудинцева опубликована – тридцатитысячным тиражом. А затем она поступила в магазины.
Отсюда следует, что возобновившийся политический скандал не препятствовал выпуску и распространению книжного издания.
Соответственно, два вопроса правомерны. Во-первых, по какой причине скандал возобновился. А во-вторых, почему это не помешало выходу книги.
Эффект резонанса
Вопрос, почему возобновился скандал, не ставился историками литературы. Господствует мнение, что антидудинцевская кампания не прекращалась в 1956 году.
Такое мнение потому и сформировалось, что очень коротким был интервал между двумя этапами обсуждения романа. Вне сферы внимания осталась другая кампания, где Дудинцев – отнюдь не главная фигура.
Суслов пытался дискредитировать не столько Дудинцева, сколько новомирского главреда. Что бы ни думали участники обсуждения романа, удары наносились по Симонову. А борьба с ним – лишь отражение конфликта в группе сталинских преемников.
Интрига была стандартной, приемы тоже. Аналогичным образом в 1953 году не Гроссман и роман «За правое дело» стали главными объектами атаки. Суслов вел борьбу с Фадеевым, а также литературными функционерами, поддерживавшими генсека ССП, – Симоновым и Сурковым.
Фадеев, как известно, умер в мае 1956 года. По официальной версии – застрелился в приступе депрессии, обусловленной алкоголизмом. ССП возглавлял Сурков. Кстати, давний симоновский приятель. Суслов же, вернувшись в группу сталинских преемников, не сводил прежние счеты, а вновь утверждал свой авторитет идеолога. Решая при этом идеологические задачи в масштабе государства.
Он сразу нашел союзника. Д.А. Поликарпову, бывшему литературному функционеру, получившему в 1955 году должность заведующего Отделом культуры ЦК КПСС, тоже мешал влиятельный редактор «Нового мира»[76].
1 декабря 1956 года Поликарпов и его подчиненные отправили в ЦК КПСС докладную записку, где, в частности, рассматривались новомирские публикации. Заголовок должен был изначально вызвать настороженность адресатов: «О некоторых вопросах современной литературы и о фактах неправильных настроений среди части писателей»[77].
Редактору самого популярного журнала уделялось особое внимание. Он позволил себе дерзость, не соответствовавшую статусу функционера: «Секретарь правления СП СССР т. Симонов, выступая 30 октября с.г. на совещании заведующих кафедрами советской литературы, подверг критике доклад А.А. Жданова и постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград»…».
Далее описано, в чем именно выражалась «критика». Симонов, анализируя ждановский доклад и упомянутые постановления, утверждал, «что наряду с верными, в этих документах содержатся неверные положения, ориентировавшие нашу литературу и критику на путь лакировки и сглаживания жизненных конфликтов».
Авторы докладной записки не могли не знать, что ждановский доклад, содержавший буквально ругательства в адрес Зощенко и Ахматовой, деактуализировался вскоре после смерти Сталина. Аналогично и упомянутые документы ЦК партии. Отсюда следовало, что «секретарь правления» рассуждал в рамках пропагандистских установок, предложенных Маленковым и высказанных Хрущевым. Подразумевалась борьба с «культом личности и его последствиями».
Разумеется, Поликарпов и его подчиненные не пытались вступить в полемику с Маленковым. Даже специально оговаривали это, выстраивая обвинение: «Хотя в выступлении т. Симонова и были верные критические замечания, сам факт выступления его с критикой постановления ЦК перед беспартийной аудиторией следует признать недопустимым для коммуниста. Такая критика решений ЦК, хотя бы в ней содержались и правильные положения, вносит путаницу в сознание творческих работников и молодежи, подрывает в их глазах авторитет партийного руководства».
Характеризуя тех, кто слушал выступление Симонова, авторы докладной записки противоречили отечественным реалиям. По негласным правилам, должности «заведующих кафедрами советской литературы» занимали только коммунисты, следовательно, «аудитория» не могла бы оказаться «беспартийной».
Противоречие игнорировалось. Главным было то, что Симонов 30 октября выступал, партийные документы критиковал, значит, появился и повод возобновить травлю.
Авторы докладной записки осудили ждановский доклад, что было еще постольку допустимо, поскольку докладчик уже восемь лет, как умер. Все претензии, значит, к покойному. Зато подчеркнули, что «основное содержание постановлений ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и о репертуаре драматических театров совершенно правильно и в важнейших своих положениях сохраняет свое значение и сегодня».
Получилось, что итоговая оценка выступления Симонова – однозначно негативная. Авторы докладной записки реализовали сусловскую программу: критику любого документа ЦК партии надлежит пресечь.
Выводы административного характера подразумевались. 19 декабря был утвержден проект «Письма ЦК КПСС к партийным организациям “Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов”»[78].
Докладная записка Поликарпова и его подчиненных была использована как основа. В частности, указывалось, что Симонов «выступил по существу с ревизией некоторых важнейших положений известных решений ЦК по идеологическим вопросам. Нельзя также считать нормальным, что редакции печатных органов творческих союзов не ведут принципиальной борьбы и не отстаивают взгляды партии в области культуры, а в ряде случаев занимают примиренческую позицию, проявляют гнилой либерализм».
Меры надлежало принять незамедлительно. Трактовать как-либо иначе письмо ЦК партии вряд ли удалось бы.
Инцидент широко обсуждался в литературных кругах. Примечательно, например, свидетельство В.А. Каверина, вошедшее в подготовленную к публикации на исходе 1980-х годов книгу воспоминаний «Эпилог»[79].
Докладной записке Поликарпова и его подчиненных свидетельство Каверина несколько противоречит. Он сообщил: «В Московском университете состоялся всесоюзный съезд преподавателей русского языка и литературы, на котором выступили Симонов, Дудинцев и я».
Значит, в аудитории присутствовали не только «заведующие кафедрами советской литературы», а еще и не занимавшие такую должность преподаватели. Тогда объяснимо, почему там оказались беспартийные. Поликарповские сотрудники ошиблись либо намеренно от истины отступили. Но в данном случае различие непринципиально.
Каверин отметил, что выступление Дудинцева было ординарным, почему и не запомнилось, о своем же рассказал кратко. Речь шла о судьбе Зощенко, ставшего объектом ждановских нападок. Ну а Симонов, по словам мемуариста, «произнес блестящую речь, направленную против постановления ЦК партии 1946 года! Он резко критиковал его, он доказывал, что оно устарело, что давно пора его заменить документом, который открыл бы дорогу новым силам нашей литературы».
Согласно Каверину, ничего подобного не ожидали тогда от секретаря Правления ССП. О причинах, обусловивших дерзость, сказано: «Был ли это смелый, искренний, решительный шаг? Не знаю. Вероятнее всего, это была ставка, и, надо полагать, поддержанная кем-то в высших сферах. Там ведь и тогда не было полного согласия. Симонов – игрок и человек не робкого десятка. Он рискнул – и в ответ услышал оглушительные аплодисменты, в которых чувствовалось даже какое-то праздничное изумление».
Вполне объяснимо «праздничное изумление». 30 октября 1956 года сам факт публикации романа «Не хлебом единым» и речь Симонова воспринимались аудиторией как следствия политических изменений, что были обозначены хрущевским докладом на XX съезде КПСС. Но в Будапеште не прекращались акции протеста, и до массового вторжения советских войск оставались даже не дни – часы.
Судя по каверинским мемуарам, редактор «Нового мира» уже после «блестящей речи» полагал, что дерзость его не останется безнаказанной. И – не ошибся: «В Отделе культуры ЦК под руководством Д. Поликарпова состоялось совещание, на котором было принято решение, осуждавшее наше выступления. Дудинцева корить было не за что, меня, как беспартийного, тоже можно было наказать только вербально, а Симонову, без сомнения, основательно влетело, потому что он года на три скрылся в Ташкенте, где ему пришлось вновь доказывать беззаветную преданность, выступая на заводах и хлопковых полях».
На самом деле Симонов тогда не «скрылся в Ташкенте». И даже остался главредом «Нового мира».
Влиятельные защитники, конечно, нашлись. Однако должность Симонову удалось сохранить и в силу международного резонанса новомирской публикации. 10 декабря Поликарпов направил в ЦК КПСС письмо, где сообщалось: «Советское торг[овое] предст[авительст]во в Швеции сообщает, что три шведских издательства обратились с просьбой разрешить им издание романа Дудинцева “Не хлебом единым”. Торгпредство высказывает мнение, что следовало бы разрешить издание романа Дудунцева прогрессивному издательству “Арбетар Культур”, чтобы лишить этой возможности буржуазные издательства, которые могут издать роман и не получив разрешения, сопровождая, однако, издание антисоветскими комментариями»[80].
Действительно, не требовалось разрешение. Советское правительство не подписало международные конвенции, защищавшие авторские права. Но иностранцы, как правило, избегали конфликтов, выплату же гонораров считали обязанностью, почему и обратились в торгпредство. Другой возможности контактировать с Дудинцевым у них, вероятно, не было.
Отказ противоречил бы внешеполитическим установкам. Соответственно, Поликарпов и его сотрудники предлагали компромисс: «Принимая во внимание, что реакционные шведские издатели могут использовать издание романа “Не хлебом единым” в своих интересах, Отдел культуры ЦК КПСС считает возможным рекомендовать т. Дудинцеву согласиться на издание его книги в прогрессивном издательстве, написав к ней соответствующее предисловие, в котором автор выступил бы против тех, кто пытается использовать его книгу в антисоветских целях».
Вариант был вполне уместным. Если нельзя предотвратить заграничные издания, так их нужно использовать в пропагандистских целях.
В ЦК партии вариант был принят. И продолжение антидудинцевской кампании оказалось нецелесообразным. Аналогично – отстранение Симонова от должности главреда. Не следовало и запрещать выпуск романа в СССР.
Конечно, Симонов выслушал от Поликарпова много нелестного из-за «блестящей речи» в МГУ. Это и предвидел, согласно Каверину. Ударом по репутации стало закрытое письмо ЦК КПСС. Но административный последствий не было. Возобновился скандал уже по другому поводу, который не обсуждался в прессе. Кстати, о нем и мемуаристы умолчали.
Искушенность и наивность
Повод был достаточно серьезным. На исходе января 1957 года роман «Не хлебом единым» опубликован в Мюнхене – Центральным объединением политических эмигрантов из СССР[81].
Как известно, эта организация создана в 1952 году. Объединяла тех, кто оказался за границей после Второй мировой войны и вернуться в СССР не желал. Потому организаторы изначально выбрали несколько иное название: Центральное объединение послевоенных эмигрантов. Сокращенно – ЦОПЭ.
Четыре года спустя название было изменено. Аббревиатура осталась прежней, зато слово «политических» точнее обозначало направленность деятельности: ЦОПЭ финансировалось в основном американским правительством – согласно установкам «холодной войны».
Но скандальным оказалось не то, что книга советского писателя выпущена эмигрантским издательством даже без предварительного согласования с автором. Такое случалось и раньше, а спор на юридическом уровне был заведомо бесперспективен из-за отсутствия правовой основы. Главную роль сыграло предисловие – «От издательства»[82].
Предисловие начиналось интригующе. Авторы констатировали: «Роман Дудинцева “Не хлебом единым” произвел в Советском Союзе впечатление разорвавшейся бомбы».
Далее тезис обосновывался. Не указывая источник сведений, авторы сообщали: «Во время обсуждения романа в Доме литераторов в Москве пришлось вызвать конную милицию, чтобы разогнать собравшуюся толпу, стремившуюся во что бы то ни стало попасть внутрь, послушать и высказаться. В Московском университете дискуссия, начавшаяся в аудитории, заканчивалась на улице».
Специфика официальной рецепции тоже обозначена. Акцентировалось: «Партийная печать вежливо, но решительно осудила роман и, несмотря на его огромный успех, он до сих пор не вышел в СССР отдельной книгой».
Здесь авторы предисловия не вполне точны. Бранила Дудинцева преимущественно «Литературная газета», издававшаяся ССП. Но в «социалистическом государстве» любое периодическое издание тогда – по определению – партийное, так что неточность особого значения не имела.
Далее указывалось, что вопрос о выпуске книги еще не решен. А если она и появится, то лишь в искаженном варианте: «советское литературное начальство обещает издание романа, но с поправками – внесенными будто бы по воле автора».
Не сообщалось, когда, где и какое именно «литературное начальство» обещало «издание с поправками». Далее же сказано: «Вот почему мы считаем своим долгом предложить русскому читателю полный и не искаженный текст этого произведения – замечательного по смелости и резкости обличения советской действительности»[83].
Следовало отсюда, что ЦОПЭ не воспроизвело публикацию в «Новом мире», а воспользовалось другим источником. Откуда же он взялся – читателям оставалось лишь догадываться. Зато было отмечено, что правомерен «недоуменный вопрос: как вообще подобное произведение могло появиться в подцензурной советской литературе, всего четыре года назад знавшей лишь прославление мудрости “отца народов” и рассуждения о “новом коммунистическом человеке”… Попытаемся на этот вопрос ответить».
Далее авторы предисловия описывали политическую ситуацию на исходе сталинской эпохи и специфику редакционной подготовки публикаций. Отмечалось, что «в советских журналах и газетах цензура действует своеобразно. Цензура осуществляется, главным образом, внутриредакционно. Рукопись проходит ряд инстанций. При этом в условиях террора предполагалось, что даже если какой-нибудь сумасшедший захочет рискнуть своей свободой и жизнью и принесет в редакцию неблагонадежную рукопись, то, во всяком случае, там найдется достаточно людей, которые на такой риск не пойдут, – а поэтому «крамола», даже очень умеренная, света все равно не увидит».
Эмигранты рассуждали со знанием дела. Не без иронии хвалили сталинских администраторов: «Расчет был взят правильный. К 1952 году в советской литературе воцарилась кладбищенская тишина. «Маститые» молчали, а группка недавно выдвинувшихся авантюристов пера робко спорила между собой, есть ли еще в советской действительности основания для конфликта между дурным и хорошим или, может быть, следует говорить о конфликте между хорошим и лучшим».
В общем, констатировалось, что к началу 1950-х годов советская литература оказалась и эстетически несостоятельной, и пропагандистки нефункциональной. Значит, ненужной правительству. Рассуждения же о «конфликте между хорошим и лучшим» отсылали читателей к еще памятному журнально-газетному контексту сталинской эпохи. С ее окончанием была неоднократно высмеяна некогда авторитетная «теория бесконфликтности».
Таким образом были обозначены ключевые установки. После чего было сказано: «Но как только люди почувствовали, что террор кончается, сразу началось оживление. Желающих покончить с собой в редакциях не находилось, но многие согласны были рискнуть выговором или даже местом, чтобы протащить в печать ту крупицу правды, за которую больше сейчас вряд ли взыщут. И там, где подобрались соответствующие люди, система внутриредакционной цензуры позволила им делать это. Недаром почти все «вредные» (с точки зрения режима) статьи и художественные произведения появились в «Новом мире», и ничего не появилось, например, в «Октябре»».
Объяснение редакционной политики «Нового мира» было внятным, хотя и не исчерпывающим. Но это не так важно. Главное, что предисловие – довольно пространная критическая статья. Профессионально описаны там сюжетные линии дудинцевского романа, система персонажей, политические реалии. Вот почему удивляет сочетание старательно демонстрируемой искушенности – с подразумеваемой наивностью. Критики-эмигранты словно бы не предполагали, что мюнхенское издание будет прочитано специально уполномоченными сотрудниками КГБ и ЦК КПСС.
Предисловие – буквально подарок Суслову и Поликарпову. Для начала критики-эмигранты характеризовали «Не хлебом единым» как «замечательное по смелости и резкости обличение советской действительности», затем доказывали, почему можно так интерпретировать роман, опубликованный в «Новом мире». Нашли множество аргументов. Пусть лишь на первый взгляд убедительных, суть не менялась.
Более того, в предисловии доказывалось, что и сам Дудинцев понимал: «Не хлебом единым» – антисоветский роман. Обличительный. Ну а Симонов не случайно, а сознательно помог обличителю.
Тогда получалось, что рукопись – «полный и не искаженный текст» романа – предоставил мюнхенским издателям автор или сотрудник редакции «Нового мира». Лишь такое истолкование тут возможно.
Эмигранты буквально провоцировали карательные меры по отношению к автору романа и главреду «Нового мира». Зачем такое понадобилось – другой вопрос.
Можно предположить, верили: до карательных мер дело постольку не дойдет, поскольку советский режим вскоре рухнет. Но к моменту публикации дудинцевского романа западногерманским издательством было уже ясно, что крушение – отнюдь не в ближайшей перспективе.
Допустим, провоцировали, руководствуясь соображениями конкуренции: собирались позже ссылаться на то, что в СССР писательская искренность наказуема, следовательно, настоящая литература возможно только вне «страны победившего социализма». Тогда Дудинцев и Симонов должны были стать жертвами. Однако такие расчеты слишком уж циничны.
Ни одна из гипотез не объясняет все. Существенно же, что КГБ не проводилось расследование в связи с мюнхенской публикацией. Как будто никого и не заинтересовало, действительно ли попала в ЦОПЭ дудинцевская рукопись.
Но вероятность такого отношения к эмигранстским издательствам крайне мала. Практически нулевая. Гораздо более вероятна другая причина: в КГБ знали, что за источник был использован мюнхенскими публикаторами, и как он за границей оказался. Потому и не собирались обвинять кого-либо из московских литераторов.
Еще раз подчеркнем: в советской прессе вообще не упоминалось мюнхенское издание романа «Не хлебом единым». Последствия же его были очевидны: возобновилась травля Дудинцева и Симонова. Вот и пришлось главреду «Нового мира» каяться на мартовском пленуме ССП.
Не помогло. Критики становились все более агрессивными[84].
Однако Симонов по-прежнему занимал кресло главреда. Ну а Дудинцев и вовсе отказывался признавать, что хоть в чем-либо ошибся. Парадокса тут нет. Обоих вновь защитила мировая известность романа.
Не только в Швеции собирались его выпустить. О предложениях такого рода Дудинцев и рассказывал в мемуарах. По его словам, не менее шестидесяти издателей вели переговоры с посредником – советским учреждением, еще в 1920-е годы созданным для контроля иностранных публикаций. Официально именовалось оно Всесоюзным внешнеторговым объединением «Международная книга».
От посредника Дудинцев не мог отказаться. Рискнул бы – публикации в СССР были б заведомо исключены. Как литератор он бы не существовал. Получение же гонораров в иностранной валюте исключалось – по закону[85].
Если верить мемуарам, в феврале 1957 года администрация «Международной книги» подготовила документы, подтверждавшие, что лишь она уполномочена представлять интересы Дудинцева за границей. Ну а далее полномочия были переданы «французскому агентству “Ажанс литерер артистик паризьен”».
Критерий выбора – связь с французской коммунистической партией. Потому агентство и получило «все права на издание романа, независимо от того, в какой стране он издавался».
Соответственно, издателей, обратившихся лично к Дудинцеву, он должен был переадресовать своему французскому партнеру. Так и поступал всегда, что опять подтверждается документально[86].
Уловка «Международной книги» понятна. Эта организация была инструментом правительства, а договоры с агентствами – способом легального финансирования иностранных коммунистических партий.
Впрочем, не все доходы от публикаций доставались агентству. Порою заграничные издатели вежливо, но твердо отклоняли предложение Дудинцева обратиться к его французскому партнеру. Объясняли при этом, что для них гонорар – вопрос этический, не более, а юридических обязательств перед автором нет. Тогда писателю приходилось соглашаться[87].
Известность Дудинцева ширилась, и отстранение Симонова от должности главреда было по-прежнему неуместно – с точки зрения внешней политики. В июне 1957 года роман «Не хлебом единым» вновь опубликован, и это демонстрировало иностранцам, что инвективы критиков уже не имеют прежней силы, значит, в СССР продолжается «десталинизация».
Очередная замена
Нападки на Симонова в прессе не прекратились, но ситуацию они уже не меняли. К тому же у Суслова появилась проблема гораздо более важная, чем отстранение от должности главреда «Нового мира».
Июнь 1957 года – период открытого соперничества в группе сталинских преемников. Конфликт обострился, потому как спецификой тоталитарного режима была исключена реализация многократно декларировавшегося «принципа коллективного руководства»[88].
В предложенной Маленковым пропагандистской схеме «принцип коллективного руководства» противопоставлялся «культу личности». Это означало сохранение уже сложившегося тогда баланса сил[89].
Но сохранить его было невозможно. Кто-либо из группы сталинских преемников все равно монополизировал бы власть. Хрущев оказался наиболее решительным, и конкуренты объединились против него. Использовали традиционный способ – заговор.
На этот раз заговор не помог. Лидера партии тогда поддержал министр обороны – маршал Г.К. Жуков. А заговорщики вскоре были официально выведены из состава ЦК партии – в качестве «антипартийной группы»[90].
Официально ее лидером объявлен Маленков. Так ли было – в данном случае не имеет значения. Важно, что отстранение «антипартийной группы» от власти оформлялось пропагандистски как продолжение борьбы со сталинистами, ответственными за «массовые репрессии».
На стороне Хрущева выступил тогда Суслов, хотя он считался противником маленковских новаций в области пропаганды. Опытный функционер вовремя поддержал сильнейшего и – упрочил свое влияние.
Однако довести антисимоновскую кампанию в прессе до административного итога Суслов все еще не мог. В аспекте внешней политики такое было по-прежнему нецелесообразно, да и процесс монополизации власти не завершился.
Подчеркнем: монополизация власти – закономерность, обусловленная спецификой тоталитарного режима. Вот почему в октябре 1957 года и Жуков был выведен из состава ЦК партии, а затем смещен с должности министра обороны. Знаменитый полководец стал опасен – слишком влиятелен.
У Жукова было много недоброжелателей среди маршалов и генералов. Но министру официально не инкриминировали то, что обсуждала армейская элита: непомерную жестокость, грубость, деспотичность. В партийных документах постулировалось: он планировал «ликвидацию руководства и контроля над армией и Военно-Морским Флотом со стороны партии, её ЦК и правительства…»[91].
Правда, в армейской элите немало было и сторонников Жукова. Вот и пришлось Хрущеву выждать, прежде чем окончательно отправить маршала в отставку. Это произошло лишь на исходе февраля 1958 года.
Симонов и Жуков встречались и на войне, и после нее. Литература, понятно, не входила в сферу маршальских интересов, но общего у полководца и писателя оказалось не так уж мало. Оба добились и всесоюзной, и мировой известности, неоднократно пережили опалу. Возможно, что покровительство министра обороны стало еще одним фактором, в силу которого Суслов не спешил отстранять от должности новомирского главреда.
К марту 1958 года Суслов и Поликарпов по-прежнему наступали. Постоянно росла интенсивность «критической бомбардировки». Симонова буквально вынуждали подать в отставку. Он медлил, положение же становилось критическим[92].
Суслов дождался удобного момента – даже в аспекте внешней политики. За границей отставку Симонова вряд ли б соотнесли непосредственно с журнальной публикацией романа «Не хлебом единым»: более полутора лет прошло, да и книга Дудинцева издана в СССР.
Решение сменить руководство литературным проектом принято в марте 1958 года. Поликарпов сразу нашел подходящую кандидатуру – Твардовского. Они уже много лет приятельствовали. Это предложение опальный поэт принял, что фиксируется его дневниковыми записями. Дневник же более сорока лет спустя частично опубликован дочерью – в качестве так называемых «рабочих тетрадей»[93].
21 апреля будущий главред записал в дневнике, что приглашен к министру культуры СССР – Е.А. Фурцевой. С ней он тоже был давно знаком. Надлежало обсудить условия назначения. Реализацию проекта «Новый мир» следовало продолжать, значит, преемнику тоже полагались особые права.
6 мая Твардовский фиксировал в дневнике, что днем ранее уведомил Фурцеву: с назначением согласен. Оно было одобрено и Сусловым, о чем тот лично сообщил, отметив, что кандидата в главреды ценил всегда как поэта[94].
Судя по дневнику, одобрение кандидатуры нового главреда получено до начала переговоров Твардовского и Фурцевой. Так что беседа с главным идеологом – своего рода напутствие. Обязательное в условиях продолжавшейся антисимоновской кампании.
Понятно, что Суслов ценил Твардовского не только как поэта. На исходе 1940-х годов тот – будучи редактором «Нового мира» – оказался гораздо более уступчивым, нежели Фадеев и Симонов. Десять лет спустя такой фактор, похоже, обусловил выбор.
Кроме того, у Твардовского за границей уже сложилась репутация сторонника либеральных реформ, и симоновская была аналогичной. Получалось, что заменили одного либерала другим.
Симонов, был слишком влиятелен, энергичен, азартен. Да и административной техникой владел лучше многих партийных функционеров: умел находить союзников, совместными усилиями решая задачи, считавшиеся неразрешимыми. В частности, еще не став редактором «Нового мира» добился снятия негласного запрета на публикации романной дилогии Ильфа и Петрова. Написал даже предисловие к новому изданию 1956 года[95].
Изданием дилогии была окончательно дискредитирована агитпроповская интрига восьмилетней давности. Суслову пришлось с этим смириться. Но трех лет не прошло, и он взял реванш – очередной раз.
Твардовский фактически приступил к обязанностям руководителя «Нового мира». Оставались только формальности. 15 мая 1958 года Симонов подписал к печати июньский номер, чем и завершил редакторскую деятельность[96].
Итоги подвела «Литературная газета» 28 июня 1958 года. В рубрике, где обычно публиковалась недельная хроника, указано: «Секретариат правления Союза писателей СССР удовлетворил просьбу К.М. Симонова об освобождении от должности главного редактора журнала “Новый мир”. Главным редактором журнала утвержден А.Т. Твардовский»[97].
Если судить по заметке, то «просьба» – единственная причина «освобождения». Но Каверин отнюдь не случайно рассуждал о ставке в игре.
Симонов был назначен специальным корреспондентом «Правды» по республикам Средней Азии. Жил тогда преимущественно в Ташкенте. Возможно, он и сам не захотел оставаться в столице. Ну а Дудинцев, вопреки распространенному мнению, не стал изгоем среди писателей. Его новая книга вышла, когда и год не минул после замены новомирского главреда. В дальнейшем тоже публиковался[98].
Дудинцев как таковой, подчеркнем еще раз, не был главным объектом атаки. Удары наносились преимущественно по Симонову.
Вряд ли у него были какие-либо претензии к Твардовскому в связи с «освобождением». Да и преемник старательно демонстрировал лояльность. Так, 26 ноября 1958 года отправил письмо:
«Дорогой Константин Михайлович!
Надеюсь, ты не станешь отказываться от тех слов, коими при передаче мне дел ты обещал журналу свое сотрудничество. Я их хорошо помню, есть и свидетели»[99].
Шуткой Твардовский акцентировал, что лично заинтересован в сотрудничестве. Почему – не объяснил. Но уже от имени всей редакционной коллегии просил «уведомить: что ты собираешься нам дать в 59 (хотя бы) году. Пусть это будет роман (тогда, пожалуйста, название укажи – для проспекта), пьеса, очерк, статья, “дневник писателя”, стихи и т. п.
Очень прошу отозваться.
Желаю тебе всего доброго под ташкентскими кущами.
Твой А. Твардовский».
У новомирского главреда не было необходимости выпрашивать рукописи. В журнале хватало материалов для заполнения всех отделов. Но Твардовский намекал: хоть и нет за ним вины, а виноватым себя чувствует. Да и Симонов еще оставался секретарем Правления ССП.
От должности секретаря Правления ССП Симонова «освободили» в 1959 году. Конечно, ташкентская командировка оказалась длительной, и все же коллеги видели реальную причину: Суслов завершил трехлетнюю интригу.
Он не сводил личные счеты, последовательно лишая Симонова административных постов. Решал другие задачи.
«Новый мир» в 1958 году оставался перспективным литературным проектом, вот Суслов и заменил на должности руководителя чужую креатуру своей. А затем лишь демонстрировал всем главредам, что нарушивший установки главного идеолога лишится и статуса функционера ССП.
Твардовский, конечно, понимал сусловские интенции. Но по отношению к предшественнику был деликатен. Симонов, надо полагать, это ценил. В «Новом мире» печатался. Как функционер он проиграл в 1958 году, и все же его игра не завершилась.
Вряд ли сусловская интрига повлияла на планы Гроссмана. Нет сведений, что договор о публикации романа обсуждался в «Новом мире».
Гроссман не торопился получить журнальный аванс. Переизданий романов «Степан Кольчугин» и «За правое дело» было довольно, чтобы создать финансовую базу. К тому же он участвовал в реализации другого проекта – альманаха «Литературная Москва».
Проектное завершение
Два номера «Литературной Москвы», как известно, опубликованы в 1956 году. Читательский успех был несомненным – в СССР и за границей.
Это исключительно «оттепельный» проект. Наиболее подробно его историю описывал Каверин – в упоминавшейся выше книге воспоминаний «Эпилог».
По свидетельству мемуариста, с ним в 1955 году обсуждали спонтанно возникшую идею альманаха Э.Г. Казакевич и М.И. Алигер. Пришли к согласию, но предстояло еще согласовать проект в ССП, а затем и Отделе культуры ЦК партии.
Вероятность успеха оценивалась как высокая: три автора проекта были сталинскими лауреатами, да еще и функционерские должности занимали – хотя бы номинально, в силу статуса классиков советской литературы. Наконец, они нашли источник финансирования и полиграфическую базу, заручившись поддержкой А.К. Котова, директора Государственного издательства художественной литературы.
Идею поддержал в первую очередь Симонов. Прочие руководители ССП тоже. Ну а Поликарпова, согласно каверинским мемуарам, удалось все же убедить, что альманах «не будет угрожать существованию советского искусства».
Разумеется, Поликарпов не об искусстве заботился. Он контроль партийный обеспечивал. Соответственно, Алигер и Каверин упросили Казакевича стать главредом. В аспекте согласования – кандидатура самая удачная: не только коммунист, что было обязательным условием, но и фронтовик, причем не корреспондент одной из редакций, как писатели с довоенным стажем, а войсковой разведчик, закончивший войну в должности помощника начальника разведки армии. Известность принесла ему повесть о разведывательной группе, погибшей за линией фронта. Кстати, опубликованная журналом «Знамя» в 1947 году[100].
Проект «Литературная Москва» был одобрен ЦК партии, аналогично и министерством культуры. За дальнейшим следить надлежало писательскому руководству. Оно и переложило ответственность на московскую секцию прозы. Содержание каждого номера следовало утверждать там – на общем собрании. Не обходилось и без конфликтов, чему в каверинских мемуарах уделено особое внимание.
Характерно, что альманах большинством писателей рассматривался как реализация карьерных амбиций. Каверинских в первую очередь. Ему и было сказано, что для этого нет нужды учреждать новое периодическое издание, можно и так «состоять членом какой-нибудь солидной редколлегии».
Каверин назвал такой подход оскорбительным. Высказанная публично оценка не повлияла на правила игры: «Однако мы старались поддерживать связь с Союзом писателей, отчитывались, докладывали, главный редактор выступал в парткоме. Наша деятельность одобрялась, хотя уже содержание первого тома должно было вызвать – и вызвало – завистливое раздражение тех, кто злобно называл наш альманах “футбольной командой государства Израиль”».
В сталинскую эпоху подобного рода антисемитские намеки – обычный прием конкуренции. Негласным правительственным установкам он вполне соответствовал: количество этнических евреев в любом учреждении надлежало минимизировать. Тем паче – в редколлегиях. Времена менялись, но Хрущев лишь на XX съезде КПСС и только намеком обозначил, что проявления антисемитизма уже неуместны.
Первый номер альманаха сдан в набор 31 января 1956 года, подписан к печати 17 февраля. Объем большой – свыше пятидесяти печатных листов[101].
Акция «Литературной Москвы» планировалась загодя. Вольно ли, невольно ли, Каверин подтвердил это, отметив: «Первый сборник вышел и был принят хорошо – он продавался с книжных прилавков Двадцатого съезда».
Это отнюдь не единственная акция, приуроченная к XX съезду партии. Вот и Каверин отметил: «Эренбург, привычно оценив альманах с политической точки зрения, сказал мне, что он мало отличается от хорошего номера “Нового мира”».
В книге «Эпилог» обстоятельно доказывается, что «Литературная Москва» от «Нового мира» отличалась не только объемом. Там опубликовано многое из отвергнутого другими изданиями. Например, статья Б.Л. Пастернака «Заметки к переводам шекспировских трагедий», стихи Л.Н. Мартынова, негласно запрещенные после разгромных кампаний, и т. д.
«Литературной Москвой» отменен и негласный запрет публикаций Ахматовой, Цветаевой, Заболоцкого. Отличия альманаха от прочих изданий были заметны современникам.
Правда, редколлегии приходилось учитывать цензурную ситуацию. Конфликты возникали постоянно. В связи с этим Липкин сообщил, что Гроссман «был сердит на Казакевича из-за меня: по рекомендации Гроссмана Казакевич взял у меня для первого номера альманаха большую подборку стихотворений, а я не печатался как оригинальный поэт почти четверть века. Но в последнюю минуту Казакевич, ссылаясь на вышестоящие инстанции, отказался от подборки, утешая меня тем, что такая же участь постигла стихотворения Пастернака. У Гроссмана с Казакевичем был тяжелый разговор, в результате которого Казакевич решил поместить в альманахе одно мое стихотворение, хотя и безобидное, но все же в обезопашивающем (sic! – Ю. Б-Ю., Д. Ф.) сопровождении перевода».
В альманахе действительно опубликовано одно стихотворение Липкина – под заголовком «Из восточной рукописи». И оно соседствует с переводом, озаглавленным «Из индийского эпоса “Махабхарата”».
Но описание конфликта Гроссмана и Казакевича весьма туманно. Причина и суть обозначены намеками, понятными лишь с учетом контекста.
Учитывая контекст, можно понять так, что с начала 1930-х годов на публикации Липкина «как оригинального поэта» был наложен запрет, но об этом не знал Казакевич. Узнав же, от предложенной «большой подборки» отказался. Ну а Гроссман в «тяжелом разговоре» объяснил главреду «Литературной Москвы», что можно уже не учитывать цензурные ограничения, наложенные в сталинскую эпоху.
Причины запрета тоже лишь обозначены. Казакевич, по словам мемуариста, выбрал для альманаха одно «безобидное» стихотворение. Стало быть, Липкин успел ранее опубликовать или предложить редакциям что-либо небезобидное, вот и наказан. Лишен статуса «оригинального поэта».
Уместность выводов подтверждаются еще и тем, что стихотворение Липкина напечатано, по его словам, в «обезопашивающем сопровождении перевода». Значит, главред счел нужным минимизировать нарушение и замаскировать его. Вот почему Гроссман все же «был сердит». Неприличную робость проявил Казакевич: не пренебрег деактуализовавшимся цензурным запретом.
Однако не было такого конфликта у Гроссмана и Казакевича. История, рассказанная мемуаристом, противоречит его библиографии. Стихи Липкина в сталинскую эпоху печатались, хотя и не так часто, как переводы.
Аналогично, нет оснований верить, что Казакевич соглашался опубликовать липкинскую «большую подборку». В «Литературной Москве» лишь два стихотворения Ахматовой, у Симонова и Асеева – по одному.
Кстати, об этом пишет и дочь главреда – Л.Э. Казакевич. Ее мнение изложено в недавно опубликованной интернет-журналом «Мы здесь» статье «Об альманахе “Литературная Москва” и не только»[102].
Именно дочь Казакевича, характеризуя книгу Липкина, первой отметила, что не только мемуарист напечатал в альманахе лишь два стихотворения. Не больше опубликовали там и поэты гораздо более известные, причем «никто не обиделся».
С учетом контекста ясна прагматика липкинской истории о конфликте. Во-первых, мемуарист обозначил аналогию: он в сталинскую эпоху тоже был опальным поэтом, как, например, Ахматова, зарабатывавшая переводами. А во-вторых, еще раз подчеркнул: его стихи ценил Гроссман.
За первым конфликтом, если верить Липкину, последовал второй. Добившись уступки от главреда «Литературной Москвы», Гроссман «был в какой-то мере удовлетворен. Отношения двух писателей вроде бы наладились, но разладились опять из-за “Тиргартена”: Казакевич не решался опубликовать рассказ в своем альманахе».
В силу какой причины «не решался» – тоже сказано. Липкин пояснил, что «Казакевич не без основания усмотрел в “Тиргартене” ту зеркальность, которая побуждала бы читателей думать о сходстве двух режимов».
Имелись в виду режимы советский и нацистский. Рассказ «Тиргартен», законченный в 1955 году и опубликованный после смерти Гроссмана, советские критики характеризовали как «антифашистский».
Эту характеристику использовали, чтобы маскировать аллюзии на сталинский режим. Таковыми можно счесть, к примеру, размышления главного героя, смотрителя берлинского зоопарка: «Величие национал-социалистской Германии было связано с мучительной зависимостью и бесправием немцев внутри достигшей суверенности империи. Если развивалось и богатело германское сельское хозяйство, – нищали крестьяне. Если росла промышленность, – снижались заработки рабочих. Шла борьба за немецкое национальное достоинство, – и отвратительным унижениям подвергались люди, в том числе и немцы»[103].
Липкин, по его словам, узнал о конфликте от Гроссмана. И отметил далее: «В конце концов, редколлегия альманаха во главе с Казакевичем отвергла рассказ. Этих людей можно понять, они пытались доказать властям, что вполне благонамеренные писатели способны делать хорошее издание».
Свое отношение к редколлегии Липкин опять выразил намеком – посредством определения «благонамеренные». В контексте истории русской литературы это подразумевало иронию по отношению к писателям, что и либералами себя мнят, и перед властью пресмыкаются. Сам мемуарист, следовательно, не относился к ним. А «Гроссман понять их не хотел, считал их трусами, считал, что после смерти Сталина пора им всем выдавить из себя раба».
Липкин, формулируя выводы от чужого имени, ссылался на общеизвестную фразу из письма Чехова. Писатель обсуждал с издателем, насколько актуален был бы рассказ о том, как «молодой человек выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая…»[104].
Однако маловероятно, чтобы военный журналист Гроссман, пусть и в беседе с Ликиным, называл трусом Казакевича – боевого офицера, да еще и войскового разведчика. Вряд ли бы и заявил, что тому следует «выдавить из себя раба».
Известно об этих суждениях только от Липкина. Соответствуют они лишь им же созданному биографическому мифу Гроссмана.
Дочь Казакевича опять не приняла версию Липкина. И подчеркнула: так много «в альманахе было рискованного, что этот рассказ Гроссмана, показывающий некоторые язвы гитлеровского режима, папу не смутил бы. А вот то, что он велик по объему – практически повесть, а не рассказ, это было серьезно: места катастрофически не хватало».
Объяснение вполне логично. Причем дочь главреда обосновала свою версию, указав, что в «Литературной Москве» был «напечатан другой рассказ Гроссмана – «Шестое августа» – гораздо меньший по объему. А Липкин об этом даже не упоминает. И это уже говорит о его желании опорочить Казакевича, да и всю редколлегию. Это говорит о том, что задачей автора была намеренная дискредитация Казакевича и альманаха».
Действительно, о публикации другого гроссмановского рассказа Липкин не упомянул. Не знать не мог – его стихи в том же номере альманаха. Стало быть, нет оснований предполагать, что с оглавлением не ознакомился.
Впрочем, из всего сказанного не следует, что Гроссман вообще не конфликтовал с редколлегией «Литературной Москвы». Конфликты были, только не такие, какими их описывал Липкин.
Он еще и отметил, не без иронии, что «благонамеренным писателям» не помогла осторожность. Альманах все равно «подвергся партийной критике и вскоре был вынужден прекратить свое существование».
Вряд ли мемуарист не знал, что «партийная критика» отнюдь не всегда приводила к закрытию периодического издания. Другая причина словно бы осталась незамеченной. Меж тем она вполне очевидна. Второй номер альманаха сдан в набор 10 октября 1956 года, подписан же к печати 25 ноября. За это время изменилось многое: подавлено будапештское восстание, начата кампания подавления в области литературы. Естественно, что и проект «Литературная Москва» оказался под ударом.
Наиболее заметной стала тогда «критическая бомбардировка» журнала “Новый мир”. Альманах вторым был в списке критикуемых изданий.
Редактора «Нового мира» в декабре 1956 года защитили инициативы заграничных издателей, добивавшихся права выпустить роман Дудинцева. У редколлегии «Литературной Москвы» такой защиты не было, и руководство ССП отступило без сопротивления. Выигрывал Суслов. Ему этот проект был уже не нужен.
Стоит подчеркнуть: реализация проекта «Литературная Москва» стала возможной в условиях подготовки к XX съезду партии. Тогда и главред «Нового мира» получил особые полномочия.
Примерно тогда же началась реализация еще одного проекта – иллюстрированного журнала «Юность». Название обозначало целевую аудиторию. Инициатором был Секретариат ССП, а главредом назначили сталинского лауреата В.П. Катаева, несмотря на то, что в партии он не состоял. Первый номер концептуально нового издания подписан к печати 10 июня 1955 года[105].
В партию главреду пришлось вступить через пару лет – обязали, чтобы из правила не было исключений. Ну а в журнале началась литературная биография многих знаменитых писателей. К примеру, В.П. Аксенова, А.В. Гладилина, А.В Кузнецова. Популярность издания росла, и во избежание ажиотажа ЦК КПСС приходилось санкционировать рост тиража. В 1958 году – триста тысяч экземпляров[106].
Но полномочия главреда на исходе 1950-х годов ограничивались все более. В итоге Катаев оставил свой пост.
С февраля 1962 года у редакции «Юности» новый руководитель. И тоже сталинский лауреат – Б.Н. Полевой[107].
Три примера – «Новый мир», «Юность», «Литературная Москва» – отражают тенденцию. «Оттепельные» проекты модифицированы, либо вовсе ликвидированы. Суть одна.
Надо полагать, Гроссман, состоявший в правлении ССП, тенденцию уяснил после закрытия «Литературной Москвы». За оттепелью – заморозки.
Мобилизующий инцидент
Полемика о хронологических рамках «оттепели», как отмечалось выше, вряд ли плодотворна, если и само понятие толком не определено. Характерно же, что завершение «оттепельного» периода некоторые исследователи соотносят с так называемым «делом Пастернака».
Как известно, Пастернак не только передал иностранцам рукописи романа «Доктор Живаго», тем самым организовав несанкционированные издания. Он еще и получил в 1958 году Нобелевскую премию. За этим последовала широкомасштабная травля в советской прессе. Инкриминировали нобелевскому лауреату клевету и предательство.
Скандал был международный. Нобелевского лауреата правительство вынудило отказаться от награды и опубликовать покаянное письмо в «Правде». Ну а коллеги исключили его из ССП. Как закономерный итог травли воспринималась многими смерть Пастернака в 1960 году. Похороны, на которые приехали тысячи читателей, стали, по сути, демонстрацией протеста.
О скандале написано множество работ. В истории советской литературы «дело Пастернака» – хрестоматийный пример не только расправы с инакомыслящим, но и постыдной угодливости писательского сообщества.
Почти через три десятилетия ССП отменил свое решение об исключении Пастернака. За это время сформировалась традиция анализа скандала. Ее и позже не нарушали исследователи. Доминировала публицистическая компонента, соответственно, Пастернак был объявлен безвинной жертвой тоталитарного режима.
Вывод явно спорный. Но споры о пропагандисткой прагматике скандала не велись. Пожалуй, единственный случай выхода за рамки традиции – опубликованная в 2009 году книга И.Н. Толстого «Отмытый роман Пастернака: “Доктор Живаго” между КГБ и ЦРУ»[108].
Автор доказывал, что первое русское издание «Доктора Живаго», по сути, пиратское. Выпущено оно вопреки планам итальянского издателя, который получил от Пастернака все права.
Интрига, согласно Толстому, развивалась поэтапно. Сначала одну из рукописей тайно скопировали агенты ЦРУ, фотокопию же передали в типографию ЦОПЭ. Далее верстка попала в голландское издательство, где тираж срочно напечатали, вынудив законного правообладателя визировать издание. Так появилась книга на языке оригинала, что и было обязательны условием присуждения высшей литературной награды.
Нобелевский комитет, соответственно, получил возможность принять решение в 1958 году, а не позже. Эту цель и ставили организаторы интриги.
Сама концепция монографии Толстого, эпатирующее заглавие и демонстративно неакадемическая манера изложения провоцировали спор. Правда, возражения литературоведов сводились к инвективам: автор встал на сторону тех, кто в 1958 году инкриминировал Пастернаку содействие врагам СССР, предательство.
Толстой же ссылался на документальные свидетельства. А возражения заранее высмеял: «Присутствие ЦРУ (или любой другой разведывательной, политической, вражеской силы) ломает сложившиеся стереотипы, рушит пастернаковский миф, старательно возводившийся на протяжении полувека».
Исследователь подчеркивал: его оппоненты руководствуются вовсе не соображениями защиты гонимого. Она давно утратила смысл, но «ушло у защитников поэта слишком много сил и лет, чтобы теперь, когда историческая победа одержана, и пастернаковское наследие доступно читателю на родине, позволить кому-то портить создавшуюся концепцию своими фактами».
В этом аспекте правота Толстого не вызывает сомнений. Действительно, возражения оппонентов сводились к требованиям не «портить создавшуюся концепцию своими фактами».
Еще пять лет спустя выяснилось: автор эпатажной книги не ошибся в главном. ЦРУ официально признало свою причастность к первому изданию «Доктора Живаго» на русском языке[109].
Толстой, кстати, настаивал, что сам Пастернак не имел отношения к политическим интригам. Он – «герой 50-х, человек, осмелившийся преступить все кромешные советские понятия, сломавший самого себя, согласившийся на любые кары во имя своего творения, одиночка, пример и символ эпохи…».
Для Гроссмана это и в самом деле был пример. Не только победы, но и расправы с победителем. Кампания против Дудинцева завершилась совсем иначе.
Трудно судить, знал ли Гроссман о мюнхенском издании романа «Не хлебом единым». В силу функционерского статуса мог получить такие сведения. Тогда итоги кампании счел бы вполне обнадеживающими: Дудинцев не подвергся хоть сколько-нибудь серьезным гонениям. Не ставился вопрос об исключении из ССП, да и печататься не мешали.
С Пастернаком же именно расправились. Зато автор романа «Доктор Живаго» обозначил и стратегию подготовки издания за границей, и технику защиты от преследований на родине.
Уместно еще раз подчеркнуть: несанкционированная публикация не была нарушением закона. Пастернак не нарушил даже устав ССП. Не предусматривались там непосредственно инциденты подобного рода. Каждый литератор после «дела Пильняка и Замятина» понимал, в чем его обвинят, если рискнет пренебречь негласным запретом.
Пастернак действовал предусмотрительно. В начале 1956 года он передал беловые рукописи «Доктора Живаго» редакциям «Нового мира» и «Знамени». Таким образом заранее демонстрировал, что готов и намерен публиковать роман в СССР. После чего, не дожидаясь ответа из редакций, начал переправлять рукописи через границу.
Не так уж трудно было это сделать. Советскую знаменитость часто посещали иностранные коллеги-литераторы, журналисты, филологи. Времена уже не сталинские. А функционеры ЦК партии не имели еще опыта, чтобы предвидеть интригу. Да и немудрено: тремя годами ранее заграничная публикация романа под своим именем рассматривалась бы как самоубийство, мировая известность не защитила бы ослушника.
К моменту отправки пастернаковских рукописей за границу прежние средства пресечения и расправы оказались неактуальными. А других не успели найти, когда в ЦК КПСС поступили сведения о подготовке заграничного издания.
Но поиски были недолгими. В сентябре 1956 года редакция «Нового мира» отправила Пастернаку официальное письмо. Отказ от публикации обосновывался ссылками на свойственный роману «дух неприятия социалистической революции»[110].
Письмо готовилось по указанию и под контролем функционеров ЦК КПСС. Это было официальное предупреждение.
Демонстрировалось, что рассуждения об отсутствии злого умысла не помогут: даже если раньше Пастернак и не считал роман антисоветским, пришло время изменить мнение. И – немедленно остановить заграничную публикацию. А иначе будет признано, что деяние, предусмотренное пунктом 10 статьи 58 УК РСФСР, совершено умышленно.
Пастернаку, согласно планам ЦК партии, надлежало вытребовать из-за границы свою рукопись – якобы для завершения работы. Но такой вариант автор крамольного романа предвидел, издатель был предупрежден.
Ведя игру, Пастернак рисковал. Однако мог настаивать: все распоряжения ЦК партии выполнял, проявляя бесспорную лояльность.
Итальянский перевод «Доктора Живаго» был издан в ноябре 1957 года. Это не только не комментировалось, но и не упоминалось в советской прессе. Аналогично – издание французского перевода семь месяцев спустя.
К сентябрю 1958 года роман опубликован на языке оригинала. Вскоре тираж поступил в магазины нескольких стран и сразу был раскуплен.
Допустимо, что большинство советских граждан не узнало бы и об этом издании, если бы 23 октября 1958 года Пастернак не стал нобелевским лауреатом. Скрывать такое событие было трудно. А главное – нецелесообразно.
Нобелевская премия ослушнику дискредитировала советскую издательскую модель. Получилось, что можно печататься за границей, не спрашивая разрешения. Кроме того, награда разрушала писательскую иерархию, тщательно выверенную партийными функционерами. На ее основе распределялись гонорарные ставки и устанавливались тиражи. Если же автор романа «Доктор Живаго» признан лучшим из современных русских прозаиков, значит, неясен иерархический статус прочих. Такие прецеденты были недопустимы.
25 октября 1958 года «Литературная газета» опубликовала двухлетней давности письмо редколлегии «Нового мира». Рядом помещена редакционная статья – «Провокационная вылазка международной реакции»[111].
Заголовок соответствовал пафосу статьи. Авторы утверждали: Пастернак лишь постольку стал нобелевским лауреатом, поскольку опубликовал за границей лживую книгу, провоцирующую ненависть к социалистическому государству. В качестве экспертного заключения использовалось письмо редколлегии «Нового мира». Отсюда следовало: для осуждения провокации нет нужды читать роман. Полемическая техника не изменилась со времен «дела Пильняка и Замятина».
Тема была развита «Правдой». 26 октября там опубликована статья известного публициста Д.И. Заславского – «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка»[112].
Заславский начал с личного оскорбления. Ждановская традиция. И вновь формулировал уже известный тезис: «Роман Пастернака – это политический пасквиль, а пасквиль – это не художественная литература».
Далее речь шла об актуальном политическом контексте. Пастернак, согласно Заславскому, «поддался тому гнилому поветрию, которое на самое короткое время пронеслось по некоторым затхлым углам советской литературы и оживило надежды засевших в ее щелях мещан».
Намек был прозрачным. «Гнилое поветрие» – многократно осужденные публикации «Нового мира». А также «Литературной Москвы». Далее – инвективы: «Но Пастернак ошибся. Редакция журнала “Новый мир” осенью 1956 года решительно отвергла его роман как явно антисоветский и антихудожественный, и в своем письме Б. Пастернаку, которое опубликовано вчера в “Литературной газете”, дала развернутую характеристику этого пасквильного сочинения».
Подразумевалось, что преступление – тиражирование антисоветской книги – совершено умышленно. Ранее преступник уже ознакомился с заключением экспертов: «Это было предостережением для Пастернака. Он не внял ему и передал рукопись своего романа за границу, где она выпущена в свет людьми, ставшими на путь открытой борьбы против социализма, использовавшими при этом недобросовестные методы».
Заславский доказывал, еще, что нобелевский статус давно не почетен. А теперь «награда из рук врагов Советской Родины выглядит как оскорбление для всякого честного, прогрессивного литератора, хотя бы он и не был коммунистом, даже не был советским гражданином, а был поборником чести и справедливости, поборникам гуманизма и мира. Тем тяжелее должно быть это оскорбление для писателя, который числятся в рядах советской литературы и пользуется всеми теми благами, которые советский народ щедро предоставляет в распоряжение писателей, ожидая от них чистых, идейных, благородных произведений».
Попрекнул Заславский лауреата былыми гонорарами и привилегиями. Оно и понятно – воспроизводил правительственное мнение. После чего буквально совет дал: «Если бы в Пастернаке сохранилась хоть искра советского достоинства, если бы жила в нем совесть писателя и чувство долга перед народом, то и он бы отверг унизительную для него как для писателя “награду”».
Совет, впрочем, сопровождался оскорблениями. А итоговый вывод повторял исходный тезис: «Но раздутое самомнение обиженного и обозленного обывателя не оставило в душе Пастернака никаких следов советского достоинства и патриотизма. Всей своей деятельностью Пастернак подтверждает, что в нашей социалистической стране, охваченной пафосом строительства светлого коммунистического общества, он – сорняк».
Имелось в виду, что сорняки выпалывают. Удаляют. Пастернаку грозили депортацией. Заславский использовал метафору, но та же угроза, как известно, воспроизводилась официально.
Речь шла не только о насильственном выдворении из СССР. Депортированный потерял бы навсегда связь с теми, кто был ему близок. Кроме семьи, да и тут не предусматривались гарантии.
Пастернак был сломлен. И не только он – все, кого заставили голосовать за его исключение из ССП. Метод традиционный.
Советскому правительству утверждение издательской модели стоило колоссальных репутационных потерь за границей. Но этим пренебрегли. Цель вполне оправдывала средства.
Ну а для Гроссмана, подчеркнем еще раз, инцидент стал мобилизующим фактором. Роман «Доктор Живаго» был опубликован и получил мировую известность, хоть в какой-то мере защитившую автора. Советский писатель все же перехитрил ЦК партии. Такой итог не предвидели многоопытные интриганы, знавшие, что Сталин иронически называл Пастернака «небожителем».
Пастернак сумел использовать свою репутацию, что и акцентировал полвека спустя Толстой: «Небожитель оказался стратегом».
Часть II. Сила противодействия
Заимствованный опыт
Ко второй половине 1950-х годов у советских писателей уже не было организационного опыта, необходимого для самостоятельной подготовки иностранной публикации. Вместо них такие задачи решали специально уполномоченные организации. Например, «Международная книга».
Планируя издать роман за границей вопреки предсказуемому запрету, Пастернак не располагал соответствующими навыками. Однако эмпирически нашел эффективный алгоритм. Его и Гроссман уяснил – не позже осени 1958 года.
Неизвестно, тогда ли он решил печатать вторую часть дилогии за границей, если не удастся на родине. Важно другое. Гроссман и Пастернак, независимо друг от друга поняли, что политическая ситуация все стремительнее деградирует в сторону прежней – сталинской эпохи.
В этом аспекте характерно письмо, которое Пастернак 30 августа 1957 года намеревался отправить Поликарпову. Речь шла о почти годичной давности беседах с польскими литераторами. Партийным функционерам требовались объяснения, хотя встречи были санкционированы руководством ССП. Неотправленный по адресу документ цитирует и комментирует Толстой – в упомянутой выше монографии: «Вы все время забываете, – с гениальной снисходительностью напоминал поэт члену ЦК, – что год или полтора года тому назад, когда все это происходило, все было по-другому, и усилия направлялись, главным образом, к тому, чтобы произвести впечатления полной свободы и отсутствия принуждения, и глупейшим образом я этому верил (не полякам, а усилиям), не предвидя, что это все опять повернет к старому».
Пожалуй, снисходительный тон обусловлен не только рассеянностью гения. Пастернак не мог не осознавать, что стал уже фигурой государственного масштаба. Вот и позволил себе упрекнуть в лицемерии поликарповских коллег. Не скрывая иронии, отметил: «усилия» прилагались, чтобы убедить иностранцев, и это обусловило смену его настроений. Хронологические рамки вполне четко обозначил. После XX съезда партии был настроен оптимистически, однако не позже лета 1957 года уже корил себя за доверчивость.
Трудно судить, насколько Пастернак был искренен. Однако в любом случае ясно: он – хотя бы в момент подготовки цитированного письма – считал нужным объяснить высокопоставленному функционеру, почему недоверчивым стал.
Ну а Гроссман тогда не разуверился. Он давно не верил советским пропагандистам. Не исключено, что предвидел цензурный запрет, но все равно заканчивал роман «Жизнь и судьба».
Гонораров и так хватало. В течение трех лет – с 1954 года – вышли еще три книги Гроссмана: новый сборник прозы, переиздания романов «Степан Кольчугин» и «За правое дело»[113].
Кстати, отсюда следует, что репутация Гроссмана не менялась: советский классик. Высокий статус, доход, привилегии.
Мемуаристы о привилегиях и доходах не упоминали. Сведения подобного рода противоречат биографическому мифу Гроссмана как автора романа «Жизнь и судьба». Писателю-нонконформисту надлежало быть гонимым и бедным. Ну, по крайней мере, постоянно заботящимся о пропитании.
Особенно интересны в указанном аспекте воспоминания Липкина. Рассказав о прекращении выпуска альманаха «Литературная Москва», мемуарист акцентировал: «Именно в это время, когда нервы Гроссмана были так напряжены, редактор “Знамени” В.М. Кожевников попросил его дать роман в “Знамя”. Гроссман сидел без копейки, и Кожевников, возможно, имея об этом сведения, предложил ему солидный аванс – под произведение, которого не читал».
Таким образом, Липкин назвал два фактора, в силу которых Гроссман был вынужден сотрудничать именно с журналом «Знамя». Первый – психическое состояние, обусловленное ссорой с редколлегией «Литературной Москвы» в 1956 году и последующим закрытием альманаха. Второй, соответственно, бедность. Чем и воспользовался Кожевников.
Подчеркнем, что «именно это время» – 1956 год. Однако и в начале его, и на исходе не стал бы Гроссман договариваться о «солидном авансе» с Кожевниковым. Роман «Жизнь и судьба» тогда был слишком далек от завершения – даже еще трех лет оказалось мало.
Один раз Гроссман попал в подобную ситуацию. Весной 1948 года заключил договор с редакцией «Знамени» на издание романа «Сталинград». Аванс, разумеется, получил. Издатель журнала – Министерство обороны, так что военная тематика вполне официально признавалась там профильной. Но работа не была завершена к сроку, и осенью автор вынужден был вернуть полученную сумму[114].
Тогда Вишневский был главредом «Знамени». Вскоре его сменил Кожевников. И по-прежнему военная тематика считалась профильной. Так что отнюдь не случайно новый руководитель журнала в апреле 1952 году предложил Гроссману опубликовать роман «За правое дело», если Твардовский не сможет решиться.
Гроссман, описывая этот разговор в дневнике, не был удивлен предложением. Успех публикации считался победой руководителя журнала, вот и переманивали удачливых прозаиков. Так издавна повелось. Автор в подобных случаях расторгал прежний договор, возвращал аванс, получал новый в другой редакции, соответственно, все обходились без убытков.
Про дневник, фиксировавший редакционные перипетии романа «За правое дело», Липкин не знал. Кстати, указав хронологический рубеж беседы с Кожевниковым о второй книге дилогии, противоречил себе же: «Насколько мне помнится, в середине 1960 года Гроссман окончательно завершил работу над романом».
Тут уж одно из двух. Либо Гроссман закончил работу в 1956 году, либо по прошествию четырех лет. Увлекся Липкин, выстраивая аргументированную версию.
Характерно, что в мемуарах он цитировал письмо, опровергавшее эту же версию. 24 октября 1959 года живший в крымском санатории Гроссман сообщал Липкину: «Я много работал здесь, закончил работу над третьей частью, уже перепечатанной, – правил, сокращал, дописывал. Больше всего сокращал. Вот и пришло мое время проститься с людьми, с которыми был связан каждый день на протяжении 16 лет. Странно это, уж очень мы привыкли друг к другу, я-то наверное. Вот приеду в Москву и прочту всю рукопись от начала до конца в первый раз. И хотя известно, – что посеешь, то и пожнешь, – я все думаю, – что же я там прочту? А много ли будет у нее читателей помимо читателя-написателя? Думаю, что тебя она не минет. Узнаешь – что посеял».
Значит, работа не была завершена. Далее Гроссман описывал психическое состояние: «Я не переживаю радости, подъема, волнений. Но чувство, хоть смутное, тревожное, озабоченное, а уж очень серьезное оказалось. Прав ли я? Это первое, главное. Прав ли перед людьми, а значит, и перед Богом? А дальше уж второе, писательское – справился ли я? А дальше уж третье – ее судьба, дорога. Но вот сейчас я как-то очень чувствую, что это третье, судьба книги, от меня отделяется в эти дни. Она осуществит себя помимо меня, раздельно от меня, меня уже может не быть. А вот то, что связано было со мной, без меня не могло быть, именно теперь кончается».
Осенью 1959 года Гроссман был настроен отнюдь не оптимистически. Вот и рассказал напоследок, что сочинил «народную пословицу: “рано пташечка запела, вырвут яйца из гнезда”. Но это так, не думы, а вообще».
Уверен ли был Липкин, что «в середине 1960 года Гроссман окончательно завершил работу над романом», нет ли, это уже не важно. Главное, что новый вариант более правдоподобен.
Но тогда бессмысленна ссылка на психическое состояние Гроссмана. Если он решил отдать Кожевникову рукопись, законченную в 1960 году, так альманах «Литературная Москва» и нервное напряжение четырехлетней давности тут ни при чем.
Отметим, что бедность – тоже. На исходе ли 1956 года, в течение ли последующих лет Гроссман не «сидел без копейки». Неоткуда было бы Кожевникову получить сведения о бедственном положении советского классика. Сумма гонораров за переиздание романов такова, что опытный советский инженер столько б не заработал даже за двадцать лет. Да и ранее советский классик отнюдь не бедствовал. Кроме того, Гроссман не увлекался азартными играми, не слыл кутилой или пьяницей.
Другой вопрос, зачем Липкину понадобилось выдумывать факторы вынуждения, а также именовать их «роковыми причинами», коих перечислено несколько. Особо выделена «воспаленная обида Гроссмана на Твардовского. Это – самая роковая и самая главная причина. Бессмысленно предполагать, что «Новый мир» напечатал бы «Жизнь и судьбу», но могу твердо поручиться, что роман не был бы арестован, если бы рукопись была сдана в «Новый мир». Твардовский не отправил бы рукопись «куда надо»».
Общеизвестный советский фразеологизм «куда надо» подразумевал КГБ, а ранее – аналогичные учреждения. Мемуарист инкриминировал донос главреду «Знамени». Обвинение формулировалось неоднократно. И все более эмоционально: «Я умолял Гроссмана не отдавать роман Кожевникову, облик которого был всем литераторам достаточно известен».
Существенно, что Липкин не раз противопоставлял главредов «Знамени» и «Нового мира». Например, когда описывал, как пытался убедить «самого близкого друга»: «На лице Гроссмана появилось ставшее мне знакомым злое выражение. “Что же, – спросил он, – ты считаешь, что, когда они прочтут роман, меня посадят?” – “Есть такая опасность”, – сказал я. “И нет возможности напечатать, даже оскопив книгу?” – “Нет такой возможности. Не то что Кожевников – Твардовский не напечатает, но ему показать можно, он не только талант, но и порядочный человек”».
Получилось, что Кожевникову нельзя даже показать рукопись. Он, в отличие от Твадовского, непременно донесет.
К этой версии мы еще вернемся. Отметим пока явное противоречие: «облик» Кожевникова «всем литераторам достаточно известен», а Гроссману – нет.
Мемуарист попытался снять противоречие. Сообщил, что «Гроссманом овладела странная мысль, будто бы наши писатели-редакторы, считавшиеся прогрессивными, трусливей казенных ретроградов. У последних, мол, есть и сила, и размах, и смелость бандитов. Они скорее, чем прогрессивные, способны пойти на риск».
Выходит, Гроссман если о чем-то и не знал, так догадывался. Но пренебрег догадками, осознав безвыходность своего положения.
Для аргументации пригодилась Липкину выдуманная история про конфликты с редколлегией «Литературной Москвы». Потому и не упомянул, что в альманахе все же опубликован гроссмановский рассказ. Упоминание о таком компромиссе исключено прагматикой сюжета. Читатели сами должны прийти к выводу: «прогрессивный», но «благонамеренный» Казакевич оказался слишком робок, вот и решено было сотрудничать с «бандитом».
Оставалось только объяснить, зачем главреду «Знамени» понадобилось рисковать. Соответственно, Липкин утверждал: Кожевников «был заинтересован в романе Гроссмана, потому что первая книга – “За правое дело” – пользовалась прочным успехом, и вторая книга привлекла бы огромное количество читателей, подняла бы весьма поблекший – по сравнению с блеском “Нового мира” – авторитет журнала».
Значит, Кожевников соперничал с Твардовским. И, возможно, «бандит» не сам догадался проявить инициативу. Согласно гипотезе Липкина, «определенную роль во всем деле сыграл Кривицкий, ставший влиятельным членом редколлегии “Знамени”: после смерти Сталина он понял, что совершил оплошность, отказавшись заодно с Симоновым печатать “За правое дело”. А вдруг и вторую часть ожидает такой же успех?».
Разумеется, здесь никакой связи с реальностью. «Сыграл» ли Кривицкий «определенную роль», нет ли, но «заодно с Симоновым» он не отказывался «печатать “За правое дело”». Эта липкинская версия, как упомянуто выше, опровергается гроссмановским дневником, о котором не знал мемуарист.
В липкинской версии арест романа «Жизнь и судьба» обусловлен доносом Кожевникова. Тогда уместен вопрос о том, почему «самый близкий друг Гроссмана», всегда такой проницательный, не предотвратил такой итог.
Липкин заранее дал ответ. По версии мемуариста, он предвидел опасность, а Гроссман не внял предупреждениям. Обстоятельства вынудили писателя-нонконформиста сотрудничать с «бандитом», а в обычной ситуации не стал бы.
На самом деле ситуация была вполне обычная. Именно журналу Министерства обороны и надлежало печатать уже неоднократно анонсированный в периодике роман о Сталинградской битве. Тематика профильная, да и проект – «военная эпопея» – актуален.
Вряд ли Кожевников пытался соперничать с Твардовским на уровне популярности журналов. По сравнению с «Новым миром» несколько иными были и пропагандистские функции «Знамени», и полномочия редактора.
С Кожевниковым же отношения Гроссмана оставались товарищескими. Нет оснований полагать, что автор романа «За правое дело» не помнил о предложении главреда «Знамени» в 1952 году.
Возможно, Липкин когда-либо и кое-что слышал от Гроссмана о готовности Кожевникова рисковать, а услышанное экстраполировал на ситуацию, сложившуюся восемь лет спустя. Но мог и попросту сочинить все сразу.
Отметим также, что Гроссман, решивший в 1960 году сотрудничать с журналом «Знамя», действительно ориентировался на репутацию Кожевникова. Только не ту, что описывал Липкин. Совсем другую.
Формировала репутацию Кожевникова несвойственная большинству главредов черта: неприятие ксенофобии вообще и антисемитизма в частности. Можно сказать, отторжение с оттенком брезгливости.
Твардовский в этом плане был гораздо более конформен, о чем Липкин не мог не знать. Но такие обстоятельства не соответствовали биографическому мифу Гроссмана, создававшемуся мемуаристом.
Обратимся к документам, хранящимся в гроссмановском фонде РГАЛИ. Договор на издание второй части дилогии заключен с журналом «Знамя» 23 мая 1960 года. Объем романа – сорок авторских листов, т. е. свыше тысячи стандартных машинописных страниц. Предоставить рукопись в редакцию автор должен был не позже 1 октября[115].
Гроссман к 1960 году – профессиональный литератор с двадцатипятилетним стажем. Советским классиком стал еще в сталинскую эпоху. Умел не только использовать, но и расстраивать чужие интриги. Пережил немало антисемитских кампаний. Видел, как меняются «оттепельные» пропагандистские установки. О наивности тут не приходится говорить. Потому не мог он не осознавать, что в 1960 году роман «Жизнь и судьба» отвергнет любая редакция.
Возможно, надеялся, что ценою уступок добьется издания. Опыта хватало. Но появился и заимстовованный. В запасе был пастернаковский алгоритм – заграничная публикация.
Индикаторы
23 мая 1960 года Гроссман, подписав договор, приступил к подготовке издания. До поры неважно было, в каком варианте, отечественном или заграничном. Согласно пастернаковскому алгоритму, рукописи следовало легализовать, предоставив их советской редакции.
Если верить мемуарам Липкина, далее началась пытка ожиданием. Ну а версию «самого близкого друга Гроссмана» давно уже воспроизводят не только журналисты, но и литературоведы.
Она и впрямь эффектна. Драматизм повествования обусловлен именно тревогой, напряжение постоянно нарастает: «Шли за неделей неделя, за месяцем месяц, от “Знамени” – ни звука. Звонить первым в редакцию Гроссман не хотел, ждал».
Наконец, автор романа, измученный ожиданием, решил обратиться к давнему знакомому – В.П. Некрасову. Который, если верить мемуаристу, «был вхож в эту редакцию, сказал, что придет в такой-то день, час. Ольга Михайловна, хлебосольная не по средствам, приготовила обильную выпивку и еду. Был приглашен и я, мне хотелось встретиться за дружеским столом с высокоталантливым писателем».
Как известно, журнал «Знамя» опубликовал дебютную повесть Некрасова «Сталинград» в 1947 году. Вторично она издана уже с другим заглавием: «В окопах Сталинграда»[116].
Повесть сразу же стала популярной. В 1947 году автор получил Сталинскую премию.
Некрасов был именно окопным офицером. До войны окончил Киевский строительный институт, на фронте – сапер, демобилизован в 1945 году по ранению. Литературную карьеру начинал как журналист.
Он, если верить мемуаристу, так и не выяснил, что происходит в редакции «Знамени». Липкин утверждал: «Ждали допоздна. Некрасов не пришел, забыл, видно, загулял. Гроссман был обижен до глубины души, он любил Некрасова – и писателя, и человека».
Вся история про ожидание и обиду – выдумана. Гроссман не обращался к Некрасову с вышеупомянутой просьбой. Он вообще не просил кого-либо навести справки в редакции «Знамени». И не ждал ответ через неделю, месяц или два после заключения договора. Потому что рукопись еще не передал Кожевникову.
Если бы это не подтверждалось документально, липкинская история выглядела бы правдоподобно. Теоретически ведь допустимо, что приехавший из Киева писатель, известный как любитель дружеского застолья, мог бы при каких-нибудь обстоятельствах «загулять».
Однако некрасовская репутация гуляки – лишь деталь, понадобившаяся Липкину, чтоб создать иллюзию достоверности. Не был Некрасов бестактным. А, главное, подчеркнем, к нему не обращался Гроссман с вышеупомянутой просьбой.
Возможность опровержения вряд ли беспокоила мемуариста. Когда его воспоминания опубликовало американское издательство, Некрасов уже стал эмигрантом. Жил во Франции, так что не сразу бы узнал о липкинской проделке. В 1987 году, вскоре после выхода книги о Гроссмане, умер.
Да и вряд ли Некрасов, узнав о клевете, тотчас принялся бы готовить к печати опровержение. Нельзя было б доказать, что к нему Гроссман не обращался с вышеупомянутой просьбой.
Чем Липкину не угодил Некрасов – трудно судить. Но ведь не только с ним сводил счеты мемуарист: Горький, Симонов, Шолохов, Казакевич – список можно и продолжить.
Гроссман же собирался передать рукопись не раньше установленного договором срока – в октябре. Что и сделал.
Липкин, похоже, не помнил об этом, либо пренебрег, заботясь о драматизме повествования. Так, согласно версии мемуариста, жена Гроссмана – «хлебосольная не по средствам». Очередное напоминание: писатель-нонконформист чуть ли не постоянно «сидел без копейки». Как отмечено выше, это опровергается библиографией.
Если верить Липкину, томительное ожидание продолжалось и после того, как Гроссман был «до глубины души» обижен Некрасовым. Мемуарист утверждал: «А месяцы идут, а “Знамя” молчит».
Получается, что ждать ответа пришлось Гроссману чуть ли не шесть месяцев. Однако рукопись, точнее, две машинописных копии, получены редактором 8 октября 1960 года, и 16 декабря автор официально приглашен на заседание редколлегии, где должны были обсуждать его роман.
На 19 декабря было назначено заседание. Ровно в полдень. Само приглашение уже подразумевало отказ редакции от публикации романа[117].
Минуло чуть более двух месяцев с момента предоставления рукописи в редакцию. С одной стороны, срок невелик. А с другой, Гроссман и столько не должен был ждать ответа.
На безоговорочное согласие Гроссман не рассчитывал. Однако у него был статус классика советской литературы, а в таких случаях даже главреду столичного журнала не полагалось медлить с ответом дольше трех недель. Промедление – индикатор. Сигнал тревоги. И с каждым днем становилось все более ясным, что ситуация в редакции гораздо хуже, нежели предполагалось весной 1960 года.
Второй сигнал тревоги – полученное 16 декабря официальное приглашение на заседание редколлегии. Для отказа необязательно было приглашать автора, могли бы просто известить его по телефону, затем передать рукописи вместе с отрицательной рецензией.
19 декабря Гроссман не пришел на заседание редколлегии. Сослался на болезнь. Опыта хватало, вполне мог догадаться: изменить что-либо уже нельзя, решение принято, и вскоре о том известят.
После издания «Жизни и судьбы» стало ясно, что такой роман не мог быть опубликован в СССР на рубеже 1950-х – 1960-х годов. Если Пастернак относился к советской идеологии с иронией, то Гроссман последовательно и неуклонно отрицал ее. Не публицистически, а художественно доказывал: сталинский режим нельзя считать случайной ошибкой, возникшей при реализации великой идеи. Демонстрировал, что средства обусловлены целью, значит, результат закономерен.
Стоит подчеркнуть еще раз, что реакция всех редакторов была вполне предсказуема. Ни один бы не рискнул печатать рукопись, автор которой не противопоставлял нацистский режим советскому, а сопоставлял их, выявляя общие признаки. Да еще и акцентировал бы сходство на уровне политики государственного антисемитизма.
Наконец, Гроссман доказывал, что победа СССР стала возможной отнюдь не благодаря стараниям политических руководителей Красной Армии. Скорее вопреки им. Такое даже после XX съезда партии было категорически неприемлемо.
Заседание 19 декабря стенографировалось. Приглашены были представители руководства ССП – Г.М. Марков, С.В. Сартаков, С.П. Щипачев. Расшифрованная стенограмма и другие редакционные документы журнала «Знамя» хранятся в РГАЛИ[118].
Ситуацию в целом характеризовал Кожевников. Прежде всего, объяснил, зачем понадобилось расширенное заседание: «Сделали мы это потому, что предоставленный нам роман – большой многолетний труд писателя, известного и в нашей стране, и за рубежом. Грубые политические ошибки, враждебная направленность этого произведения вынудили нас обратиться к руководителям Союза писателей, чтобы откровенно и принципиально обсудить, как и почему произошла такая беда и даже, можно сказать, катастрофа с нашим товарищем по Союзу писателей».
Кожевников подчеркнул не раз, что Гроссман – весьма авторитетный писатель. Настаивал: тут помощь нужна, а не только осуждение. В общем, выступал не как доносчик и разоблачитель.
Критик Галанов рассуждал несколько резче. По его словам, Гроссман «талант художника употребил на выискивание и раздувание всего дурного и оскорбительного в жизни нашего общества и облике людей. Это искаженная антисоветская картина жизни. Между Советским государством и фашизмом по сути поставлен знак тождества. Роман для публикации неприемлем».
Более подробно отказ аргументировал ответственный секретарь редакции – В.В. Катинов. По его словам, роман, «как бы повествующий о жизни нашей страны во время Сталинградской битвы, как правило, населен мерзкими, духовно искалеченными людьми. Люди в романе живут в атмосфере страха, взаимного предательства, неверия друг другу; естественные чувства: дружба, любовь, забота о детях, – у большинства из них исковерканы. Почти не проявлено и свойственное нашим людям чувство советского патриотизма, способность отдать все силы вооруженной борьбе против фашизма».
Аргументация развивалась. Катинов перешел к одной из основных инвектив: «Через роман красной нитью проходит мотив антисемитизма. Автор утверждает, что антисемитизм в нашей стране бытует не только в сознании отсталых слоев населения, но насаждается и сверху, являясь как бы частью государственной политики».
Далее – вывод. Катинов заявил: «Этот роман льет воду на мельницу зарубежной антисоветской пропаганды, изощренной в клевете и лжи».
Аналогии подразумевались. О них и сказал Кривицкий: «Невольно приходит на ум сравнение с романом Б. Пастернака “Доктор Живаго”, который я читал и по поводу которого подписывал письмо группы членов редколлегии “Нового мира”. И если идти в этом сравнении до конца, то, пожалуй, “Доктор Живаго” – просто вонючая фитюлька рядом с тем вредоносным действием, которое произвел бы роман В. Гроссмана».
Остальные формулировали примерно те же обвинения, что вполне закономерно: воспроизводили тезисы итогового редакционного документа. Тут импровизации не требовались.
Про итоговый документ невзначай упомянул Марнов. Отметив, что тщательно изучил роман, заявил: «Я абсолютно подписываюсь под духом и буквой вашего решения. Я считаю, что оно дает очень правильную оценку».
Аналогично закончил выступление Щипачев. Подчеркнул: «Я думаю, что дух этого решения, которое приняла редколлегия, не расходится с объективной оценкой этого произведения».
Да, подготовка решения до самого заседания – обычная практика. Но ведь планировалось обсуждение рукописи, и хотя бы теоретически не исключались положительные оценки. А Марков изначально знал: их не будет. С остальными выступавшими содержание итогового документа тоже согласовали заблаговременно.
Подчеркнем: гроссмановская рукопись – тысячестраничная. И читателей было немало. Значит, ее следовало копировать, затем по копии заблаговременно вручить всем участникам акции. Для них же подготовить пространный редакционный документ – итоговое решение. После чего дожидаться, пока с ним ознакомятся. Вот и пришлось откладывать заседание редколлегии. Лишь к декабрю завершилась подготовка.
Итоги акции подвел Кожевников. В заключительном выступлении подчеркнул: Гроссману «следует как можно дальше спрятать этот роман от посторонних глаз, принять меры к тому, чтобы он не ходил по рукам».
Подразумевалось уголовно наказуемое деяние – изготовление и распространение антисоветской литературы. Но особо интересен приложенный к стенограмме документ:
«Справка
После заседания В.М. Кожевников связался по телефону с В.С. Гроссманом и в присутствии участников заседания сообщил ему, что редколлегия журнала “Знамя” отклонила его роман как произведение идейно порочное. Это решение В.М. Кожевников мотивировал многочисленными примерами. В конце беседы В. Кожевников выразил сожаление тому, что В. Гроссман не принял участие в обсуждении своего романа. “Ибо, – сказал тов. Кожевников, – относясь неприязненно к вашему произведению, мы в то же время хотели терпеливо разъяснить вам идейные пороки романа, чтобы помочь вам выйти из того идейного тупика, в котором вы оказались”. Наконец, тов. Кожевников настоятельно рекомендовал В. Гроссману изъять из обращения экземпляры рукописи своего романа и принять меры, чтобы роман не попал во вражеские руки (Записал В. Катинов)».
Характерно, что в справке Кожевников назван «товарищем», а Гроссман – нет. Катинов таким образом акцентировал свое отношение к автору крамольного романа. Однако на первый взгляд неясно, кому же ответственный секретарь адресовал документ и зачем тот вообще понадобился.
Да, правилами работы издательств и периодических изданий предусматривалось тогда, что отказ автору должен быть обоснованным. И если речь шла о классике советской литературы, аргументацию следовало выстроить тщательно. Однако 19 декабря 1960 года редколлегией журнала «Знамя», а также представителями руководства ССП роман «Жизнь и судьба» обсужден, единогласно признан антисоветским, публикация его – недопустимой. Все аргументировано и документировано. Незачем вроде бы протоколировать телефонный разговор после заседания. Да еще и специально отмечать, что Кожевников при свидетелях разговаривал с Гроссманом.
Справка понадобилась не для редакционного архива. Она была нужна для реализации первого этапа плана, не в редакции составленного.
На первом этапе Гроссмана следовало при свидетелях предупредить, что роман признан антисоветским, почему и рукописи нельзя кому-либо показывать. Стенограмма – аналог заключения экспертов, и его бы Гроссман тут же выслушал. Ознакомился бы с тезисами и аргументами. Что фиксировалось бы документально. А редакционным итоговым решением подтверждалось бы: предупреждение сделано.
Если бы автор «произведения идейно порочного» ослушался, так не имел бы уже возможности ссылаться на свое неведение. Как это делал Пастернак, отнюдь не случайно упомянутый Кривицким.
Первый этап плана не удалось реализовать сразу. Итоговое решение подготовили, ознакомили с ним участников заседания, они высказали, что полагалось, выступления стенографировались, однако на заседании Гроссман не присутствовал. И при свидетелях предупредить его не смогли. Поэтому и пришлось решать задачу посредством телефонного разговора, а Катинову – протоколировать.
Справка – отнюдь не редакционный документ. Главный редактор журнала, ответственный секретарь и все прочие, на заседании присутствовавшие, только исполняли чужие распоряжения. Организаторы интриги собирали материалы для уголовного дела. И получили, наконец, первый из планировавшихся результатов.
Главред «Знамени», секретарь редакции, представители руководства ССП, да и все выступавшие на заседании вполне осознавали, что делают. Но по-разному относились к сделанному. Примечательна в этом аспекте дневниковая запись Чуковского. Он констатировал, что днем 19 декабря 1960 года у Кожевникова, жившего неподалеку – сердечный приступ. Вызвали даже карету скорой помощи[119].
Чуковского заинтересовало не только событие. Экстраординарна была и причина: Гроссман «дал в “Знамя” роман, к [ото]рый нельзя печатать. Это обвинительный акт против командиров, обвинение начальства в юдофобстве и т. д. Вадим Кожевников хотел тихо-мирно возвратить автору этот роман, объяснив, что печатать его невозможно. Но в дело вмешался Д.А. Поликарпов – прочитал роман и разъярился. На Вадима Кожевникова это так подействовало, что у него без двух минут инфаркт».
Видимо, «без двух минут инфаркт» Кожевникова обусловлен заседанием редколлегии 19 декабря 1960 года. Поликарпов же «вмешался» гораздо раньше, после чего и началась подготовка интриги: рукописи копировали, выступления планировали, итоговый документ оформляли.
Чуковский счел причиной следствие. Опять же, дневник не предназначался для публикации, вот автор и не указал источник сведений о недомогании Кожевникова и вмешательстве Поликарпова. Надо полагать, сообщил родственник главреда или его знакомый, бывавший в семье.
Из дневника Чуковского следует, во-первых, что Поликарпов не от Кожевникова узнал о романе «Жизнь судьба». Когда главред «Знамени» собрался без всякой огласки вернуть рукопись Гроссману, с ней уже ознакомился заведующий отделом ЦК КПСС.
Во-вторых, из дневника следует: к моменту разговора с Поликарповым главред «Знамени» вообще не предполагал, что рукопись Гроссмана прочтет кто-либо из функционеров ЦК КПСС. А иначе бы Кожевников не планировал «тихо-мирно возвратить автору этот роман».
Чуковский – весьма осведомленный литератор. У него репутация либерала. И все же о Кожевникове он пишет с явным сочувствием. Значит, ему неизвестна дурная репутация главреда «Знамени». Ее не было тогда.
Но как бы сам Кожевников ни относился к интриге, сколько б ни пытался смягчить итоговые формулировки, он все равно выполнил распоряжение ЦК партии. А «без двух минут инфаркт» – побочный эффект.
Мемуарная прагматика
О событиях, происходивших после редакционного заседания, литературоведы обычно сообщают без подробностей. Далее – арест романа.
В действительности арест – финальная акция. А пока интрига продолжалась. 5 января 1961 года Катинов отправил Гроссману письмо:
«Уважаемый Василий Семенович!
Как Вам известно, редколлегия журнала “Знамя” 19/XII 60 г. обсудила предоставленный Вами роман “Жизнь и судьба” (Вы обещали прийти на это заседание, но не пришли). Всесторонне обсудив роман, редколлегия пришла к единодушному выводу, что роман для печати не пригоден по идейно-политическим соображениям. Об этом решении Вас в тот же день известил по телефону В.М. Кожевников. Он изложил Вам и мотивы, побудившие редколлегию отклонить Ваш роман. Кроме того, 28 декабря 1960 г. В.М. Кожевников, встретившись с Вами в присутствии редактора отдела прозы Б.Е. Галантера, сообщил Вам все суждения членов редколлегии по Вашему роману. Он еще раз повторил Вам, что редколлегия решила отклонить роман “Жизнь и судьба”.
В связи с таким решением редколлегии нашего журнала договор на роман “Жизнь и судьба” расторгается. Полученный Вами аванс в размере 16587 руб. возврату не подлежит.
Секретарь редакции журнала “Знамя” (В. Катинов)»[120].
С января 1961 года была в СССР проведена финансовая реформа. Прежние купюры и монеты обменивались на новые. Суть реформирования сводилась к деноминации: по замыслу все цены и, соответственно, выплаты уменьшались в десять раз. Гроссмановский аванс тоже. Его прежнее значение – сто шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят рублей. Как тогда говорили, «старыми деньгами».
Немалая сумма. И редакция письменно извещала автора отвергнутого романа, что деньги возврату не подлежат.
Копия письма, разумеется, хранилась в редакции. Да и не только там.
Само по себе оно удостоверяло, что договор расторгнут в силу объективной и неустранимой причины. Однако и этот документ был не только редакционным. Тоже подготовлен для уголовного дела. Впрок.
Документом, во-первых, удостоверялось, что Гроссман 28 декабря 1960 года вновь при свидетеле предупрежден: роман «Жизнь и судьба» – антисоветский. Это и документировано. Во-вторых, получил неделю спустя еще одно предупреждение, уже письменное.
Отметим, что в марте 1953 года, когда роман «За правое дело» был объявлен клеветническим, директор издательства «Военная литература» тоже расторг договор. И потребовал вернуть аванс. Немалая сумма, а списать ее в убыток не позволяли вышестоящие инстанции. За государственные средства, израсходованные бесцельно, отвечать полагалось всей редколлегии.
Стоит подчеркнуть еще раз: Гроссман тогда имел право оставить себе авансовую сумму. Он не отказывался вносить изменения в рукопись, как требовал договор. Издательство не выдвигало подобных требований, а просто отвергло рукопись. Потому суд и не удовлетворил иск директора, ссылавшегося лишь на мнения критиков.
В декабре 1960 года ситуация была сходная. Роман тоже признан антисоветским, и Гроссман ранее получил весьма значительный аванс. Однако и отличие было принципиальным: расторгнув договор, редакция даже не пыталась вернуть авансовую сумму.
Для Гроссмана – опять индикатор. Сигнал тревоги. Значит, редакция получила разрешение списать аванс в убыток. Причем еще до публичного обсуждения. А уже после о том известили автора. Отсюда следовало, что представители некоей вышестоящей инстанции учли воениздатовский опыт и стремятся избежать огласки, неизбежной при споре в суде.
Ранее Кожевников советовал Гроссману озаботиться тем, «чтобы роман не попал во вражеские руки». Катиновское письмо свидетельствовало: подобного рода меры признаны уместными не только редколлегией «Знамени» и руководством ССП.
Ответ Катинову был кратким. Гроссман подчеркнул, что не считает искренним представителя редакции, письму его не верит, а спорить не намерен[121].
Спор не имел смысла. Решения принимались не в редакции. Исход был ясен, к нему Гроссман подготовился.
Выше уже отмечалось, что напечатанная американским издательством в 1986 году книга Липкина – «Сталинград Василия Гроссмана» – не содержала сведений, поясняющих, как удалось сохранить одну из рукописей романа, арестованного КГБ. В течение трех лет это оставалось тайной.
Наконец, французская эмигрантская газета опубликовала статью мемуариста, по сути – послесловие к ранее опубликованным воспоминаниям. Там была несколько иная версия: «Гроссман предложил “Жизнь и судьбу” журналу “Знамя” летом 1960 года. Наступила осень, а от редакции ни ответа, ни привета».
В новом варианте не Кожевников проявил инициативу, а Гроссман. Мемуарист, похоже, забыл им же сказанное три года назад – про факторы, вынудившие писателя-нонконформиста принять личное предложение «казенного ретрограда».
Впрочем, это не так важно. Главное, что в реальности Кожевников согласие дал сразу, причем не летом, а весной 1960 года, и договор заключил, и аванс был получен автором. Вот только рукопись Гроссман предоставил редакции гораздо позже – осенью.
Но вернемся ко второй липкинской версии. По словам мемуариста, «дело уже приближалось к зиме, Е.В. Заболоцкая и я сказали Гроссману, что хорошо бы один машинописный экземпляр сохранить в безопасном месте. Гроссман внимательно, долго и хмуро посмотрел на нас и спросил:
– Вы оба опасаетесь чего-то дурного?
Не помню, что ответила Екатерина Васильевна, а я сказал примерно следующее:
– Во время войны, когда Англию бомбили немцы, Черчилль говорил в парламенте: “Худшее впереди”.
– Что же ты предлагаешь?
– Дай один экземпляр мне».
Вполне можно было бы поверить сказанному, если б Липкин на том и остановился. Но далее он сообщил: «Так за полгода до ареста романа в моем распоряжении оказались три – по числу частей “Жизни и судьбы” – светло-коричневые папки».
Подчеркнем, что офицеры КГБ изъяли гроссмановские рукописи 14 февраля 1961 года. Следовательно, «за полгода до ареста романа» – август либо июль 1960 года. Значит, у Липкина «светло-коричневые папки» оказались летом. При этом мемуарист утверждал ранее, что получил их после разговора, состоявшегося, когда «дело приближалось к зиме» – поздней осенью.
Вторая датировка исключает первую. Липкин не мог получить одну и ту же рукопись одновременно летом, поздней осенью или зимой 1960 года.
Опять же, летом Гроссман еще не передал рукописи в редакцию. Значит, не о чем было тогда беспокоиться.
Предположим, что причина отмеченных противоречий – ошибки памяти. И разговор о мерах предосторожности все-таки состоялся.
Значит, не позже ноября 1960 года Липкин и Заболоцкая сообщили Гроссману о возникшей опасности. А сам он, если верить мемуаристу, еще не догадывался.
На самом деле – догадался. Причем гораздо раньше.
Еще в конце октября стало ясно, что простым отказом не отделаться, иначе бы рукописи вернули. С отрицательной ли рецензией, без нее ли, Гроссман бы их получил. А если нет, они уже в других инстанциях.
Состоялась ли описанная Липкиным беседа, нет ли, в любом случае не меняется ничего. К середине ноября Гроссман и так знал: не позволят ему воспользоваться пастернаковской техникой защиты. Раз уж до сих пор не сообщил главред «Знамени» свое мнение, значит, вышестоящие инстанции намерены официально признать роман антисоветским. Потому и время стараются выиграть, готовя нужную им процедуру шельмования. А в итоге рукописи конфискуют непременно – как «подрывную литературу».
16 декабря необходимость мер предосторожности была подтверждена официальным письмом о заседании редколлегии. Три дня спустя Кожевников характеризовал роман в телефонном разговоре. Еще через девять дней – при встрече. И каждый раз предлагал воздержаться от распространения оставшихся у Гроссмана рукописей. При этом – ни слова про аванс.
Если б Гроссман уже не спрятал экземпляры рукописи, так должен был бы срочно заняться этим с 5 января 1961 года. Последний сигнал тревоги – письмо Катинова.
Один экземпляр Гроссман, как известно, передал Лободе. И это произошло задолго до обыска.
Друг юности, сохранивший рукопись, умер 6 ноября 1987 года. Почти десять лет спустя его вдова рассказала, как сберегли роман. Интервью с ней вошло в документальный фильм немецкого режиссера Г. Бильштейна (H. Billstein) – «Литературная контрабанда из СССР»[122].
В.И. Лобода не привела точную дату получения рукописи мужем. Зато определила хронологические рамки: «Осенью 1960 года…».
Значит, рукопись передана не позже ноября, когда автор получил сигналы тревоги – в количестве, достаточном, чтобы озаботиться мерами предосторожности. Даже без участия Липкина и Заболоцкой, если оно вообще было.
Согласно Липкину, рукописи не конфисковали бы, обратись автор сразу в «Новый мир». Этому помешала гроссмановская «раскаленная обида на Твардовского». А вот позже отношения восстановились. Обратимся же к версии мемуариста, и ныне воспроизводимой историками литературы.
Если верить Липкину, его доводы, хоть и с опозданием, были восприняты Гроссманом. Писатель-нонконформист «уже давно стал понимать, что совершил непоправимую ошибку, отдав “Жизнь и судьбу” в руки Кожевникова и Кривицкого. Он попытался возобновить отношения с Твардовским».
В качестве доказательства приведена выдержка из письма Гроссмана. Оно, согласно Липкину, отправлено «1 февраля 1961 года – еще до рокового заседания редколлегии».
Но «роковое заседание редколлегии» состоялось 19 декабря 1960 года. Почти что полтора месяца с той поры минуло.
Само письмо, датированное 1 февраля 1961 года, сохранилось. Гроссман сообщил адресату, что простудился, но обошлось без осложнений. Далее рассказал о встрече с главредом «Нового мира», состоявшейся несколькими днями ранее: «Имел перед болезнью беседу с Твардовским. Встретились у него, говорили долго. Разговор вежливый, осадок тяжелый. Он отступил по всему фронту, от рукописи и от деловых отношений отказался полностью, да и от иных форм участия в литературной жизнедеятельности собеседника отстранился. Энергично отстранился. Так-то».
По фрагменту, приведенному в мемуарах, нельзя судить, от какой рукописи отказался Твардовский. В оригинале она тоже не названа. Однако Липкин, подчеркнем, утверждал, что речь шла о романе «Жизнь и судьба».
Такое попросту невероятно. Если допустить это, остается лишь поверить: Гроссман, трижды извещенный, что его роман официально признан антисоветским, все же решил попытать счастья в редакции «Нового мира». Да еще и несколько удивлен был – Твардовский «отстранился».
Абсурд опять очевиден. Судя же по цитированному выше документу, на исходе января 1961 года Гроссман и Твардовский обсуждали не роман «Жизнь и судьба», а другую рукопись. Новомирский главред был извещен об итогах заседания в редакции журнала «Знамя», вот и дистанцировался от провинившегося.
Если верить Липкину, окончательного разрыва не было. Встретились, когда «осенью Гроссман с Ольгой Михайловной поехали в Коктебель. Там в это время отдыхали Твардовский и Мария Илларионовна. Жены, в прошлом соседки по Чистополю, помирили мужей. Твардовский сказал: «Дай мне роман почитать. Просто почитать». И Гроссман, вернувшись в Москву, отвез ему, видимо, с некой тайной надеждой, роман в редакцию «Нового мира»».
С учетом документов – опять абсурд. Твардовский, зная, что роман официально признан антисоветским, попросил один экземпляр рукописи у Гроссмана. Тем самым предложил распространять «подрывную литературу». Уже смешно.
Еще смешней, что автор конфискованного романа питал «тайную надежду» опубликовать его в «Новом мире», для чего и передал рукопись главреду. Стало быть, распространял антисоветскую литературу с ведома и согласия Твардовского.
Абсурд не столь заметен, если не учитывать документы. Поверить, что даже осенью 1961 года оставалось еще немало времени до «рокового заседания редколлегии». Ну а далее мемуарист рассказал, как после конфискации рукописей «к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: “Нельзя у нас писать правду, нет свободы”. Говорил: “Напрасно ты отдал бездарному Кожевникову. Ему до рубля девяти с половиной гривен не хватает. Я бы тоже не напечатал, разве что батальные сцены. Но не сделал бы такой подлости, ты меня знаешь”. По его словам, рукопись романа была передана “куда надо” Кожевниковым».
Так Липкин обосновал главную инвективу в адрес Кожевникова. Донос. И сослался на Гроссмана, получившего сведения от новомирского главреда. Ну а тому – по должности – полагалось бывать в ЦК партии. Значит, понятно, где Твардовского информировали.
Все же мемуары литераторов – художественная литература. Разной, конечно, степени художественности. Но в любом случае автор не может не увлечься творческой задачей. Вот и Липкин опять увлекся, а потому не заметил, что сам же указал: «В феврале 1961 года роман был арестован».
Очевидно, что сочинена вся история о примирении в Коктебеле осенью 1961 года, а также просьбе Твардовского, его визите, слезах и резких суждениях. Разве что одна фраза, возможно, не выдумана – про «батальные сцены».
Почти десятью годами ранее, 15 марта 1950 года, Гроссман описывал в дневнике встречу с главредом «Нового мира». Отмечено: «Твардовский заявил мне, что печатать может только военные главы, против остального резко и грубо возражал».
Похоже, мемуарист некогда слышал кое-что от Гросссмана, а услышанное экстраполировал на ситуацию 1960 года. Запоминающаяся деталь создает впечатление достоверности. И оно усиливается, если повествователь ссылается на контекст, известный читателю.
Липкин был опытным литератором, такой прием использовал часто. К примеру, рассуждая о том, что Некрасов «загулял», имплицитно ссылался на его репутацию гуляки. Аналогичной ссылкой обосновано и поведение Твардовского: приехал трезвый, а «выпив, плакал».
Деталь за деталью, и картина готова. Если верить мемуаристу, Гроссман сообщил, причем смеясь, что опять «водки не хватило. Твардовский злился, мучился. Вдруг он мне заявил: “Все вы, интеллигентики, думаете только о себе, о тридцать седьмом годе, а до того, что Сталин натворил во время коллективизации, погубил миллионы мужиков, – до этого тебе дела нет”. И тут он стал мне пересказывать мои же слова из “Жизни и судьбы”. “Саша, одумайся, об этом я же написал в романе”. Глаза у него стали сначала растерянными, потом какими-то бессмысленными, он низко опустил голову, сбоку с его губ потекла струйка».
Картина неприглядная. Ради иллюзии достоверности Липкин не пощадил и Твардовского. Контекст же к 1980-м годам был широко известен в окололитературных кругах: главред «Нового мира» пил нередко и помногу, а «коллективизация» – больная тема для крестьянского сына, некогда отрекшегося от «раскулаченных» родственников. Даже если они и простили отрекшегося.
Но сама по себе история про то, как писатель-нонконформист, смеясь, рассказывал о пьяном главреде, тоже выдумана Липкиным. Это обоснование уже не раз повторенного обвинения в адрес Кожевникова. На нем и строится вся описанная мемуаристом версия ареста романа.
Иллюзорная достоверность
Подробно история ареста рукописей изложена Липкиным в первой редакции его мемуаров – «Сталинград Василия Гроссмана». С 1986 года эту версию многократно пересказывали и журналисты, и литературоведы.
Ныне тоже пересказывают как вполне достоверную. Мемуарист утверждал, что Гроссман в феврале 1961 года «позвонил днем и странным голосом сказал: “Приезжай сейчас же”. Я понял, что случилась беда. Но мне в голову не приходило, что арестован роман. На моей памяти такого не бывало. Писателей арестовывали охотно, но рукописи отбирались во время ареста, а не до ареста авторов».
Отсюда следует, что об аресте мемуарист узнал в тот же день. По словам Липкина, в квартиру вошли «двое, утром, оба в штатском. Ольги Михайловны дома не было, пошла на Ваганьковский рынок. Дверь открыла домработница Наташа. Когда эти двое вошли в комнату к Гроссману, Наташа сказала его невестке Ире: “Кажется, нехорошие люди пришли”».
Если уж пользоваться русской терминологией, упомянутая Ира, т. е. жена Губера, приходилась невесткой его матери. А Гроссману – снохой.
Другими свидетельствами подтверждается, что в гроссмановской квартире, где происходил обыск, жили также Губер, его жена и дочь. Постоянно туда приходила и прислуга, т. е. упомянутая Липкиным домработница.
Итак, приехали два офицера КГБ. По свидетельству Липкина, они предъявили Гроссману «ордер на изъятие романа».
Липкин имплицитно ссылался на предусмотренную законом процедуру. Офицеры были обязаны предъявить служебные удостоверения, где указывались фамилия, отчество и звание каждого. Надлежало также показать хозяину квартиры официальный документ, подтверждавший законность обыска.
Согласно Липкину, действовали законно. Далее мемуарист сообщил, что один из пришедших, «высокий, представился полковником, другой был и званием, и ростом помельче. Вот этот, второй, постучался к Ире и сказал: “У него что, больное сердце? Дайте что-нибудь сердечное”. Ира дала капли и спросила: “По какому поводу вы пришли?” – “Мы должны изъять роман. Он ведь написал роман? Так вот, изымем. Об этом никому не говорите, подписку с вас не берем, но болтать не надо”».
Судя по рассказу Липкина, офицер КГБ, предупредивший жену Губера, что про обыск «болтать не надо», вовсе не собирался оформлять документ, который сам же упомянул. Так называемую «подписку о неразглашении». – Не сделал это, даже когда собрался: «С Гроссмана хотели взять подписку, что он не будет никому говорить об изъятии рукописи. Гроссман дать подписку отказался. Полковник не настаивал».
Да и не имел права – по закону. Неясно только, почему намеревался взять подписку лишь с Гроссмана. Ведь не только автор мог бы рассказать про арест романа. Далее, по словам, Липкина, офицер, «званием пониже, вышел на двор и вернулся с двумя понятыми. Ясно было видно, рассказывал Гроссман, что понятые – не первые попавшиеся прохожие, а из того же учреждения, что и незваные гости».
Липкин опять имплицитно ссылался на процедуру. Обыск надлежало производить в присутствии независимых свидетелей – понятых. Не менее, чем двух. Сведения о них заносились в протокол.
Если верить Липкину, свидетели не были независимыми. Далее мемуарист отметил: «Обыск сделали тщательный. Забрали не только машинописные экземпляры, но и первоначальную рукопись, и черновики не вошедших глав, и все подготовительные материалы, эскизы, наброски. Другие рукописи, не имеющие отношения к роману, обыскивателей не интересовали. Например, несколько рассказов, повесть “Все течет” (первый вариант). Действовали по-военному точно, выполняя определенное задание – изъять только роман и все, что связано с романом. Обыскивали только в той комнате, где Гроссман работал».
Это явное противоречие. Если обыск планировался как «тщательный», нельзя было проводить его лишь в одной комнате из трех. Не следовало ведь откуда-либо, что искомые материалы не хранятся и в других помещениях.
Липкин противоречие не заметил. Увлекся. Правда, не забыл указать: «Были вежливы. Тот, кто помельче званием, обратился к Гроссману: “Извиняюсь, дело житейское, где тут у вас туалет?”».
Деталь запоминающаяся. И впрямь – «дело житейское». Однако не в данном случае. Мемуарист опять увлекся, создавая иллюзию достоверности. Если обыск планировался как «тщательный», вряд ли бы один из двух офицеров КГБ решил бы отвлечься. Тем самым еще и переложить на старшего по званию свои обязанности в операции. Ну а далее – самое интересное. Обыскивали, по словам Липкина, «час с чем-то».
Вот уж не верится, чтобы два офицера КГБ обыскивали более часа одну небольшую комнату. Да еще и не заглядывая в другие помещения. Странная картина.
Зато далее все понятно. Согласно Липкину, полковник, «когда кончился обыск, спросил, имеются ли где-нибудь другие экземпляры. Гроссман ответил: «У машинистки, она оставила один экземпляр у себя, чтобы получше вычитать. Другой – в “Новом мире”. Был еще в “Знамени”, но тот, наверное, у вас»».
Вот и прагматика версии. Липкин, упомянув о рукописи «в “Новом мире”», сразу же дал понять, что это обстоятельство Гроссман не ассоциировал с обыском. Напротив, был уверен: «экземпляр» поступил в КГБ из редакции журнала «Знамя».
Липкин отводил подозрения от Твардовского. Доказывал, что рукопись Гроссмана могла попасть «куда надо» только из редакции «Знамени». Акцентировал: «Потом стало известно, что пришли в “Новый мир”, приказали вскрыть сейф, изъяли рукопись…».
Тут важно, что все случилось «потом». Стало быть, сотрудники КГБ не знали о рукописи, переданной Твардовскому, пока Гроссман не сообщил.
Казалось бы, если б хотел мемуарист отвести подозрения от Твардовского, так незачем вообще упоминать о переданной рукописи. Но это – с одной стороны. А с другой, многие литераторы знали, что экземпляр романа был из новомирского сейфа изъят. Событие это уже давно обсуждалось в эмиграции. Первым, как упоминалось выше, сообщил в 1975 году Солженицын.
Умолчал бы Липкин о новомирском экземпляре – разрушилась бы иллюзия достоверности. Такое нелья было допусть. Зато мемуарист объявил: Гроссман считал виновным Кожевникова. Значит, Твардовский непричастен.
Сложен вопрос о мере причастности. К нему еще вернемся. А пока важнее другое: вовсе не Гроссман рассказывал Липкину историю ареста.
Офицеры КГБ, проводившие обыск, протоколировали свои действия. Гроссман протоколы эти прочел и подписал. Копии позже были переданы родственниками в ЦГАЛИ СССР[123].
Липкин не знал, что копии протоколов сохранились. А потому не мог соотнести с ними свою версию.
Документы свидетельствуют, что обыск проводили не «двое». И не полковник руководил. Пришли в квартиру Гроссмана подполковник и два майора. Группа, специально для этого сформированная. Или, в служебной терминологии, «наряд».
Кстати, ситуация для 1961 года необычная. В КГБ тогда было немного генералов. К примеру, Шелепин при назначении отказался от генеральских погон. Областными управлениями могущественной организации руководили, главным образом, полковники.
Соответственно, каждому из трех старших офицеров КГБ пристало бы не квартиры писательские обыскивать, а руководить куда более масштабными операциями. Наряд из подполковника и двух майоров – экстраординарный случай. Такое не могло не запомниться.
Если допустить, что Гроссман в тот же день рассказал Липкину приведенную выше историю обыска, то ситуация абсурдна. Ладно бы военный журналист, подполковник запаса разучился воинские звания различать, так он еще и до трех считал не умел, да и читать не мог – протоколы не глядя подписывал.
При сопоставлении с протоколами, версия Липкина не выдерживает критики. Его воспоминания – литература.
Судя же по документам, обыскивали вовсе не «тщательно». Обыска – в привычном значении термина – вообще не было. Реального, а не формального. Офицеры КГБ производили так называемую «выемку».
Писателю было предъявлено требование – отдать все материалы, относившиеся к роману «Жизнь и судьба». Они и находились в одной из комнат. Ее не «обыскивали», а просто изъяли канцелярские папки с бумагами. Гроссман также сообщил об экземплярах в редакции «Знамени» и «Нового мира». Указал еще, что у двоюродного брата хранилась рукопись.
Затем Гроссмана доставили по адресу двоюродного брата, автор забрал рукопись и передал «наряду». Аналогично и материалы, которые хранились в другой гроссмановской квартире – так называемом кабинете, что предоставил ССП.
О тех, кто перепечатывал рукописи, были заданы вопросы. Гроссман предоставил сведения. Не более того. Протоколами не фиксируется, что он сообщил об экземпляре, хранившемся у одной из машинисток. Значит, не было этого.
Почти ничего из рассказанного Липкиным не было. Он явно выдумывал. Коль так, правомерны два вопроса. Первый – о причине, в силу которой мемуарист не получил сведения от Гроссмана. Второй, соответственно, какими источниками пользовался. Кроме собственной фантазии, разумеется.
Один источник мемуарист сам указал. Рассуждая о том, как был подавлен Гроссман, он отметил: «Борис Ямпольский верно передает его состояние, когда описывает встречу с нами в Александровском саду (я читал его воспоминания в рукописи)».
Понятно, что речь идет о статье, напечатанной журналом «Континент» в 1976 году. Там же, как выше упомянуто, публиковались главы романа «Жизнь и судьба». Соответственно, заглавие мемуаров Ямпольского – «Последняя встреча с Василием Гроссманом. Вместо послесловия»[124].
Липкин отнюдь не случайно оговорил, что прочел «воспоминания в рукописи». Для иностранных читателей вновь акцентировал: вне сферы его внимания были заграничные публикации о Гроссмане. Хотя бы потому, что к эмигрантским изданиям не имел доступа, как почти все советские граждане. Континентовская же публикация Ямпольского – посмертная, умер автор четырьмя годами раньше в Москве, вот его статья и оказалась у знакомого.
Ямпольский на семь лет моложе Гроссмана. В годы войны оба были спецкорами «Красной звезды», где служил тогда и Платонов.
Упомянутую встречу «в Александровском саду» Ямпольский действительно описывал. И отметил, что летним июньским вечером «увидел на скамейке Гроссмана и его друга Липкина. На этот раз он как-то странно холодно меня встретил и обидчиво заметил, что я не показывался целый год. Я ответил, что болел.
– Все равно, – как-то отвлеченно сказал он.
Так же некогда он выговаривал мне за то, что я не посещал в последние дни перед смертью Андрея Платонова.
Мы немного помолчали, потом я сказал: Василий Семенович, дайте мне прочесть ваш роман.
– К сожалению, Боря, я сейчас не имею возможности, – как-то глухо сказал он.
Липкин странно взглянул на меня и смолчал. Только теперь я заметил, что у Василия Семеновича подергивалась голова и дрожали руки».
Возможно, это был июньский вечер 1961 года. Ямпольский подчеркнул: «Я долго не знал, что у него изъят роман».
Не знал именно потому, что почти год не виделись – Ямпольский болел. Впервые после болезни и встретил Гроссмана. Однако подчеркнул, что не от него слышал про изъятие рукописей: «Потом я узнал, что роман арестован. С тех пор в обиходе появилось словечко “репрессированный роман”. Пустил его, как говорили, “дядя Митя” – Дмитрий Поликарпов, бывший в то время заведующим отделом культуры ЦК КПСС и сыгравший в этой операции ключевую роль».
Ямпольский не уточнил, что именно сделано Поликарповым. Далее описана встреча, состоявшаяся позже. Но уже в однокомнатной кооперативной квартире, приобретенной Гроссманом. Когда Ямпольский, по его словам, попросил Гроссмана рассказать про обыск, собеседник «раздраженно ответил:
– Вы что, хотите подробности? Это было ужасно, как только может быть в нашем государстве.
Больше об этом – ни слова. Мне бы надо тогда сказать:
– Я ведь не из любопытства спрашиваю. Пусть бы еще одно свидетельство осталось. Может быть, какое-нибудь одно из них выживет. Чем больше свидетельств, тем больше шансов, что одно из них выживет, даже при том, что государство промышляет бреднем.
Но я этого не сказал. Я промолчал. Меня только удивила его резкость».
Хоть что-нибудь узнать про обстоятельства ареста удалось лишь после смерти Гроссмана. Согласно Ямпольскому, в писательскую квартиру «пришли два человека.
– Нам поручено извлечь роман. Вот именно так они сказали: извлечь, – и предъявили ордер на обыск».
Так что про двух обыскивавших первым упомянул Ямпольский. Аналогично – об изъятии всех материалов, относившихся к роману. Эти сведения потом – с вариациями – воспроизводились мемуаристами, журналистами и литературоведами.
Но Ямпольский, в отличие от Липкина, подчеркнул: не от Гроссмана услышал историю ареста. Тот вообще уклонялся от такой темы.
Похоже, что уклонялся и в разговорах с Липкиным. Больная тема. Вот и пришлось мемуаристу использовать чужие публикации.
Кстати, интервью с единственной ныне здравствующей свидетельницей есть в упомянутом выше немецком документальном фильме 1997 года – «Литературная контрабанда из СССР». Гроссмановская сноха рассказывала: «14 февраля 1961 года, около 11 часов позвонили в дверь. Вошли пять человек, один из них направился ко мне и сказал, что они из КГБ, пришли забрать роман “Жизнь и судьба”».
Вот именно – «пять человек». Три сотрудника КГБ и два понятых. Все в штатском, вошли быстро, удостоверения были предъявлены только Гроссману, потому его сноха и не уяснила, сколько офицеров, кто из них в каком звании. Да и вряд ли ей было важно, полковник ли старший наряда или подполковник. Воспроизводила запомнившееся.
Отметим, кстати, что в интервью свидетельница подчеркнула: старший наряда сразу обозначил цель. Не обыск подразумевался, а только изъятие рукописей, которые Гроссману предложили отдать добровольно.
Липкин об этом не знал. Его версия стала общепринятой только в силу авторитета «самого близкого друга Гроссмана». Прагматика ее проста: Твардовский хотел помочь, а Кожевников – доносчик.
Но мемуарист лишь сказал, а вовсе не доказал, что было именно так. Более того, достаточно оснований считать, что все происходило иначе.
Компоненты интриги
В связи с изъятием рукописей возникают и другие вопросы. Они были уже сформулированы во введении к нашей книге. Теперь уместно к ним вернуться.
Ни один из мемуаристов внятно не объяснил, во-первых, почему арестованы только рукописи антисоветского романа, а не Гроссман. Причем он еще и сохранил – хотя бы формально – свой прежний статус.
Во-вторых, не объяснены причины весьма странного поведения сотрудников КГБ. Они лишь потребовали сдать все материалы, относившиеся к роману, затем собрали и увезли канцелярские папки, словно бы не догадываясь, что Гроссман может обмануть. Так и вышло.
Подчеркнем: поведение старших офицеров КГБ кажется странным лишь на первый взгляд. И оно вполне объяснимо, если учесть, что изъятие рукописей стало финальной акцией. Смысл ее – устрашение.
Интрига развивалась неспешно, гроссмановские действия были заранее предусмотрены, в чем он и убедился 14 февраля 1961 года. Обе стороны учли пастернаковский опыт.
Сначала Гроссмана лишили возможности оправдываться, ссылаясь на то, что сам он не распознал антисоветскую направленность романа. Не раз предупредили устно, а Катинов еще и письменно.
Затем – обыск. Гроссман указал, где хранились рукописи. Протоколы соответствующие подписал, тем самым подтвердив, что изъяты все материалы, относившиеся к роману. Значит, других нигде более нет – и в СССР, и за границей.
Коль так, появись иностранная публикация, виноват именно Гроссман. Значит, он тогда обманул КГБ. Получилось бы, что писатель умышленно распространял «антисоветскую литературу».
Он стал заложником. Нет причин сомневаться: был готов к ответственности. И – не рискнул. Потому что в новой ситуации не только собой рисковал бы. Конечно, эпоха послесталинская, лагерь или ссылка уже не грозили семье – жене и пасынку. Но судебный приговор бесспорно повлиял бы на их судьбы. По анкетам – родственники преступника, да еще и посягнувшего на советское государство. Ну а дочери «изменника Родины» уж точно бы не позволили остаться переводчицей в Библиотеке иностранной литературы. Гроссман это не мог не понять.
Вот почему организаторов акции, равным образом, исполнителей не заботило, все ли рукописи изъяты. Они знали, что по статусу обыскивавших Гроссман и сам догадается, кто ему противостоит. Если пришли за романом подполковник и два майора, значит, операция сочтена особо важной. Соответственно, уровень руководства – самый высокий.
Организаторы интриги допускали, что автор крамольного романа утаил хотя бы один экземпляр рукописи. И даже отправил за границу. Но случись такое, Гроссману пришлось бы вновь искать контакты с издателями, просить их, чтобы отменили публикацию. А иначе – арест, суд, обвинительный приговор.
Известность Гроссмана за границей была несопоставима с пастернаковской, значит, такой же защиты не имелось. Потому и лукавить с ЦК партии не стоило бы. Все предрешено.
Согласно ряду свидетельств, Пастернак, отправляя роман за границу, сказал добровольному помощнику-иностранцу, что относительно последствий не обольщается. Пошутил: увозящий рукопись получает и «приглашение на казнь»[125].
Неизвестно, так ли все происходило. Заглавие романа В.В. Набокова – «Приглашение на казнь» – Пастернак знать мог. Шутка же характерна. Если так пошутил, значит, подразумевал, что дальнейшее – триумф или наказание – будет публичным.
Сталин некогда именовал Пастернака «небожителем», а «стратегом» назвал много лет спустя Толстой. В чем-то прав исследователь: удалось ведь опубликовать роман «Доктор Живаго» за границей, мировое признание вскоре пришло, и для автора цена победы особой роли не играла. Готов был платить и заплатил.
Гроссман «стратегом» не слыл, «небожителем» тоже. Он был аналитиком. Скорой победы не добился, но и публичная «казнь», наподобие пастернаковской, не состоялась. В ЦК партии сочли нужным избежать огласки. Соответствующий опыт имели, вот и выбрали другое решение.
Организаторы так построили интригу, что на последнем этапе публичность исключалась. Ничего вроде бы не произошло. Значит, в интересах самого Гроссмана забыть про изъятие рукописей, пользоваться сохраненными привилегиями, заботиться о семье, родственниках и т. п. Если же нет – последствия обозначены, предупреждений больше не будет.
Прагматику интриги Гроссман понимал. Описывая последнюю встречу с ним, Ямпольский отметил: «В самом конце вечера, как бы подводя итог нашим разговорам, Василий Семенович сказал:
– Меня задушили в подворотне».
Десять лет минуло с публикации статьи Ямпольского, и Липкин выпустил книгу, где сформулировал вопрос о заграничном издании. Мемуарист подчеркнул: «Теперь, когда я пишу эти записки, я думаю вот о чем. Почему Гроссману не приходило в голову предложить “Жизнь и судьбу” какому-нибудь зарубежному издательству, скажем, в какой-нибудь более либеральной, чем наша, социалистической стране? Ведь уже был пример, уже разразилась травля Пастернака, когда итальянское коммунистическое издательство опубликовало роман “Доктор Живаго”. Почему Гроссмана, по его собственному выражению, “задушили в подворотне”, почему об аресте романа не узнали читатели ни у нас, ни за рубежом?».
Отметим, что Липкин, воспроизводя горькую шутку Гроссмана, уже не ссылался на статью Ямпольского. Словно бы сам и слышал. А про гипотезы относительно заграничных изданий заявил, что ему трудно «ответить на эти вопросы.
Возможно такое объяснение: в те годы не в обычае были знакомства с иностранными корреспондентами, издателями. Во всяком случае, Гроссман никого из них не знал».
На самом деле – знал. И по вопросам издания романа «За правое дело» в послесталинскую эпоху вел даже переписку с издательствами пресловутых «социалистических стран», т. е. государств, контролируемых Советским Союзом. Документы хранятся в фонде Гроссмана в РГАЛИ[126].
А еще он не мог не знать, что в любой «социалистической стране» все контакты издательств с литераторами из Советского союза контролируют учреждения, функционально аналогичные КГБ. Соответственно, в Москве стало бы известно о несанкционированной попытке напечататься за рубежом. Последствия были вполне предсказуемы.
Липкин как профессиональный литератор об этом тоже знал. Не мог не понимать: сказанное про возможность издания в «более либеральной, чем наша, социалистической стране» будет осведомленными современниками восприниматься как свидетельство наивности.
Зато мемуарист, словно бы невзначай, сформулировал вывод: Гроссман не был знаком с издателями и журналистами даже «социалистических стран», а про остальные тогда рассуждать не приходится. И получилось, что случай с Пастернаком тут ни при чем, ведь мировой знаменитости контакты с иностранцами разрешались.
Приводя цитированное выше объяснение, Липкин словно бы не понимал, зачем понадобилась конфискация рукописей. Как будно не догадался, что это – устрашение.
Стоит подчеркнуть еще раз: не только Гроссман, но и все его родственники стали заложниками, ответственными за иностранную публикацию романа. Вот почему и нет сведений о попытках автора найти заграничных издателей. Не пытался.
Допустим, Липкин и на самом деле не понимал, в силу каких причин Гроссман стал заложником. Но примечательно, что мемуары, опубликованные в 1986 году, не содержат ответа на другой вопрос – почему журнальная публикация романа «Жизнь и судьба» за границей лишь тогда началась, когда минуло более десяти лет после смерти Гроссмана.
В 1989 году Липкин, как сказано выше, опубликовал за границей статью, дополнявшую мемуары. Но и там отмечено только, что ему Гроссман сообщил о своем последнем желании – издать роман «хотя бы за рубежом».
По словам Липкина, он, пусть не сразу, просьбу выполнил. И подчеркнул: возможно, читатель уже «обратил внимание на такие строки моей книги: “Было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о рукописи раньше”.
Это был упрек самому себе».
Значит, Липкин себя упрекнул. Но все-таки не объяснил, почему же он решил заняться публикацией романа лишь «в конце 1974 года».
Кстати, не только Липкин хранил рукопись. Лобода тоже. Возможно, еще кто-нибудь. А медлили все.
Причина вполне очевидна, если учесть, что устрашение – смысл ареста романа. Все хранившие рукопись не могли не предполагать: они – как друзья автора – тоже под наблюдением КГБ. Заложниками оказались. Хватило страха надолго.
Уместен, впрочем, еще один вопрос: только ли политическая направленность романа обусловила интригу. Ответ подсказывает контекст.
Роман «За правое дело» был все же в рамках советской литературы, а «Жизнь и судьба» – нет. Вторая книга меняла представление о дилогии в целом. Она могла бы стать литературным событием. Ее непременно перевели бы на иностранные языки. Успех прогнозировался, не исключался и триумф – Нобелевская премия. Подчеркнем: на редакционном обсуждении вовсе не случайно вспомнили о Пастернаке.
Нобелевская премия входила, как известно, в сферу интересов ЦК КПСС. Борьбу вели, средств не жалея. В 1958 году Пастернак оказался конкурентом Шолохова. Оба уже не раз были номинированы[127].
Гроссман в качестве нового лауреата был не нужен. Если бы он сумел отправить рукописи за границу до редакционного приговора, интрига завершилась бы иначе. Получил бы Нобелевскую премию, нет ли, трудно судить. Но мировой известности добился бы еще в начале 1960-х годов. Потому в ЦК партии делали все, чтобы устранить проблему. Если не окончательно, так надолго. Вот для этого и понадобилась сложная многоэтапная интрига.
Кстати, она вполне удалась – в аспекте борьбы за Нобелевскую премию. Через год после смерти Гроссмана был отчасти компенсирован пастернаковский инцидент: лауреатом стал Шолохов. Вот и СССР не в обиде. Как говорится, «сбалансированное решение».
Допустимо, что осенью 1960 года в ЦК партии не планировался именно этот вариант. И уж точно интригу не Шолохов инициировал. Но все равно Гроссман был лишним.
Похоже, что прагматику интриги уяснила Берзер, опытный новомирский редактор. Об этом она сообщила в книге «Прощание», напечатанной, как выше упоминалось, под одной обложкой с первым советским книжным изданием мемуаров Липкина в 1990 году.
Гроссман был, согласно мемуарам Берзер, излишне доверчив. Не предвидел итог, а «писал этот роман с подъемом и с надеждой – писал, чтобы написать.
Думая над всем этим в течение лет, я хотела бы добавить, что слышала тогда от одного “влиятельного” лица – “нельзя, чтобы повторилась история с романом Пастернака…”.
Следует напомнить, что травля Пастернака по поводу Нобелевской премии началась с конца октября 1958 года и продолжалась весь 1959 год, а сам Пастернак умер в мае 1960 года, когда его имя, роман и похороны были в центре мирового внимания».
Инцидент с пастернаковским романом, согласно Берзер, обусловил итог. Вот и «решили: “чтобы не повторилась”…».
Более подробно ход интриги проследить можно по документации КГБ, ССП и ЦК партии. Кстати, многие документы уже давно опубликованы.
Например, 31 октября 1992 года газета «Труд» напечатала ряд документов, относящихся к истории ареста романа. Материалы были подготовлены к публикации Т.В. Домрачевой, тогда – сотрудницей Российского центра хранения документов новейшей истории[128].
Позже это учреждение реорганизовано как Российский государственный архив новейшей истории. Там хранится и отдельное «дело» – выборка из документов, тоже относящихся к аресту гроссмановских рукописей и последующим событиям[129].
Результаты анализа этих материалось противоречат высказываниям мемуаристов, да и многих исследователей. Но противроречия игнорируются почти четверть века. Документы известны, доступ к ним возможен, тем не менее, их словно не было.
Окруженный
Необходимо учитывать, что и документы из РГАНИ отражают не все этапы подготовки. Сначала, как водится, организаторы интриги обсуждали планы устно – с начальством и подчиненными. Затем принятые решения документировались официально. Однако в целом ход интриги ясен.
Самый ранний из ныне известных документов подготовлен 9 декабря 1960 года: Поликарпов отправил в приемную Суслова докладную записку. Разумеется, под грифом «Секретно»:
«ЦК КПСС
Писатель В. Гроссман представил в журнал “Знамя” рукопись своего сочинения “Жизнь и судьба”.
Это сочинение представляет собой сборник злобных измышлений о нашей действительности, грязной клеветы на советский общественный и государственный строй.
В интересах дела представляется необходимым, чтобы редколлегия журнала “Знамя”, не ограничиваясь отклонением рукописи, провела с Гроссманом острый политический разговор. Необходимо также, чтобы в этом разговоре приняли участие руководители писательских организаций…».
Поликарпов далее привел список руководителей. И подчеркнул: «Важно, чтобы сами писатели дали понять Гроссману, что любые попытки распространения рукописи встретят непримиримое отношение к этому литературной общественности и самое суровое осуждение».
Если рассматривать документ формально, то 9 декабря 1960 года заведующий Отделом культуры ЦК КПСС передавал начальству свое мнение о книге «Жизнь и судьба», прося санкционировать предлагавшиеся меры.
Ну а реально сведения о гроссмановском романе были получены Сусловым гораздо раньше. План уже был готов. Началась подготовка к реализации первого этапа. Поликарпов лишь документировал решение, принятое накануне.
19 декабря состоялось «расширенное заседание». Гроссман там не присутствовал, но был официально извещен о результатах, что и документировалось ответственным секретарем редакции.
До ареста рукописей оставалось менее двух месяцев. Столь долгий срок понадобился организаторам интриги не только в силу технических причин – для подготовки «расширенного заседания». Попутно выяснялись намерения Гроссмана. Отправил ли свои рукописи за границу с каким-нибудь иностранцем, как сделал Пастернак, а если нет, что же собрался предпринять.
22 декабря 1960 года А.Н. Шелепин, возглавлявший тогда КГБ, подготовил соответствующую докладную записку, адресованную уже лидеру партии: «Докладываю Вам в порядке информации, что писатель В. Гроссман написал и представил в журнал “Знамя” для печатания свой новый роман под названием “Жизнь и судьба”, занимающий более тысячи страниц машинописного текста»[130].
Указан был объем рукописи, что, вроде бы, подразумевало и знакомство с ней. После чего – общая политическая оценка: «Роман «Жизнь и судьба» носит ярко выраженный антисоветский характер, и по этой причине редакционной коллегией журнала «Знамя» к печати не допущен».
Далее характеристика детализировалась. Шелепин утверждал: «Роман, внешне посвященный Сталинградской битве и событиям, с ней связанным, является злостной критикой советской социалистической системы. Описывая события, относящиеся к Сталинградской битве, Гроссман отождествляет фашистское и советское государства, клеветнически приписывает советскому общественному строю черты тоталитаризма, представляет советское общество как общество жестоко подавляющее личность человека, его свободу. Оно населено людьми, живущими в страхе дргу перед другом. Партийные и советские руководители противопоставлены в романе народным массам. Роман отрицает демократизм и морально-политическое единство советского общества. Судя по роману, получается, что не война и фашизм, а советская система, советский государственный строй были причиной многих несправедливостей и человеческих страданий».
Отметим, что Шелепин воспроизводил фрагменты выступлений на редакционном обсуждении. А также итогового решения: «На страницах романа показывается, что советских людей без видимых оснований карают, сажают в тюрьмы, заставляют молчать, изгоняют с работы, унижают, оскорбляют, принуждают испытывать произвол и насмешки».
Располагались обвинения по мере тяжести. Далее подчеркивалось: «В романе особенно отвратительно изображены партийные работники».
Приведены характеристики армейских и штатских партийных руководителей. Затем Шелепин отметил: «Эпизодические персонажи романа, по воле автора, также выглядят глубоко несчастными людьми».
Разумеется, председатель КГБ ни разу не указал конкретно, что же в романе лживо. Другие формулировки использовал, например, «клеветнически приписывает…».
Инкриминировались писателю и попытки оправдать расстрелянных сталинских конкурентов – представителей большевистской элиты, которых на XX съезде КПСС все же не признали невиновными. Шелепин акцентировал: «Привлечение этих лиц понадобилось Гроссману для подтверждения одной из философских мыслей своего романа. Мысль эта сводится к тому, что коммунизм, при всех его положительных сторонах, не имеет права на существование из-за жестокости к людям. Показу этой жестокости Гроссман посвящает много ярких страниц, смакуя факты из жизни в исправительно-трудовых лагерях, перегибов в период коллективизации, безжалостное отношение к воинам самодуров-военачальников и т. д.».
Далее – главное обвинение. Шелепин утверждал: «Особое и значительное место в романе занимает тема преследования евреев. Раскрывая антисемитизм фашистов, Гроссман много внимания уделяет описанию антисемитизма в нашей стране, по существу утверждая, что антисемитизм не ликвидирован и советским строем».
Как известно, сходство нацистского и сталинского режимов на уровне государственной политики антисемитизма – тема, издавна муссировавшаяся антисоветскими публицистами. В СССР она была запретной. Даже на XX съезде партии Хрущев ограничился намеками. А Гроссман игнорировал запрет.
Итоговый шелепинский вывод повторял исходный тезис. Председатель КГБ заявил: «В целом роман Гроссмана “Жизнь и судьба” – антисоветское произведение, оклеветавшее советских людей и систему отношений в советском обществе».
Судя по визам на документе, с ним было ознакомлено все ближайшее хрущевское окружение. При этом и Шелепин, и его адресат допустили оплошность, казалось бы, немыслимую.
Если документ буквально понимать, то 22 декабря 1960 года председатель КГБ доложил самой высокой инстанции, что редколлегия журнала «Знамя» отвергла роман Гроссмана. И даже объяснил, почему. Однако, вопреки правилам, не сообщил, когда само решение принято. Не датировал ключевое событие. Как будто забыл. А Хрущев, словно бы не заметив оплошность Шелепина, приказал ознакомить с донесением свое ближайшее окружение.
Такое возможно лишь в одном случае: донесение – формальность. Шелепин не забыл датировать ключевое событие, в этом просто нужды не было. Адресат и его ближайшее окружение уже знали подробности.
В самом деле, гроссмановский роман 8 октября был передан журналу, 19 декабря состоялось обстоятельно подготовленное обсуждение, и тогда же Чуковский узнал про вмешательство Поликарпова, не позволившего Кожевникову вернуть рукопись автору.
Потому нет оснований полагать, что председатель КГБ до 19 декабря пребывал в неведении, а узнав о «расширенном заседании», только через три дня собрался передать новость Хрущеву. Да еще и забыл впопыхах датировать ключевое событие.
Без ведома ЦК партии не началась бы интрига. Шелепинское донесение – понятный только посвященным отчет о проделанной работе. Так и составлялись документы. Чтобы осведомленный ранее адресат уяснил, о чем речь, а сам план остался неясным.
Тем временем велась и работа, предусмотренная распоряжением Поликарпова. С Гроссманом разговаривали функционеры ССП. И понятно, доложили о результатах 2 января 1961 года[131].
Докладывал Марков. Отчет его тоже под грифом «Секретно»:
«ЦК КПСС
30 декабря 1960 года в Союзе писателей СССР состоялась беседа с писателем Василием Гроссманом относительно его романа “Жизнь и судьба”. В беседе, кроме меня, участвовали Председатель Правления Московского отделения Союза писателей С.П. Щипачев и секретарь Правления Союза писателей РСФСР С.В. Сартаков.
Будучи единодушными в оценке нового произведения В. Гроссмана как враждебного нашему социалистическому строю и антипатриотического по своей концепции, мы высказали автору свои взгляды открыто и ничего не смягчая. Особенно было подчеркнуто, что если “Жизнь и судьба” к несчастью станет добычей зарубежных реакционных кругов, то они немедленно поднимут ее на щит в борьбе против нашей Родины».
Отсюда следовало, что коллеги-функционеры предупредили автора крамольного романа об ответственности за несанкционированную заграничную публикацию. Ну а Гроссман, согласно Маркову, «внимательно и с удивительной выдержкой слушал наши суждения. В ответ он высказался в таком духе:
– Я отдаю отчет в серьезности вашей оценки моего нового романа. Но мне приходят на память бурные обсуждения моего предыдущего романа “За правое дело”. Тогда тоже многие склонны были называть меня изменником, однако опыт жизни доказал, что мои взгляды были близки к истине. Ведь и теперь я писал о том, что было в жизни…».
Автор крамольного романа не спорил. Демонстрировал, что мнение свое менять не намерен, угроз не боится. Соответственно, Марков отметил: «Коснувшись нашей тревоги относительно возможности проникновения его рукописи за границу, В. Гроссман сказал, что он живет довольно уединенно и почти ни с кем не общается».
Отсюда следовало, что роман пока не передан кому-либо. Но Гроссман, согласно Маркову, еще и добавил: «Конечно, факты отклонения рукописи редколлегией журнала “Знамя” не скроешь, это ведь быстро расползается, тем более что “Знамя” начисто отклонило рукопись, не выдвинув никаких конструктивных предложений».
Автор крамольного романа намекнул, что распространение сведений о романе может быть обусловлено скандалом, ведь журнал попросту отверг рукопись советского классика. Соответсвенно, Марков подытожил: «В результате встреч с В. Гроссманом у нас сложилось впечатление, что его идейно-художественная катастрофа не вызвала в нем потрясений и не побудила пока активного желания выйти быстрее из происшедшей с ним беды».
К докладной записае Маркова прилагались отзывы о гроссмановском романе, подготовленные участниками «расширенного заседания». Они текстуально совпадали с их выступлениями, фиксированными стенограммой.
Это закономерно. Отзывы были подготовлены до «расширенного заседания», утверждены и одобрены вышестоящей инстанцией. Прагматика ясна: перспектива уголовного преследования. Каждый документ подобного рода – заключение эксперта.
Интрига Поликарпова и Суслова развивалась. Гроссману очередной раз демонстрировали: все пути издания рукописи перекрыты, он буквально окружен.
Нет оснований полагать, что организаторы интриги обсуждали где-либо проблему этичности/неэтичности способов воздействия на взбунтовавшегося литератора. Советская литература была государственной отраслью, писатель – служащим. И вряд ли представители власти сочли бы нужным оценивать уместность действий, подразумевавших защиту интересов государства. Они исполняли свои обязанности, не преследуя личной выгоды.
Это Гроссман нарушал правила. Как писанные, так и неписанные. Пресечение и/или предотвращение такого рода нарушений считалось обязательнымм. Поликарпов и Суслов – по нынешним меркам – функционеры «субъективно честные».
Тотальный контроль
11 января Шелепин визировал очередную докладную записку. Адресована она уже не Хрущеву лично, а ЦК КПСС в целом.
Начинал Шелепин с экскурса в историю проблемы. Затем переходил к анализу более поздних событий. Документ был подготовлен с учетом того, что еще не все адресаты достаточно информированы[132].
Шелепин пояснил, что стало причиной инцидента. Затем, напомнив адресатам о решении, принятом редколлегией «Знамени», сообщал: «Таким же образом оценили роман Секретариат Союза писателей и руководство Московского отделения писателей».
Представители упомянутых организаций присутствовали на «расширенном заседании». Возможно, речь шла о фиксированных стенограммой выступлениях. Не исключено, равным образом, что Шелепин располагал и отзывами, подготовленными до 19 декабря 1960 года, а также был ознакомлен с докладной запиской Маркова.
Разницы в данном случае нет. Председатель КГБ отметил далее: «Реакция Гроссмана на решения общественных организаций писателей отрицательная. Он считает, что роман написан с реалистических позиций и отображает только правду, и не его, Гроссмана вина, что правда так жестока. Он считает, что пройдет время, и роман будет напечатан».
Шелепин пересказывал письмо Гроссмана в редакцию. Почти дословно. Копии, через Катинова, сразу поступали руководству ССП, а затем уже в другие инстанции.
Важными были и результаты подготовки уголовного преследования. Шелепин сообщил: «На беседе в редколлегии Гроссмана предупредили, что роман “Жизнь и судьба” может причинить большой вред нашему государству, если окажется за границей во вражеских руках. В этой связи Гроссману было предложено принять все меры, чтобы роман не распространялся и не попал в руки иностранцев».
На этот раз пересказано катиновское письмо, отправленное 5 января 1961 года. Правда, там нет слова «иностранцы». Это уже Шелепин добавил, акцентируя опасность. Далее – особо важные сведения: «В последнее время установлено, что Гроссман, несмотря на предупреждения, намерен дать роман для чтения своим близким знакомым».
Такое могло быть «установлено» лишь двумя способами. Первый – с помощью осведомителей, второй, соответственно, по результатам прослушивания гроссмановской квартиры и «мастерской».
Отметим, что Гроссман, согласно Ямпольскому, осознавал опасность прослушивания. Мемуарист обосновал свой вывод, описывая последнюю встречу. По его словам, когда дверь «открылась, Василий Семенович, очень похудевший, печально улыбался, словно до того, как я пришел, случилось что-то, что я должен был уже знать, и к чему относилась эта печальная, безнадежная улыбка. Только я сказал: “Добрый вечер!” – и, возбужденный встречей, громко, бурно заговорил, он приложил палец к губам и молча провел меня через тесную тусклую прихожую в слабо освещенную, полную теней, неубранную, неустроенную комнату, где на столе, уже приготовленный заранее, лежал лист бумаги, на котором красным карандашом крупным ломаным почерком было написано: “Боря, имейте в виду, у стен могут быть уши”»[133].
Но встретились они в однокомнатной гроссмановской квартире уже после ареста романа. О трехкомнатной, где жила семья писателя, Ямпольский не упомянул.
Допустимо, что и ранее использовалась аппаратура прослушивания. Правда, это практически неразрешимая задачая: незаметно установить микрофоны в трехкомнатной квартире, где, кроме Гроссмана, живут еще четверо, и почти всегда кто-либо из взрослых находится рядом с ребенком. Но исключить такой вариант нельзя.
Как было – пока судить трудно. Шелепин же привел далее, по его словам, «заявление Гроссмана, сделанное сыну. На вопрос последнего о том, что поехал ли бы он за границу, Гроссман ответил: “Я бы книгу свою там издал, но как-то грустно с Россией расставаться”».
Председатель КГБ, не вдаваясь в тонкости русской терминологии, назвал сыном пасынка. Это ошибка непринципиальная. А вот у губеровского вопроса – принципиальное значение. Он не менее важен, чем ответ Гроссмана.
Если работала аппаратура прослушивания, то не один Губер услышал пресловутое «заявление». Однако странно, что именно он задал отчиму вопрос, ответ на который так интересовал КГБ.
Губер спрашивал об эмиграции. Общеизвестный тогда контекст подразумевал недосказанное. Законодательно выезд советских граждан за границу не запрещался, реально же выезжали только по служебным обязанностям. Ну а писатель, особенно литературный функционер, мог бы получить санкционированную заграничную командировку, и – не вернуться. Подобного рода случаи были, нарушителей запрета именовали «невозвращенцами».
Отказ вернуться из-за границы считался преступлением. Из чего следовало, что «невозвращенцу» пришлось бы навсегда «с Россией расставаться». По крайней мере возвращение исключалось, пока не изменился бы политический режим и – вместе с ним – законодательство.
Суть ответа Гроссмана сводилась к тому, что эмигрантом он стать не желает, возможность же заграничной публикации не исключает. Криминал налицо. И о таком мнении писателя сразу узнали в КГБ.
Весьма интересны сведения, далее приведенные Шелепиным. Он акцентировал: «Из материалов, имеющихся в Комитете госбезопасности известно также, что Гроссман в кругу своей семьи оскорбительно отзывается о руководителях Коммунистической партии, высмеивает решения январского пленума ЦК КПСС».
Упомянутый пленум, начавшийся 10 января 1961 года, продолжался восемь дней. Материалы печатались всеми центральными газетами. В частности – доклады о сельском хозяйстве, международном коммунистическом движении. Ну а Гроссман, отрицавший необходимость «коллективизации», весьма скептически относился к самой идее улучшений в этой области – без радикальных изменений правовой основы. Что до заграничных событий, то подавленные восстания в «социалистических странах» компрометировали идею «солидарности трудящихся».
В донесении Шелепин приводил и аргументы, обосновывавшие итоговые выводы. На Гроссмана, по мнению председателя КГБ, не повлияло сказанное коллегами-литераторами. Он не оставил намерение издать роман.
Далее характеризовались возможные меры пресечения. Шелепин подчеркнул: «В связи с этим и имея в виду официальное решение редколлегии журнала “Знамя”, признавшей книгу антисоветской, Комитет госбезопасности считает целесообразным произвести на основании постановления КГБ, санкционированного Генеральным прокурором СССР, обыск в квартире Гроссмана и все экземпляры и черновые материалы романа “Жизнь и судьба” у него изъять и взять на хранение в архив КГБ. При этом предупредить Гроссмана, что если он разгласит факт изъятия рукописи органами КГБ, то будет привлечен к уголовной ответственности».
В данном случае «предупредить» – взять подписку о неразглашении. Иначе не имелось бы документальной основы привлечения Гроссмана к ответственности за то, что сообщил кому-либо про арест рукописей. Равным образом, если бы успел передать их с каким-нибудь иностранцем для публикации за границей.
Что до изъятия рукописей, то приведен дополнительный аргумент. Шелепин напомнил адресатам: «Основанием к таким действиям является ст[атья] 7 “Основ уголовного законодательства СССР”, предусматривающая уголовную ответственность за изготовление, хранение и распространение литературы антисоветского содержания».
Вряд ли случайно приведен такой довод. Упомянутый Шелепиным документ принят Верховным советом СССР в 1958 году. Считался тогда символом отрицания произвола: там постулировалось, что наказание применяется только по судебному приговору[134].
Именно в силу новой правовой установки Гроссмана еще нельзя было осудить «за изготовление, хранение и распространение литературы антисоветского содержания». По крайней мере, в условиях международной огласки. Едва ли не больший имиджевый ущерб прогнозировался бы, чем обусловленный «делом Пастернака». И Шелепин это, бесспорно, осознавал.
В сталинскую эпоху улик хватило бы для расстрела. Да и обвиняемого заставили бы с любыми обвинениями согласиться, признать себя полностью виновным. Однако времена изменились. На суде Гроссман мог бы заявить, что не считал и не считает роман антисоветским. Потребовал бы широкого обсуждения рукописи. Тогда обвинение в «изготовлении» сразу же становилось весьма сомнительным – при международной огласке.
«Хранение» было сложно инкриминировать по той же причине. Гроссман хранил лишь рукописи своего романа. Антисоветский ли он, еще требовалось бы доказывать.
Что до «распространения», так опять доказывать сложно. Рукописи Гроссман предоставил только советским редакциям и лишь один экземпляр хранил у двоюродного брата, но тогда еще не был предупрежден, что роман – антисоветский.
Сомнителен был бы эффект ареста рукописей. Шелепин не мог не осознавать это.
Не следовало откуда-либо с необходимостью, во-первых, что Гроссман согласиться дать подписку о неразглашении. Формально – имел право отказаться. А заставить, опять же, нельзя, времена не сталинские. Для предотвращения утечки информации требовалось бы арестовать самого писателя, но законных оснований еще не было.
Во-вторых, подписку о неразглашении требовалось бы взять у всех при обыске присутствовавших. И они тоже имели право отказаться. А если бы и согласились, каждый мог бы потом утверждать, что кто-либо другой разгласил тайну. Сохранить ее в таких условиях было бы очень трудно.
Наконец, приходилось учитывать важное обстоятельство: если Гроссман, предвидя силовое вмешательство, спрятал экземпляры, то конфискация оставшихся не изменит ничего. Спрятанное либо уже отправлено за границу, либо окажется там вскоре, и арест не помешает изданию, ведь положение автора не ухудшится. Наоборот, возникнет перспектива защиты арестованного посредством ходатайств международного писательского сообщества.
О бесперспективности силовых акций Шелепин предупредил весьма деликатно. В традициях аппаратной интриги: «При этом мы учитываем, что, несмотря на принятые меры, факт конфискации романа у Гроссмана станет достоянием буржуазной прессы, и по этому поводу может быть поднята антисоветская шумиха. Однако, на наш взгляд, это будет меньшим злом в сравнении с той антисоветской кампанией, которая разразится за рубежом в случае издания там романа Гроссмана».
Шелепин просил дополнительные указания. Обозначил: если действовать в рамках закона, то КГБ весьма сложно предотвратить «антисоветскую шумиху».
Но у планировававших интригу было другое мнение. Они собирались использовать традиционный метод – заложничество. Техника была сусловская. Интрига тоже.
За два месяца тотального контроля выяснилось, что невелика вероятность отправления гроссмановских рукописей за границу. Однако стало известно, что не изменились намерения Гроссмана. Соответственно, начался очередной этап операции устрашения.
Подведение итогов
Трудно судить, знал ли Шелепин план интриги в целом. Возможно, не был достаточно информирован. Это и не требовалось Суслову.
Очередное донесение Шелепин направил в ЦК 15 февраля. Сообщал о результатах «изъятия», подводил итоги[135].
Прежде всего, акцентировал, что его подчиненные действовали в соответствии с законом. Согласие надзорной инстанции было получено заранее: «Докладываю, что 14 февраля с.г. Комитет государственной безопасности на основании Постановления, санкционированного Генеральным прокурором СССР, произвел обыск на квартире писателя Гроссмана».
Фактически не обыскивали. Это и обозначил председатель КГБ: «Во время обыска было изъято 7 экземпляров машинописного текста антисоветского романа Гроссмана “Жизнь и судьба”, причем четыре экземпляра изъято у него на квартире и один экземпляр – у двоюродного брата Шеренциса В.Д. У Гроссмана изъяты также черновые записи и рукопись романа».
Шелепин отметил, что обошлось без инцидентов. По крайней мере, жалоб не было: «Во время обыска Гроссман никаких претензий по поводу изъятия рукописей не высказал. Однако он выразил сожаление по поводу того, что теперь лишен возможности работать над романом с целью устранения обнаруженных там недостатков и подчеркнул, что подобных прецедентов с изъятием руописей писателя он не знает».
По шелепинскому донесению нельзя судить, о каких «недостатках» говорил Гроссман. Возможно, имел в виду указанные при обсуждении романа. Или же им самим замеченные.
В любом случае прагматика суждения понятна: объяснил, что рукописей у него более нет.
Далее – сведения о реакции писателя. Шелепин отметил: «После обыска Гроссман в кругу своей семьи высказывал предположение, что теперь за ним будет организована активная слежка, которая, по его мнению, может завершиться либо высылкой из Москвы, либо арестом».
Вряд ли в разговоре был использован термин «активная слежка». Он тогда в обиходе лишь у сотрудников МВД и КГБ. Подразумевались все формы контроля: наружное наблюдение, прослушивание и т. д.
Но какой бы термин ни использовался, важно, что рассуждал Гроссман «в кругу своей семьи», а на следующий день председатель КГБ отправил донесение, где изложил сказанное писателем. Отсюда следует, что о результатах контроля подчиненные Шелепину докладывали незамедлительно, и он с отчетами тоже не медлил.
Это закономерно: дело особой важности. КГБ завершил лишь операцию «изъятия». Однако интрига не была завершена. За Гроссманом по-прежнему следили.
Тем временем Поликарпов решал свою задачу. О чем и докладывал ЦК КПСС 4 марта 1961 года[136].
Донесение отправлено под грифом «Секретно». Это уже обычная практика. Сообщалось, что «1 марта 1961 года в Отделе культуры состоялся разговор с писателем В. Гроссманом по его просьбе…».
Заведующий Отделом культуры ЦК партии беседу провел в пристутствии своих подчиненных: А.А. Михайлова и А.А. Петрова. Втроем и подписали донесение.
Акцентировалось, что мнения согласованы, выводы общие. Беседа характеризовалась весьма подробно: «В ходе этого разговора В. Гроссман сказал, что просьба о встрече вызвана чрезвычайно тяжелыми событиями в его жизни, связанными с его книгой “Жизнь и судьба”. Он заявил, что писал роман около десяти лет, писал, как ему кажется, правду своей души, своих мыслей, своих страданий и что от этой правды не отступал. При этом Гроссман заметил, что, когда он сдал рукопись романа в редакцию журнала “Знамя”, он не тешил себя надеждой, что роман пойдет легко, не вызовет замечаний, возражений, а предполагал возможность поправок, доработки, а затем принятия к опубликованию. Но рукопись была отвергнута целиком».
Автор крамольного романа по-прежнему настаивал, что готов продолжать работу с редакциями, вносить изменения в рукопись. Однако собеседников интересовало другое: «На вопрос о том, что он в данное время думает о содержании своего сочинения, как его оценивает, Гроссман ответил, что, по его мнению, эта книгу нужна нашему читателю. Литература должна жить только правдой, какой бы тяжелой они ни была, сказал он. Лакировка к добру не приводит».
Ссылка на неуместность пресловутой «лакировки действительности» – аргумент казуистический. Автор крамольного романа вновь демонстрировал, что готов к полемике. Собеседники же компромисс предлагали: «На замечание о том, что его дальнейшая судьба, как писателя, будет зависеть от него самого, от его гражданской, общественной позиции, Гроссман ответил, что в большом и трагическом труде он исчерпал свою боль, что эта тема уйдет и, вероятно, ушла от него, что жизнь теперь богата другими событиями. Но в то же время Гроссман добавил, что он не отрекается от того, что написал, что это было бы нечестно, неискренне после того, как к нему применили репрессии».
В рамках официального узуса термин «репрессии» ассоциировался тогда с эпохой «культа личности». Автор романа настойчиво акцентировал, что действия сотрудников КГБ противоречат новым политическим установкам, декларировавшимся Хрущевым. Но собеседники возражали, используя уже привычную аргументацию: «Гроссману было сказано, что рукопись его является антисоветской по содержанию, чтение ее вызывает чувство гнева и возмущения, что ее опубликование могло бы нанести большой ущерб советскому государству. Меры, примененные в отношении рукописи, необходимы в целях защиты интересов государства, а все, что с ним произошло, должно заставить его глубоко задуматься о своей позиции и дать ей честную, беспощадную оценку с позиций советского человека».
К такой аргументации Гроссман был готов. Согласно донесению, «напомнил о той суровой критике, которой в 1952 году был подвернут его роман “За правое дело”, заметив при этом, что А. Фадеев будто бы до конца своих дней мучился от того, что тогда критиковал эту книгу, а А. Первенцев, назвавший его диверсантом, потом публично отказался от своих слов».
Прозаик и драматург, сталинский лауреат А.А. Первенцев считался фигурой одиозной. Бранил он не только роман «За правое дело». С энтузиазмом участвовал и в других антисемитских кампаниях. А когда политическая ситуация изменилась, от прежних суждений отрекся, причем неоднократно.
Сотрудники Отдела культуры ЦК партии были настойчивы, их оппонент упрям. Ко всему прочему, откровенно иронизировал, упомянув Первенцева. В донесении отмечено: «Это напоминание Гроссман сделал после замечания о том, что мнение о рукописи “Жизнь и судьба” (sic! – Ю. Б.-Ю., Д. Ф.), высказанное различными людьми, совпало, что это тоже должно автора заставить задуматься».
Добиться компромисса так и не удалось. Это и констатировалось документом: «В заключение Гроссману было сказано, что содержание разговора будет доложено ЦК КПСС. Дальнейшее его положение как литератора, как гражданина будет целиком зависеть от него самого».
Риторические приемы
За Гроссманом наблюдение велось постоянно. Но и год спустя КГБ не выяснил, спрятаны ли где-то рукописи.
Многое к тому времени изменилось. В октябре 1961 года состоялся XXII съезд партии. Хрущев, выступая там, констатировал триумф советской внешней и внутренней политики. А главное – необходимость продолжения борьбы с последствиями «культа личности Сталина».
Подразумевалось, что «десталинизация» не завершена. И цензурная политика вновь смягчилось, что констатировали многие современники.
Трудно судить, повлияло ли это на статус Гроссмана. Сборник его прозы и так готовился к публикации в издательстве «Советский писатель»[137].
Однако роман оставался под арестом. И Гроссман 23 февраля 1962 года отправил письмо Хрущеву. Оно тоже хранится в РГАНИ[138].
Вряд ли надеялся на успех. Но лояльность акцентировал:
«Первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
Дорогой Никита Сергеевич!
В октябре 1960 года я отдал рукопись моего романа “Жизнь и судьба” в редакцию журнала “Знамя”. Примерно в то же время познакомился с моим романом редактор журнала “Новый мир” А.Т. Твардовский. В середине февраля 1961 года сотрудники Комитета Государственной Безопасности, предъявив мне ордер на обыск, изъяли оставшиеся у меня дома экземпляры и черновики рукописи “Жизни и судьбы”. Одновременно рукопись была изъята из редакций журналов “Знамя” и “Новый мир”.
Таким образом закончилось мое обращение в многократно печатавшие мои сочинения редакции с предложением рассмотреть десятилетний труд моей писательской жизни.
После изъятия рукописи я обратился в ЦК КПСС к тов. Поликарпову. Д.А. Поликарпов сурово осудил мой труд и рекомендовал мне продумать, осознать ошибочность, вредность моей книги и обратиться с письмом в ЦК КПСС.
Прошел год. Я много, неотступно думал о катастрофе, произошедшей в моей писательской жизни, о трагической судьбе моей книги.
Я хочу честно поделиться с Вами моими мыслями. Прежде всего, должен сказать следующее: я не пришел к выводу, что в моей книге есть неправда. Я писал в своей книге то, что считал и продолжаю считать правдой, писал лишь то, что продумал, прочувствовал, перестрадал.
Моя книга не есть политическая книга. Я, в меру своих ограниченных сил, говорил в ней о людях, об их горе, радости, заблуждениях, смерти, я писал о любви к людям и о сострадании к людям.
В моей книге есть горькие, тяжелые страницы, обращенные к нашему недавнему прошлому, к событиям войны. Может быть, читать эти страницы нелегко. Но, поверьте мне, – писать их было тоже нелегко. Но я не мог не написать их.
Я начал писать книгу до XX съезда партии, еще при жизни Сталина. В эту пору, казалось, не было ни тени надежды на публикацию книги. И все же я писал ее.
Ваш доклад на XX съезде придал мне уверенности. Ведь мысли писателя, его чувства, его боль есть частица общих мыслей, общей боли, общей правды.
Я предполагал, отдавая рукопись в редакцию, что между автором и редактором возникнут споры, что редактор потребует сокращения некоторых страниц, может быть, глав.
Редактор журнала “Знамя” Кожевников, а также руководители Союза писателей Марков, Сартаков, Щипачев, прочитавшие рукопись, сказали мне, что печатать книгу нельзя, вредно. Но при этом они не обвинили книгу в неправдивости. Один из товарищей сказал: “Все это было или могло быть, подобные изображенным людям также были или могли быть”. Другой сказал: “Однако печатать книгу можно будет через 250 лет”.
Ваш доклад на XXII съезде с новой силой осветил все тяжелое, ошибочное, что происходило в нашей стране в пору сталинского руководства, еще больше укрепил меня в сознании того, что книга “Жизнь и судьба” не противоречит той правде, которая была сказана Вами, что правда стала достоянием сегодняшнего дня, а не откладывается на 250 лет.
Тем для меня ужасней, что книга моя насильственно изъята, отнята у меня. Эта книга мне так же дорога, как отцу дороги его честные дети. Отнять у меня книгу это то же, что отнять у отца его детище.
Вот уже год, как книга изъята у меня. Вот уже год, как я неотступно думаю о трагической ее судьбе, ищу объяснения произошедшему. Может, объяснение в том, что книга моя субъективна?
Но ведь отпечаток личного, субъективного имеют все произведения литературы, если они не написаны рукой ремесленника. Книга, написанная писателем, не есть прямая иллюстрация к взглядам политических и революционных вождей. Соприкасаясь с этими взглядами, иногда сливаясь с ними, иногда в чем-то приходя в противоречие с ними, книга всегда неизбежно выражает внутренний мир писателя, его чувства, близкие ему образы и не может не быть субъективной. Так всегда было. Литература не эхо, она говорит о жизни и о жизненной драме по-своему.
Тургенев во многом выразил любовь русских людей к правде, свободе, добру. Но Тургенев совершенно не был иллюстратором идей вождей русской демократии, он выражал по-своему, по-тургеневски, жизнь русского общества. И так же выражали, переживали добро и зло русской жизни, ее радость, ее горе, ее красоту и страшные уродства Достоевский, Толстой, Чехов. Ведь ни Толстой, ни Чехов не были иллюстраторами взглядов тех, кто возглавлял русскую революционную демократию, они полировали свое зеркало русской жизни, и зеркало это бывало отлично от тех, что создавали политические вожди русской революции. Но ни Герцен, ни Чернышевский, ни Плеханов, ни Ленин не ополчались за это на русских писателей, они видели в них своих союзников, а не врагов.
Я знаю, что книга моя несовершенна, что она не идет ни в какое сравнение с произведениями великих писателей прошлого. Но дело тут не в слабости моего таланта. Дело в праве писать правду, выстраданную и вызревшую на протяжении долгих лет жизни.
Почему же на мою книгу, которая, может быть, в какой-то мере отвечает на внутренние запросы советских людей, книгу, в которой нет лжи и клеветы, а есть правда, боль, любовь к людям, наложен запрет, почему она забрана у меня методами административного насилия, упрятана от меня и от людей, как преступный убийца?
Вот уже год, как я не знаю, цела ли моя книга, хранится ли она, может быть, она уничтожена, сожжена?
Если моя книга ложь, – пусть об этом будет сказано людям, которые хотят ее прочесть. Если моя книга клевета, – пусть будет сказано об этом. Пусть советские люди, советские читатели, для которых я пишу 30 лет, судят, что правда и что ложь в моей книге.
Но читатель лишен возможности судить меня и мой труд тем судом, который страшней любого другого суда – я имею в виду суд сердца, суд совести. Я хотел и хочу этого суда.
Мало того, что книга моя была отвергнута в редакции “Знамя”, мне было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, что работу над рукописью я еще не закончил, что работа эта затянется на долгое время. Иными словами, мне было предложено говорить неправду.
Мало того. Когда рукопись моя была изъята, мне предложили дать подписку, что за разглашение факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном порядке.
Методы, которыми все произошедшее с моей книгой хотят оставить в тайне, не есть методы борьбы с неправдой, с клеветой. Так с ложью не борются. Так борются против правды.
Что же это такое? Как понять это в свете идей XXII съезда партии?
Дорогой Никита Сергеевич! У нас теперь часто пишут и говорят, что мы возвращаемся к ленинским нормам демократии. В суровую пору гражданской войны, оккупации, хозяйственной разрухи, голода Ленин создал нормы демократии, которые во все сталинские времена казались фантастически большими.
Вы на XXII съезде партии безоговорочно осудили кровавые беззакония и жестокости, которые были совершены Сталиным. Сила и смелость, с которой Вы сделали это, дают все основания думать, что нормы нашей демократии будут расти так же, как выросли со времен разрухи, сопутствовавшей гражданской войне, нормы производства стали, угля, электричества. Ведь в росте демократии и свободы еще больше, чем в росте производства и потребления, существо нового человеческого общества. Вне беспрерывного роста норм свободы и демократии новое общество мне кажется немыслимым.
Как же понять, что в наше время у писателя производят обыск, отбирают у него книгу, пусть полную несовершенства, но написанную кровью его сердца, написанную во имя правды и любви к людям, и грозят ему тюрьмой, если он станет говорить о своем горе.
Я убежден, что самые суровые и непримиримые прокуроры моей книги должны во многом изменить свою точку зрения на нее, должны признать ошибочными ряд кардинальных обвинений, высказанных ими в адрес моей рукописи год-полтора назад – до XXII съезда партии.
Я прошу Вас вернуть свободу моей книге, я прошу, чтобы о моей рукописи говорили и спорили со мной редакторы, а не сотрудники Комитета государственной безопасности.
Нет смысла, нет правды в нынешнем положении, – в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме, – ведь я ее написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее. Прошло двенадцать лет с тех пор, как я начал работу над этой книгой. Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал я ее, любя и жалея людей, веря в людей. Я прошу свободы моей книге.
Глубоко уважающий Вас В. Гроссман».
Далее следовали дата, адрес и номер домашнего телефона. Подразумевалось, что автор письма ждет ответа – почтового извещения о вызове в ЦК КПСС или того же, но устно, по телефону.
Понятно, что Гроссман готовил обращение к Хрущеву, следуя нормам советской деловой риторики и актуальным политическим установкам. Ленин противопоставлен Сталину, ему же – адресат письма.
Весьма эффектно противопоставление честности и прозорливости Хрущева лицемерию и недальновидности литературных функционеров, рассуждавших о сроке запрета романа. Однако именно в связи с этим аргументом правомерны три вопроса. Первый – кто же формулировал суждение про «250 лет». Второй, соответственно, когда Гроссману такое было сказано. Третий – при каких обстоятельствах.
В письме нет конкретных ответов. Допустимы различные толкования.
Можно рассматривать как смысловое целое весь абзац, где сказано про «250 лет». Тогда получается, что с Гроссманом беседовали Кожевников, Марков, Сартаков и Щипачев – вместе. Соответственно, в этом разговоре «один из товарищей» и определил срок запрета.
Кожевников, Марков, Сартаков и Щипачев выступали на «расширенном заседании» 19 декабря 1960 года. И, по сути, говорили, тогда, что «печатать книгу нельзя, вредно». Однако – не Гроссману. Его там не было.
Значит, налицо два противоречия. Во-первых, Гроссман утверждал, что «сказали» ему, а сказано было в его отсутствие. Маловероятно, чтобы писатель так ошибся. Или – солгал. Письмо он подготовил тщательно, фактографию выверил. Во-вторых, стенограмма «расширенного заседания» не содержит каких-либо сведений о сроке запрета или же правдивости романа.
Судя по справке, подготовленной Катиновым, и его письму, главред «Знамени» разговаривал с Гроссманом по телефону после «расширенного заседания», а затем лично – в редакции. Но Марков, Сартаков и Щипачев не участвовали в разговорах. И в упомянутых редакционных документах нет сведений о сроке цензурного запрета.
Допустим, имелась в виду беседа с Гроссманом, организованная по указанию Поликарпова и состоявшаяся 30 декабря 1960 года. Вели ее Марков, Сартаков и Щипачев в одном из помещений здания ССП. Но Кожевников там не пристутствовал.
Если бы пристутствовал, его полагалось бы упомянуть в очете, Марков же этого не сделал. И нет оснований полагать, что он пытался скрыть участие Кожевникова в беседе.
В цитировавшейся выше переписке ЦК партии, КГБ и руководства ССП нет сведений о каких-либо других официальных беседах Гроссмана с перечисленными литературными функционерами. Значит, он с ними не беседовал.
Отсюда следует, что Гроссман описывал не одну беседу, а несколько – официальных и неофициальных, состоявшихся в разное время. Имелись в виду разговоры не только с Кожевниковым, Марковым, Сартаковым, Щипачевым, но и другими товарищами по ремеслу. Приведена совокупность их оценок романа и перспектив его публикации.
Еще раз подчеркнем: фактография в письме выверена тщательно. На этом уровне все, что Гроссман сообщил адресату, подтверждается документами. Кое о чем умолчал, однако и не солгал.
Из литературных функционеров, ознакомившихся с рукописью в силу должностных обязанностей, названы главреды «Знамени» и «Нового мира», Марков, Сартаков, Щипачев. Но кто же определил срок цензурного запрета, подчеркнем, нельзя выяснить по гроссмановскому письму. Уместно предположить, что автор и не хотел это указывать точно.
Почему – другой вопрос. К нему мы еще вернемся. С точки зрения общей риторической конструкции письма он не играет сколько-нибудь важной роли. Важно, что сказано про «250 лет» сокрытия правды.
Уместна и ссылка на Н.Г. Чернышевского. В советскую эпоху он признан эталоном писателя-революционера. Ну а меньшевик Г.В. Плеханов к 1960-м годам вполне оправдан, вновь признан теоретиком социализма и основателем РСДРП.
Гроссман выстраивал риторическую конструкцию: от легендарных предшественников – Герцена, Чернышевского и Плеханова – к Ленину, эталонному большевистскому лидеру. Сталин, разумеется, отступник. Зато сменивший его Хрущев – продолжатель истинно коммунистических традиций. Он разоблачил диктатора-злодея, добился оправдания безвинно осужденных и бессудно расстрелянных, восстановил демократию. Коль так, арест романа – досадная оплошность, да и произошла она до XXII съезда партии. Ее нужно устранить.
Письмо Гроссман отнес в приемную ЦК партии. Дата на регистрационном штампе – 23 февраля 1962 года.
Контрприемы
Интрига вновь обострилась. Переданное в приемную ЦК КПСС письмо было сразу «принято к рассмотрению».
Но к Хрущеву оно попало отнюдь не сразу. Аппарату ЦК КПСС надлежало еще «подготовить вопрос».
Этим термином функционеры обозначали процедуру сбора документов, которые может потребовать начальник. 1 марта 1962 года заместитель председателя КГБ П.И. Ивашутин отправил в ЦК партии донесение, где характеризовал автора конфискованного романа.
Ивашу тин тогда исполнял обязанности председателя КГБ. Осенью 1961 года Шелепин был переведен на постоянную работу в ЦК КПСС.
Зампред КГБ знал, что гроссмановское письмо попало в приемную ЦК КПСС Поэтому отвечал на подразумевавшиеся вопросы: «Комитет госбезопасности докладывает дополнительные данные, свидетельствующие о том, что писатель Гроссман И.С. в кругу своих родственников и близких знакомых продолжает клеветать на социалистический строй, политику Коммунистической партии и Советского правительства».
Согласно донесению, Гроссман беседовал с друзьями и родственниками о проекте новой Программы КПСС. Документ этот был опубликован центральной прессой 30 июля 1961 года.
Лояльность при обсуждении проекта новой Программы КПСС подразумевалась. Однако Гроссман, согласно Ивашутину, лоялен не был. Не скрывал иронию, обсуждая базовые теоретические положения, относившиеся даже к марксистским представлениям о «кризисе капитализма».
Зампред КГБ акцентировал именно коренные разногласия. По его словам, «30 августа 1961 года в беседе с близким знакомым – писателем Липкиным С.И., рассуждая о проекте Программы КПСС, Гроссман заявил: “Я тебе должен сказать, что меня поразила эта Программа. Казалось бы, дадут намеки анализа. Повторено то, что было сказано Марксом. Кризисы. Где эти кризисы? Нет уже. Это же ложь. Это опровергнуто всем современным ходом развития западного мира. То есть поразительное какое-то абстрагирование от действительности”».
В донесении не сообщалось, где происходил разговор. Допустимо, что в квартире. Тогда сведения могли быть результатом прослушивания.
Кстати, разговоры Гроссмана с женой тоже пересказывались. Отмечено, что «13 февраля с.г. он заявил: “Я написал правду. Хотят отдать книгу, пусть отдают. Не хотят отдавать, пусть сажают”».
Из донесения следовало, что автор крамольного романа по-прежнему ведет «антисоветскую агитацию». Теперь лишь устно, вот и вся разница. А это дезавуировало аргументы Гроссмана, перечисленные в письме Хрущеву.
Но донесение оказалось аргументом недостаточным. Как явствует из записки, приложенной к документации КГБ, Хрущев распорядился 14 апреля обеспечить свое ближайшее окружение копиями гроссмановского письма, чтобы обсудить документ на заседании Президиума ЦК КПСС.
Функционерам опять следовало «готовить вопрос». Действовали спешно. 15 марта новый председатель КГБ – В.Е. Семичастный – подписал очередное донесение.
Кстати, он с 1950 года и в течение восьми лет был одним из секретарей ЦК комсомола, затем эту организацию возглавил. Успел под началом Суслова поработать – до и после опалы ревнителя идеологической целостности. По отношению к прежнему начальнику лояльность сохранил. Даже считался его креатурой.
Новое донесение – расширенное – адресовано уже не ЦК партии, а Хрущеву лично. Семичастный начал с описания предшествовавших событий: «Комитет госбезопасности в декабре 1960 года докладывал Вам о том, что писатель Гроссман И.С. представил в журнал “Знамя” для печатания свой роман “Жизнь и судьба”. Роман посвящен обороне Волгограда, в нем злостно критикуется советская социалистическая система, автор отождествляет фашистское и Советское государства, показывает, что в советском обществе жестоко подавляется личность».
Разумеется, в историографию не входила когда-либо «оборона Волгограда». Советские войска обороняли Сталинград. Но город был переименован в 1961 году: Хрущев заменил все топонимы, напоминавшие о предшественнике. Вот председатель КГБ и акцентировал свою преданность – даже в мелочах. Не только он так поступал, это было тенденцией.
Семичастный описывал и события, последовавшие за обсуждением романа «Жизнь и судьба». Уже без напоминаний о прежних донесениях: «В феврале 1961 года рукопись указанного произведения была изъята и взята на хранение в Комитет госбезопасности, а автор предупрежден о неразглашении данного факта».
Правда, автор романа был «предупрежден о неразглашении» лишь устно. Юридической силы предупреждение не имело. Далее же Семичастный сообщил: «После этого Гроссман стал озлобленным, раздражительным, ограничил круг своих знакомых».
В самом деле – ограничил. Но с близкими друзьями, включая Липкина, встречался. Семичастный утверждал, что при них Гроссман «ведет антисоветские разговоры, продолжает приписывать советскому общественному строю черты тоталитаризма, высказывает несогласие с внешней и внутренней политикой КПСС, оскорбительно отзывается о некоторых руководителях Советского государства».
Далее – примеры. Так, «25 января с.г. Гроссман заявил: “У нас десятки лет существует тоталитарный режим. Это национальное социалистическое государство вы с помощью микроскопа не отличите от подобных тоталитарных систем, которые создавались в Европе и Азии”».
Понятно, что словосочетание «национальное социалистическое государство» отсылало слушателя и читателя к хрестоматийно известному термину «национал-социализм». Семичастный акцентировал: не только сталинский режим, но и послесталинский сопоставлен с нацистской Германией. Демонстрировал, что это постоянная тема в разговорах Гроссмана и его знакомых. Как до XXII съезда КПСС, так и после.
Намек был не только на то, что Гроссману уже можно инкриминировать «антисоветскую агитацию». Подразумевалось еще и его недоверие к докладу Хрущева на XXII съезде партии. Что вполне корреспондировало с ранее сказанным – «оскорбительно отзывается о некоторых руководителях Советского государства».
Вновь акцентированы были и личные мотивы. Председатель КГБ отметил: «В последнее время Гроссман стал чаще обсуждать вопрос о безысходности своего положения в связи с изъятием у него рукописи романа “Жизнь и судьба”».
Итоговый вывод тоже сформулирован. Семичастный заявил: «Комитет госбезопасности считает целесообразным привлечь Гроссмана И.С. к уголовной ответственности».
На этот раз правовое обоснование не определено. И явно не по забывчивости председателя КГБ.
Выше отмечалось, что инкриминировать писателю «изготовление, хранение и распространение» вряд ли стоило. Доказать такое весьма трудно, имиджевый же ущерб – при международной огласке – колоссальный.
Инкриминировать «антисоветскую агитацию» тоже практически невозможно. Если и были материалы прослушивания, то при условии международной огласки они считались бы весьма сомнительными уликами. Понадобились бы тогда показания лично слышавших «клеветнические» разговоры, однако не следовало откуда-либо с необходимостью, что родственники и друзья Гроссмана согласятся против него свидетельствовать на открытом судебном процессе. Это навсегда бы опозорило их. Значит, КГБ по-прежнему не имел возможностей предотвратить заграничную публикацию, действуя исключительно в рамках закона. А все остальное зависело от санкции ЦК партии, на что и намекал Семичастный.
КГБ – лишь инструмент. Решения принимались не там. Вот почему Семичастный, как ранее Шелепин, сформулировав вывод, закончил донесение фразой: «Прошу рассмотреть».
Но КГБ все же получил результат, нужный организатору интриги. Донесения Ивашутина и Семичастного полностью дезавуировали все доводы Гроссмана в письме Хрущеву. Литератор, настаивавший на своей лояльности, не был лоялен. Значит, не имелось оснований верить в его готовность служить режиму.
22 марта арестованный роман был обсужден, как это и требовал Хрущев, порою акцентировавший свою приверженность демократическим методам. В протоколе – итоговое решение: «Поручить т. Суслову принять писателя Гроссмана и провести с ним беседу в духе состоявшегося обмена мнениями на заседании Президиума ЦК».
Организатор интриги, что называется, замкнул ее на себя. И в данном случае тоже не приходится рассуждать о попытках свести с Гроссманом личные счеты, если они и были. По-прежнему Суслов решал идеологическую задачу в государственном масштабе.
Задача – Нобелевская премия. Она бы подтвердила, что в социалистическом государстве может быть создана литература, сравнимая с классической русской.
Роман «Жизнь и судьба» был вне советской литературы. Следовательно, автору не полагалось стать лауреатом. Однако уже имелся опыт пастернаковского инцидента, не исключалось повторение.
Теоретически мог бы Суслов бы пойти на уступки. Опытные цензоры-редакторы удалили бы из гроссмановской рукописи все эпизоды и суждения, противоречившие идеологическим установкам. С первой частью дилогии сделали ведь нечто подобное. Да, художественный уровень резко бы снизился. Зато обошлось бы без ареста романа.
Однако не было гарантий согласия Гроссмана на компромисс. И даже если б согласился, не исключалось, что за публикацией в СССР последует иностранная, где автор восстановит купюры. Риск уже невелик: защитит международная известность. Для Суслова такая ситуация – хуже исходной, сложившейся к осени 1960 года.
Требовалось сделать так, чтобы сама рукопись словно бы не существовала. Однако при этом избежать огласки. В первую очередь – международной.
Операция устрашения в 1961 году была вполне эффективной. Но оставалась вероятность, что автор романа все-таки рискнет издать его за границей. Письмо Хрущеву свидетельствовало: к обострению ситуации Гроссман уже готов. А лидер партии мог в любой момент изменить решение.
Суслову требовалось развить интригу. Убедить Хрущева: единственно возможная уступка – сохранить писательский статус Гроссмана, коль скоро тот откажется от самой идеи публикации «Жизни и судьбы». А если нет, потребуются чрезвычайные меры. Беседовать уже не о чем.
Главный идеолог нейтрализовал эффект письма Хрущеву. Но следовало еще запастись аргументами для обоснования чрезвычайных мер – если Гроссман все же откажется от компромисса. И Суслов продолжал «готовить вопрос».
24 марта Ивашутин отправил в ЦК партии донесение, адресованное лично Суслову. Вновь отметил: «Писатель Гроссман И.С. в семье и среди близких знакомых продолжает утверждать, что в его книге “Жизнь и судьба” изложена правда, и он будет ее отстаивать».
Далее пересказывались суждения Гроссмана. Он утверждал, что выборы в СССР – комедия, а представители высшего партийного руководства, обличавшие сталинские преступления, сами к ним причастны.
Рос счет прегрешений. В мае Гроссман получил из ЦК КПСС приглашение, на беседу. Предварительное. Дату встречи должны были позже сообщить.
Вердикт
Известив Гроссмана о планируемой встрече, Суслов получил возможность доложить Хрущеву, что решение Президиума ЦК КПСС вскоре будет выполнено. И по-прежнему копил аргументы – «готовил вопрос».
31 мая Ивашутин отправил Суслову очередное донесение. Утверждал: КГБ «располагает данными о том, что в связи с приглашением на беседу в ЦК КПСС Гроссман И.С. встретился со своим близким знакомым Липкиным С.И., с которым советовался, о чем с ним будут говорить и консультировался, как держать себя на предстоящей беседе в ЦК КПСС».
Где «советовался» Гроссман – не сообщалось. Но слово «встретился» с необходимостью подразумевало встречу вне дома, а не визит Липкина. Тогда вероятность использования аппаратуры прослушивания – фактически нулевая.
Можно допустить, что встреча состоялась все же в гроссмановской квартире или «мастерской», а Ивашутин неточно выразил свою мысль. Не сумел внятно доложить. Однако вряд ли такой неумелый задержался бы на партийной работе, да еще и стал бы заместителем председателея КГБ.
Допустимо, что при разговоре Гроссмана и Липкина – вне квартиры или «мастерской» – присутствовало некое третье лицо. А также четвертое и пятое. Тогда можно предположить, что кто-нибудь из них и донес.
Но в любом случае председатель КГБ располагал подробными сведениями о разговоре. Так, отметил: «Липкин высказал предположение, что Гроссмана в ЦК КПСС вызывают для того, чтобы прощупать, “насколько искренен он” и “выяснить, ради чего он выбрал крайне левую позицию”».
Пресловутой «левизной» традиционно подразумевалась радикальность, бескомпромиссность. Такая характеристика была отчасти верна. Но автору крамольного романа пока и не предлагали какие-либо компромиссы. Семичастный же констатировал: «Далее Липкин сказал, что Гроссмана в ЦК КПСС могут убеждать в том, чтобы он переработал свой роман и добиться в этом его “душевного одобрения”».
Вариант допустимый. Гроссман, же «категорически заявил, что из его романа “патриотического произведения не выйдет”».
Отсюда следовало, что автор понимает, какова политическая направленность романа. Мало того, высмеивает навязанную пропагандой традицию употребления термина «патриот», в силу которой любовь к отечеству отождествлена с верностью правительству[139].
Но были и гораздо более серьезные прегрешения. Семичастный отметил: «Гроссман считает, что кардинальным вопросом беседы может быть “вопрос о сравнении двух государственных устройств – советского и немецкого, в сторону сближения параллелей”».
Из донесения следовало, что Гроссман видит «параллели». И на пресловутом «сближении» настаивает.
Согласно донесению, Гроссман готовил план беседы в ЦК партии. Заявил Липкину, что там будет рассуждать «так: “Во-первых, меня очень волнует судьба книги. Я хочу знать, что с ней, что собираются с ней делать. Пусть мне ответят, мне никто ничего не сказал, существует ли она. Отношение к этому факту я уже выразил в письме к товарищу Хрущеву”».
Но агрессивно вести полемику Гроссман не планировал. Разговор собирался просьбой завершить: «Помогите мне. Вы знаете, что мне трудно. Я не прошу ни квартир, ни дач, ни денег, ни издания собрания сочинений. Я беспрерывно работаю…».
Еще собирался пожаловаться на придирчивость редакторов. По его мнению, чрезмерную: «Рассказы я нигде не могу печатать. Я чувствую, что каждое слово, которое у другого прошло бы, у меня вызывает подозрение».
Были, конечно, «подозрения». Об аресте крамольного романа знали в московских редакциях. Слухи распространились быстро. Но, как выше упомянуто, в издательстве «Советский писатель» готовилась публикация очередной книги. Там и рассказы, и повести. Рукопись сдана в набор 20 марта 1962 года, подписана к печати 30 мая, о чем автора полагалось известить.
Аналогично, после ареста крамольного романа был принят «Новым миром» рассказ «Дорога». На июнь планировалась публикация, соответственно, шестой номер был сдан в набор 21 апреля 1962 года и подписан к печати 30 мая. Меж тем еще недавно Твардовский избегал встреч с Гроссманом, объявив, что сотрудничество уже невозможно.
Подчеркнем: обе редакции активизировались после обращения писателя к Хрущеву. Явное следствие вмешательства Суслова. Он мог бы при случае демонстрировать лидеру партии, что Гроссману вовсе не запрещена литературная деятельность. И не будет, если согласится, что роман его словно бы и не существовал.
Редакторы «Нового мира» и «Советского писателя» должны были известить Гроссмана, что издания уже в типографии. Обычно так и делалось.
Допустим, известили за день до описанного в донесении КГБ разговора Гроссмана и Липкина. Но извещения еще не подразумевали с необходимостью, что публикации состоятся. Всякое случалось. Это и учитывал Гроссман.
Из донесения же КГБ следовало, что по вопросу о конфискованном романе Гроссман готов к уступкам цензуре. В обмен на компромисс, как советовал Липкин, собирался просить о выпуске собрания сочинений или двухтомника избранной прозы.
Допустимо, что собирался. Рукописи спрятал, ну а время старался выиграть. Суслову же важна была гроссмановская принципиальная готовность уступить. К донесению приложена его записка:
«Тов. Поликарпову.
Прошу ознакомиться и переговорить».
О чем должен состояться разговор – не указано. Инструкции Поликарпову даны при личной встрече или по телефону.
14 июля Семичастный отправил Суслову новое донесение. Сообщал о «материалах, характеризующих настроения писателя Гроссмана И.С.».
Описан был его разговор с женой и одной из сотрудниц журнала «Новый мир». По словам Гроссмана, все они в молодости верили учению Маркса, «потому что марксизм не был догматичен, он пришел на смену догме. Мы же верили в марксизм, когда само бешенство революции было связано с марксизмом, когда марксизм был тараном, который ниспровергал все, это была могучая и оплодотворяющая мысль и жизнь сила, страшно революционная, связанная с такой великолепной романтической идеей, как идея пролетарского интернационализма, с лозунгом: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”».
Гроссман противопоставлял свою наивность – мудрости старших, критически относившихся к марксизму. Подчеркнул, что «были люди, которые тоже верили в революцию и не были обывателями, были глубокими мыслителями. Они вскрыли сущность этого явления совсем по-иному. Они видели, что эта демагогия прикрывает совершенно ужасные вещи, что это сулит невероятные страдания и закабаления народам, миру».
Но, констатировал Гроссман, даже самые прозорливые не смогли изменить что-либо. События развивались, и Ленин «истребил тогда до корня все революционные партии, которые силой своего духовного подъема боролись с царизмом, объявил их контрреволюционными, продажными, агентами капитализма, клеймил их, проклинал, ругал, оплевывая».
По словам Гроссмана, итоги деятельности легендарного вождя очевидны. Все и «пошло, как он велел. Потому уж появился Сталин, о котором абсолютно правильно говорили: “Сталин это Ленин сегодня”. Какие же тут случайности могут быть? Случайность может быть при покупке билета в кино, а при гигантских исторических процессах случайностей не бывает. Процесс выправляет случайность. Все было предопределено».
Итоги деятельности Сталина и его преемников, согласно Гроссману, тоже очевидны. Автор крамольного романа утверждал, что советская государственная система давно стала «антисемитской, мещанской, до конца реакционной, ничтожной».
В общем, сказанного было бы уже достаточно Суслову, чтобы убедить Хрущева более не вмешиваться. Ну а Гроссмана известили: беседа состоится 23 июля.
Он давно ждал, подготовил тезисы – черновик. В частности, собирался заявить: «Я писал то, что чувствовал, думал, то, что я не мог не написать»[140].
Помнил и пастернаковский метод защиты. Хотел акцентировать: «Выстраданную правду эту я не спрятал, не скрыл, как дулю в кармане, а отдал редакторам. После редакции рукопись не прочел ни один человек. Изъятие – не ответ на мои действия, а ответ на мою рукопись».
Гроссман также собирался подчеркнуть, что готов к любому развитию событий. В том числе и к чрезвычайным мерам: «Я хочу сказать, что насилие меня не испугает. Я глубоко верю, что правда, любовь к людям были и будут основой самой великой литературы мира – русской литературы».
Планировалась и апелляция к опыту литературных скандалов. Гроссман считал его отрицательным: «Пример Дудинцева и Пастернака – не пример того, что не дожали, а пример того, что пережали. А меня решили ломать, считая, что тех не дожали».
У Суслова тоже был план беседы. Фактически – конспект отнюдь не краткой речи, адресованной единственному слушателю[141].
Основные тезисы Суслов воспроизвел, но в целом план изменился. Так, уменьшилось количество ссылок на внешнеполитическую ситуацию, добавлены историко-литературные примеры, связанные с деятельностью Толстого, Горького и т. д. После беседы Гроссман, вернувшись домой, записал услышанное. Документ этот хранится в РГАЛИ[142].
Гроссман специально указал, что фиксирует лишь услышанное. Записи предшествовал заголовок:
«Беседа с М.А. Сусловым
23 июля 1962 года
(по памяти)».
Согласно записи, Суслов сразу перешел к сути дела. Отметил: «Вы обратились с искренним письмом к Н.С. Хрущеву. Факт этот является положительным. В своем письме вы предлагаете опубликовать ваш роман “Жизнь и судьба”. Ваш роман опубликован быть не может. Вы пишете, что книга ваша написана искренно. Но искренность – не единственное условие для создания современного художественного произведения.
Ваш роман – книга политическая. Вы не правы, когда пишете, что роман ваш – произведение только художественное. Ваш роман враждебен советскому народу, его публикация принесет вред не только советскому народу и государству, но и всем, кто борется за коммунизм за пределами Советского союза, всем прогрессивным трудящимся и в капиталистических странах, всем, кто борется за мир».
Вывод ясен. Далее сказано: «Роман принесет пользу нашим врагам.
Вы знаете не хуже нас, как велико сейчас международное напряжение, какая напряженная борьба идет сейчас между двумя системами».
Отсюда следовало, что автор романа «Жизнь и судьба» пытался – вольно или невольно – содействовать врагам СССР. Но Суслов подчеркнул, что в обращении к собеседнику будет использована традиционная форма: «Товарищ Гроссман».
Имелись в виду прежние заслуги. Что и акцентировалось: «Ваш уход с позиций, с которых были написаны “Степан Кольчугин”, “Народ бессмертен”, “За правое дело” я объясняю вашей самоизоляцией, личными переживаниями, преувеличенным, чрезмерным интересом к темным сторонам периода культа личности. Вы отвернулись от огромного количества положительных явлений современности. Вы самоизолировались».
Далее – примеры «самоизоляции» классиков русской литературы. Писателей, изолировавшихся, по мнению главного идеолога, от социальных проблем современности. После чего Суслов перешел к аргументам Гроссмана: «Вы считаете, что мы нарушили в отношении вас принцип свободы. Да, это так, если понимать свободу в буржуазном смысле. Но у нас иное понимание свободы. Мы не понимаем свободу так, как понимают ее в капиталистическом мире, как право делать все, что угодно, не считаясь с интересами общества. Подобная свобода нужна лишь империалистам, миллионерам».
Судя по записи, Гроссман спросил, как ему действовать в дальнейшем. Ответ был дан: «Наш советский писатель в своей работе должен делать то, что нужно народу, полезно обществу».
Подразумевалось, что лишение писательского статуса не предусмотрено. Гроссман, похоже, спросил, ознакомился ли собеседник с арестованным романом. И получил ответ: «Я не читал вашей книги, но я внимательно прочел многочисленные рецензии, отзывы, в которых немало цитат из вашего романа. Вот видите, сколько выписок я сделал из этих рецензий и цитат».
Из записи беседы следует, что Гроссман предложил собеседнику передать роман на рецензию другим писателям, более авторитетным – с его точки зрения. Суслов это предложение отверг. Заявил, что прежние рецензенты «могли ошибиться в художественной оценке книги, но они были единодушны в политической оценке ее. И у меня нет никаких сомнений, что это политическая оценка совершенно правильная».
Подразумевалось, что изменить решение нельзя. И Суслов это опять акцентировал: «Напечатать вашу книгу невозможно, и она не будет напечатана».
Судя по записи беседы, Гроссман задал вопрос о судьбе рукописи. Ответ был пространным: «Нет, она не уничтожена. Пусть лежит. Судьбу ее мы не изменим.
Не следует преуменьшать и недооценивать тот вред, который принесла бы ее публикация.
Зачем же нам к атомным бомбам, которые готовят против нас наши враги, добавлять и вашу книгу? Ее публикация поможет нашим врагам.
Этим мы лишь увеличим жертвы. Мы призваны укреплять государство и защищать народ, зачем же нам печатать ваш роман?».
Аргументы далее повторялись с небольшими вариациями. Кроме того, Гроссману инкриминировалось сопоставление, а не противопоставление СССР и нацистской Германии, оправдание Троцкого и т. д.
Суслов воспроизводил сказанное на редакционном обсуждении романа, цитировал стенограмму. Так что не обошлось без дежурного сравнения: «Вы знаете, какой большой вред принесла нам книга Пастернака. Для всех, читавших вашу книгу, для всех, знакомых с отзывами о ней, совершенно бесспорно, что вред от книги “Жизнь и судьба” был бы несравнимо опасней, чем вред от книги “Доктор Живаго”.
Для чего же нам теперь, после сорокалетнего победоносного существования Советской власти, после разгрома немецкого фашизма, дошедшего до Волгограда, после того, как третья часть человечества стоит под нашими знаменами, публиковать вашу книгу и начинать с вами публичную дискуссию, нужна ли людям Советская власть?».
Примечательно, что Суслов тоже именовал Сталинград Волгоградом. И подчеркнул: «Мы вскрыли ошибки, сопутствовавшие культу личности Сталина, но мы никогда не будем осуждать Сталина за то, что он боролся с врагами партии и государства. Мы осуждаем его за то, что он бил по своим».
Если судить по записанной далее тираде главного идеолога, Гроссман ответил, что и первая часть дилогии была признана антисоветской. Но Суслов парировал: «Никакие аналогии между судьбой этого вашего романа и книги “За правое дело” невозможны. Эти книги несравнимы. Ко мне когда-то пришел Фадеев и просил прочесть “За правое дело”. Я прочел книгу, в ней не было ничего политически плохого. А ваш роман “Жизнь и судьба” политически враждебен нам, он весь полон вопросительных знаков. Вы в своей этой книге рассматриваете нашу жизнь не с наших советских позиций, вы во всем усомнились».
Суслов лукавил, не зная, что его роль в интриге, связанной с романом «За правое дело», известна Гроссману в подробностях – от Фадеева. Не учитывая осведомленности собеседника, настаивал: «Мы не боимся, когда говорят о темных сторонах нашей жизни, стоя на наших позициях.
Если следовать вам, нельзя понять, почему мы победили в войне. Судя по вашей книге, мы не могли победить. Нельзя понять, почему мы победили.
Партия и народ не простят нам, если мы опубликуем вашу книгу. Это только увеличит количество врагов».
Аргументы вновь повторялись. Суть – насилие допустимо в борьбе с врагами советского режима. Далее Суслов вернулся к исходным тезисам: «Мы все прочли ваше письмо. Видите, оно лежит передо мной, обсудили его.
Я высоко ценю “Кольчугина”, “Народ бессмертен”, “За правое дело”, других ваших книг я не читал.
Я призываю вас вернуться на те позиции, на которых вы стояли, когда писали эти книги.
Если вы теперь не отреклись от прежде написанных вами книг, то, может быть, следует их переиздать, например – “За правое дело”».
В обмен на отказ от романа «Жизнь и судьба» – большие гонорары. Чуть ли не собрание сочинений, хотя госсмановские публикации начала 1960-х годов Суслов и оценил невысоко. Но принципиален тут копмпромисс. Главный идеолог повторил: «Я верю, что вы откажетесь, отойдете от нынешних своих взглядов и будете писать с тех позиций, с которых написаны прежние ваши книги».
Суслов отметил, что уходит в отпуск и, возможно, прочтет арестованную рукопись. И даже намерен через пару месяцев встретиться с Гроссманом, однако темой новой беседы не станет роман «Жизнь и судьба». На том и простился: «Желаю вам всего хорошего».
Вердикт Суслова был окончательным. Гроссман мог лишь выбрать: сохранить профессию – или рискнуть собой и заложниками.
После вердикта
«Новый мир» поместил рассказ «Дорога» в шестом номере, как это и планировалось. А 7 июня сборник прозы «Старый учитель» был подписан к печати. Вскоре его выпустили, и автор получил оставшиеся три четверти гонорара. Немалую сумму, кстати.
Издание было весьма солидное. Объем – свыше двадцати семи листов, цветной картонный переплет, фотография автора на третьей странице. Под ней и аннотация: «Читателю хорошо известны многие произведения Василия Гроссмана – романы “Глюкауф” (1934), “Степан Кольчугин” (1937–1940), “За правое дело” (1954), повесть “Народ бессмертен” (1942).
В настоящую книгу вошли повести и рассказы Василия Гроссмана, написанные в разные годы. Большинство из них связано с военной темой, всегда занимавшей в творчестве писателя значительное место. “Молебен”, “Четыре дня”, “В городе Бердичеве” и другие рассказы повествуют о первой мировой и гражданской войнах. “Народ бессмертен”, “Жизнь”, “Старый учитель” – о Великой Отечественной войне.
В книгу вошли также рассказы, написанные в тридцатых годах. В них писатель изображает людей-тружеников, творцов жизни и людей-пустоцветов, обывателей, мещан (“Цейлонский графит”, “Повесть о любви”, “Сын” и другие)».
Упоминаний о романе «Жизнь и судьба» нет. Словно его и не было.
Зато фотография писателя и пространная аннотация, по сути, предисловие свидетельствовали: гроссмановский статус по-прежнему высок. Ничего тут не изменилось.
Отметим, кстати, что роман «За правое дело» датирован неверно. Он впервые опубликован в 1952 году.
Получается, что автор предисловия ошибся на два года. Немалый срок, если речь идет о современной литературе.
На самом деле ошибки нет. Редакторы датировали роман по второй публикации, книжной, а не журнальной. Обычно это не практиковались, но в данном случае сочтено уместным, чтобы избежать предсказуемых ассоциаций с памятным еще скандалом 1953 года. Его тоже словно и не было.
Выпуск сборника в таком оформлении – событие, что называется, знаковое. Оно санкционировано ЦК КПСС, участие Суслова несомненно.
Гроссман в письме Хрущеву анализировал свое положение как писателя. С необходимостью подразумевалось, что ситуация безвыходная. Суслов же демонстрировал, что о запрете публикаций речи нет, в этой области все благополучно.
Через Поликарпова он дал понять литературным функционерам: инцидент с изъятием рукописей надлежит считать исчерпанным. Сделать так, чтобы его словно и не было. Приказание исполнили. Это и обозначала публикация сборника в престижном оформлении.
Задолго до июльской беседы Суслов демонстрировал, что ситуация для Гроссмана по-прежнему благоприятна, карательные меры не применяются и не планируются. Вывод подразумевался: не следует упорствовать, изыскивая возможность издать роман за границей.
Суслов тщательно «готовил вопрос». Беседа – последний аргумент. Через два дня Семичастный отправил Суслову донесение, где подвел итоги: «Докладываю Вам о реагировании писателя Гроссмана И.С. на Вашу беседу с ним 23 июля с.г.».
Реакция на беседу описана в контексте настроений, предшествовавших ей. Согласно донесению, Гроссман, «узнав о вызове в ЦК КПСС, сказал жене: “Ничего особенного я от этого не жду. Ничего плохого они мне не сделают. Но с ними поговорить мне надо. В смысле книги тоже ничего хорошего не сделают”».
Настроение, значит, было подавленным. Далее председатель КГБ сообщил, что Гроссман «подробно рассказал жене о содержании состоявшейся беседы. На её вопрос, можно ли надеяться на издание романа, ответил: “Книга признана политически вредной и несравнимой даже с Пастернаком по своей опасности…”».
Жена знала, что муж обращался к Хрущеву. И Гроссман точно воспроизвел суть вердикта Суслова: «На мое письмо отвечено отказом. Книга напечатана не будет и возвращена не будет».
Гроссман подчеркнул, что надежд более нет. Инстанция последняя: «Меня похоронили на самой вершине. Это сделано, видимо, решением Президиума Центрального Комитета. Перерешать это нельзя. Значит, изменить мою судьбу может только государственный переворот, потому что другого способа уже нет. Писать больше некому, апеллировать не к кому. Всё решено. В общем, они правы со своей точки зрения…».
Последняя фраза в абзаце подчеркнута синим карандашом. Сусловская помета. А Семичастный далее сообщал: Гроссман жене сказал, «что с ним говорили разумно и благородно».
Эти слова тоже подчеркнуты синим карандашом. Еще одна похвала – Суслову. Но Семичастный отметил, что результат беседы Гроссман считал катастрофическим: «У меня не было волнения, когда я говорил. Тоска была. А потом, по правде сказать, я даже не слушал, что они говорят. Я понял, что я умер».
Местоимение «они» Гроссман употребил не раз, хотя собеседник был один. Подразумевалось, что тот передал не только свое мнение. Вежливо, уважительно, однако суть не менялась.
Далее председатель КГБ пересказал финал разговора. Речь шла о личном отношении к Суслову: «В конце беседы Гроссман утвердительно ответил на вопрос жены, являетесь ли Вы теперь его врагом».
На первый взгляд – странный вопрос. Ранее муж заявил Губер, что собеседник говорил «разумно и благородно», даже и прав был – «со своей точки зрения». Не грозил, рассуждал о переизданиях книг. Да и местоимение «они» подчеркивало: Суслов выражал не только собственное мнение. Вроде бы нет оснований выяснять, считает ли его Гроссман личным врагом.
На самом деле вопрос этот уместен при оценке итогов беседы. Если пользоваться терминологией Семичастного – в аспекте «реагирования».
Сказал бы Гроссман, что ему Суслов не враг, значит, как помощь воспринял предложения собеседника. Но ответ был другим. Следовательно, автор крамольного романа не смирился, да еще и угадал, кто инициировал всю интригу.
В какой мере Губер удовлетворила свое любопытство – трудно судить. А вот Семичастный понял, чем ему интересен ответ писателя. О том и доложил. А далее сказано: «Беседу с Вами Гроссман отпечатал на пишущей машинке и ознакомил с содержанием этого документа своих близких друзей, которые собрались у него на квартире 24 июля по случаю дня рождения жены».
Эта дата тоже подчеркнута синим карандашом. Отметил Суслов, что «близкие друзья» Гроссмана узнали о беседе в ЦК партии на следующий день.
Смысл пометы ясен. А странно другое. Судя по донесению, писатель не сообщал жене о намерении документировать беседу в ЦК партии, однако Семичастный узнал: появилась запись. Если в квартире и была аппаратура прослушивания, так сотрудники КГБ могли только услышать разговоры, а не увидеть, какой документ «отпечатал на пишущей машинке» Гроссман.
Допустим, Семичастный опять неточно выразил свою мысль, и Гроссман все же сообщил жене о записи. Тогда это могло бы фиксироваться материалами прослушивания.
Но и это не снимает всех противоречий: Председатель КГБ доложил, что Гроссман документировал беседу, однако сведений про обсуждение документа нет. Осталось неизвестным, как его – в кругу «близких друзей» – комментировал сам автор. Реакция слушателей тоже не фиксируется.
Нет оснований полагать, что такую информацию счел бы маловажной председатель КГБ. Вывод единственный: не было ее. И тут возможны три варианта объяснения.
Первый: не работала аппаратура прослушивания. Но если в результате ее использования получены сведения, приведенные ранее, так сотрудники КГБ услышали бы и обсуждение.
Второй: обсуждения не было. Тоже исключено. Нет оснований полагать, что «близких друзей» Гроссмана не заинтересовал бы разговор в ЦК КПСС, и они бы не выразили свое мнение.
Третий: документ обсужден был, однако ни один осведомитель при обсуждении не присутствовал. Вот так и объясняются странности.
Документ обсуждался не за праздничным столом. Не при всех гостях и семье. Участвовали, как подчеркнул Семичастный, только «близкие друзья» Гроссмана. В КГБ же про обсуждение узнали от слышавшего о записи, однако, не видевшего ее. По крайней мере, до 25 июля 1962 года.
Судя по материалам переписки, сведения о сказанном при обсуждении документа в квартире Гроссмана не поступили и позже. Но, похоже, Суслова это уже не интересовало. Роман не публиковался вне СССР, хотя после ареста минуло полтора года, значит, рукопись не была отправлена за границу, если автор ее и спрятал. Пусть он не смирился, главное, что покорился. Его по-прежнему контролирует КГБ, а задача партийных инстанций – минимизировать огласку. Для этого и нужно сохранить прежнюю литературную репутацию Гроссмана.
В интриге Гроссман пока что проигрывал. Каждый шаг его предугадывал Суслов. Но силовые меры не спешил использовать.
Сочувствие писателю или уважение к закону тут ни при чем. Подчеркнем: арест Гроссмана провоцировал бы отправку рукописей за границу. Других способов защитить арестованного не осталось бы у его друзей. Понятно, речь о тех, кто готов был бы рискнуть собой. Лишь международная огласка скандала предоставила бы автору крамольного романа защиту. Хотя бы минимальную.
Арест Гроссмана не был решением проблемы. Еще и новую бы создал.
Вот Суслов и выбрал другой вариант. Пытался если и не переубедить, так подкупить Гроссмана. Разумеется, запугав предварительно.
Сусловскую тактику Гроссман понимал. И не мог ей ничего противопоставить.
Липкин утверждал, что к началу 1960-х годов «не в обычае были знакомства с иностранными корреспондентами, издателями. Во всяком случае, Гроссман никого из них не знал». Как отмечено выше, это не соответствует действительности.
Причем не только потому, что у Гроссмана были знакомые иностранцы. Важно другое: десятилетие спустя знакомства с гражданами других стран по-прежнему «не в обычае» у большинства советских интеллектуалов: риск оказаться в сфере внимания КГБ всегда оставался.
Гроссману и его «близким друзьям», чтобы забрать тысячестраничную рукопись оттуда, где она хранилась, и передать иностранцу, требовалось бы предварительно избавиться от наблюдения КГБ. Хотя бы на время. Сделать такое сложно, не имея соответствующих навыков.
Риск велик, а вероятность удачи – мизерна. Об этом факторе Липкин и не сказал.
Вряд ли нужно подтверждать многочисленными свидетельствами, что советские интеллектуалы в большинстве своем подозревали: сотрудники КГБ ведут наблюдение за иностранцами, особенно приехавшими не из «социалистических стран». Так и было весьма часто.
Гроссман и сам был под наблюдением. Вряд ли сомневался, что за ним постоянно следят – после ареста романа. Например, Роскина в мемуарах описывала его отношение к перспективе новых знакомств с иностранцами[143].
Если верить мемуаристке, она в 1960 году очередной раз встретилась с братом матери – Евгением Исааковичем Рабиновичем, эмигрировавшим почти сорок лет назад. Он стал известным американским физиком, приезжал в Москву на международные научные конференции.
Дядя, как в юности, был увлечен русской литературой. С ним Роскина и хотела познакомить Гроссмана – при случае. Но все же опасалась, что ее саму «вызовут для каких-нибудь неприятных бесед».
Современникам не требовались пояснения. Юджин Рабинович – американский гражданин, значит, вызвать должны были в КГБ: выяснить, что за «контакты с иностранцами».
Гроссмана, по словам мемуаристки, заинтересовало предстоящее знакомство. И опасения Роскиной он счел напрасными.
Но так было до ареста рукописей. А после, когда американский физик вновь приехал, Гроссман в телефонном разговоре с Роскиной отказался от встречи. Как отметила мемуаристка, заявил, что «настроение неподходящее, ни к чему, – между двумя приездами дяди и произошла катастрофа с романом».
Гроссман, согласно Роскиной, опасался не зря. Мемуаристка отметила, что «телефонный звонок не прошел незамеченным, был где-то зафиксирован. Только этим я могу объяснить, что когда я провожала дядю на Шереметьевском аэродроме, то стала, через стеклянную стену, свидетельницей обыска, которому он подвергся. Таможенники отодвинули его в самый конец очереди и, когда он остался один, предложили ему для начала раскрыть чемоданы. В них не было почти ничего, кроме бумаг и книг. Каждую книгу трясли, бумаги пересмотрели все по листочку (а бумаг была прорва: он приехал в Москву на конгресс биохимиков из Стокгольма, с конгресса биофизиков; там и тут получил в подарок десятки оттисков, там и тут делал свои записи, исписал уйму блокнотов, и все это, в силу его характера, было в хаотическом состоянии). Предложили показать содержимое бумажника, настойчиво осведомлялись, не везет ли он каких-нибудь писем. Все это длилось долго, около часа, срок вылета прошел, и я уже уверена была, что дядю вообще не выпустят. Но он вышел, как всегда, спокойный, успел сказать через турникет: “Они назвались работниками Главлита…” – и его поспешно увели в самолет, который через минуту поднялся в воздух».
Нет оснований полагать, что обыскивавшие «назвались работниками Главлита». Это абсурд. Скорее, физик, успевший познакомиться с некоторыми советскими литераторами благодаря содействию племянницы, намекнул ей на причину обыска. Далее же Роскина сообщила: «Никаких поручений тайных ни от меня, ни от кого, ни от Василия Семеновича у дяди не было. (Пишу это, сознавая, что здесь нечем хвастаться. Дядя не отказался бы, но никто ни о чем его не просил)».
После отъезда дяди Роскина встретилась с другом отца. И отметила: «Разумеется, инцидент в Шереметьево мог быть реакцией и на другие встречи Рабиновича в литературной среде. В таких делах никогда не бывает уверенности. Но Гроссман был убежден, что это связано с ним. Дома он выслушал меня внимательно, а потом, выйдя меня проводить, заговорил об этом снова. Он не доверял своей квартире. Впоследствии и мне пришлось узнать это чувство, мерзкое чувство недоверия к своему дому, к потолку, к люстре, к телефонному аппарату, к вентиляционной решетке в кухне… Мы бродили с Василием Семеновичем вокруг его дома на Беговой. Мне было нечего добавить. Не скрою, мы оба чувствовали тошнотворный страх, по спине шел знакомый холодок – близость беды, близость того, от чего хочется быть подальше…».
Гроссман, согласно Роскиной, опасался прослушивания. Но тогда странно, что дома он позволял себе заведомо крамольные суждения, фиксированные донесениями КГБ.
Допустимо, что Роскина по-своему осмыслила историю несостоявшегося знакомства своего дяди с другом отца. И даже что-нибудь домыслила.
Но в любом случае это свидетельство очень важное. Характеризующее контекст литературного процесса и в, частности, положение Гроссмана. До и после встречи с главным идеологом в ЦК КПСС.
Мемуарный нарратив
История обращения к Хрущеву, а также встречи Суслова и Гросссмана довольно подробно описана в мемуарах Липкина. После издания книги в 1986 году все это многократно было воспроизведено критиками и литературоведами.
На первый взгляд, суждения мемуариста правдоподобны. Так, Липикин утверждал: «При всей своей подавленности Гроссман втайне не терял надежды на то, что отношение к роману может перемениться. Он видел не только отрицательные, но и положительные черты импульсивного Хрущева, считал его доклад на XX съезде партии замечательным, ему внушали, как он говорил, “этюды оптимизма” документы XXII съезда партии».
Однако это опровергается документально. Гроссман, судя по донесениям КГБ, скептически относился к докладам на партийных съездах. Иронизировал, высмеивал их.
Липкин в данном случае пересказал фрагмент письма Хрущеву. Оно, кстати, воспроизведено в его книге.
Воспроизведено не без погрешностей, да и не сообщается, каким образом к мемуаристу попала копия. Читатели могли только догадаться: Гроссман передал. Так ли было – неизвестно.
Как бы то ни было, источник сведений очевиден. Именно в цитированном Липкиным документе сказано: «Я начал писать книгу до XX съезда партии, еще при жизни Сталина. В эту пору, казалось, не было ни тени надежды на публикацию книги. И все же я писал ее.
Ваш доклад на XXII съезде придал мне уверенности. Ведь мысли писателя, его чувства, его боль есть частица общих мыслей, общей боли, общей правды».
Свою интерпретацию письма Липкин выдал за суждения Гроссмана. А далее сообщил, что автор романа «Жизнь и судьба» решил «поговорить с Д.А. Поликарповым. Поликарпов был одно время оргсекретарем Союза писателей, потом покатился вниз, как раз в это время Гроссман с ним встретился в Гаграх, они часто беседовали на пляже, потом Поликарпов опять поднялся, стал в ЦК заведовать культурой. Я его тоже знал, он был из тех, кто делает зло только по приказу».
В описании карьеры функционера Липкин, мягко говоря, не точен. Поликарпов с 1939 года работал в Агитпропе. При этом шесть лет занимал и должность «ответственного секретаря Союза писателей СССР».
Трудно судить, был ли он «из тех, кто делал зло только по приказу». Вполне допустимо, что руководствовался лишь политическими установками, а не амбициями. Но известно, что конфликтовал с подчиненными весьма часто. Переведен на другую работу после очередного скандала: возмущенные произволом куратора, сотрудники журнала «Знамя» обратились в ЦК партии. Решение о переводе лично Маленков принимал[144].
Кстати, «вниз» Поликарпов вовсе не «покатился». Должность получил немалую, были и повышения. А затем вернулся в ЦК партии.
Да и знакомство Гроссмана с Поликарповым состоялось вовсе не в Гаграх. Встречались еще до войны на заседаниях правления ССП.
Неважно, знал ли все это мемуарист. В любом случае документами не подтверждается его рассказ о завязавшихся в Гаграх приятельских отношениях известного прозаика и бывшего агитпроповского функционера. Поликарпов, согласно Липкину, «как бы забыл о гагринском пляже, был с Гроссманом суров, резок, между прочим, со вздохом заметил: “Многократный орденоносец, член правления Союза писателей, а что написал!” Посоветовал Гроссману обратиться с письмом в ЦК».
Фразу про «орденоносца» Липкин не от Гроссмана услышал, а придумал, украшая эффектной деталью свою интерпретацию очередного фрагмента письма Хрущеву: «После изъятия рукописи я обратился в ЦК КПСС к тов. Поликарпову. Д.А. Поликарпов сурово осудил мой труд и рекомендовал мне продумать, осознать ошибочность, вредность моей книги и обратиться с письмом в ЦК КПСС».
Гроссман, если верить Липкину, последовал совету Поликарпова. Но тут и возникает противоречие, не замеченное, либо замаскированное мемуаристом. Речь идет об интервале между обращением к давнему гагринскому приятелю и отправкой письма Хрущеву.
Отметим для начала первую хронологическую границу. В письме Хрущеву сказано: «После изъятия рукописи я обратился в ЦК КПСС к тов. Поликарпову».
Когда именно «после изъятия», Гроссман не указал. Но прочие события датировал с точностью до месяца. Значит, немного прошло с 14 февраля 1961 года.
Теперь – вторая хронологическая граница. Письмо Хрущеву датировано 23 февраля 1962 года. Значит, с тех пор как Гроссман, по словам Липкина, получил совет Поликарпова, месяцев десять-одиннадцать миновало. Срок немалый.
Эту хронологическую разницу Липкин и не стал комментировать. В результате получилось, что Гроссман лишь по совету Поликарпова обратился к Хрущеву. Сам вроде бы не собирался.
Характерно, что он – в изображении мемуариста – выглядит уж очень наивным, вовсе беспомощным в области решения практических задач. Вот и рукопись не додумался спрятать, пока Липкин не предложил свою помощь, и к Хрущеву бы не обратился без поликарповского совета. Однако не верится, чтобы этакий неумеха мог и химической лабораторией на донецкой шахте руководить, и в главные технологи столичной фабрики выбиться, и советским классиком стать.
Гроссман – в липкинских мемуарах – сам на себя не похож. Это не случайность. Мемуарист тщательно выстраивал соответствующий образ. Писателю-нонконформисту по традиции положено быть наивным и непрактичным. А главное, перед власть имущими не выступать в роли просителя.
Именно поэтому Липкину понадобилась история о приятельских отношениях Гроссмана и Поликарпова, возникших на гагринском пляже. Благодаря ей получилось, что за советом писатель-нонконформист обратился к приятелю, которого некогда поддержал в беде. Ну а вне сферы внимания читателей остался упомянутый выше хронологический интервал.
В действительности промедление Гроссмана обусловлено вполне конкретными причинами. Объективными и субъективными.
Поликарпов советовал обратиться в ЦК партии не затем, чтоб рукопись вернули автору. Гроссман должен был покаяться. Ему следовало подтвердить свою лояльность. Тем самым значительно снижался бы эффект иностранной публикации романа, если бы автор решился такое сделать. Покаянное обращение непременно опубликовали бы советские газеты, уличая писателя в лицемерии.
Гроссман ждал. До XXII съезда КПСС в октябре 1961 года неясно было, продолжится ли «десталинизация». После – у многих возникли иллюзии.
Но автор конфискованного романа и тогда не спешил. Надлежало еще убедиться, намерен ли Хрущев реализовать сказанное в съездовском докладе. Через несколько месяцев стало очевидно, что цензура несколько смягчилась. И Гроссман, как шахматисты говорят, «сыграл на обострение».
Он не каялся. Доказывал, что арест рукописей не соответствует пропагандистским установкам, Хрущевым же сформулированным. Предлагал вернуться к традиционному варианту – работе автора под контролем редакторов.
Гроссман отнюдь не случайно упомянул о поликарповском совете. Акцентировал, что его обращение к Хрущеву – вовсе не проявление дерзости.
Правда, следовало объяснить, почему столь долго совету не следовал. И Гроссман выбрал уместное объяснение: «Я много, неотступно думал о катастрофе, происшедшей в моей писательской жизни, о трагической судьбе моей книги».
Отсюда следовало, что медлил с исполнением по уважительной – для литератора – причине. Думал.
Липкин не мог не понимать, в силу каких реальных причин Гроссман не последовал совету Поликарпова сразу. Но если бы они были определены, разрушился бы образ писателя-нонконформиста.
Далее Липкин продолжил рассказ об итогах встречи с заведующим Отделом культуры ЦК КПСС. Если верить мемуаристу, Поликарпов еще и посоветовал Гроссману «поговорить с руководителями Союза писателей, читавшими роман, помог устроить встречу с ними».
Согласно же документам РГАНИ, встречу Гроссмана с писательским руководством Поликарпов заранее планировал. И не после «изъятия» рукописей, а до. Она, подчеркнем, состоялась 30 декабря 1960 года.
Липкин интерпретировал письмо Хрущеву. И сообщил далее: «Состоялась у Гроссмана беседа с секретарем правления Союза писателей СССР Марковым, с секретарем правления Союза писателей РСФСР Сартаковым, с председателем правления московского отделения Союза писателей Щипачевым».
Действительно, беседа состоялалсь. Но, подчеркнем еще раз, не после изъятия рукописей, как утверждал мемуарист, а до. Кроме того, Гроссман в числе собеседников упомянул еще и Кожевникова, а Липкин – нет.
Причина угадывается. Вероятно, мемуарист счел, что писателю-нонконформисту более не подобало беседовать с доносчиком. Но таковым объявил Кожевникова не Гроссман, а Липкин.
Он свою версию обосновывал. Далее же сообщил: «По словам Гроссмана, его собеседники вели себя жестко, но чувствовалось, что арест романа им не по душе. Признали, что в романе нет очернительства, многое было так, как написал автор, но в нынешнее сложное время издание романа нанесло бы вред нашему государству, если и можно будет издать роман, то лет через 250»..
Липкин опять пересказывал цитировавашееся выше письмо Хрущеву. Но там нет сведений о встрече с руководством ССП, состоявшейся после конфискации рукописей. Почему – вполне понятно: ее не было. Встречались 30 декабря 1960 года.
Об этом Липкин не знал. Или – забыл. Гроссман же рассказывал в письме о разговорах с писателями, коих по-советски именовал товарищами. В том числе – Марковым, Сартаковым и Щипачевым.
Про декабрьскую беседу как таковую не упоминал. Участники предупредили его, что сообщат о результатах ЦК КПСС. Значит, адресту было известно, чем закончилась встреча.
Остальное домыслил Липкин. Увлекшись повествованием, не заметил, что источник постольку станет очевидным, поскольку далее в мемуарах приведено гроссмановское письмо Хрущеву. Точнее, копия недатированного черновика.
Письмо и должно было свидетельствовать: Гроссман безгранично доверял «самому близкому другу». А иначе бы не оставил ему столь важный документ на хранение.
Возможно, сам оставил, потому как доверял – тогда. Но отсюда не следует, что мемуарам Липкина можно верить.
Много там нелепостей. Вот и о результатах обращения к Хрущеву сказано: «Ответ пришел не сразу, но сравнительно скоро – через месяц или два после отправки письма. Все это время Гроссман никуда не выходил из дому, ждал звонка. Однажды вышел на часок подышать воздухом, а тут и позвонили. Трубку взяла Ира, ей дали номер телефона, по которому Гроссман должен был позвонить как можно быстрее. Так он и сделал, когда вернулся с прогулки. Его приглашали к Суслову».
Начнем с того, что «ответ пришел» не «через месяц или два». Миновало три месяца, прежде чем Гроссман узнал о предстоявшей встрече. И, как минимум, еще один – до того, как была назначена конкретная дата.
Впрочем, если бы и прошло только два месяца, трудно поверить, чтоб за «это время» Гроссман «не выходил из дома». Он и в редакциях бывал, и на заседаниях правления ССП.
Липкин сочинил про добровольное заточение в квартире. Это понятно – деталь эффектная. А вот о своих разговорах с Гроссманом, фиксировавшихся донесениями КГБ, не сообщил ничего. Даже встречу, состоявшуюся 31 мая 1961 года, не упомянул.
Это странно. Ведь как раз тогда он и Гроссман обсуждали тактику беседы в ЦК партии. Что, кстати, тоже фиксировалось донесением КГБ.
Возможно, Липкин забыл о давнем разговоре. Или, что более вероятно, не хотел рассказывать, как посоветовал Гроссману выторговать собрание сочинений в обмен на уступки цензуре. Однако в любом случае очевидно: мемуарист сочинял подробности, умалчивая о том, что на самом деле произошло.
Интересна также характеристика разговора писателя с главным идеологом. Липкин утверждал: «Они беседовали около трех часов. Гроссман записал дома по памяти (а она у него была великолепная) эту беседу».
Но в гроссмановской записи не сообщается, что «беседовали около трех часов». Даже если бы автор крамольного романа говорил не меньше Суслова, а тот сказал бы вдвое больше, чем фиксируется документом, все равно, «беседа» продолжалась бы примерно час.
Нет оснований полагать, что Липкин просто ошибся. Другой вопрос, зачем понадобилось ему выдумывать подробности.
Замкнутый круг
Липкин именно выдумывал подробности. И это видно при сличении его мемуаров с документами.
О «беседе» писателя-нонконформиста с главным идеологом Липкин рассказывал обстоятельно. Так, по его версии, «Суслов похвалил Гроссмана за то, что он обратился к первому секретарю ЦК. Сказал, что партия и страна ценят такие его произведения, как “Народ бессмертен”, “Степан Кольчугин”, военные рассказы и очерки. “Что же касается “Жизни и судьбы”, – сказал Суслов, – то я этой книги не читал, читали два моих референта, товарищи, хорошо разбирающиеся в художественной литературе, которым я доверяю, и оба, не сговариваясь, пришли к единому выводу – публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, Советской власти, советскому народу”. Суслов спросил, на что Гроссман теперь живет. Узнав, что он собирается переводить армянский роман по русскому подстрочнику, посочувствовал: трудновата, мол, такая двухступенчатая работа, обещал дать указание Гослитиздату – выпустить пятитомное собрание сочинений Гроссмана, разумеется, без “Жизни и судьбы”. Гроссман вернулся к вопросу о возвращении ему арестованной рукописи. Суслов сказал: “Нет, нет, вернуть нельзя. Издадим пятитомник, а об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через двести – триста лет”».
Но, судя по гроссмановской записи, Суслов не спрашивал, «на что живет» автор конфискованного романа. Не рассуждал о трудностях «двуступенчатой работы» – упомянутом «переводе армянского романа с русского подстрочника». И не обещал дать указание выпустить «пятитомное собрания сочинений». Наконец, он не определял продолжительность цензурного запрета в «двести-триста лет».
Кстати, Липкин еще и комментировал якобы сказанное о сроке запрета. Подчеркнул: «Не знаю, как двигалась эта космическая цифра, снизу – от писателей-функционеров к Суслову или сверху – от Суслова к ним».
Вполне очевидно: Липкин запись «беседы» не читал. Слышал о ней, однако с документом как таковым не ознакомился.
Подчеркнем: согласно донесению КГБ, запись «беседы» сделана Гроссманом, и с нею ознакомлены «близкие друзья», собравшиеся в квартире 24 июля – по случаю «дня рождения жены». Не за столом обсуждали, не вместе со всеми гостями. Как отмечено выше, не было осведомителей среди читавших документ, вот почему его содержание, да и комментарии читателей Семичастный не смог пересказать.
Липкин в мемуарах не сообщил об июльском семейном празднике. Объяснение простое: не пристутствовал там.
Не из-за ссоры, надо полагать. Уехал ли куда, занят был, мало ли причин. Главное, что позже ему Гроссман не показал запись «беседы». Так получилось, нет тут ничего удивительного. Подробности изъятия романа тоже не описывал – ни Липкину, ни Ямпольскому. Тема больная. Вот и разговор с главным идеологом вспоминать более не желал.
Липкин не знал, что запись «беседы» сохранилась. Потому сочинял подробности, демонстрируя читателям свою осведомленность. Он конструировал биографический миф Гроссмана и собственный тоже – как «самого близкого друга» писателя-нонконформиста. Так что неосведомленнось исключалась.
Беседа Гроссмана и Суслова была отнюдь не последним этапом интриги. Автор крамольного романа оставался под наблюдением КГБ.
Контроль был тщательным. 26 сентября 1962 года Семичастный отправил в ЦК партии очередную докладную записку[145].
Председатель КГБ отметил, что ситуация не изменилась. Вероятность скандала все еще велика: «Докладываю, что писатель Гроссман В.С. по-прежнему ведет замкнутый образ жизни, нигде не бывает, на квартире у себя принимает крайне ограниченный круг знакомых. Проведенные с ним беседы положительных результатов не дали: Гроссман не изменил своего враждебного отношения к политике КПСС и советского государства и в узком кругу продолжает вести антисоветские разговоры».
Но важны были не только «разговоры» Гроссмана. Акцентировалось: «Им написано еще одно произведение – антисоветское по своему содержанию».
Речь шла о повести «Все течет…». Именно тогда Гроссман завершал работу.
Похоже, экстренные меры уже планировались. Семичастный отметил: «В связи с тем, что рукопись антисоветского романа “Жизнь и судьба” была изъята у Гроссмана, на этот раз не исключаем с его стороны попыток передать новую рукопись за границу. Это обстоятельство Комитет госбезопасности учитывает, осуществляя наблюдение за Гроссманом».
Значит, любую встречу с иностранцами сотрудники КГБ должны были предотвратить. Или пресечь. Но подразумевалось, что задача предотвращения или пресечения весьма сложна, ведь следить надлежало за всеми, с кем общался упрямый прозаик. Докладная записка Семичастного заканчивалась фразой: «Копии отрывков из рукописи Гроссмана прилагаются».
Читал ли Гроссман вслух рукопись кому-либо из «крайне ограниченного круга знакомых» – не сообщалось. Значит, нельзя исключить, что «копии отрывков» подготовлены КГБ на основе материалов прослушивания.
Однако также нельзя исключить, что кто-либо мог копировать рукопись в квартире Гроссмана. Например, когда тот выходил куда-нибудь. Понятно, что в таком случае копировавший торопился, вот и попали в КГБ лишь «копии отрывков».
Равным образом, допустимо, что «копии отрывков» передал КГБ получивший рукопись от автора – для прочтения. Кто-нибудь из «узкого круга». И копировавшему, опять же, пришлось торопиться.
Суслов читал донесение Семичастного. Резолюция, по обыкновению, краткая: «Ознакомить секретарей ЦК КПСС, а также т. Поликарпова».
25 октября 1962 года Поликарпов докладывал о подготовленных мерах. Не только Суслову, еще и всем остальным секретарям ЦК партии[146].
Общие выводы формулировались жестко. Поликарпов утверждал: «Как видно из записки и приложенных к ней материалов, В. Гроссман не только не сделал правильных выводов из проведенных с ним разговоров, но все более ожесточается и отходит на чуждые позиции в оценке советского общества».
Значит, вероятность заграничной публикации романа по-прежнему велика. Соответственно, Поликарпов отметил: «Учитывая, что в литературной среде широко известны обстоятельства, связанные с рукописью его предшествующего романа, и существует весьма настороженный интерес к тому, как будут далее развиваться события, Отдел культуры считал бы в этих условиях необходимым провести еще один прямой политический разговор с Гроссманом, а также с наиболее близким ему человеком – писателем С. Липкиным».
Поликарпов не уточнял, откуда ему известно, что именно Липкин стал «наиболее близким». Не Гроссман же рассказывал, в самом деле. Но допустим, функционер использовал какие-либо донесения КГБ. Важно, что получал необходимые сведения. Соответственно, отметил. «Полагаю возможным провести эти беседы в Отделе культуры».
Значит, планировались две беседы. По отдельности с каждым из вызванных. Обе – в качестве альтернативы возможному аресту Гроссмана. Далее Поликарпов добавил: «Прошу рассмотреть».
Через неделю предложение рассматривалось на заседании Секретариата ЦК партии. Семичастному «рекомедовано вести работу в том же направлении, что прежде…».
Арест Гроссмана был исключен. Причина вполне понятна. Борьба за Нобелевскую премию не прекращалась, а потому скандал оставался нежелательным. Функционеры ЦК КПСС демонстрировали автору крамольных рукописей, что он и в дальнейшем может сохранять прежний высокий статус, получать значительные – по советским меркам – доходы. Разумеется, если и далее воздержится от несанкционированных заграничных изданий. А если нет – ответственности не избежать. Ни ему, ни заложникам.
В книге «Сталинград Василия Гроссмана» нет сведений о разговоре автора с Поликарповым. Но примечательно, что предисловие к публикации документов в газете «Труд» написано именно Липкиным, и там он тоже не комментировал предложение заведующего Отделом культуры ЦК партии[147].
Без комментария осталась и поликарповская докладная записка, связанная с подготовкой «расширенного заседания» в редколлегии «Знамени». Мало того, Липкин игнорировал донесения Семичастного о разговорах Гроссмана в «крайне ограниченном кругу знакомых». Даже про «копии отрывков из рукописи Гроссмана» мемуарист не стал рассуждать.
Это опять не случайность, а сознательный выбор. Предметное обсуждение архивных находок провоцировало бы критическое рассмотрение всех липкинских версий. Вот почему мемуарист не мог ни отказаться дать предисловие к публикации, ни сообщить хоть что-либо конкретное о предложении заведующего Отделом культуры ЦК КПСС.
Источники и причины
Не все липкинские версии основаны только на вымыслах. Кое-что он, как выше отмечалось, слышал от Гроссмана или сам же ему говорил.
В описание «беседы» с главным идеологом, например, вошло то, что помнил Липкин о разговоре с Гроссманом 31 мая 1962 года. Про собрание сочинений, в частности.
Тогда же планировалось и обсуждение трудностей с изданием прозы, написанной после ареста романа. Неважно, реальных ли. Обсуждавшийся план отражался в якобы заданном Сусловым вопросе – «на что Гроссман теперь живет».
Про «космическую цифру», т. е. пресловутые «двести-триста лет» цензурного запрета – опять не только домысел или вымысел. В письме Хрущеву упомянут примерно такой срок. О нем же сообщил и Ямпольский в статье, опубликованной «Континентом».
Выше уже отмечено: Гроссман избегал разговоров об аресте рукописей, и Ямпольскому пришлось выяснять подробности, в основном, по слухам. Но о попытках вернуть конфискованное он знал. Подчеркнул, что его разговор с автором романа состоялся в однокомнатной кооперативной квартире, новой «мастерской», подразумевалась опасность прослушивания, потому и конкретные имена не назывались: «Гроссман написал письмо наверх, и его принимали в самой высокой инстанции, выше уже нет».
Остальное угадывалось. Если «выше уже нет», значит, письмо Хрущеву, а «принимали» в ЦК КПСС.
Остался непоименованным и Суслов. Зато сказано: «Сердечник, человек понаторевший, все время вращающийся в интеллигентной среде, но сам не ставший интеллигентом. Не обаятельный ум, но отменно вежлив, без грубости, но это уже давно известно, что на одном этаже грубо, на другом не грубо, что бы ни сделали с вами».
В общем, угадать несложно. Обсуждалась в ЦК КПСС и судьба рукописи. Гроссмановский собеседник, согласно Ямпольскому, заявил, что «о возврате или напечатании романа не может быть и речи, и напечатан он может быть не раньше, чем через 200–300 лет».
Срок определен. И Ямпольский отметил: «Чудовищное высокомерие временщика. Это из той же оперы, что и тысячелетний рейх…».
Если судить по гроссмановской записи, Суслов такое не говорил. Да и не мог бы.
Странно было бы, во-первых, если бы Суслов аргументировал свои тезисы цитатами из гроссмановского же письма. Именно там и сказано про столетиями исчисляемый срок цензурного запрета. Нет оснований полагать, что главный идеолог не умел выбирать доводы самостоятельно.
Во-вторых, обсуждение длительности запрета было немыслимо именно в силу причины, указанной самим Ямпольским. Беседа в ЦК партии – вполне официальная. Потому и нельзя объяснить, зачем бы Суслову понадобилось рассказывать, когда появится возможность опубликовать рукопись, по его же словам, угрожавшую существованию государства. Роман и через триста лет не станет иным, значит, ситуация изменится, если советской власти не будет.
Получилось бы, что Суслов отмерил советскому государству не более трехсот лет. Идеологи нацистской Германии, как подчеркнул сам Ямпольский, оценивали перспективы своего режима гораздо более оптимистично – «тысячелетний рейх».
Судя же по письму Хрущеву, о сроке цензурного запрета рассуждал один из писателей – знакомый Гроссмана. Но его имя не было названо.
Тот разговор был неофициальным. Ну а в памяти Ямпольского случайно контаминировались рассказы о письме Хрущеву и сусловских доводах.
Подчеркнем, что путаница была случайной. Ямпольский не демонстрировал свою осведомленность. В отличие от Липкина, он не утверждал, что видел запись «беседы». Напротив, специально отметил: пересказывает давние разговоры, даже слухи. И вообще, не мемуары написал, а своего рода некролог, когда минуло пять лет после смерти Гроссмана. На скорую публикацию не рассчитывал и, кстати, при жизни ее не увидел – в 1972 году умер.
Липкин, как выше отмечалось, читал статью Ямпольского и упомянул ее в мемуарах, когда характеризовал настроение Гроссмана. Оговорил, что ознакомился лишь с рукописью, но заимствовал немало, уже не ссылаясь на источник. Сведения о сроке цензурного запрета – оттуда.
Континентовскую статью Ямпольского использовал не один Липкин. Причем другие тоже не всегда ссылались на источник.
В первую очередь это относится к описанию ареста романа. Так, Ямпольский сообщил, что не только гроссмановские рукописи конфисковали, но «у машинисток, перепечатывавших роман, забрали даже ленты пишущих машинок».
Ямпольский не объяснил, зачем офицерам КГБ понадобилось изымать «ленты пишущих машинок». По ним ведь заведомо невозможно восстановить даже одну страницу отпечатанного текста. Да и нет таких сведений в протоколах, составленных офицерами КГБ 14 февраля 1961 года.
Однако сказанное в континентовской публикации воспроизвел и дополнил Г.Ц. Свирский. Как выше отмечалось, в 1979 году лондонское издательство выпустило его книгу «На лобном месте: литература нравственного сопротивления (1946–1976 гг.)»[148].
Ямпольский не конкретизировал, кто инициировал арест романа «Жизнь и судьба». Подчеркнул только, что «ключевую роль» сыграл Поликарпов. А по Свирскому, донос в ЦК КПСС отправил Кожевников. После этого сотрудники КГБ, проведя обыск у Гроссмана, арестовали еще и «больную женщину-машинистку».
У нее и отобрали пресловутую «ленту». А затем отправили «на следовательский “конвейер”».
Далее пояснялось, что «конвейер» – непрерывный допрос, когда следователи меняют друг друга, не давая арестованному заснуть, буквально пытая бессонницей. Это продолжается до тех пор, пока воля допрашиваемого не будет сломлена.
Известно, что метод допроса, описанный Свирским, практиковался в сталинскую эпоху. Называли его, правда, не «конвейером», а «каруселью».
Относительно применения «карусели» в хрущевскую эпоху – нет сведений. А главное, не было ареста машинистки.
По Свирскому же, арестованной не позволяли спать, пока она не рассказала, сколько она сделала машинописных копий. Выяснили – семнадцать. Затем начались обыски у родственников Гроссмана и его друзей по всей стране. Ну а позже автору конфискованного романа Суслов заявил: «Такую книгу можно будет издать, думаю, годиков через двести-триста…».
Свирский ориентировался не только на статью Ямпольского и слухи. Немало и сам придумал – ради публицистического эффекта.
Тему развил Е.Г. Эткинд. В 1979 году нью-йоркский журнал «Время и мы» опубликовал его статью «Двадцать лет спустя. О Василии Гроссмане»[149].
Статья более аналитична, чем очерк Свирского, однако в аспекте фактографии различия невелики. Так, на Гроссмана донес Кожевников в соавторстве с другими сотрудниками редакции. Обратились в КГБ, а не ЦК КПСС. Изъяты же и рукописи, и «ленты пишущей машинки», и «листы копировальной бумаги, на которой можно было что-то прочесть “на просвет”».
Упоминаний о «листах копировальной бумаги» тоже нет в протоколах, составленных сотрудниками КГБ. Да и не могло быть.
Что-либо «прочесть “на просвет”» трудно, даже если каждый лист копировальной бумаги использован лишь один раз. А в ходе печатания многостраничной рукописи они использовались всегда многократно. Заведомо невозможно восстановить текст романа по таким носителям. Следовательно, изымать этот материал было незачем. Бессмысленная задача. Ее и не ставил председатель КГБ.
Но абсурдные слухи возникли не беспричинно. Они – квинтэссенция впечатлений, сложившихся в литературной и окололитературной среде.
Шоковыми оказались впечатления. Слухи – при всей абсурдности – вполне отражали главный сусловский тезис: роман сочтен весьма опасным. Коль так, подразумевалось, вроде бы, что от него и следов не должно остаться.
Таким образом, из статьи Ямпольского в историографию вошли сведения о количестве обыскивавших, изъятии «лент пишущих машинок», обращении к Хрущеву и указанном Сусловым сроке цензурного запрета. Свирский инкриминировал Кожевникову донос и описал подробности не производившегося ареста машинистки. Эткинд же добавил про конфискацию использованных «листов копировальной бумаги».
Однако вне сферы внимания литературоведов оставалось сказанное в континентовской статье о «ключевой роли» Поликарпова. И это объяснимо. Ямпольский не уточнил, что же конкретно сделал заведующий Отделом культуры ЦК КПСС. А без уточнения информация оказалась лишней, потому и невостребованной. Она не меняла ничего в уже сформировавшейся версии: Кожевников донес, рукописи отобрали, Гроссман к Хрущеву обратился, Суслов же определил срок цензурого запрета.
Этой версии – в целом – следовал и Ш.П. Маркиш. В 1985 году иерусалимское издательство опубликовало его статью «Пример Василия Гроссмана»[150].
Маркиш не добавлял эффектные подробности. Сообщил только, что «в феврале 1961 года, к Гроссману домой явились сотрудники КГБ с ордером на арест рукописи. Они забрали все, что нашли дома, включая черновики, записи, фрагменты, потом спросили (и Гроссман ответил), где находятся остальные экземпляры или их части, какие машинистки перепечатывали рукопись. Объехали всех и вся, изъяли все, включая экземпляр, хранившийся в сейфе “Нового мира”. Ходили слухи, что у машинисток отобрали даже ленты машинок и использованную копирку».
Примечательно, что сведения о «лентах» и «копирке» отнесены к области слухов, не более. Отношение к ним критическое. Минуло почти четверть века после ареста романа, вот и шок уменьшился.
Суслов умер за три года до публикации статьи Маркиша. Но и после смерти главного идеолога ситуация – применительно к роману Гроссмана – не менялась.
Если верить Липкину, он свою книгу о Гроссмане завершил в 1984 году. Вряд ли так было. Но, можно сказать, версию ареста мемуарист достроил.
Липкин, в отличие от Ямпольского, Свирского, Эткинда и Маркиша, располагал копией гроссмановского письма Хрущеву, где фиксируются итоги редакционного обсуждения в журнале «Знамя», история обращения к Поликарпову и мнения функционеров ССП. А в остальном, добавив новые подробности к уже сформированной версии, мемуарист избавился от прежних, заведомо абсурдных. Например, о «лентах» и «копирке» не рассказал. Обошелся и без описания допросов машинистки. Зато сообщил про обыск у нее.
В 1992 году Липкин учел и популярность слухов. Так, в предисловии к подборке материалов, опубликованной газетой «Труд», заявил: «Документы, которые вы прочтете, меня потрясли. И дело не в новизне фактов. О главном – о том, как не печатали Гроссмана, как был арестован его роман (все экземпляры, вплоть до последнего листка копировальной бумаги), – я знал».
Получилось, что про конфискацию той самой «копировальной бумаги» знал давно, только рассказывать не стал. А почему – нет объясниний. Липкин и в дальнейшем это не объяснял. Зато неизменно акцентировал: причиной ареста романа стал донос Кожевникова.
Однако Липкин не привел сколько-нибудь убедительные аргументы, подтверждавшие, что донес именно главред «Знамени». Ссылки на якобы общеизвестную дурную репутацию Кожевникова – не доказательство. Ему, к примеру, не симпатизировал Ямпольский, не считал и вовсе невиновным, а все же подчеркнул, что «ключевая роль» – поликарповская.
О том же и дневниковая запись Чуковского 19 декабря 1960 года. Тогда он считал, что главную роль в интриге сыграл Поликарпов и сочувствовал Кожевникову.
Характерно, что комментатор – Е.Ц. Чуковская, внучка автора дневника – сочла нужным поправить деда. В примечании к дневниковой записи сообщила, что речь идет «о романе Василия Гроссмана “Жизнь и судьба”. Роль В. Кожевникова, тогдашнего главного редактора “Знамени”, в истории этого романа Чуковский излагает неточно, возможно, со слов своего сына, Н.К. Чуковского, в то время члена редколлегии “Знамени”. Теперь уже широко известно, что именно В. Кожевников послал роман В. Гроссмана в ЦК – Д.А. Поликарпову и М.А. Суслову. В результате все машинописные экземпляры романа в феврале 1961 г. были конфискованы КГБ. Подробнее об этом см.: Семен Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана; Анна Берзер. Прощание. М., 1990».
Откуда «теперь уже широко известно», где комментатор почерпнула сведения – прямо не сказано. Впрочем, это подразумевается, коль скоро в качестве главных источников названы мемуары Липкина и Берзер. По ним и установлено, что виноват Кожевников.
Но таково мнение комментатора. У Чуковского же в декабре 1960 года – другое.
Кстати, Липкин вовсе не сообщал, что Кожевников «послал роман» именно Поликарпову и Суслову. Без такого рода подробностей обошлась и Берзер.
Значит, в истории ареста рукописей три немаловажных вопроса остались без ответа. Кто, во-первых, известил КГБ или ЦК партии о гроссмановском романе. Во-вторых, зачем. Наконец, в-третьих, какова прагматика версии, согласно которой доносчиком был именно главный редактор «Знамени».
Часть III. Технологии мифостроения
Приемы маскировки
19 декабря 1960 года, подчеркнем, Чуковский еще не знал, что у Кожевникова дурная репутация. Иначе бы не сочувствовал главреду «Знамени».
Но осмысление событий менялось. Известно было, что Гроссман предоставил рукописи в редакцию «Знамени», а затем они были конфискованы. Это и подсказывало вывод: если после, значит, вследствие.
Слухи в писательской среде распространялись быстро. А 14 сентября 1964 года умер Гроссман. Знавшие о конфискации рукописей соотносили его смерть с памятным инцидентом. Шок от событий трехлетней давности еще не прошел.
Впрочем, инцидент постепенно становился все менее актуальным. Что и отметил в континентовской статье Ямпольский: «Вот уже лет пять, как Гроссмана забыли, его как бы не существовало. И даже в статьях о военной литературе, где он, бесспорно, был первым, самым крупным художником этой войны, в этих статьях его фамилия встречалась все реже и реже. Нет, он не был под официальным запретом, но как бы и был».
В СССР – да. А за границей постепенно менялась, так сказать, информационная среда.
Как известно, на исходе 1960-х годов советское правительство, уступая международному давлению, несколько смягчило отношение к эмиграции. Формально разрешалось «воссоединение с родственниками за границей».
Правда, разрешение осталось формальным. Добиться реального права на выезд могли немногие, выдержавшие унижения, шантаж и т. д. Зато немыслимое ранее стало в принципе достижимым.
Бывшие советские граждане пересекали государственную границу вполне легально. Их становилось все больше, контроль усложнялся. Они принесли новую информацию о стране, из которой бежали. К 1980 году деятельность эмигрантских издательств значительно оживилась, и постоянно рос интерес к роману Гроссмана.
Характерно, что поначалу все писавшие об аресте романа не пытались объяснить, в силу каких причин автор отдал рукопись в «Знамя». Известный тогда контекст советского литературного процесса подсказывал, вроде бы, другое решение – «Новый мир». Самый авторитетный журнал, да и первая часть гроссмановской дилогии там опубликована.
Вопрос о причинах выбора был, что называется, деликатным. Подразумевались два ответа, причем равнонеприемлемых в аспекте репутации новомирского главреда: Гроссман не доверял Твардовскому, либо уже получил отказ, почему и выбрал «Знамя».
О причинах, обусловивших такой выбор, первой написала Роскина. Подчеркнула, что завершила мемуарную книгу в 1970 году, поэтому не могла ознакомиться с эмигрантскими публикациями.
Гроссман, согласно Роскиной, постольку отнес рукопись в «Знамя», поскольку с журналом «был договор. Роман уже был широко известен».
Какой-либо опасности автор не ждал. Роскина утверждала, что у него «было такое представление о возможном ходе дела: Кожевников читает роман, многое ему неприемлемо, он требует изменений, на которые Гроссман пойти не может и предпочитает взять роман назад. Расторжение договора – вот вариант, который казался ему худшим; следовательно, возможным он считал публикацию романа в том виде, как он его написал, либо с совсем незначительными переделками».
Где договор, там и аванс, а это – гарантия публикации. В «Знамени» же, утверждала мемуаристка, «роман произвел огромное впечатление, однако Кожевников, человек умный, всегда придерживавшийся одной линии, никогда не шарахавшийся влево, сразу понял, что дело тут серьезное».
Роскина, по ее словам, пыталась навести справки у знакомого редактора в «Знамени» – Галанова. Но тот перспективу оценивал скептически: «Уж очень мрачно, все мрачно… Вряд ли…».
Определенности не было. А позже выяснилось, что «вопрос решался не в редакции. Кожевников отнес роман на консультацию в ЦК».
Роскина не обвинила Кожевникова прямо. «На консультацию» все главреды ходили, когда требовалось выяснить, будет ли поддержка в конфликте с цензурой. «Консультировался» и Твардовский: самый известный случай – издание повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в ноябре 1962 года.
Инвектива – в подтексте. Главред не согласовал с автором свое решение относительно «консультации». Далее же мемуаристка сообщила: «Затянувшаяся неопределенность в “Знамени” стала известной в “Новом мире”. Твардовский, хотя у него с Гроссманом отношения перед этим были несколько нарушены (ему не понравился рассказ Гроссмана “Тиргартен”, и между ними произошел резкий разговор), позвонил, выразил желание прочесть роман, и Гроссман дал ему один из дублетных экземпляров. Как рассказал мне Василий Семенович, Твардовский ему сказал, что он не спал двое суток, был в необыкновенном волнении от того, что он прочел. Что же касается публикации романа, то Твардовский сказал, что она будет реальной через двести пятьдесят лет» (курсив наш. – Ю. Б-Ю., Д. Ф.).
Последняя фраза – относительно «публикации романа» Гроссмана «через двести пятьдесят лет» – могла бы стать ключевой. Она напоминала суждение, которое Ямпольский приписал Суслову. Но, похоже, это мало кто заметил.
Фразу и ныне приписывают Суслову. А в письме Хрущеву сообщается вполне определенно, что один из собеседников, коих Гроссман по-советски именовал «товарищами», ему «сказал: “Все это было или могло быть, подобные изображенным людям также были или могли быть”. Другой сказал: “Однако печатать книгу можно будет через 250 лет”».
Письмо Гроссман отправил до личной встречи с главным идеологом. И в записи сусловских рассуждений нет определения срока цензурного запрета. Так что Суслов тут ни при чем.
Ну а в предложенном Роскиной описании ситуации нет противоречий. Срок Твардовским определен – именно товарищем Гроссмана.
В целом же из воспоминаний Роскиной следует, что Гроссман доверял Твардовскому и только из-за давней размолвки передал рукопись Кожевникову.
Тему подхватил и развил Б.Г. Закс. В том же 1980 году «Континент» опубликовал его мемуары «Немного о Гроссмане»[151].
Закс считался достаточно осведомленным мемуаристом. До эмиграции занимал в «Новом мире» должность ответственного секретаря.
Он не упоминал о Роскиной. Но утверждал, что Гроссман поссорился с Твардовским, когда завершал роман. Причина, согласно Заксу, была несущественная, однако из-за нее редакция «Нового мира» не получила сведения о завершении работы. Да об этом вообще «мало кто знал. Разве что ближайшие друзья».
В общем, контакт с «Новым миром» прервался. А «потому, закончив вторую часть романа, Гроссман не пошел с ней в “Новый мир” к Твардовскому, а отдал в журнал “Знамя”».
Там, если Заксу верить, не спешили. Ждал Гроссман «почти год».
С Твардовским, как настаивал бывший ответственный секретарь, Гроссман по-прежнему не разговаривал. Даже бойкотировал, когда оба вместе с женами оказались в Коктебеле «поздней осенью 1960 года».
Отношения не наладились и после возвращения в Москву. Но, утверждал Закс, пока «роман был в “Знамени”, Гроссман и Твардовский случайно встретились в Центральном доме литераторов, где помирились, и Гроссман попросил Твардовского прочитать роман и сказать, может ли его публикация быть возможной».
Гроссман, если верить Заксу, беспокоился – ждать ответ из редакции «Знамени» пришлось слишком долго. Ну а Твардовский «сразу же согласился. Он прочитал роман сам, дал прочесть нескольким членам редколлегии».
Стало быть, речь шла о своего рода экспертизе. Закс, словно бы невзначай, отметил, что Гроссман хотел «дать роман Твардовскому не как редактору, а просто как другу, мнение которого для него важно».
Получается, что Гроссман не рассчитывал на публикацию в «Новом мире». К Твардовскому обратился с личной просьбой, делового же предложения не было.
Экспертное заключение оказалось отрицательным. По словам Закса, у Твардовского «не возникло ни малейших иллюзий. Роман явно непроходим, его не то, что в “Знамени”, ни в каком другом журнале не напечатать».
Еще раз подчеркнем: Роскина не сообщила, что Твардовский опасался кого-либо в редакции «Знамени». А по Заксу, новомирский главред был изумлен гроссмановской неосторожностью: «Господи, – с горечью говорил он, – неужели у этого человека нету ни одного друга, который объяснил бы ему, что нельзя, невозможно было отдавать этот роман в “Знамя”!».
Далее, согласно Заксу, редакция «Знамени» вернула рукопись. А вскоре были обыски, и 14 февраля 1961 года сотрудник КГБ «изъял» экземпляр, хранившийся в новомировском сейфе.
Откуда сотрудники КГБ узнали, где искать рукопись, Закс не объяснил. Но вновь отметил, что «роман официально не поступал в редакцию, а был дан Твардовскому из рук в руки для дружеского прочтения, его никто нигде не регистрировал…».
Имелась в виду установленная в советских редакциях процедура регистрирования материалов, поступавших официально – с целью возможной публикации. А гроссмановская рукопись получена была неофициально, публикация не планировалась, так что и регистрация не требовалась.
Прагматика настойчиво повторяемого довода понятна, если соотнести его с воспоминаниями Роскиной о той же сиуации. Получение гроссмановской рукописи в редакции «Знамени» официально регистрировали, вот Кожевников и отправил ее «на консультацию», а Твардовский получил роман неофицильно, печатать не собирался, значит, «конслультироваться» главреду было незачем.
Из воспоминаний Закса следует: Гроссман доверял новомирскому главреду, а Твардовский кого-то опасался в редакции «Знамени», но про свои опасения не успел рассказать давнему приятелю.
Значит, сам Гроссман и виноват. Не ссорился бы с Твардовским, не бойкотировал бы его так долго, глядишь, не случилось бы и беды.
Твардовский, согласно Заксу, был в отчаянии. Акцентировалось: «Помню, как сидел он у себя в кабинете, облокотившись на письменный стол и, в буквальном смысле слова, схватившись за голову…».
Итак, на уровне пафоса версии Роскиной и Закса совпадали: Твардовский хотел помочь Гроссману, однако из-за размолвки ознакомился с его романом, когда предотвратить донос было уже нельзя.
По сути, Закс пересказал несколько эпизодов из воспоминаний Роскиной. Но – с весьма существенными изменениями.
Уместно подчеркнуть: сказанное Роскиной нередко подтвеждается документами. Что до Закса, то совпадение – единственное: из новомирского сейфа была изъята рукопись. Все остальное документально опровергается.
Начнем с долгого ожидания ответа Кожевникова. Допустим, подразумевалось не просто какое-либо известие, а прямой отказ. Но все равно «почти год» – не получается.
Гроссман предоставил рукописи 8 октября, и уже 16 декабря приглашен на «расширенное заседание». Выдумал Закс историю о пытке неопределенностью. И, вопреки свидетельству бывшего новомирского ответсека, редакция «Знамени» не вернула рукописи Гроссману. Именно потому, что роман – «антисоветский».
Аналогично выдумана история про бойкот «поздней осенью 1960 года» и примирение в ЦДЛ. Помирились Гроссман и Твардовский давно, отношения были восстановлены – деловые.
Отметим также: Закс, вопреки Роскиной, утверждал, что о скором завершении второй книги дилогии «мало кто знал». На самом деле это было известно сотням тысяч советских граждан, прочитавшим анонс нового романа Гроссмана и главы, публиковавшиеся в газетах с весны 1960 года.
Почти двадцать лет спустя анонс и опубликованные главы были забыты. Однако в 1960 году Твардовский – по статусу главреда – не мог не знать, что новый роман советского классика уже проходит апробацию в газетах. Не прочел бы сам, так сотрудники бы доложили.
Закс тоже не мог не знать. И ему по статусу полагалось владеть информацией. Так что его рассказ про неведенье – свое и Твардовского – чистый вымысел. Равным образом вымышлены риторические вопросы новомирского главреда о наличии/отсутствии хотя бы одного друга у Гроссмана.
Такое количество, мягко говоря, выдумок не объяснить случайностью. Уместен вопрос о причине, в силу которой они понадобились Заксу.
Прагматика мемуаров Закса – полемика с Роскиной.
Да, Роскина сняла проблему разногласий Гроссмана и Твардовского. Однако тут же новая возникла.
Еще раз подчеркнем: согласно Роскиной, главный редактор «Нового мира» сказал Гроссману, что роман можно издать «через двести пятьдесят лет», а сходную фразу Ямпольский приписал Суслову.
Если б не ошибка Ямпольского, то воспроизведенная Роскиной фраза новомирского главреда никак бы его не характеризовала. Ну, иронизировал Твардовский.
Однако при соотнесении публикаций Ямпольского и Роскиной не исключен был вывод, что новомирский главред с Сусловым чуть ли не консультировался. А это уже проблема репутации Твардовского.
Вероятно, Роскина не знала, что противоречит Ямпольскому. На противоречия не обратили внимания и в «Континенте», где воспоминания Закса печатались. А вот сам он такое пропустить не мог: даже тень подозрения не должна была порочить Твардовского, ведь от этого зависела и репутация бывшего новомирского ответсека.
Закс отводил подозрения не только от Твардовского и себя самого. Еще и защищал редколлегию, а также всех сотрудников «Нового мира».
Для большей убедительности он и выдумал, что Гроссман чуть ли не год ждал ответ из редакции «Знамени». Отсюда следовало, что рукопись лишь тогда оказалась в «Новом мире», когда донос на автора уже был доставлен адресатам.
Бывший новомирский ответсек не стал опровергать Роскину непосредственнно. Пройдя по канве ее сюжета, предложил, так сказать, веер новых деталей. Ярких, эффектных. И от противоречий отвлек. Мемуары Закса выглядели куда более информативными, нежели роскинские.
Сюжетная реконструкция
Версия Закса вскоре стала общепринятой. Не оспорил ее и Маркиш в уже цитировавшейся статье «Пример Василия Гроссмана».
Описывая предысторию ареста рукописей, Маркиш дополнял версию Закса фрагментами мемуаров Роскиной. Утверждал, что «Гроссман закончил роман в 1960 году и отнес его в журнал “Знамя”. Логичнее было бы обратиться в “Новый мир”, потому что, несмотря на перемену названия, это была все же “вторая книга” дилогии: в конце как журнального, так и книжного вариантов “Правого дела” значилось – “Конец первой книги”. Но у Гроссмана вышла размолвка с главным редактором “Нового мира” Твардовским, и еще до окончания работы он заключил договор со “Знаменем”. Главный редактор “Знамени” Вадим Кожевников переотправил роман в отдел культуры ЦК, не извещая, конечно, об этом автора».
Характерно, что Маркиш, подобно Роскиной, не инкриминировал Кожевникову доносительство как таковое. Роман главред «Знамени» лишь «переотправил в Отдел культуры ЦК» и ждал ответ, значит, публикация не исключалась. Плохо, что автора не известил, но это и не было принято.
Автор, значит, не предвидел опасности. Прошло «несколько месяцев – ответа из “Знамени”, т. е. по сути дела, из ЦК не было. Тем временем Гроссман помирился с Твардовским и попросил его прочитать роман».
Далее в статью «встроены» версии Ямпольского и Эткинда. Только о «лентах» и «копирке» Маркиш рассказывал, ссылаясь на слухи.
Отметил Маркиш противоречие в мемуарах Ямпольского и Роскиной относительно автора суждения о сроке цензурного запрета. Но воздержался от выводов. Ответственность за арест рукописей возлагал не столько на Кожевникова, сколько на его сотрудников.
Версию отчасти изменил Ю.М. Кублановский. В 1986 году журнал «Грани» опубликовал его статью «“Жизнь и судьба” нашего времени».
Причины «ареста» описаны там в качестве известных чуть ли не всем, кроме автора романа «Жизнь и судьба». Согласно Кублановскому, «сам Гроссман, как ни в чем не бывало, сдал свою феноменальную эпопею в “Знамя” номенклатурному агенту Кожевникову».
Характеристика весьма хлесткая – «номенклатурный агент». Одновременно начальник и доносчик, вершитель чужих судеб и осведомитель. Но откуда это было известно Кублановскому – он не сообщил.
Липкин, готовя к изданию свои мемуары, не упоминал Роскину и Закса. Но их версии, конечно, использовал. В его варианте размолвка Гроссмана и Твардовского была вовсе не пустяковой. И – не случайной. Она подробно описана. Аналогично – причина обращения в редакцию «Знамени». Но все это вымышлено.
Также отметим, что Закс противопоставил «Знамя» всем литературным журналам. Смысл был понятен осведомленным современникам: это издание финансирует Министерство обороны, так что цензура там строже.
Липкин тезис развил. Противопоставил Кожевникова – Твардовскому. Гораздо эффектнее получилось, хоть и опять бездоказательно.
Далее мемуарист опять развивал чужие тезисы. Согласно Заксу, главред «Нового мира» задал риторический вопрос о наличии/отсутствии хотя бы одного друга у Гроссмана. Липкин же сообщил, что именно он буквально умолял писателя-нонконформиста не отдавать роман в редакцию «Знамени». Следовательно, не его вина, что дружеский совет был оставлен без внимания.
Суждения Липкина о Кожевникове вполне коррелируются с характеристикой, данной Кублановским в 1985 году. И тоже, еще раз подчеркнем, без ссылок на источники.
Да и не на что ссылаться. Нет аутентичных свидетельств, что в 1960 году главред «Знамени» слыл доносчиком. Про такую репутацию, к примеру, не упомянула и Роскина, хотя контекст был вполне подходящий.
Однако это, скажем так, мнение о мнениях. Главное же, что Липкин, интерпретируя чужие версии, путался в хронологии описываемых событий.
Например, о ссоре с Твардовским и долгом ожидании редакционного ответа – из заксовской версии. Оттуда же и про запоздалое примирение. Разница в том, что Липкин перенес событие на год позже. Увлекся мемуарист, сочиняя новый сюжетный поворот и пристраивая к нему письмо Гроссмана.
Вот и получилось, что «поздней осенью» 1961 года», когда автор романа и новомирский главред мирились в Коктебеле, еще не были арестованы рукописи. Соответственно, Твардовский, едва узнав об арестах, приехал к Гроссмману, а потом, «выпив, плакал: “Нельзя у нас писать правду, нет свободы”».
О застольной беседе после ареста романа рассказывал и Закс, только утверждал, что была она в его квартире и гораздо раньше. Зато у Липкина – новые подробности. Он Кожевникова старательно компрометировал.
Запутавшись в хронологии, Липкин пересказал сюжет Закса и добавил новые вымышленные подробности, однако прагматика та же: Твардовский не имел отношения к аресту рукописей Гроссмана.
Интерпретирован и сюжет Роскиной. Правда, с учетом письма к Хрущеву. Согласно Липкину, один из руководителей ССП сказал Гроссману, что «если и можно будет издать роман, то лет через 250».
Далее Липкин, описывая «беседу» Гроссмана и Суслова, указал несколько иной срок цензурного запрета – «двести-триста лет». И подчеркнул: «Не знаю, как двигалась эта космическая цифра, снизу – от писателей-функционеров к Суслову или сверху – от Суслова к ним. Разговаривая, Суслов перебирал рукой обе рецензии, заглядывал в них, читал вслух наиболее, с его точки зрения, предосудительные цитаты из романа».
Такого нет в гроссмановской записи беседы. И, как выше отмечено, не могло быть: не стал бы главный идеолог определять хронологический предел советской власти.
Зато Липкин объяснил, словно бы невзначай, откуда взялась фраза о сроке «ареста»: его назвал Гроссману один из «писателей-функционеров», потому что готовил рецензию для Суслова, который – в свою очередь – обсуждал ее с рецензентом.
Была бы у Липкина запись «беседы» с главным идеологом, не пришлось бы новыми выдумками дополнять версию Закса, отводя возможные подозрения от Твардовского. Но задача эта все же была решена. Можно сказать, что свидетельство «самого близкого друга» и первого биографа Гроссмана вытеснило свидетельство Роскиной.
Об истории «ареста» написала и Берзер в книге «Прощание», напечатанной, как выше упоминалось, под одной обложкой с первым советским книжным изданием мемуаров Липкина в 1990 году.
Два автора объединены по критерию общности тематики. Такое вполне обычно. Примечательно же, что подготовка к изданию воспоминаний Берзер завершена после журнальной публикации в СССР мемуаров Липкина, однако раньше, чем парижская газета напечатала его статью «Рукописи не горят. Как был спасен роман Василия Гроссмана “Жизнь и судьба”».
Хронологическая разница в данном случае очень важна. Берзер не знала тогда, что еще рассказал Липкин, потому и не упомянула о его участии в спасении романа. По ее словам, Гроссман обратился к Твардовскому, желая «понять, что же могло переполошить “Знамя”. Почему они молчат?».
Берзер – опытнейший советский редактор. И роман она уже прочла. Казалось бы, ей ли не знать, «что же могло переполошить “Знамя”» – в 1960 году. Но традиция сформировалась. Гроссмана полагалось изображать наивным.
Мемуаристка предложила версию Закса. Ну а далее, описывая ситуацию в «Знамени», ссылалась на Гроссмана: «Он рассказывал, что там долго и мрачно читали сами, ничего ему не говоря. Потом стали ходить, носить. Переправили роман Д.А. Поликарпову со своими пояснениями».
Вряд ли Гроссман сообщил Берзер, что в «Знамени» тысячестраничную рукопись «читали долго». Хотя принципиально такое допустимо. По его статусу классика и два месяца – немалый срок. Но уж вовсе невероятно, чтобы рассказывал, как из редакции «переправили роман Д.А. Поликарпову со своими пояснениями».
Липкин подобного рода сведения тоже обосновал ссылкой на Гроссмана, якобы воспроизводившего сказанное Твардовским. Разница в том, что речь шла о КГБ, а не ЦК партии.
Типологически доводы идентичны. А еще Берзер сообщила, что имеется «свидетельство одного из авторов “Нового мира”: он оказался случайно в кабинете Поликарпова, тот в ярости поносил роман Гроссмана, и автор наш вступил с ним в ожесточенный спор».
Опять сомнительно. Литераторы не попадали случайно в кабинет заведующего Отделом культуры ЦК КПСС. Это все же не ресторан.
Согласно правилам, сначала полагалось миновать приемную. А там, разумеется, секретарь, чья обязанность – спросить, кто пришел и зачем, потом доложить по телефону начальнику, узнать, примет ли.
Только после доклада и разрешения посетитель входил. Если, конечно, это не равный по должности или начальник. Писателям, даже и ранга Твардовского, надлежало предварительно договариваться о посещении. Да и не объяснила Берзер, с чего бы вдруг Поликарпов решил произнести гневный монолог «о романе Гроссмана» при ком-либо из посторонних.
Берзер назвала свидетеля. И еще раз подчеркнула, что он не планировал встречу с заведующим Отделом культуры ЦК КПСС: «Автором этим, случайно попавшим в кабинет Поликарпова, был Виктор Некрасов».
Репутацией Некрасова, вроде бы, исключались сомнения. Если рассказал, значит, так и случилось. Но опять свидетель не мог бы подтвердить или опровергнуть версию мемуаристки. Умер за три года до того, как Берзер начала готовить мемуары к публикации.
Берзер настаивала, что арест рукописи – в квартире автора, его «кабинете» и журнальных редакциях – обусловлен доносом. Виновным объявила Кожевникова. Далее мемуаристка акцентировала: «Я не знала тогда, что сейф «Нового мира» был концом операции по «изъятию» романа, а не началом. И наш журнал, и сам Твардовский, которому для совета принес Гроссман свой роман, были одинаково унижены, оскорблены и распяты вместе с Гроссманом».
Таким образом, сам вопрос о мере причастности к аресту кого-либо из редакции «Нового мира» был заведомо исключен. Согласно Берзер, там просто не знали, что готовится «изъятие».
Но ссылки на Гроссмана или Некрасова – сами по себе – еще не доказательства, они не подтверждены документально, вот почему из мемуаров Берзер следует лишь то, что ее инвективы в адрес Кожевникова необоснованы.
О романе «Жизнь и судьба» написала также Н.П. Бианки. В 1997 году опубликована ее книга «К. Симонов, А. Твардовский в “Новом мире”. Воспоминания»[152].
Бывшая сотрудница журнала, по ее словам, описывала только свои впечатления. Она утверждала, что Твардовский, узнав про «арест» романа, «очень огорчился, все время повторял: “Я же его слезно просил рукопись в “Знамя” не отдавать. Как он мог довериться Кожевникову? Тот незамедлительно отправился советоваться в ЦК”».
В пересказе Бианки суждения новомирского главреда о «Знамени» и Кожевникове сформулированы невнятно. Свое ли мнение выразил Твардовский, воспроизвел ли услышанное где-либо – не определить.
Но главное, что фразы Твардовского нельзя считать прямым обвинением в доносительстве. Если Кожевников «отправился советоваться», значит, публикацию планировал.
Инвектива – в подтексте: Гроссмана не известил о своем решении. Кстати, и Бианки не упомянула, что у главреда «Знамени» была одиозная репутация. А еще весьма интересны не только суждения новомирского главреда о «Знамени» и Кожевникове лично. Примечательно и сказанное Твардовским про себя самого.
Из воспроизведенных Бианки суждений новомирского главреда следует, что он с романом ознакомился до Кожевникова.
Именно до. В целом содержание книги знал. А иначе непонятно, зачем он Гроссмана «слезно просил рукопись в “Знамя” не отдавать».
Бианки настаивала, что сначала рукопись попала к Твардовскому, а уже после была передана Кожевникову. Соответственно, еще и в сноске акцентировала: «Василий Семенович второй экземпляр романа (курсив наш. – Ю. Б.-Ю., Д. Ф.) отдал в “Знамя”, в надежде, что если не в “Новом мире”, то, может быть, в “Знамени” напечатают».
Тут и возникает противоречие. Закс и Липкин настаивали, что Гроссман сначала передал рукопись Кожевникову, а после – Твардовскому. Если же верить Бианки, то наоборот.
Можно предположить: ошиблась Бианки. Такое в мемуаристике отнюдь не исключение. Поэтому и литературоведы игнорируют ее воспоминания о Гроссмане. Словно не замечают. Ее свидетельство явно противоречит сказанному Заксом, Липкиным, да и некоторыми другими авторитетными современникам.
Но Бианки в данном случае не ошиблась. Документально подтверждается, что сначала Твардовский ознакомился с гроссмановским романом, а потом – Кожевников.
Отметим также, что Твардовский читал две редакциии гроссмановского романа. Правда, со значительным интервалом.
Незамеченное признание
Твардовский сам признал, что с гроссмановским романом ознакомился до Кожевникова, причем дважды. Но и это осталось словно бы незамеченным.
Речь идет о дневниках Твардовского. К публикации они были подготовлены дочерью поэта, напечатаны впервые, как выше отмечалось, журналом «Знамя» под заголовком «Рабочие тетради 60-х годов»[153].
Дневники опубликованы с купюрами, однако в данном случае довольно и напечатанного. Так, 6 октября 1960 года Твардовский отметил: «Самое сильное литературное впечатление за, может быть, многие годы – на днях прочитанный роман (три папки, общий объем страниц 1000 с лишком) В. Гроссмана, с его прежним глупым названием “Жизнь и судьба”, с его прежней претенциозной манерой эпопеи, мазней научно-философских отступлений, надменностью и беспомощностью описаний в части “топора и лопаты”. При всем этом – вещь так значительна, что выходит далеко и решительно за рамки литературы, и эта ее “нелитературность”, может быть, самое главное ее литературное достоинство».
Уместно предположить, что 6 октября Твардовский уже прочел рукопись, а Кожевникову еще предстояло ее получить – через два дня. Коль так, не ошиблась Бианки.
Гипотеза подтвеждается сразу же. Потому что далее Твардовский пишет о «прежней претенциозной манере эпопеи».
Однако и повторное указание на то, что Твардовский ознакомился с романом не впервые, осталось словно бы незамеченным. Литературоведы избегали дискуссии с Липкиным, чьи мемуары уже вышли в СССР.
Допустимо также, что рассуждения Твардовского литературоведы соотнесли с другим романом Гроссмана – «За правое дело». Как раз его и печатал «Новый мие» в 1952 году.
Но этот роман здесь ни при чем. Его «прежнее» заглавие – не «Жизнь и судьба», а «Сталинград». Оно сразу было автором предложено. Другое же – «За правое дело» – дано при редактировании в «Новом мире».
Стало быть, Твардовский имел в виду роман «Жизнь и судьба». И подчеркнул еще раз, что с ним знакомился не впервые – «На этот раз мне повезло: я имел возможность читать рукопись не как редактор, которому с первых страниц нужно решать – идет – не идет, что делать и т. п., а просто как некто Твардовский, о чем меня и просил автор, хотя, конечно, ни он, ни я не могли полностью отмыслить моей редакторской сущности».
Если сказано про «этот раз», понятно, что был и «прошлый». Иначе нельзя интерпретировать.
Ясно также, что в прошлый раз Твардовский читал роман «как редактор» – главный. По-другому и не мог бы: рукопись передал классик советской литературы с целью публикации в «Новом мире».
Подтверждение можно найти в следующей далее фразе. Твардовский акцентировал: «Все же я был куда свободнее, чем в прошлый раз, и мог позволить себе роскошь читать из одного интереса, и этого интереса у меня более, чем достаточно».
Следовательно, «в прошлый раз» Твардовский, прочитав, отверг роман «Жизнь и судьба». Решил, что «не идет».
Вот об этом Закс рассказывать и не пожелал. А Бианки проговорилась, не предполагая, что таким образом может повредить репутации Твардовского.
Правомерен в таком случае вопрос, когда же впервые Твардовский читал рукопись под заглавием «Жизнь и судьба». Точно дату установить нельзя. Но хронологоические рамки определить можно.
Гроссман 24 октября 1959 года сообщил Липкину, что заканчивает вторую книгу дилогии. Работа еще не была завершена, но близка к завершению. Примерно тут – первая хронологическая граница. Вскоре Гроссман передал Твардовскому рукопись нового романа. Новомирский главред ознакомился и – не принял к публикации.
С журналом «Знамя» Гроссман заключил договор 23 мая 1960 года. Уже после того, как получил отказ Твардовского.
Примерно тут – вторая хронологическая граница. Значит, от 24 октября 1959 года до 23 мая следующего Твардовский мог получить, а затем читать первую редакцию нового романа.
Отметим еще одно свидетельство. 28 февраля 2013 года в Государственном литературном музее Российской Федерации состоялся вечер памяти Гроссмана, где выступала его дочь. Она, в частности, сообщила: отец рассказывал, что Твардовский прочитал рукопись нового романа, вернул ее и посоветовал более не показывать главредам, ведь если кто случайно опубликует, скандал неизбежен. Гроссман, по словам дочери, вернулся домой раздосадованным.
Кстати, о возвращенной рукописи Короткова-Гроссман рассказывала не раз на различных конференциях. Но свидетельство игнорировалось.
Это объяснимо. Логика диктует: вернул бы Твардовский рукопись, не было бы ее бы в новомирском сейфе, а если там нашли, значит, не возвращал. Правда, Короткова-Гроссман не раз подчеркивала: о противоречии знает, но помнит и сказанное отцом.
Благодаря книге Бианки и дневнику Твардовского становится понятно, что никакого противоречия нет. Его и не было.
Ознакомившись с романом первый раз – до 23 мая 1960 года – Твардовский вернул рукопись. О чем Гроссман и рассказывал дочери.
Ну а потом новомирский главред получил роман в новой редакции. Судя по дневнику, к 6 октября 1960 года прочел. Об этом и Бианки рассказала. Только «на этот раз» Твардовский не вернул рукопись.
Более четырех месяцев спустя она все еще хранилась в редакционном сейфе, откуда и была «изъята» сотрудниками КГБ. Но если Твардовский не собирался печатать гроссмановский роман, как утверждал Закс, то, на первый взгляд непонятно, почему же главред не вернул полученный экземпляр.
По крайней мере, одна из причин выявляется при анализе дневниковых записей Твардовского. Рукопись он сразу не вернул, потому что изначально не отвергал саму идею публикации романа.
Твардовский уже знал про договор с редакцией «Знамени», когда получил рукопись. Вот почему отметил: «Но мне нравится быть сейчас в состоянии необходимости самому, без предуказки и обязательств службы решить этот вопрос, по крайней мере, для себя».
Понятно, что «решить этот вопрос», значит, определить, есть ли возможность опубликовать роман. Выяснить, при каких условиях задача в принципе разрешима.
Задачу Твардовский счел важной. Подчеркнул, что решает ее «не только для себя, этого не только мало, но это и не решение вовсе. Напечатать эту вещь (если представить себе возможность снятия в ней явно неправильных мотивов) означало бы новый этап в литературе, возвращение ей подлинного значения правдивого свидетельства о жизни, – означало бы огромный поворот во всей нашей зашедшей бог весть в какие дебри лжи, условности и дубовой преднамеренности литературе».
Был план: убедить автора «снять неправильные мотивы». Подразумевалась тематика, позже обусловившая политические инвективы при обсждении романа в редакции «Знамени». Опасность Твардовский видел. Судя по его дневнику, полагал, что задачу решит, если Гроссман согласится пойти на уступки.
Разумеется, план обхода цензурных препятствий Твардовский обдумывал вовсе не затем, чтобы Кожевникову помочь. Гроссмановский роман собирался публиковать в своем журнале.
Соответственно, Бианки опять не ошиблась, воспроизведя рассказ Твардовского о том, как тот убеждал Гроссмана не отдавать рукопись в редакцию «Знамени». Новомирский главред старался для себя.
Твардовский, судя по его дневнику и мемуарам Бианки, предполагал, что Кожевников отправится в ЦК партии «советоваться». Обычная редакционная практика, столичная. Но высока была вероятность отказа функционеров, причем окончательного. А если бы «совет» попросил новомирский главред, предъявив лично им выправленную рукопись, так мог бы получить согласие. По крайней мере, полагал, что смог бы. Тогда – «новый этап» и, понятно, личный триумф, расширение границ допустимого в советской литературе.
Многое разрешали Твардовскому. И нередко такое, что другим запрещали безоговорочно. Статус журнала особый: проект ЦК партии.
Кожевников «обошел» Твардовского, заметившего, главным образом, крамолу в первой редакции гроссмановского романа. Зато вторая удивила, даже и восхитила. В связи с ней обозначились новые перспективы.
Но Кожевников уже заключил договор с Гроссманом и выплатил аванс. Редакция журнала «Знамя» стала обладателем права на публикацию романа.
Впрочем, был и традиционный «контрприем». Другой заказчик предлагал автору более выгодные условия, тот по какой-либо причине отказывался выполнить требования прежнего редактора, после чего расторгал договор, возвращал аванс и, оформив новые договорные отношения, компенсировал свои убытки вновь полученной авансовой суммой. Вполне законные действия.
Такой «контприем» и подразумевал Твардовский. Ради этого обдумывался план редактуры гроссмановского романа.
Однако не было уверенности, что Гроссман пойдет на уступки. Твардовский подчеркнул, что «вряд ли это мыслимо. Прежде всего – автор не тот. Он знает, что делает. Тем хуже для него, но и для литературы».
Попытку Твардовский все же предпринял. Разговаривали до того, как Гроссман передал рукопись в редакцию «Знамени». Возможно, 6 октября или днем позже. Судя по воспоминаниям Роскиной – безрезультатно.
Роскина и воспроизвела итог разговора, подчеркнув, что по гроссмановскому пересказу. Вероятность бесцензурного издания романа Твардовский характеризовал иронически – «через двести пятьдесят лет». Стало быть, не дождешься. В письме Хрущеву эту шутку Гроссман и воспроизвел.
Твардовский, в отличие от Суслова, мог позволить себе так пошутить. Разговор неофициальный, да и Гроссман – давний приятель. Он и не назвал имя шутника в письме Хрущеву.
После и вследствие
Да, срок цензурного запрета обозначил Твардовский в шутку. Ну а вскоре началась антигроссмановская интрига ЦК КПСС.
Инициатором, согласно мнениям ряда мемуаристов и литературоведов, стал Кожевников. В его журнал Грссман принес роман, а затем – арест рукописей. Мнимо логичный вывод: если после, значит, вследствие. Так что репутация главреда «Знамени» вскоре изменилась.
Это видно и по дневниковой записи Чуковского. 21 декабря 1964 года он подводил итог встрече с Кожевниковым. Обсуждали проявления ксенофобии в советской литературе, и главред «Знамени» не скрывал презрения к антисемитам. Но автор дневника отметил: собеседник, разговаривавший без опаски, «щеголяя своими либеральными взглядами – тот самый человек, кот[орый] снес в ЦК роман Василия Гроссмана, вследствие чего роман арестовали – и Гроссман погиб»[154].
Именно погиб. Арест романа – причина гибели автора.
После гроссмановских похорон тогда и двух недель не прошло, свежа еще память. Чуковский, судя по дневнику, не сомневался: Кожевников лицемерит, ведь у доносчика не может быть «либеральных взглядов». Уверенность акцентирована лексически – выражением «снес в ЦК роман».
Но там Чуковский не получал сведения. Туда вхож не был.
Его уверенность, что Кожевников стал доносчиком, обоснована только слухами. Это допустимо на уровне дневниковой записи. А историко-литературный дискурс подразумевает доказательства.
В качестве доказательств мемуаристы и литературоведы приводили обычно ссылки на суждения Твардовского. Он, в отличие от Чуковского, был в ЦК партии вхож. Прежде всего – по должности. Еще и приятельствовал с Поликарповым. Следовательно, имел доступ к информации, большинству литераторов недоступной.
Тем не менее, свидетельства Твардовского тоже нужно проверять. Как и любые другие. Да и ссылка на суждения новомирского главреда – сама по себе – тоже не доказательство.
Согласно Заксу, Твардовский говорил, что нельзя было Гроссману отдавать роман «Жизнь и судьба» в редакцию «Знамени». Такое в принципе возможно. Однако это свидетельство мемуариста не подтверждается документами. Впрочем, другие тоже.
Липкин утверждал, что ему Гроссман рассказывал, как Твардовский инкриминировал Кожевникову донос. Но документами это опровергается.
Берзер настаивала, что ей Гроссман рассказывал о доносе сотрудников «Знамени» и лично Кожевникова. Но в ее воспоминаниях много явных противоречий, сказанное же о виновных не подтверждается документами.
По свидетельству Бианки нельзя определить, свое ли мнение Твардовский выразил, заявив, что Кожевников «отправился советоваться». Опять же, эта фраза не подразумевала доносительство как таковое.
Свидетельства Закса, Липкина, Берзер, Роскиной и Бианки рассмотрены нами вновь не ради того, чтобы доказать непричастность Кожевникова к отправлению гроссмановских рукописей в ЦК КПСС и/или КГБ. Мы лишь демонстрировали, что доказательств причастности – нет.
Проблема налицо. И все же она не обсуждается литературоведами. Давно уже решено: если после, значит, вследствие.
Наконец, подразумевается, что кроме главреда «Знамени» больше и некому было сообщить о романе в КГБ или ЦК партии. Однако до сих пор не обнаружен хотя бы один документ, подтверждающий, что именно Кожевников информировал кого-либо из представителей указанных инстанций. Подчеркнем еще раз: если после, значит, вследствие – не аргумент.
Сколько-нибудь весомым аргументом нельзя признать и ссылки на дурную репутацию Кожевникова. Не было такой в 1960 году. Потом сформировалась – под влиянием слухов об аресте гроссмановского романа.
Вот почему уместно предположить: Кожевников не лицемерил, беседуя с Чуковским 21 декабря 1964 года. Он не считал себя доносчиком, потому что без его участия рукопись Гроссмана привлекла внимание ЦК КПСС.
Вполне допустимо, что внимание ЦК КПСС к роману Гроссмана привлек кто-либо из сотрудников журнала «Знамя». Там не только главред читал рукопись. Уже и не установить точно, сколько было читавших.
Да и Закс неслучайно выдумал множество подробностей, стараясь доказать, что Гроссман «почти год» ждал ответ Кожевникова. Мемуарист отводил возможные подозрения от коллег по «Новому миру». Там рукопись находилась примерно столько же, сколько в «Знамени».
Берзер тоже выдумывала подробности, отводя подозрения от новомирских коллег. В первую очередь Твардовского оберегала.
Он, кстати, мог и «советоваться» в ЦК КПСС. Прежде всего – с Поликарповым. Давние ведь приятели. Такого рода «советы» бывали весьма полезны: отказ, данный официально, всегда дискредитировал главреда, унижал его, неофициальная же беседа от этого избавляла.
Если Твардовский «советовался» с Поликарповым, то далее уже не контролировал ситуацию. Заведующий Отделом культуры ЦК КПСС решал подобного рода проблемы сообразно указаниям Суслова, а тот решения принимал, игнорируя амбиции главредов и своих подчиненных. Возможно, тогда и была инициирована антигроссмановская интрига.
Ход ее в этом случае понятен. В октябре 1960 года заведующий Отделом культуры ЦК КПСС узнал о гроссмановской рукописи от Твардовского. После чего вытребовал ее из редакции «Знамени». Свободного времени было немного, прочел не за день, потом доложил свое мнение Суслову. Обсудили план действий, а в ноябре с романом ознакомились функционеры ССП. И 9 декабря Поликарпов документировал решение цитировавшейся выше докладной запиской. Через неделю завершилась подготовка «расширенного заседания».
Если Твардовский «советовался», то вполне объяснимо, по какой причине Ямпольский утвержл, что «ключевую роль» сыграл Поликарпов. Не главред «Знамени», а заведующий отделом культуры ЦК партии способствовал инициированию антигроссмановской интриги.
С этой точки зрения существенно, что новомирский экземпляр не вернули Гроссману даже через месяц после отказа Твардовского печатать роман. В подобных случаях принято было возвращать рукопись, но, если главред «советовался», положение стало безвыходным. Он уже не мог решать сам, когда ее отдать.
Аналогичная ситуация сложилась и в журнале «Знамя». Там автору не возвращали два экземпляра, пока в ЦК КПСС думали, какие меры принять, чтобы исключить заграничную публикацию.
Твардовский не вернул рукопись и через два месяца после отказа. С учетом сформулированной выше гипотезы, понятно – не по рассеянности. Он вынужден был поступать так же, как его коллега в редакции «Знамени». Сусловской интригой подразумевалось, что роман будет признан антисоветским публично – на заседании редколлегии, в присутствии автора. До завершения этой части операции Гроссмана полагалось оставить в неведении. Чтоб не спугнуть. Вдруг обеспокоится и – займется подготовкой заграничного издания, как Пастернак в 1956 году.
19 декабря 1960 года роман «Жизнь и судьба» признан клеветническим на «расширенном заседании» редколлегии журнала «Знамя». О чем Твардовский, будучи литературным функционером, знал. Но рукопись Гроссману все равно не вернул. Потому что и редакция «Знамени» не возвращала два полученных от автора экземпляра.
Именно после «расширенного заседания» у редакции «Знамени» появилась формальная причина не возвращать рукописи. Поскольку роман был признан клеветническим, постольку его хранить не полагалось даже автору. Для хранения антисоветской литературы советскому гражданину требовалось получить специальное разрешение.
О новых обстоятельствах Шелепин и доложил ЦК партии. Документировал готовившееся решение относительно ареста Гроссмана и/или конфискации рукописей.
Нет оснований сомневаться: Гроссман уже 19 декабря 1960 года понял: редакция «Знамени» рукописи не вернет. Запрещено, и причина ясна, просить бесполезно. Поэтому он и не просил.
Аналогично, нет оснований сомневаться: Гроссман знал, что руководство ССП если не сразу, так через день известило новомирского главреда о решении, принятом 19 декабря 1960 года. По статусу было положено. Вот почему не просил и Твардовского вернуть рукопись. А тот не проявил инициативу – в силу причин, указанных выше.
Также нет оснований сомневаться: Суслов понимал изначально, что после обсуждения романа в редакции «Знамени» у главреда будет репутация доносчика. Ситуация могла бы стать иной, только если бы коллеги-литераторы узнали, что не Кожевников «советовался» в ЦК партии.
«Новый мир» тогда – проект ЦК партии. Своего рода олицетворение принципа свободы печати в социалистическом государстве. Вот почему Твардовского надлежало оградить от подозрений в доносительстве, кто бы ни «советовался» с Поликарповым.
Берзер вряд ли случайно подчеркнула, что «изъятием» рукописи из редакционного сейфа все сотрудники журнала «и сам Твардовский, которому для совета принес Гроссман свой роман, были одинаково унижены, оскорблены и распяты вместе с Гроссманом». Про унижение и оскорбление можно не спорить. Но у этой операции есть еще одна компонента.
Сотрудники КГБ не предложили новомирскому главреду заблаговременно отдать экземпляр крамольного романа. Вполне могли бы так сделать еще до того, как пришли в гроссмановскую квартиру. Приемлемый вариант – если бы стремились уменьшить огласку. Но они демонстративно, при многих свидетелях изъяли рукопись из редакционного сейфа. Отсюда и следовало, что Твардовский к аресту не имеет отношения. В редакции же «Знамени» демонстрации не требовались.
Уместно отметить еще одну немаловажную деталь. Если Твардовский «советовался», то гроссмановское описание разговора с новомирским главредом в январе 1961 года обретает дополнительную смысловую компоненту, неочевидную вне контекста донесений КГБ.
Как отмечено выше, 1 февраля 1961 года Гроссман сообщал Липкину письмом, что на исходе января разговаривал с Твардовским: «Разговор вежливый, осадок тяжелый. Он отступил по всему фронту, от рукописи и от деловых отношений отказался полностью, да и от иных форм участия в литературной жизнедеятельности собеседника отстранился».
Липкин утверждал, что речь шла о романе. Такого, как доказано выше, не было и не могло быть. Свыше четырех месяцев прошло с тех пор, как Твардовский прочел рукопись, около полутора минуло после ее обсуждения в редакции «Знамени». Тема закрыта. Мемуарист фантазировал, что уже отмечалось выше.
На исходе января 1961 года речь шла о рассказе Гроссмана. Скорее всего, имелся в виду «Тиргартен». В любом случае понятно: был отказ. Но примечательно, что Твардовский именно «от деловых отношений отказался полностью, да и от иных форм участия в литературной жизнедеятельности собеседника отстранился».
Следовательно, исключались вообще публикации в «Новом мире». Вышеприведенную цитату вряд ли можно интерпретировать как-либо иначе. Гроссман и подчеркнул: «Энергично отстранился. Так-то».
Меж тем Гроссман оставался классиком советской литературы, не утратил статус функционера ССП, и запрет на его публикации не был наложен. Вот почему реакция Твардовского кажется странной, не вполне соответствующей репутации новомирского главреда.
Но если он по-прежнему с Поликарповым «советовался», то все объяснимо. Тогда новомирский главред знал, что в ЦК КПСС обсуждались меры предупреждения иностранной публикации. Ближайшая перспектива – арест рукописей. Могли арестовать и автора. В таком случае Твардовский – на исходе января 1961 года – беседовал с будущим арестантом, чьи публикации заведомо исключались.
Да, в качестве гипотезы можно допустить, что Твардовский, стремясь опубликовать гроссмановский роман, пошел за «советом» к Поликарпову. Искал помощи и проверял границы ответственности.
Такая гипотеза позволяет многое объяснить. Значит, доказательства есть. Однако лишь косвенные. Нет прямых – документальных. А без них нельзя утверждать, что сведения о рукописи Гроссмана поступили в ЦК КПСС именно от Твардовского.
Доказательств же того, что Кожевников передал гроссмановскую рукопись в ЦК КПСС, нет вообще. Ни прямых, ни косвенных.
Есть только противоречивые суждения мемуаристов и литературоведов. Они и документам весьма часто противоречат. Так что это – не доказательства.
Впрочем, не так и важен вопрос о том, как узнали о крамольном романе в ЦК КПСС. Главное, там разработан алгоритм, почти на десять лет исключивший возможность издания романа за границей. И он несводим к аресту рукописей.
Осмысление этого алгоритма в печати было затруднено, пока советский режим существовал. Публицистические установки изначально противоречили исследовательским. Далее же действовала своего рода инерция. Вот и формировался, можно сказать, мифологический сюжет: история гроссмановской дилогии, отражающая путь автора к нонконформизму – поэтапно.
Идеально сюжетная конструкция достроена Липкиным. Она и некоторую симметричность обрела, и завершенность, наподобие традиционного изображения борьбы сил добра и зла.
Соответственно, в 1949–1953 годах мешать Гроссману полагалось литературным функционерам – Симонову и Кривицкому – как представителям сил зла. Ну а силы добра олицетворял Твардовский. Роль главного антагониста получил ведомый доносчик Бубеннов, хотя в реальности он и не был самостоятельной фигурой.
На втором этапе, в 1960–1961 годах, Твардовскому полагалось вновь помогать Гроссману. Хотя бы пытаться. Суслов оказался персонификацией зла, а главным антагонистом, вроде Бубеннова, назначен был Кожевников.
Разумеется, побеждали силы добра. Это и эмблематизировалась мировой славой Гроссмана. И, конечно же, известностью Липкина – как спасшего рукопись.
Миф пропагандистский строится по канону. Иначе бытование проблематично. Что до истины, так она даже «не посередине, а в другой плоскости».
Истина отнюдь не каждому интересна. Она еще и мешает тем, кто использует пропагандистские мифы.
Подводя итоги, можно повторить некогда сказанное историком литературы и поэтом В.Г. Перельмутером: миф непобедим, потому что прав. И пропагандистский тоже. Он формируется и бытует, сообразно некогда возникшей потребности общественного сознания. Пока она есть.
С мифами, пусть и пропагандистскими, спорить вряд ли уместно. Мы и не спорим, а решаем иные задачи – историко-литературные. Для их решения важен анализ технологий, посредством которых история литературы мифологизируется.
Часть IV. Власть мифа
Загадки библиографии
В изложении мемуаристов история ареста гроссмановских рукописей постепенно обрастала подробностями. И чем дальше, тем их становилось больше.
Аналогичным образом были осмыслены и другие события. Те, что последовали за инцидентом, который Берзер, ссылаясь на Гроссмана, именовала «катастрофой с романом».
Подчеркнем еще раз, что не арест рукописей как таковой оказался катастрофой. Гроссман предвидел такой вариант, контрмеры подготовил. Катастрофичными были последствия, не сразу им осознанные: перевод его самого, всех родственников и друзей – в категорию заложников, ответственных за иностранную публикацию романа.
Сусловские аргументы Гроссман воспринял в качестве окончательного вердикта. Ясно стало: не изменится уже ничего.
От ареста до вердикта – около полутора лет. Если верить некоторым мемуаристам, Гроссман тогда чуть ли не бедствовал. Потому и взялся за работу, ему непривычную: отправился в Армению, чтобы там редактировать перевод на русский язык романа армянского писателя.
На уровне биографии это подтверждается. Сохранились письма Гроссмана, где он рассказывал о своем пребывании в Армении[155].
Библиографически это тоже подтверждается. Русский перевод романа Р.К. Кочара «Дети большого дома» выпущен ереванским издательством в 1962 году. Переводчики-соавторы – В.С. Гроссман и А.А. Таронян[156].
Подчеркнем: Гроссман не был переводчиком в традиционном понимании этого термина. Не переводил с армянского на русский, а лишь редактировал уже подготовленный носительницей языка подстрочный перевод. Задача – так называемая «литературная обработкой подстрочника».
Случай обычный и в досоветскую эпоху. Но с 1920-х годов «литературная обработка подстрочника» стала массовым явлением. Государственной доктриной предусматривалось – как доказательство реализации принципа этнического равенства – обязательное и постоянное «развитие литературы на языках народов СССР».
Ко второй половине 1930-х годов «литературная обработка» переводов с «языков народов СССР» была уже своего рода индустрией: редактирование подстрочников сравнительно хорошо оплачивалось, и чем выше статус «обработчика», формально именовавшегося переводчиком, тем выше гонорарная ставка.
Для публиковавшихся редко, поэтов, например, «перевод с языков народов СССР» был постоянным источником доходов. Как известно, Пастернак считал это поденщиной, но отказаться не имел возможности.
Правда, сформировалось и сообщество литераторов, для которых это стало главным источником доходов. Соответственно, в ССП создана была Секция перевода.
Липкин, к примеру, зарабатывал почти исключительно «переводами с языков народов СССР». Благодаря чему уже на исходе 1930-х годов считался весьма авторитетным переводчиком.
Известные советские прозаики обычно не работали с подстрочниками. Вот почему Берзер о гроссмановском выборе пишет чуть ли не с негодованием: «Он поехал в Армению (если называть все своими именами) из-за нужды и несчастья. Поехал, чтобы переводить роман армянского писателя – после “катастрофы с романом” его перестали печатать, ему не на что было жить. Ведь роман он писал “около десяти лет” – это подлинные его слова».
Да, ко второй части дилогии Гроссман приступил на исходе 1940-х годов, значит, мог бы заявить, что работал «около десяти лет». Правда, Липкину в письме он назвал другой срок – шестнадцать. В любом случае долго. Однако вряд ли Гроссман рассказывал Берзер про то, как ему «не на что было жить».
Немалый доход приносили переиздания романов, выпуск сборника, публикации в периодике. Если по обычным советским меркам – чуть ли не громадный. Сравнимый с жалованием советского профессора за десятилетия. Быстро истратить не сумел бы. Сомнительной же была перспектива регулярного заработка после ареста рукописей. Но и это – не главное.
У самого Гроссмана, судя по его письму Липкину, еще в конце января 1960 года было впечатление, что Твардовский отнюдь не случайно «отстранился». А до ареста романа оставалось почти три недели.
Очень быстро распространялись слухи в литературной среде. Уже через несколько дней главреды всех столичных журналов знали: Гроссман написал роман, признанный антисоветским. Вскоре это стало известным сотрудникам редакций и т. д.
Нет сведений, что зимой или даже осенью 1961 года из ЦК КПСС поступали официальные указания относительно запрета гроссмановских публикаций. Однако в редакциях не было желающих рискнуть. Это не могло не напомнить ситуацию восьмилетней давности, пусть и в изрядно смягченном варианте. «Отстранились» многие давние знакомые.
Тягостной была обстановка. Пожить вне Москвы – уместное решение.
Гроссман, сообразно его высокому статусу, всегда имел возможность отправиться в какой-нибудь писательский санаторий или пансионат. На месяц и более. Только и там вокруг – «отстранившиеся» коллеги.
Поездка в Армению пришлась как нельзя более кстати. Другой вопрос, почему советский классик получил несоответствовавшее его статусу предложение – редактировать подстрочник.
Впервые объяснил это Липкин. Мемуарист утверждал: «Однажды ко мне подошла в Доме литераторов непременная, многочасовая его посетительница Асмик (фамилию забыл), армянка, похожая на черный колобок, и сказала мне, что она перевела с армянского большой роман Рачия Кочара на военную тему, но автор считает, что ее перевод лишь подстрочник (так оно и оказалось), нужен для обработки хороший писатель, желательно с именем и фронтовик, так не могу ли я кого-нибудь порекомендовать».
Если учитывать контекст, то весьма странно, что Липкин «забыл» фамилию собеседницы. Таронян к 1970-м годам стала довольно известной переводчицей, а среди коллег не могла быть малоизвестной и ранее. Но, допустим, память изменила мемуаристу.
Встреча его с переводчицей вполне объяснима. Центральный дом литераторов тогда – закрытый клуб. С библиотекой и бильярдной, рестораном, баром и т. д. Пропускали в здание по удостоверениям литературных или журналистских организаций. И дело не в секретности. Ресторанные цены – клубные – были гораздо ниже, чем в аналогичных заведениях. Вот почему многие писатели там обедали, ужинали, отмечали семейные и другие праздники, работали, да и встречи назначали. Таронян, согласно Липкину, из завсегдатаев.
Объяснимо также, почему Таронян обратилась именно к Липкину. Подразумевалось, что он – старший и весьма авторитетный коллега. Далее, по словам мемуариста, она сообщила: «Писателя-переводчика пригласят работать в Армению, республика оплатит дорожные расходы, местное издательство заключит с ним договор».
Разумеется, «местное издательство» договор бы заключило в любом случае. Липкин, надо полагать, хотел подчеркнуть, что оплата гарантирована. А далее указал: «Я подумал, что неплохо бы Гроссману поехать в Армению, да и гонорар за перевод романа нужен сейчас Гроссману позарез, и обещал обрадованной Асмик с ним поговорить».
Обещал, значит. Но, по словам мемуариста, «не был уверен в удаче своего предприятия. Гроссман, даже когда с деньгами было туго, не любил писать на заказ. Давно, после неожиданного удара по пьесе “Если верить пифагорейцам”, он спросил у жены: “Что же мне теперь делать?”, а Ольга Михайловна ответила: “Пиши сценарии”, он часто вспоминал и не мог ей простить эти слова».
Значит, писатель-нонконформист – опять в пресловутой «нужде». А «самый близкий друг», конечно же, поспешил выручить. Сообщалось, что Гроссману «понравилась возможность поездки в Армению. Он сказал: «Если роман не подлый, буду переводить. Хорошо, что он, как ты говоришь, большой. И деньги нужны, и на душе скверно, может быть, поденщина поможет»».
Встреча соавторов-переводчиков была организована. Таронян, если верить Липкину, «принесла свой толстенный подстрочник, роман с точки зрения морали удовлетворил Гроссмана, он спросил только: «Подстрочники всегда такие безграмотные?»».
Отметим, что весьма иронична суммарная характеристика Таронян. Сама она – «похожая на черный колобок». Опять же, завсегдатай ЦДЛ. Перевод ее – по сути подстрочник, да еще и «безграмотный».
Уже не выяснить, чем Липкину так не угодила Таронян. Да это и неважно. Ему многие не угодили, вот счеты и сводил в мемуарах. Для начала – в изданных за границей, отчего граждане СССР не могли с ним спорить.
После издания мемуаров в СССР не так много и осталось тех, кто мог бы поспорить. Кочара, например, мемуарист характеризовал тоже не без иронии, но автор романа «Дети большого дома» умер еще в 1965 году.
В полемику вступила его дочь – М.Р. Кочар. Она выдвинула принципиально иную версию более двадцати лет спустя. И в интервью одному из популярных интернет-изданий опровергла все, что рассказывал мемуарист о своей протекции[157].
Согласно Кочар, отец и его переводчик были давними знакомыми. Более того, армянский классик «мечтал издать на русском языке свой роман “Дети большого дома” и обязательно в переводе Гроссмана, которого просто боготворил…».
Знакомство их состоялось благодаря В.А. Тевекеляну. Он тогда не только известный прозаик, но и директор Литературного фонда, влиятельнейшей организации, где решались почти все финансовые вопросы: беспроцентные ссуды писателям, распределение кооперативных квартир, дач, автомобилей и т. п.
Если верить Кочар, не было посредничества Липкина. Инициатива от ее отца исходила. Вот почему Гроссман и принял не соответствовавшее статусу предложение.
Свидетельства Липкина и Кочар исключают друг друга. Но отсюда не следует, что истинно хотя бы одно из них.
Например, Поликарпов – лично или через руководство ССП – мог бы «посоветовать» Липкину оказать помощь другу. И автор романа «Дети большого дома» получил бы тот же «совет». От которого трудно было бы отказаться. Такое нельзя исключить. Удобный вариант: Гроссман добровольно уезжает подальше от Москвы. Значит, в столице пореже обсуждаются события, относящиеся к истории крамольного романа.
Так ли, нет ли, в любом случае предложение заняться редактированием подстрочника было получено. Липкин утверждал: Гроссман 1 ноября 1961 года «сел в поезд. Из Армении он мне часто писал».
Многие письма Липкину сохранились. Возможно, что и все. Судя по ним, Гроссман в Армении был вновь одинок. По крайне мере, так себя чувствовал. За исключением Кочара и Таронян, с армянскими литераторами не общался.
Если не учитывать контекст, это удивительно. Армянское гостеприимство хрестоматийно известно, а тут из Москвы прибыл классик советской литературы, но ереванские коллеги словно бы специально его игнорировали. Причем не один день или неделю – почти два месяца.
Московского прозаика мог пригласить только республиканский СП. Он и контролировал ереванское издательство, заключившее договор с Гроссманом.
Допустимо, что об аресте рукописей там уже знали. Но ведь не с ноября 1961 года, когда Гроссман приехал в Ереван, а гораздо раньше. Тем не менее, пригласили, договор заключили. И создали лучшие из возможных условий проживания: комфортабельная гостинница, затем санаторий, причем все бесплатно. Нет, ссылка на дошедшее из Москвы известие об инциденте ничего по сути не объясняет.
Ситуация выглядит еще более странно, если обратиться к библиографии. Липкин про нее вообще не упомянул.
Начнем с того, что роман «Дети большого дома» – о молодых армянах-фронтовиках. Его первая редакция на языке оригинала опубликована в 1952 году.
Два года спустя русский перевод книги издан в Армении. Переводчик – А.А. Тадеосян. Ей подстрочник не требовался – переводила с армянского[158].
В 1955 году роман вновь опубликован на родине автора. Переводчик – Тадеосян[159].
Московское издательство «Советский писатель» выпускает роман в том же году. Переводчик – Тадеосян[160].
В следующем году роман опубликовал Воениздат. Разумеется, в переводе Тадеосян[161].
Кочар тем временем готовил к изданию второй том – на армянском языке. Опубликован в 1959 году.
Подготовленный Гроссманом и Таронян перевод на русский язык опубликован ереванским издательством через три года. В двух томах.
Ничего в этом необычного, если б не предыдущие издания. При сличении выясняется: первый том кочаровского романа, уже четыре раза опубликованный на русском языке, заново переведен Таронян и Гроссманом.
Это отнюдь не обычный случай. Объяснения же не предлагались.
Гроссман, судя по его письмам, не знал о прежних изданиях. А вот для Таронян не могла не знать. Для нее перевод с армянского – профессия. Мотивация переводчицы неочевидна. И Кочара тоже.
Кнут и пряник
Вернемся к версии Липкина. Сопоставим ее с библиографией Гроссмана.
Допустим, Кочар был недоволен переводом Тадеосян. Потому и решил, что нужен другой перевочик.
Но тогда непонятно, когда и почему возникло недовольство. За три года перевод Тадеосян опубликован четырежды. Следовательно, претензий не было до четвертой публикации.
Недовольство Кочара переводом Тадеосян – не причина. Если вообще было.
Допустим, было. Возникло, предположим, лишь на исходе 1950-х годов. Неважно, по какой причине. И тогда за дело принялась Таронян. Если верить Липкину, ей заказан был не подстрочник, но именно перевод. Сначала первого том, затем второго.
Тогда еще более странен итог. При сопоставлении липкинской версии с библиографией получается, что Кочар терпеливо ждал полтора года, пока Таронян работу не закончила. Ни разу не заглянул в рукопись своей переводчицы. Ознакомившись же с переводом обоих томов сразу, решил, что это подстрочник, не более. Психологически – неубедительно. А экономически, так вовсе нелепость.
Кочар, во-первых, не сам оплачивал работу переводчиков. Допустимо, что имел возможность их выбирать, но заказчик – директор издательства. Он подписывал договоры. И ответственность – его. Поэтому не объяснить никак, зачем понадобилось издателю оплачивать новый перевод уже неоднократно изданного первого тома. Инициативы подобного рода официально именовались «нарушениями финансовой дисциплины». Что считалось «уголовно наказуемым деянием».
Во-вторых, необъяснимо, зачем понадобилось республиканскому СП выписывать из Москвы классика советской литературы, оплачивать его двухмесячное пребывание в Армении, когда первый том романа уже переведен, издан неоднократно, значит, апробирован, и переводчица вполне способна подготовить к изданию второй.
Каким бы ни был влиятельным Кочар, ему такую прихоть не разрешили бы реализовать. Слишком дорого, а потому опасно.
Наконец, остается необъяснимым, в силу каких причин было решено наказать Тадеосян. Ее лишили гонораров за новые публикации романа. А ведь основной источник доходов советских переводчиков – именно переиздания.
Мало того, обращение к Таронян стало ударом по репутации Тадеосян. Отказом переводчицу демонстративно оскорбили. В Армении такое отнюдь не принято.
Стоит отметить, что даже в случае недовольства работой Тадеосян можно было обойтись без демонстративного оскорбления. Равным образом, избежать вопиющих «нарушений финансовой дисциплины». Простейший способ – с другим переводчиком заключить договор на перевод только второго тома. Подобные варианты соавторства нередко использовались в СССР.
Обратимся теперь к сказанному дочерью Кочара. Сопоставим и эту версию с библиографией.
Допустим, Кочар и впрямь мечтал, чтобы его роман перевел Гроссман. И даже, благодаря Тевекеляну, был знаком со своим кумиром.
Но тогда опять непонятно, почему не обратился сразу к Гроссману, а выбрал Тадеосян в качестве автора литературного перевода. Да еще и дожидался четвертого издания. Ну а дальше – те же противоречия, что относятся к липкинской версии. Кочару не могли разрешить по его капризу транжирить средства издательства. Аналогично – республиканского СП.
Версии Липкина и Кочар не только исключают друг друга. При сопоставлении с библиографией обе не выдерживают критики. Стало быть, ни одна из них не объясняет, почему Гроссману и Таронян – в нарушение всех правил – оплачивали новый перевод четырежды изданного тома. Причем вопиющие «нарушения финансовой дисциплины» даже не скрывали. Буквально – не считались с оглаской. Такое немыслимо в 1961 году.
Вывод очевиден. Распоряжение подготовить новый перевод и выбрать другие кандидатуры переводчиков отдано вышестоящей инстанцией. Причем той, которая обладала полномочиями санкционировать вопиющие «нарушения финансовой дисциплины».
В мемуарах Липкина есть косвенное подтверждение. Рассуждая о разговоре с переводчицей Асмик, мемуарист приписал ей характерный оборот – «республика оплатит…». Вероятно, не учел, что коннотации подскажут кому-либо догадку.
Не так уж трудно догадаться. В советскую эпоху цитированный выше оборот подразумевал с необходимостью, что расходы уже санкционированы на уровне администрации одной из пятнадцати республик Советского Союза. Понятно, что в данном случае – Армянской.
Однако до 1961 года в республиканской администрации не беспокоились о русском переводе кочаровского романа. И вдруг беспокойство возникло. Причем настолько сильное, что местному СП разрешили вопиющие «нарушения финансовой дисциплины». Это было возможно лишь при вмешательстве другой вышестояшей инстанции – ЦК КПСС.
Тогда вполне объяснимо, почему ереванские литераторы фактически игнорировали Гроссмана. Его кандидатуру в качестве переводчика навязало партийное руководство. Не только оскорбив при этом Тадеосян, но и введя в бессмысленные расходы издательство, а также местный СП. А это означало сокращение финансирования других литературных проектов.
Допустимо, что у коллег претензии были и к Таронян. Но тут имелось оправдание: переводчица лишь выполняла распоряжение вышестоящей инстанции. В подобных случаях отказ неуместен, даже опасен. А вот Гроссман – классик советской литературы. Подразумевалось, что мог бы и выбирать способы заработка.
Гроссман, судя по его письмам, не догадывался, почему ереванские литераторы избегают встреч с ним. Предполагал, что всему виной арест романа. Да и некогда было размышлять о специфике местного гостеприимства. Приходилось очень много работать. Московскому гостю надлежало скорейшим образом подготовить оба тома кочаровского романа к публикации, непостредсвенно с автором согласовав решения всех вопросов редактуры.
Были и конфликты. Они в письмах отражены. Гроссман редактировал оба тома по своему усмотрению, порою увлекался, пренебрегал исходным замыслом Кочара, особенностями его стиля.
Кочар, однако, всегда уступал своему переводчику. Необычная покладистость – для известного писателя.
В данном случае объяснение подразумевается. Дело не только в том, что Кочар «боготворил» Гроссмана. Он еще и подчинялся распоряжению вышестоящей инстанции. Так же, как армянский СП и местное издательство.
Значит, правомерен вопрос о причине, обусловившей распоряжение ЦК КПСС. Очевидно, что реализован некий план. Неочевидно же, в чем он заключался.
Объяснение вновь подсказывает контекст. Автор плана не собирался обижать кого-либо. Всем планировалось компенсировать ущерб.
Как известно, с 1957 года выдающиеся – по мнению советского правительства – достижения в области науки, техники, искусства отмечались Ленинской премией. Она заменила Сталинскую.
Трактовалось это как продолжение традиции. «Премия имени В.И.Ленина» учреждена еще в 1925 году. Присуждалась в течение десяти лет. Затем – перерыв и актуализация идеи, но уже с иным названием.
Очередная перемена названия вполне соответствовала реалиям хрущевской эпохи. Традиция вроде бы осталась, а имя Сталина не упомянуто. Результаты полагалось объявлять 22 апреля – в день рождения Ленина.
Про новую премию литературные функционеры узнали, разумеется, до официального извещения. Кандидатуры возможных претендентов лоббировали почти все республиканские СП.
Армянский тоже не остался в стороне. Воениздатом роман Кочара опубликован в 1956 году. Причем тираж настолько мал, что сведения о нем в самой книге не приведены. Смысл акции – обозначить участие в соревновании.
Но в 1957 году успех маловероятен был изначально. Московские критики обсуждали роман без особых похвал. Да, книга о войне, сюжет интересен, перевод вполне добротный, но в целом – не событие на уровне истории русской советской литературы.
Были и формальные препятствия. Роман не завершен, опять же, первое издание перевода вышло задолго срока, определенного условиями конкурса.
В 1959 году второй том романа «Дети большого дома» был опубликован на языке оригинала. Для участия в конкурсе оставалось только выпустить двухтомный русский перевод, пусть и под одной обложкой.
С решением новой задачи не спешили. Тадеосян вряд ли удалось бы перевести второй том лучше, нежели первый. Вероятно, руководство армянского СП тогда и обсуждало возможность приглашения для «литературной обработки» кого-либо из пишущих на русском языке местных прозаиков. Разумеется, в качестве соавтора той же переводчицы.
Вот тогда и вмешался ЦК КПСС. Тут явно сусловский modus operandi.
ЦК КПСС решал прежнюю задачу – предотвращал иностранную публикацию гроссмановского романа. А для этого требовалось обеспечить лояльность автора. Коль скоро он не получил три четверти гонорара в редакции «Знамени», так частичная компенсация – заказ ереванского издательства.
Армянскому же СП был предложен вполне изящный план выдвижения романа Кочара на Ленинскую премию. Надлежало опубликовать два тома сразу, но переводчика для обоих выбрать другого. Таким образом и снимались бы подразумевавшиеся вопросы относительно прежних изданий. А участие классика советской литературы, мастера военной прозы – гарантия успеха[162].
Республикакнский СП, конечно же, вводили в непредвиденные расходы. Но если «нарушения финансовой дисциплины» заранее санкционированы, так риска нет.
Потому и понятно, что Таронян готовила не литературный перевод, а подстрочный. Он и был завершен к осени 1961 года. С рекордной скоростью. Далее – предложение Гроссману.
Неважно, кто стал посредником. Липкин или Тевекелян – суть не меняется. Важно, что предложение было весьма кстати. Гроссману предоставлялась возможность получить гонорар, сопоставимый с неполученным в «Знамени». А еще – уехать из Москвы и без всяких расходов пожить в Армении, где обеспечивали бы достаточно высокий уровень комфорта.
Очередной вариант борьбы за премию не противоречил интересам Кочара. Новый перевод его романа был бы лучше, да и гонорар значительно выше.
Игнорировались только интересы Тадеосян. Но это вполне компенсировалось новыми заказами на переводы. Они и были[163].
Конечно, была и обида. Не только у Тадеосян. И другие ереванские литераторы обиделись не только за нее. Вмешательство ЦК КПСС вновь демонстрировало, что они – лишь детали в механизме очередной интриги, подлинный смысл которой им даже не объяснили. Потому коллеги сторонились Гроссмана, хоть это и противоречило многовековой традиции гостеприимства.
Ереванское же издательство выплатило Гроссману часть гонорара в конце декабря 1961 года. Вскоре он уехал из Армении. Его работа в целом была завершена. Далее начиналась собственно издательская – редакционный и типографский циклы.
После издания кочаровского романа Гроссман получил и оставшуюся часть гонорара. В общей сложности за два месяца он заработал сумму, компенсировавшую ту, что не выплатила редакция «Знамени».
Интрига развивалась успешно. Гроссману, помимо денег, предоставлялась возможность заняться «литературной обработкой», что гарантировало в дальнейшем стабильно высокие доходы. Превышавшие, кстати, прежние. Труд востребованный: в Советском Союзе, подчеркнем, было тогда пятнадцать республик.
В гроссмановском случае ЦК КПСС использовал традиционный метод кнута и пряника. Арест рукописей – наказание. Уступки не прогнозировались. Ну а поощрение за лояльность в настоящем и будущем – весьма солидный заработок и перспектива стабильно высоких доходов.
Если бы Кочар стал лауреатом, его успех был бы триумфом республиканского масштаба. И, конечно, гроссмановской победой. Что, опять же, оказалось бы лучшей рекламой.
Однако Ленинской премией роман «Дети большого дома» так и не был отмечен. На это, вероятно, имелись веские причины.
В 1961 году еще нечего было номинировать. «Литературная обработка» перевода Таронян завершилась в конце декабря.
На следующий год ситуация была сходной. Объем проходившей редакционную подготовку рукописи – более двух тысяч страниц. Это очень много для небольшого республиканского издательства. Неудивительно, что первый том подписан к печати 10 сентября 1962 года, а второй – 26 октября. Вышела роман и вовсе зимой. Надо полагать, он поэтому и не попал в уже подготовленный список номинируемых зданий.
Кочаровский роман могли бы отметить премией в 1963 году. Но к тому времени сама интрига – в связи с Гроссманом – утратила прежнюю актуальность. Он был уже смертельно болен, о чем, разумеется, знали в ЦК КПСС.
Гроссман, судя по его письмам, так и не уяснил, что за причины обусловили возможность поехать в Армению. Для него двухмесячная «литературная обработка» чужого романа – поденщина. А вот Липкин не мог не понимать суть интриги. Он состоял в секции перевода ССП с момента основания. Потому лучше, чем хорошо знал, каким образом достаются переводчикам выгодные заказы.
Допустим, к Липкину обратилась Таронян, пересказала версию, приведенную в его мемуарах. И все же невероятно, чтобы переводчик с тридцатилетним стажем не навел справки в своей секции о Кочаре и его романе. Все-таки «литературной обработкой» предстояло заняться другу. Значит, мемуарист не мог не узнать об изданиях перевода Тадеосян.
Однако Тадеосян в мемуарах не упомянута. Это объяснимо. Поступи Липкин иначе, его история о протекции Гроссману обрела бы иной смысл.
Цензура и фантазия
Гроссман, судя по его письмам, еще в Армении задумал подготовить своего рода путевые заметки. Вернувшись, реализовал этот замысел.
До публикации тогда дело не дошло. Ямпольский утверждал: «В последние годы жизни он написал “Записки пожилого человека” (Путевые заметки по Армении), произведение, на мой взгляд, гениальное, из того класса, что “Путешествие в Эрзерум”».
Гроссмановский очерк Ямпольский сравнил с пушкинским, хрестоматийно известным. Причем тоже о кавказском путешествии[164].
В русской традиции вряд ли возможна более лестная оценка. Далее – история конфликта: «Записки были набраны и сверстаны в “Новом мире” и задержаны цензурой из-за нескольких фраз об антисемитизме. Требовали их убрать. Гроссман уперся. “Записки” пошли в разбор».
Ямпольский подразумевал, что сам типогафский набор очерка уничтожен. Значит, отказ редакции был окончательным.
Позже Ямпольский описал свой разгоровор с Гроссманом о неопубликованном очерке. Речь шла о возможности компромисса – упущенной: «Я сказал ему, что он в свое время сделал ошибку, не пожертвовав в “Новом мире” двумя-тремя абзацами.
– Вы это говорите как писатель и как еврей? – спросил он.
– Да, – сказал я, – там у вас были вещи поважнее и позначительнее, чем антисемитизм.
Он ничего не ответил, смолчал».
В рассказе про новомирский конфликт главное, что Гроссман отверг компромисс. И это, как подчеркнул Ямпольский, была не прихоть, а позиция.
Впервые подробно историю очерка изложил Липкин – еще в книге «Сталинград Василия Гроссмана». Там сообщается: «Сила духа его была велика: он работал, он написал несколько рассказов, создал поэму – иначе не назову его армянские записки – “Добро вам”».
Так очерк был назван, когда готовилась публикация. Заглавие выбрано правомерно: это буквальный перевод традиционного армянского приветствия – «бардзевес».
Липкин не упомянул о первом варианте заглавия, указанном Ямпольским. По версии мемуариста, автор очерка, завершив работу, «отдал ее «Новому миру». Твардовскому она понравилась, на полях рукописи есть только одна его пометка. Там, где Гроссман пишет: «Пьющие и выпивающие братья средних и пожилых лет, вы, наверное, знаете, каково это проснуться после тяжелой выпивки среди ночи», – Твардовский сбоку заметил карандашом: “Еще бы!”».
Намек был понятен осведомленным современникам. А сама деталь – запоминающаяся. Благодаря чему и возникало у читателя впечатление достоверности. А ведь Липкин не объяснил, при каких обстоятельствах он, не работавший в «Новом мире», прочитал сделанную Твардовским «пометку».
Далее характеризуется суть конфликта. Липкин сообщил, что «очерк-поэму набрали, и цензура поставила на верстке свой жизнедательный штамп, но предложила-приказала – выбросить один абзац…».
Гроссман описывал свадьбу в армянском селе, где оказался по приглашению знакомого писателя. Застолье было в сельском клубе – построенном на средства колхоза здании, которое предназначалось для так называемой культурно-просветительной работы. Прежде всего, демонстрации кинофильмов. Значит, освобожденный от соответствующей мебели кинозал превратился в свадебный.
Там Гроссман и услышал тост фронтовика, в прошлом – узника немецкого лагеря. На русский язык переводил знакомый писатель. Дословно. Так, чтобы гость сразу понял сказанное колхозным плотником: «Он говорил о евреях. Он говорил, что в немецком плену видел, как жандармы вылавливали евреев-военнопленных. Он рассказал мне, как были убиты его товарищи-евреи. Он говорил о своем сочувствии и любви к еврейским женщинам и детям, которые погибали в газовнях Освенцима. Он сказал, что читал мои военные статьи, где я описываю армян, и подумал, что вот об армянах написал человек, чей народ испытал много жестоких страданий. Ему хотелось, чтобы о евреях написал сын многострадального армянского народа. За это он и пьет стакан водки. Все люди поднялись со своих мест, мужики и бабы, и долгий, тяжкий гром рукоплесканий подтвердил, что армянский крестьянский народ полон сочувствия к еврейскому народу».
Гроссмановский очерк Липкин цитировал пространно. И пресловутый «абзац», исключенный цензором, тоже приведен: «Я низко кланяюсь армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья всенародно заговорили о муках еврейского народа в период фашистского гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, низко кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне, кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовых и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали человеконенавистники слова презрения и ненависти: “Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил”. До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мною в сельском клубе».
Далее Липкин сообщил, что автор очерка был упрям. А новомирский главред, как всегда, добр и мудр. Искал компромисс: «Гроссмана оскорбило, обожгло решение цензуры. По его настоянию Твардовский пытался уговорить своего прижурнального главлитчика, но безуспешно, в этих строках тот бдительно усмотрел опасность для государства, упрямо настаивал на своем. Гроссман отказался печатать “Добро вам” в журнале».
Липкин, по его словам, понимал, чем обусловлено такое решение. И не принимал его: «Я надеюсь, что не принадлежу к тем писателям-рабам, которым непримиримость Гроссмана кажется глупостью, проявлением вздорного характера, но все же я тогда считал и теперь считаю, что Гроссман совершил ошибку. Конечно, дороги, очень дороги были Гроссману 10 или 12 строк новомирского набора, окаймленные красным запретительным карандашом, но в «Добро вам» около ста страниц, и какие бесценные мысли нашел бы в них читатель, какое глубокое чувство охватило бы его…».
Следует из сказанного, что Липкин видел те «окаймленные» строки. Однако вновь не объяснено, когда и где.
Далее, как сообщал мемуарист, про инцидент в «Новом мире» узнали московские литераторы. По рукам ходила рукопись очерка. С ней – уже после смерти автора – ознакомилась известный армянский поэт С.Б. Капутикян: «О многом поведали армянке-патриотке эти записки, и она увезла произведение, посвященное ее народу, на родину, чтобы попробовать там его напечатать, поскольку, за исключением нескольких строк, это произведение получило разрешительный штамп московской цензуры, весьма, естественно, почитаемой в Армении».
Вновь можно лишь гадать, видел ли мемуарист «разрешительный штамп московской цензуры». Аналогично – Липкин передал Капутикян материалы, или еще кто-либо. Далее же сообщается: «Проходит около года, о записках ни слуху, ни духу. Выполняя завет Гроссмана, я поехал в Армению. Выяснилось, что верстка находится в журнале “Литературная Армения”, выходящем на русском языке, но из-за строк, выброшенных цензурой, редакция опасается печатать “Добро вам”, хотя и очень этого хочет».
О сотрудниках редакции мемуарист отзывался критически. Утверждал, что они весьма почитали московскую цензуру. Потому и не решались готовить публикацию. В общем, высмеивал Липкин чрезмерно робких ереванских журналистов.
Но опять можно лишь гадать, как выяснилось, что журнал «хочет» и «опасается». Рассказал кто-либо, сам ли беседовал с редакторами – нет сведений. Далее мемуарист сообщил, что с помощью своего знакомого, ереванского профессора Л.М. Мкртчяна сумел «убедить редакцию в безопасности и необходимости напечатать работу Гроссмана – о записках уже заговорили в Ереване, – и в 1965 году “Литературная Армения” опубликовала “Добро вам”, конечно, без запрещенного абзаца».
В общем, победа, хоть и неполная. Соответственно, Липкин резюмировал: «Я понимаю, что нарушил волю Гроссмана, но думаю, что поступил правильно, такую прекрасную вещь не надо было прятать от читателей».
История, конечно, трогательная. Что до ее достоверности, то опять доказательства требуются.
Обратимся к публикации. Журнал «Литературная Армения» напечатал гроссмановский очерк в шестом и седьмом номерах 1965 года[165].
Подчеркнем: Гроссман умер 14 сентября 1964 года. А публикация очерка началась, когда не минуло и десяти месяцев после смерти автора.
Согласно липкинской версии, после смерти Гроссмана верстку читала Капутикян, увезла на родину, затем еще «прошло около года», пока мемурист сам не отправился в Армению, где выяснилсь: материал получен журналом, однако «редакция опасается». Пришлось Липкину принять меры, воспользоваться связями, на что опять время ушло. И началась журнальная подготовка к изданию. Как минимум, потребовалась бы еще пара месяцев. Быстрее не позволяла тогда журнальная технология – редакционный цикл, типографский набор, первая корректура, верстка, не менее двух сверок. Да и с цензурой полагалось бы публикацию согласовать. Подчеркнем: если б все так было, как мемуарист рассказал, то при всех допущениях публикация очерка началась бы не раньше октября-ноября 1965 года. А на самом деле она уже в июле завершилась.
Допустим, мемуарист выразил свою мысль неточно. Так бывает. Главное в его версии, что редакция «Литературной Армении» не рискнула сохранить «абзац», вычеркнутый московским цензором.
Это опять проверяемо. Достаточно открыть июльский номер журнала, чтобы убедиться: цитированный Липкиным «абзац» – на должном месте[166].
Ошибка памяти или сознательный обман – не будем пока спорить. Не менее интересен другой мемуарный сюжет. Липкин подчеркнул, что был включен в комиссию по литературному наследию. Ей «удалось добиться в “Советском писателе” издания небольшой книжки Гроссмана, в которую вошло несколько его рассказов разных лет (в том числе и поздних, написанных после ареста романа) и “Добро вам”, давшее название всей книжке, вышедшей в 1967 году».
Но тогда опять – по словам мемуариста – возникли препятствия. Уже не цензор, а редакция в «Советском писателе» оказалась чрезмерно осторожной. Липкин подчеркнул, что «доложил об этом на заседании нашей комиссии, и члены ее постановили не спорить с издательством. Я сначала намеревался добиться от комиссии решения – отказаться от публикации “Добро вам” в искаженном виде, но после долгих раздумий решил этого не делать, во-первых, по соображениям, уже изложенным выше, во-вторых, – вряд ли я пересилил бы комиссию. И теперь я чувствую и радость от того, что большая часть “Добро вам” все-таки стала достоянием русских читателей, и свою вину перед умершим другом: ведь нарушена его воля».
Значит, Липкин второй раз, по его словам, поступил вопреки волеизъявлению «умершего друга». Так ли было – проверяемо.
В 1967 году издательство «Советский писатель» выпустило гроссмановский сборник, озаглавленный «Добро вам». Одноименный очерк туда включен. Раскрыв книгу, легко убедиться: пресловутый «абзац» – опять на должном месте[167].
Это неудивительно. Редакция «Советского писателя» воспроизводила уже дважды апробированный текст. Как отмечено выше, очерк впервые опубликован журналом «Литературная Армения», причем без купюры, о которой рассуждал Липкин. Вторично – два года спустя – в ереванском сборнике «Глазами друзей». Пресловутый «абзац» и там на должном месте[168].
Удивительно же, что «самый близкий друг» не ознакомился с первой – журнальной – публикацией очерка, не знал о второй, да и в посмертный сборник Гроссмана не заглянул. Значит, этот мемуарный сюжет – тоже вымысел.
Правда, нет оснований сомневаться, что у мемуариста была рукопись очерка. Да и Гроссман мог рассказать «самому близкому другу» про конфликт с Твардовским. Опять же, мемуарист читал статью Ямпольского. Ну а все остальное – сочинил. Фантазировал.
Конструкция сочинения понятна. Если «абзац» вычеркнут, значит, это сделал цензор. Так и Ямпольский полагал.
Обычно «главлитчики» вычеркивали красным карандашом. Чернила не использовали. Формально подразумевалось: главред может оспорить карандашную правку и, убедив цензора, стереть ее. Это было известно в любой редакции.
Липкин тоже знал о технике цензурной правки. Вот и экстраполировал свой опыт на историю редактирования гроссмановского очерка в «Новом мире». Сообщил, что карандаш цензора был красным.
Аналогичным образом экстраполирован личный опыт на историю публикации очерка в «Литературной Армении». Липкин был уверен, что сотрудники ереванского журнала не посмели игнорировать правку московского цензора. Ход рассуждений понятен: если бы рискнули, так в лучшем случае главред поплатился бы должностью, о чем стало бы известно в Москве, а коль скоро обошлось без скандала, значит, учли цензорские «пожелания».
Далее ход рассуждений тоже понятен. Если правку московского цензора не посмел игнорировать ереванский главред, то и в редакции «Советского писателя» не оказалось желающих рисковать. Так всегда было. Иной результат не прогнозировался.
На самом деле получилось иначе. Важный Гроссману фрагмент очерка везде сохранен. Потому и правомерен вопрос о причинах, обусловивших версию цензорского вмешательства.
Незамеченная полемика
В 1986 году Липкин мог не опасаться возражений. Его мемуары ориентированы на эмиграцию, а там версию приняли безоговорочно.
Два года спустя мемуры Липкина, как отмечено выше, напечатаны журналом «Литературное обозрение». Можно сказать, публикация была сенсационной.
В дальнейшем мемуариста постоянно интервьюировали, выспрашивали все новые подробности, очередные сведения о его знаменитых современниках. Одна за другой – публикации в периодике, наконец, первое книжное издание мемуаров. Это был триумф.
Потому и полемика с триумфатором оказалась вне сферы внимания. В спор вступила критик и переводчик Н.А. Гончар-Ханджян. Ее статью опубликовал журнал «Литературная Армения» в февральском номере 1989 года[169].
Гончар-Ханджян не просто оспорила, но и полностью опровергла версию мемуариста. Прагматика обозначена заголовком статьи: «К истории публикации “Добро вам” В. Гроссмана и к истории журнала “Литературная Армения”. По поводу воспоминаний С. Липкина».
Статья начиналась уже традиционно – с выражения благодарности мемуаристу. Все-таки он, по его словам и утвердившемуся мнению, «самый близкий друг Гроссмана».
Затем Гончар-Ханджян перешла от общего к частному. Подчеркнула, что в 1961–1969 годах была сотрудником редакции, осмеянной Липкиным.
Таким образом акцентировалось, что суждения Липкина анализирует свидетель, непосредствнно участвовавший в подготовке гроссмановского очерка к печати. Гончар-Хаджян утверждала: «Была это одна из тех публикаций, которые “Литературная Армения” шестидесятых предприняла с полнейшим пониманием ее ценности и осуществила, как говорится, сходу, без каких-либо колебаний, задержек и оглядок».
Далее отмечены хронологические ошибки, о которых мы упоминали выше. Потому Гончар-Ханджян с иронией отметила, что если бы Липкин посетил редакцию «Литературной Армении» в указанный им срок, то получил бы подарок – номера журнала с очерком Гроссмана.
Судя по статье, автора оскорбили суждения Липкина о ереванских журналистах. Гончар-Ханджян в свою очередь иронизировала: «Субъективная версия развивается дальше – с повышением активности героя-рассказчика относительно пассивности редакции, опасливо придерживающей верстку…».
Именно так и описывал Липкин свое участие. Соответственно, Гончар-Ханджян отметила: «И вот, наконец, убеждения “в безопасности и необходимости напечатать работу Гроссмана” возымели действия на трусливо медлившую редакцию, и “Литературная Армения” опубликовала “Добро вам” – “конечно, без запрещенного абзаца”».
Гончар-Ханджян указала, что в «Литературной Армении» пресловутый «абзац» – на должном месте. Вопреки трогательной истории, рассказанной в широко известных мемуарах. Далее же объяснила причину мемуарной несуразицы: «Все представленное ранее я отношу за счет субъективности и за счет путаницы. Но в последнем я уже вижу проявления небрежения к состоявшейся публикации произведения, судьба которого, открытие которого читателю, судя по всему, так волновали мемуариста. С. Липкин с этой публикацией даже не познакомился».
Бывшая сотрудница журнала уличила мемуариста во лжи. Даже и в клевете. Настаивала, что редакция, готовя к печати гроссмановский очерк, вообще «не ждала от кого-либо заверений насчет безопасности».
Именно «не ждала». Публиковала, не дожидаясь «заверений». А потому «дорогие писателю строки остались на месте». Соответсвенно, Гончар-Ханджян добавила: «Так что в резюмирующих словах С. Липкина (“Я понимаю, что нарушил волю Гроссмана, но думаю, что поступил правильно, такую прекрасную вещь не надо было прятать от читателей”) лишь одно объективно верно, что “Добро вам” Гроссмана не надо было прятать от читателей, остальное – субъективно и грешит против фактов».
Опровергнута была не только история о подчинении цензуре, но и все рассуждения мемуариста относительно его причастности к ереванской публикации. Автор статьи сообщила, что на исходе февраля 1965 года, приехав в Москву, встретилась с известной переводчицей Р.Я. Райт-Ковалевой: «Впервые я услышала об истории и мотивах неопубликования этих заметок в “Новом мире”. Экземпляр их (подаренный самим автором) имелся у Риты Яковлевны».
Рукопись Гончар-Ханджян, по ее словам, прочитала, затем увезла в Ереван. Далее сообщила: «Таким вот образом, благодаря Р.Я. Райт-Ковалевой, и произошло первое знакомство редакции журнала “Литературная Армения” (пускай хоть в лице одного ее сотрудника) с текстом гроссмановских заметок и с их печальной историей».
С очерком вскоре ознакомился и главный редактор журнала – Г.М. Борян. Начинал он как поэт, в ССП – с 1936 года. До войны работал в «Литературной газете», затем был военным корреспондентом. Позже добился известности еще и как драматург.
Редакцию «Литературной Армении» Борян возглавил в 1958 году. Административный опыт у него был. Решение публиковать гроссмановский очерк главред принял сразу, что и акцентировала Гончар-Ханджян.
Но, по ее же словам, требовалось соблюдать некие формальности. И «в десятых числах марта в “Новый мир” на имя А.Т. Твардовского было послано подписанное Г. Боряном письмо, суть которого состояла в том, что “Литературная Армения”, если нет на то возражений со стороны “Нового мира”, хотела бы поместить на своих страницах путевые заметки В. Гроссмана об Армении…».
Твардовский ответил письмом, где дал согласие. После чего «редакция запросила из “Нового мира” верстку, каковая вскоре и была выслана».
Примерно два месяца и прошло от момента принятия решения до публикации очерка. Не имели к этому отношения Липкин и Капутикян, аналогично и Мкртчяну тоже не пришлось кого-либо уговаривать. Гончар-Ханджян подчеркнула: верстка получена исключительно «по инициативе и запросу редакции».
Липкинская версия не выдерживала критики даже без учета сказанного Гончар-Ханджян. А если учесть, очевидны причинно-следственные связи: Райт-Ковалева передала рукопись коллеге из Армении, та – Боряну.
Липкин об этом не знал. Однако не мог не знать, что бывший редактор «Литературной Армении» умер в 1971 году.
Не прочел бы некролог, так узнал бы о смерти Боряна от знакомых переводчиков. Многие из них в «Литературной Армении» печатались. Вот почему и главреда знали. Соответсвенно, Липкин мог не опасаться полемики, рассказывая о страхе ереванских журналистов перед московской цензурой. Главный оппонент уже не возразил бы.
Нет оснований полагать, что Липкин узнал о статье Гончар-Ханджян. Сам бы не прочел, так от знакомых переводчиков услышал бы. Однако мемуарист не спорил с бывшей сотрудницей «Литературной Армении».
Версия Гончар-Ханджян вполне аргументирована. Там нет противоречий. Однако два вопросы все же уместны.
По какой причине, во-первых, решил Борян просить у Твардовского согласие на публикацию очерка. «Новый мир» не был правообладателем.
Во-вторых, почему главред «Литературной Армении», получивший верстку с пометами цензора и рискнувший игнорировать их, не поплатился за это должностью. Ему даже выговор не был объявлен, что и вовсе странно.
На первый вопрос ответ не требовался советским читателям в 1989 году, когда была опубликована статья Гончар-Ханджян. Контекст подсказывал: Борян знал о специфике гроссмановской биографии, потому и подозревал, что цензурные инстанции поинтересуются, как оказался в Ереване очерк умершего московского писателя. Но если верстка получена из «Нового мира», тогда все понятно. Редакция «Литературной Армении» попросила и получила искомый материал. От Твардовского.
Второй вопрос гораздо сложнее. Ответ на него получил Перельмутер – в частной беседе с Гончар-Ханджян. Год спустя она рассказала историку литературы о боряновской методике обхода цензорских запретов. Тогда еще не было возможности ее описывать в печати, не ущемив интересы кого-либо из коллег.
Перельмутер же и нам объяснил суть боряновской методики. Для начала, чтобы уяснить причины и характер запретов, ереванскому главреду нужно было увидеть итоговую новомирскую верстку. Тот самый вариант, что Твардовский планировал отправить в типографию – после согласования с Гроссманом.
Борян, по словам Гончар-Ходжян, учитывал редакционноую специфику: цензоры использовали цветной карандаш, а главред «Нового мира» вносил правку чернилами. Стереть ее уже нельзя: решение Твардовского – окончательное.
По версии Гончар-Ходжян, воспроизведенной Перельмутером, фрагмент верстки, который Твардовский и объявил противоречащим цензурным установкам, вычеркнут чернилами. Следовательно, это было решение вовсе не цензора, а новомирского главреда. И причина не вызывала сомнений – «еврейская тема».
Установка минимизировать «еврейскую тему» была введена издавна. Насколько и каким образом – приходилось решать самим редакторам. В данном случае Твардовский по собственной инициативе решение принял. Надо полагать, в разговоре с автором ссылался на волеизъявление «главлитчика». А Гроссман поверил, только все равно не согласился. Предпочел отказаться от публикации.
Когда смысл вмешательства Твардовского был уяснен в «Литературной Армении», верстку заново перепечатали. Устранили правку новомирского главреда и – предъявили ереванскому «главлитчику». Тот крамолу не обнаружил, впрочем, московский цензор тоже не усмотрел там ничего предосудительного.
Версия Гончар-Ханджян объясняет, почему Борян не поплатился должностью, игнорировав пометы в новомирской верстке. Именно потому, что правка была не цензорская. Твардовский принимал решение.
Не первый случай такого рода в его редакторской практике. Сообразно политическим установкам, Твардовский пытался и в романе «За правое дело» минимизировать «еврейскую тему». Удалось не все, и в ходе антигроссмановской кампании пришлось терпеть унижения. Потому остался, можно сказать, травматический синдром.
Он, кстати, обусловил и конфликт с К.Г. Паустовским. Уже после XX съезда КПСС тот передал «Новому миру» рукопись мемуарной повести «Время больших ожиданий». Так характеризовалась нэповская эпоха. Но в итоге автор от публикации отказался, возмущенный произволом редакции.
Письмо новомирского главреда Паустовскому опубликовано еще в 1983 году. Оно вошло в собрание сочинений Твардовского[170].
Аналогично и ответ Паустовского – в его собрании сочинений. Соответствующий том издан тремя годами позже[171].
Но советские литературоведы не анализировали суть конфликта. Причины были, конечно, политические. Это видно при сопоставлении писем.
26 ноября 1958 года Твардовский сообщил Паустовскому, что публикация невозможна, если не будет внесена новая правка. В частности, отмечалось, что не может «не вызывать по-прежнему возражений угол зрения на представителей “литературных кругов”: Бабель, апологетически распространенный на добрую четверть повести…».
Высказывались и другие претензии. Но Твардовский, резюмируя, подчеркнул, что настаивает на сокращении «апологетического рассказа о Бабеле, который, поверьте, не является для всех тем “божеством”, каким он был для литературного кружка одесситов…».
7 декабря Паустовский в ответ потребовал срочно вернуть рукопись. Обсуждать тему дальнейшего сотрудничества отказался. И добавил: «Что касается Бабеля, то я считал, считаю и буду считать его очень талантливым писателем и обнажаю голову перед жестокой и бессмысленной его гибелью, как равно и перед гибелью многих других прекрасных наших писателей и поэтов, независимо от их национальности» (курсив наш. – Ю. Б-Ю., Д. Ф.).
Речь шла о литераторах, осужденных в сталинскую эпоху. Но в этом абзаце несколько странно выглядит оборот «независимо от их национальности». По крайней мере, неочевидно, при чем тут этническая принадлежность жертв.
Однако прагматику указывает контекст. Бабель – еврей, как большинство его персонажей. Объявлен «контрреволюционером» в 1939 году, осужден, расстрелян, все упоминания о нем запрещались. Признан невиновным семнадцать лет спустя, что помнили в редакции «Нового мира». Были также памятны там антисемитские кампании сталинской эпохи. И, разумеется, скандал с романом «За правое дело».
Паустовский вполне прозрачно намекнул Твардовскому, что в 1958 году требование сократить «апологетический рассказ» о Бабеле обусловлено только инициативой главреда, его боязнью подразумевавшейся «еврейской темы». И счел вмешательство аморальным. Для полной ясности добавил: «Если редакция «Нового мира» думает иначе, то это дело ее совести».
Сходный конфликт был в 1960 году, когда новомирский главред вторично прочел роман «Жизнь и судьба». В дневниковой записи 6 октября Твардовским характеризовал как весьма опасное сопоставление СССР и нацистской Германии. Не меньше внимания уделено другой опасности: «Вторым тяжким моментом всей вещи является откровенно и до предела развитая тема «трагедии еврейского народа», антисемитизма (опять же – и там, и там), решение всей сложности мирового побоища схватки социализма с фашизмом в свете этой особой, определяющей проблемы. Здесь – главный пункт, и автор не притворяется объективным, он как бы уверен, что представление интересов трагического народа и есть высшая объективность. Не то, чтобы он не любил русских людей, нет, среди них он находит прекрасных людей, воспевает их, но ни одному не простил бы малейшей недооценки или несогласия с ним в этом вопросе…».
Твардовский пытался доказать себе, что его претензии уместны. А далее – словно бы спохватывался: «Но, кажется, я уже себя взъяриваю, «отмобилизовываюсь» против этого необычного по силе, искренности и правдивости произведения…».
Итог обсуждения с Гроссманом романа «Жизнь и судьба» известен – «250 лет». Неизвестно, воспроизвел ли Твардоский свою аргументацию, изложенную выше. Три года спустя он с автором вообще не стал полемизировать, а попросту вычеркнул из очерка то, что считал опасным. И сослался на цензора.
Гроссман, видимо, поверил. Ямпольский тоже. Ну а к 1980-м годам репутация Твардовского исключала предположения о его инициативах цензурного характера. И Липкин сочинил историю про то, как он сумел исполнить «завет Гроссмана».
Анализ истории очерка интересен, главным образом, в аспекте репутационном. Липкин – по ходу повествования – характеризовал упоминаемых литераторов и всего чаще – нелестно. Ссылался при этом на мнения Гроссмана или других знаменитостей, либо попросту выдумывал обстоятельства и ситуации. Авторитетному мемуаристу верят и ныне. Характеристики, например, Симонова, Некрасова, Боряна и многих других уже десятилетиями воспроизводятся критиками и литературоведами. Вопреки давно опубликованным и отнюдь не труднодоступным источникам.
Бездорожье
Когда Гроссман вернулся из Армении, мало что изменилось. Редакторы по-прежнему относились к нему опасливо, хоть и с отказами не спешили.
«Самый близкий друг», он же и биограф – Липкин – утверждал: после ареста романа Гроссман был лишен права на публикации. Буквально стал изгоем среди писателей: «Не печатающийся, изгнанный из литературы…».
В действительности автор конфискованного романа не был «изгнанным из литературы». Но к редакторской опасливости привыкать не желал. Соответственно, 23 февраля 1962 года отправил письмо Хрущеву. Нужных результатов Гроссман не добился. Зато, как выше отмечалось, иным стало отношение к нему в редакциях.
Финансовые проблемы он решил. Летом 1962 года опубликован сборник – в престижном оформлении. Причем стотысячным тиражом.
Шести месяцев не минуло, и вышел перевод романа Кочара. Печатались рассказы. Да, изредка. Так их немного и было. Готовилась очередная публикация романа «За правое дело». Обсуждались сроки выпуска и состав гроссмановского собрания сочинений.
По-прежнему он считался классиком советской литературы. Все пути, вроде бы, открыты. Закрыт лишь один, зато жизненно важный: роман опубликовать нельзя. Для Гроссмана такой вариант – бездорожье. Даже и тупик.
Если верить Липкину, первые симптомы гроссмановской болезни появились в конце 1962 года. Врач из писательской поликлиники не поставил тогда онкологический диагноз, но посоветовал обратиться к специалистам. Пациент советом пренебрег.
Еще через шесть месяцев – больница, операция по удалению почки. Берзет в мемуарах подчеркивает, что хирург «назвал время, когда появилась опухоль. И буквально совпало оно, время: катастрофа с романом, “изъятие” из жизни живого романа, только что вышедшего из-под пера писателя, как каторжного убийцы, насильника и рецидивиста».
Неизвестно, было ли хронологическое совпадение. Если да, так все равно не уяснить, сама ли мемуаристка беседовала с хирургом или от кого-либо еще узнала, что время «совпало». Возможно, что и выдумала. Но связь ареста рукописей и болезни Гроссмана не одна Берзер отмечала. Чуковский тоже. Да и Липкин. Ассоциации сами собой напрашивались.
У Берзер, по ее словам, не было надежд на полное выздоровление Гроссмана. Подчеркнула, что «хирург как будто сказал: “Раньше, чуть-чуть-чуть раньше…”».
Оборот «как будто» указывает, что хирург разговаривал не с Берзер. Возможно, она услышала это от Губер, на свидетельства которой не раз ссылалась в мемуарах.
Гроссман, согласно Липкину, не знал точно, каков истинный диагноз. Не сообщили ему. Это обычная советская практика.
Сообщали правду родственникам. Иногда – друзьям. Если верить мемуаристу, все успокаивали больного: «Он слушал настороженно, но верил, по крайней мере, мне показалось, что он нам верил. Посещали его Ольга Михайловна, Е.В. Заболоцкая, писатель А.Г. Письменный, дочь Катя. Один раз пришла приехавшая из Харькова в Москву первая его жена, Галина Петровна, он был этим недоволен».
Сказанное о недовольстве Гроссмана посещением бывшей жены – деталь яркая, запоминающаяся. Она создает впечатление достоверности. Но в общем контексте свидетельство это весьма сомнительно. Как сообщалось выше, имя первой жены Гроссмана – Анна. Если по украински, то Ганна. В семье звали ее Галей. Вне семейного круга она себя так не называла. И, разумеется, не представилась бы как «Галина Петровна» при знакомстве с друзьями бывшего мужа.
Судя по рассказам дочери, первая жена Гроссмана в больнице не раз его навещала. Липкин же слышал о ней, знал ее отчество, а все остальное, по своему обыкновению, сочинил.
Довольно подробно о больнице рассказала Берзер. Она, как выше отмечено, связывала болезнь с арестом рукописей: «“Изъятый роман” наложил на честную жизнь Гроссмана свою жестокую печать и поставил его в поле зрения многих “прожекторов”. И не было никакой мнительности, а было большое мужество, когда он понимал, что за ним следят, отдавал себе отчет, что он окружен. И в этой больнице, в этой палате, с этими снующими мимо его комнаты типами, нагло влетающими в палату сестрами. И его мучила ответственность – что он подвел, что он подвел.
Это слово “подвел” сейчас невыносимо вспоминать».
Нет оснований сомневаться, что Гроссман мог такое сказать. Причина ясна. Не только за автором романа следили. Под наблюдением были друзья и родственники, что вполне закономерно. Слежка позволяла выяснить, попытается ли кто-либо передать сохранившуюся рукопись иностранным журналистам, если и в самом деле сохранилась.
Возможно, контроль не был постоянным. Но казался таким. В этом аспекте примечателен рассказ Берзер о приобретенной Гроссманом «однокомнатной квартире».
Она была в новом, еще недавно построенном доме. Гроссман, если верить Берзер, приобрел квартиру, чтобы «работать в уединении и встречаться с теми, с кем он хотел встречаться в эти годы».
Понятно, что в КГБ знали о новом гроссмановском жилье. И Берзер подчеркнула: «Но когда дом был готов, какой-то строитель сказал ему, что в стенку его квартиры вмонтирован подслушивающий аппарат. Какие тайны, господи, какие тайны надо было узнать, чтобы мучить такого человека? Нет, он не подвел ни в чем и никогда. Такие люди не подводят».
Выдумала ли Берзер историю про рассказ «какого-то строителя», нет ли – уже не выяснить. Но ведь и Ямпольский утверждал, что Гроссман опасался прослушивания. Роскина тоже.
Зато вопрос про «тайны», заданный мемуаристкой – риторический прием, отвлекающий от сути проблемы. Берзер, если судить по ее мемуарам, понимала, что «надо было узнать» КГБ: сохранился ли у Гроссмана хотя бы один экземляр рукописи, планируется ли отправка за границу.
Согласно Липкину, после больницы состояние Гроссмана улучшилось. Он работал, завершил повесть «Все течет…».
Нет оснований сомневаться, что Гроссман тогда осознавал: публикация этой повести в СССР принципиально невозможна. Итоги так называемой коллективизации пересмотру не подлежали, это следовало из докладов Хрущева на партийных съездах. Упоминания в печати о миллионах крестьян, буквально вымерших от голода, запрещались.
Допустимо, что Гроссман надеялся на перемены, или планировал рукопись отправить за границу. Но в любом случае повесть к изданию он готовил тайно.
Берзер, по ее словам, навещала Гроссмана и после больницы. Подчеркнула: «Он прочитал мне вслух главу из “Все течет”. А на другой день сказал, что жалеет, что могли услышать, что в квартире своей он этого делать не должен. Был недоволен собой и мной, что я не прервала его».
Отсюда следует, что Гроссман постоянно опасался прослушивания. Ну а Берзер тогда, если верить ей, пыталась успокоить – «сказала про радио за стеной, что оно так орало, что заглушало некоторые слова, и придется ему прочитать мне вслух эту главу еще раз. Улыбнулся печально и сказал:
– В другой раз.
Это было в перерыве между больницами».
Вторично Гроссман оказался в больнице довольно скоро. Согласно Берзер – «в июне 1964 года. Терял силы, не мог ходить, непрерывно кашлял. С катастрофическим остервенением накинулась на него болезнь. Только что читал и писал… Гулял».
Кто-либо из друзей постоянно находился в больничной палате. Там они устроили своего рода дежурство.
На этот раз Гроссман знал диагноз. Согласно Берзер, «старую приятельницу (в часы ее дежурства) в момент оптимистических речей по поводу его здоровья он прервал вопросом:
– Сколько мне лет?
– Двенадцатого декабря будет пятьдесят девять? – ответила она.
– Не будет, – сказал он.
И в этот же день, через два часа:
– Какая красивая, – сказал он про женщину, которая села в коридоре напротив его открытой двери.
Лечить пытались, но оставалось единственно возможное – обезболивающие средства. Гроссман часто терял сознание, бредил. По словам Берзер, уже незадолго до «смерти, проснувшись после тяжелого укола, он сказал:
– Ночью меня водили на допрос… Скажите, я никого не предал?
Вот о чем думал он в последние часы жизни. Не о себе.
Он лежал распростертый на больничной железной кровати, которая была ему и коротка и узка, временами то приподымая голову, то вдавливая ее в подушку, и не находил себе места».
Берзер не раз акцентировала: если и был страх, больной превозмогал его, не жаловался, до конца сохраняя достоинство. Утверждала, что позже ее «спрашивали очень часто: неужели даже такой человек, как Гроссман, не понимал, чем болен, не понимал, что умирает.
И как было объяснить, не огрубляя его образ, что он все понимал, знал и называл своими словами.
Липкин о последних днях не сообщил ничего. По словам мемуариста, он как раз тогда не мог часто навещать Гроссмана: в подмосковной больнице умирала мать.
Рассказ Берзер довольно подробен, хотя и весьма эмоционален. По ее словам, Гроссман не снимал часы «с руки. Смотрел очень часто, а когда становилось хуже и он не находил себе места, без конца поднимал руку и вглядывался в циферблат.
Это было так трагично, что сил не было на это смотреть. Казалось, он смотрит на часы, чтобы узнать, сколько ему осталось жить.
Только в день смерти он снял часы с руки. И отчетливо и резко отделил себя от жизни. Это был единственный день, когда он не спросил, что нового в жизни, что слышно в “Новом мире”. Это был единственный день, когда он не проявил никакого интереса к напечатанным вещам. Это был единственный день, когда он не попросил сесть рядом с ним.
И когда я пришла, то услышала ясный, даже какой-то отчетливый его голос:
– Дорогая, идите домой. Зачем вам мучиться…
Он умер в этот день моего “дежурства” 14 сентября 1964 года.
Мои разрозненные старые записи 1964 года, сделанные уже после его смерти, заканчивались словами, которые мне бы очень хотелось привести здесь:
Неужели его забудут, так и не узнав?».
Упомянутые «разрозненные записи» Берзер дополнены на рубеже 1988-1989 годов. Ну а Липкин о смерти Гроссмана сказал кратко: «Он скончался в ночь на 15 сентября 1964 года».
Дальше – подготовка к похоронам Гроссмана. И его могила на Троекуровском кладбище в Москве.
Похоронная цензура
Хоронили Гроссмана 17 октября 1964 года. Сначала – траурная церемония в здании ССП, затем – кремация. Урну с прахом родственники получили в крематории через несколько дней.
Липкин в мемуарах подробно описывал подготовку официальной процедуры. Утверждал: «Хлопоты легли на меня. Союз писателей представляет собой министерство, и доступ к тем, кто все решает, не так-то прост».
Согласно Липкину, хлопотать пришлось о многом. Еще до войны писательское руководство установило своего рода иерархию погребальных церемоний, и гражданскую панихиду на этот раз «провели – таково было решение – по пятому, предпоследнему разряду: в одной из больших комнат Союза писателей. Но и этого надо было добиваться: Союз писателей определяет не только обстоятельства жизни, но и обстоятельства смерти своих членов. Дать или не дать объявление о смерти в “Вечерней Москве”? Дать или не дать некролог в “Литературной газете”? И каких размеров? И какой тональности? С портретом или без портрета? Со статьей видного писателя под некрологом или без такой статьи? Кому выступить на гражданской панихиде? На каком кладбище – по степени могильной престижности – хоронить?».
По словам мемуариста, контролировал ситуацию представитель партийной организации ССП – Тевекелян. Ему Липкин и «представил список писателей, выразивших согласие произнести речь на панихиде: Эренбург, Паустовский, Каверин».
Окончательное решение, как подчеркнул мемуарист, принимал К.В. Воронков. Малоизвестный прозаик и драматург, он был тогда литературным функционером высокого ранга – секретарем ССП, ответственным за решение наиболее важных организационных проблем.
Ему Липкин, по его словам, передал и написанный совместно с Эренбургом некролог. Воронков же ответил, что текст будут редактировать, после чего отправят в «Литературную газету». Удивленный автор «спросил:
– Неужели Эренбурга надо в этом случае редактировать?
– Его-то и надо, – отрезал Воронков и улыбнулся беззлобно».
На другой день, если верить Липкину, он узнал ранним утром, что некролог – после редактуры – уже отправлен в газету «Советская культура» и «Литературную газету», а «гражданская панихида состоится в конференц-зале Союза писателей».
Отметим, что здесь в мемуарах противоречие, хоть и не принципиальное. Ранее мемуарист утверждал, что гражданскую панихиду, согласно решению литературного начальства, «провели в одной из больших комнат СП», т. е. «по пятому, предпоследнему разряду». В общем, унизили Гроссмана посмертно. Однако, по словам Липкина же, использован был конференц-зал – главное помещение в здании. Да и некролог послан в редакции авторитетных изданий. Отсюда следует, что обошлось без унижений.
Вероятно, мемуарист опять увлекся повествованием и – не заметил несуразицу. Зато из рассказанного далее следовало, что Каверину и Паустовскому было запрещено выступать на похоронах. В 1986 году объяснение не требовалось: оба слыли тогда либералами.
Однако версия Липкина опять вымышлена. Нет оснований полагать, что в 1964 году Воронков рискнул бы запретить классикам советской литературы – Каверину и Паустовскому – выступать на похоронах Гроссмана. Скандал прогнозировался.
Прагматика версии понятна благодаря контексту. Мемуарист настойчиво подчеркивал, что вел переговоры с лучшими советскими писателями, они хотели выступить на траурной панихиде, но из трех позволили только одному. Похоронная цензура.
Список выступавших составил Воронков, с Липкиным не советуясь. Это подверждается материалами личного дела Гроссмана[172].
Вопрос о выборе кладбища, согласно Липкину, отложили в связи с кремацией, ведь урну с прахом родственники могли получить только через день. Ну а далее он сообщил: «На гражданскую панихиду пришло, на глаз, около ста человек, все больше литераторы и их жены, читателей было мало».
Липкин не объяснил, почему «читателей было мало». Контекстом его мемуаров и так подразумевалось: Гроссман – писатель гонимый, практически не печатавшийся в последние годы, о нем и тогда уже многие забыли.
Реальная причина гораздо проще. Заметку о похоронах газета «Известия» поместила 16 сентября 1964 года, когда прошло около суток после смерти Гроссмана, и до начала траурной церемонии оставался лишь один день[173].
Многие из гроссмановских читателей попросту не узнали заблаговременно о дате похорон. Опять же, назначили гражданскую панихиду на четверг, будний день. Большинство москвичей не имели возможности уйти с работы, чтобы 17 сентября к 11 часам оказаться у здания ССП.
Однако вовсе не обязательно было назначать похороны на 17 сентября. Трое суток после смерти – минимальный срок. Руководство ССП могло бы отложить траурную церемонию до выходного дня. Так нередко и поступали. Соответственно, возросло бы количество заблаговременно извещенных о гражданской панихиде и получивших возможность там присутствовать.
Откладывать не стали. Вот отсюда и следует, что с траурной церемонией старались покончить скорее, известив о ней по возможности меньшее количество потенциальных участников. Кстати, заметка, опубликованная 16 сентября, небольшая, размещена в нижнему углу последней страницы, сразу и не заметить.
В остальном же все как обычно, по стандарту. Текст – в траурной рамке:
«Правление Союза писателей СССР и РСФСР, Правление Московской организации СП РСФСР с прискорбием извещают о кончине известного советского писателя, члена Правления Союза писателей СССР ВАСИЛИЯ СЕМЕНОВИЧА ГРОССМАНА, последовавшей 14 сентября с.г. после тяжелой продолжительной болезни, и выражают соболезнование семье покойного.
Гроб с телом покойного будет установлен в 17 сентября в Конференц-зале Правления Союза писателей СССР (ул. Воровского, 52). В 11 часов утра будет открыт доступ для прощания. Гражданская панихида состоится в 12 часов дня».
Черновик этой заметки хранится в гроссмановском личном деле. Готовили документ сотрудники Воронкова и он сам[174].
Нет в материалах гроссмановского личного дела и того некролога, который, по словам Липкина, он составил вместе с Эренбургом. История о заготовленном тексте и функционерской редактуре – очередной вымысел мемуариста.
В Секретариате ССП подготовлен черновик некролога, опубликованного «Литературной газетой» и газетой «Советская культура». Там почти дословно повторены фрагменты уже цитировавшихся гроссмановских характеристик. Беловой вариант и его копию, сохраненную для архива ССП, визировал 16 сентября Воронков[175].
Публикация – на следующий день. Скорость подготовки рекордная. Оно и понятно, ведь полагалось опубликовать до похорон, о которых было объявлено 16 сентября. Но приличия были соблюдены: конференц-зал для гражданской панихиды, некрологи в авторитетных изданиях.
«Литературная газета» использовала стандартный формат. В качестве заголовка – крупным шрифтом в траурной рамке фамилия покойного и его инициалы. Не как в паспорте, а согласно традиции: «В.С. Гроссман»[176].
Обычная практика. Далее – сам некролог:
«Умер Василий Семенович Гроссман – известный советский писатель, член правления Союза писателей СССР.
В.С. Гроссман родился в 1905 году на Украине. В 1929 году окончил физико-математический факультет Московского Университета. Несколько лет работал инженером по технике безопасности. Начал заниматься литературным трудом в 1934 году.
Первое крупное произведение писателя – повесть “Глюкауф”, посвященное жизни послереволюционного Донбасса – привлекло внимание литературной общественности и читателей.
С 1936 по 1941 год В.С. Гроссман работал над романом «Степан Кольчугин», в котором талантливо воспроизвел героическую борьбу русского пролетариата в предреволюционный период.
В годы Великой Отечественной войны В.С. Гроссман был корреспондентом газеты “Красная звезда”. В это время писатель создал много очерков, рассказов и широко известную советскому читателю повесть “Народ бессмертен”, посвященную героическим подвигам советских людей на войне.
В послевоенные годы В.С. Гроссман работал над романом “За правое дело”, первая часть которого была опубликована в 1952 году.
В.С. Гроссман награжден орденами “Красного Знамени”, “Трудового Красного Знамени”, “Красной Звезды” и медалями Советского Союза.
Борясь с тяжелым недугом, Василий Семенович до конца дней своих продолжал заниматься творческой работой. Лучшие произведения писателя сохранятся в памяти советского читателя.
Правление Союза писателей СССР.
Правление Союза писателей РСФСР.
Правление Московского отделения Союза писателей РСФСР».
Весь текст некролога вместе с заголовком – в траурной рамке. Ниже помещена аналогично оформленная заметка, опубликованная днем ранее в «Известиях».
Отметим, что опубликованный текст некролога соответствует подготовленному в Секретариате ССП. И, как выше отмечалось, читателям сообщили, что Гроссман «родился на Украине». Вопреки обыкновению конкретный населенный пункт – Бердичев – не указан.
Разумеется, умолчание не было случайным. Это проявление вышеупомянутого «бердичевского синдрома». В Секретариате ССП избегали прогнозируемых ассоциаций с «еврейской темой». На всякий случай.
Тот же текст воспроизвела и газета «Советская культура». Но выбрано было иное полиграфическое оформление.
Под фамилией с инициалами – фотография Гроссмана, ее словно бы обрамляют справа и слева две колонки некролога, а ниже помещена опубликованная «Известиями» заметка, но уже с заголовком: «От Союза писателей СССР и РСФСР»[177].
Ямпольский акцентировал, что и здесь проявилась закономерность. Гроссман – «задушенный в подворотне. И после смерти его продолжали втихую душить. В редакции “Литературной газеты” долго судили-рядили как давать некролог – с портретом или без. Указаний на этот счет не было, и напечатали на всякий случай без портрета. “Советская культура” неожиданно дала портрет, получился конфуз, но редактор “Литературной газеты” легко его перенес: у него было чувство своей правоты, чувство политической перестраховки, а значит, и превосходства».
Липкин различие газетных публикаций не комментировал, хотя вряд ли не заметил. Опять же, статью Ямпольского читал.
На гражанскую панихиду Ямпольский пришел. Ждал начала у здания ССП. Отметил, что собравшихся там оказалось «не много, но и не мало. Не было обычного торжественно печального подъема знаменитых похорон, а как-то тихо, таинственно. Одна женщина сказала:
– Так хоронят самоубийц.
Да он и был самоубийца, писал, что хотел и как хотел, и не желал входить в мутную общую струю».
Вряд ли Ямпольский не осознавал: Гроссман изначально был советским литератором. Правда, выходил за рамки предписанного, даже и дозволенного, оставаясь на грани допустимого. Но с 1953 года он и впрямь «не желал входить в мутную общую струю». Решение оплатил жизнью.
Надо полагать, именно это имел в виду Ямпольский. С таким решением и солидаризовался.
Однако хоронили Гроссмана с подобающими высокочтимому прозаику почестями. И только немногие, знавшие про арест романа, замечали фальшь.
Судя по статье Ямпольского, он не слушал надгробных речей в конференц-зале. Остался в фойе. А из канцелярских помещений Секретариата ССП доносились голоса сотрудниц, продолжалась их будничная работа: «После смерти члена Союза его личное дело сдают в архив, вынимая из роскошной коричневой кожаной папки, и между собой сотрудники это называют “раздевать”.
– Валя, ты Гроссмана уже раздела?».
Надгробная риторика
Гражданскую панихиду описывал Липкин. Доказывал, что и здесь не обошлось без цензуры.
Ямпольский в статье отметил, что регламент похорон контролировал упомянутый выше Тевекелян. По функционерскому статусу этим и должен был заниматься – вместе с Воронковым.
Судя по материалам личного дела, порядок надгробных речей был определен лично Воронковым. Это подразумевалось его должностными обязанностями[178].
Есть в личном деле и своего рода отчет о происходившем на гражданской панихиде. Это неправленный черновик стенограммы – «Траурный митинг по поводу кончины В.С. Гроссмана»[179].
Руководил «траурным митингом» Г.С. Березко. Он был одним из функционеров Московского отделения СП РСФСР.
Березко – давний гроссмановский приятель. Начинал как прозаик, стал известным сценаристом. Затем – функционерская карьера.
Сам он произносить речь не стал. Объявил, что «траурный митинг» открыт, после чего предоставлял слово каждому из выступавших.
Липкин в мемуарах не сообщил, что Березко руководил гражданской панихидой. Зато мемуарист характеризовал сказанное каждым из выступавших на «траурном митинге».
Первым был А.А. Бек. Как прозаик он добился популярности еще до войны, затем стал военным журналистом. В 1945 году вышла принесшая всесоюзную известность повесть о битве под Москвой – «Волоколамское шоссе». Она переиздана многократно, переведена на европейские языки.
Стоит подчеркнуть: со второй половины в 1950-х годов Бек слыл либералом. Публиковался, например, в «Новом мире». Кстати, состоял в редколлегии «Литературной Москвы». Чем он Липкину не угодил – трудно судить, но характеристику в мемуарах тоже получил нелестную. Его речь, по словам мемуариста, произвела «на друзей Гроссмана неприятное впечатление. Он крутил. Более того, как бы подмигивал слушателям: мол, смотрите, кручу. Он хотел сказать то, что думал о Гроссмане, а думал он о нем высоко и в то же время боялся, трепетал. Он как бы задним числом обелял покойника в глазах незримого руководства, забыв, что мертвому это уже не нужно».
Если же судить по стенограмме, выступление началось традиционно. Бек характеризовал писательскую биографию Гроссмана, начиная с дебюта одобренного Горьким.
Да, в качестве литературного функционера Бек был ограничен актуальными пропагандистскими установками. Он подчеркнул, что Гроссман – «это настоящий советский глубоко партийный писатель».
Такое, кстати, можно было бы воспринять и как неявную полемику с организаторами кампании 1953 года. Далее сказано: «Пришли годы, которые вошли раной в его жизнь. Это 1937–1938 годы. Начались аресты, расстрелы тех людей <о> которых он писал. Годы культа личности Сталина нанесли ему большую, тяжелую, неизлечимую рану».
Бек, подчеркнем, характеризовал писательскую биографию Гроссмана, что и полагалось делать первому выступающему. Далее перешел к военной тематике: «Не буду говорить о его прекрасных очерках, которые читала вся наша страна на страницах газет в самое тяжелое и суровое время нашей жизни. И, наконец, как итог всего того, что он видел во время войны – это превосходный, эпического значения роман «За правое дело». Это наиболее художественно зрелая его книга».
Таким образом, Бек признал Гроссмана автором эпопеи Великой Отечественной войны. Подчеркнул еще раз, что инвективы 1953 года были необоснованными.
Судя по стенограмме, не сказать, чтобы выступавший «боялся, трепетал» и даже «как бы задним числом обелял покойника в глазах незримого руководства». Это домыслы Липкина. А Бек следовал традиции. Странно было бы ожидать от него пафоса разоблачения, намеков на арест второй части дилогии.
Далее в стенограмме – речь Е.З. Воробьева. Он дебютировал в начале 1930-х годов как журналист, стал прозаиком, воевал. Литературной известности добился уже в послевоенные годы.
Воробьев говорил преимущественно о войне. Главный тезис – честность военного журналиста Гроссмана, рассказывавшего читателям только об увиденном лично: «Он сам видел горящий Гомель, который мы оставляли, сам был в окопах Сталинграда, на том узком участочке земли, который остался на Волге. Он первый под пулями подошел к рейхстагу».
Надо полагать, имелось в виду, что первым из журналистов «под пулями подошел к рейхстагу». Далее же Воробьев подчеркнул, что Гроссман «писал лучшие книги. Других книг я у него не знаю. Вот почему мы склоняем наши головы перед его памятью и говорим: “Вечное солдатское спасибо”…».
Характеризуя речь Воробьева, мемуарист отметил, что ему неизвестны книги выступавшего. Это деталь примечательная. К моменту издания мемуаров Липкину исполнилось семьдесят пять лет, и такой отзыв о коллеге-ровеснике нельзя считать лестным. Да и случайной обмолвкой это тоже не назовешь.
Вероятно, Липкин хотел подчеркнуть, что статус выступавшего был невысок, и это не соответствовало масштабу события. Но в остальном претензий нет: Воробьев «говорил сердечно, взволнованно. Чувствовалось, что он любит и почитает Гроссмана».
Лестно оценена лишь речь последнего из выступавших. Он, если верить мемуаристу, заявил, что пока некому вполне правомерно решать, какие из книг Гроссмана следует признать лучшими, и это был намек на арест романа. Согласно Липкину, все «поняли, что имел в виду Эренбург».
Если судить по стенограмме, мнение Липкина спорно. Однако Эренбург – по своему обыкновению – говорил так, что при желании можно было увидеть и намеки. Даже на конфискацию рукописей. Начал он полемически: «К чему сейчас и кому надо доказывать, что Василий Семенович был большим писателем. Кто прочитал хоть одну из его книг, тому это стало понятно.
Я хочу сказать сейчас о человеке. Василий Семенович не только трудно жил, у него был трудный характер…».
Эренбург акцентировал, что писатель «трудно жил» именно по причине верности своим принципам. Кроме того, явной была и полемика с напечатанной 17 сентября в «Литературной газете» и «Советской культуре» итоговой характеристикой Гроссмана: «Мне хочется сказать не только тем, кто пришел сюда, но и тем, кто составлял некролог. Он был человеком большим. Это не так часто встречается…».
Кстати, следует из сказанного, что ни с Липкиным, ни без него Эренбург не «составлял некролог». Но это и так видно: стиль итоговых характеристик чиновничий, отнюдь не свойственный самому знаменитому в годы войны советскому журналисту.
О верности традициям тоже было сказано. И вновь – полемически: «Василий Семенович учился у русской литературы XIX века, он знал, что такое художественность. Удавалось ему это или не удавалось…».
Толковать сказанное можно было опять различным образом. С одной стороны, как неоднозначность эстетической оценки всего гроссмановского наследия. А с другой – в качестве намека: под гнетом советской цензуры немыслима искренность, свойственная классике «русской литературы XIX века».
В общем, если и не все удавалось Гроссману, то не по его вине. Согласно Эренбургу, «чашу он выпил до дна».
При желании в речи можно было обнаружить и намек на уместность «еврейской темы». Ее ставили в вину автору романа «За правое дело», а Эренбург подчеркнул: Гроссман – «настоящий интернационалист».
Далее Эренбург обобщил тезисы. Сформулировал итоговую оценку: «Может быть, он был одним из самых гуманных писателей, каких знала наша литература. Он всегда хотел защитить и оправдать человека».
После гражданской панихиды собравшихся отвезли в крематорий. Там – последние речи.
Вот тогда, если верить мемуарам Липкина, он и выступил. В присутствии литературного начальства «читал речь, как мне было велено, по записи. Среди прочего я сказал следующее: “Мы, читатели Гроссмана, уверены, что в ближайшее время будут изданы все его сочинения, как уже опубликованные, так и пока еще не опубликованные”. Когда я произнес эти слова, Тевекелян при всеобщем молчании покинул зал крематория».
В стенограмме «траурного митинга» нет сведений о выступлении Липкина. Не упомянул о том и Ямпольский. Кстати, он был давним знакомым Тевекеляна, вместе с ним приехал в крематорий. Нет оснований полагать, что не заметил бы инцидент.
Липкин рассказывал о себе. Ямпольский же описывал, что видел: «И вот, наконец, гроб Василия Семеновича Гроссмана на постаменте, как на трибуне.
Стояла тишина, вернее микротишина этих похорон, потому что в нескольких шагах уже суетились, пошумливали, подвывали следующие похороны.
И были речи, и медленное открывание зеленой шторки, и медленное и неумолимое опускание гроба под звуки Реквиема.
Это был последний миг его существования. Еще можно было увидеть, как мелькнули седые виски его, надбровья в жалкой бесполезной сердитости, окостеневшее, ссохшееся в незнакомой желтизне лицо и такие теперь маленькие, высохшие, рабочие натруженные руки его.
Через миг всего этого не станет. Где-то там, в адской глубине, костяной лопаточкой соберут кучку пепла, да и кто знает, его ли пепла, или предыдущего, или последующего».
О дальнейшем рассказано в мемуарах Липкина. Он утверждал: «Родственники Гроссмана, Е.В. Заболоцкая и я хотели захоронить урну с пеплом на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой отца Гроссмана».
Но тут, по словам Липкина, вмешалась вдова. Она «настаивала – и упорно – на Новодевичьем, самом престижном кладбище страны».
Трудно судить, настаивала ли. Но, если верить Липкину, требование вдовы не было исполнено, потому что «Союз писателей отказался ходатайствовать о Новодевичьем: не положено».
Согласно Липкину, компромисс он нашел с помощью знакомого функционера ССП. Добился «разрешения захоронить урну с прахом Гроссмана на Троекуровском кладбище…».
В ту пору Троекуровское кладбище тоже считалось престижным. Липкин подчеркнул, что «оно было задумано как филиал Новодевичьего».
Более вероятно, что кладбище изначально выбрано Тевекеляном и Воронковым. Надо полагать, выбор обусловлен ситуацией. Возможно, похоронили бы на «самом престижном», все же классик советской литературы, но и арест романа – обстоятельство немаловажное. Так что статус несколько понизили.
Официально ритуал завершился в зале крематория. Ну а получение и захоронение урны с прахом – дело родственников.
Часть V. Наследие и наследники
После ритуала
Согласно закону, вдове литератора, состоявшей ранее на иждивении мужа, положена была пенсия. Размеры выплат зависели от ряда факторов, включая стаж пребывания Гроссмана в ССП. Это требовалось подтвердить документально.
Требовавшаяся справка оформлена в октябре 1964 года. Копия – в личном деле. Секретариат ССП принял решение «подтвердить творческий стаж покойного члена Союза писателей СССР тов. Гроссмана Иосифа Соломоновича (Гроссмана Василия Семеновича) с 1934 года по сентябрь 1964 года»[180].
Далее надлежало сформировать комиссию по литературному наследию. Она и должна была затем решать вопросы, связанные с переизданием опубликованного Гроссманом и подготовкой к печати еще не изданного.
Комиссию обычно формировали из коллег-литераторов, считавшихся друзьями умершего. Тут критерий прост. Несколько более сложным он был при определении кандидатуры председателя.
Традиционно комиссию возглавлял писатель, не менее известный, чем тот, чьим литературным наследием предстояло заниматься. По крайней мере, известность подразумевалась сопоставимая.
Кроме того, комиссия должна была действовать по согласию с наследовавшими авторское право. Соответственно, в ее состав включали и кого-либо из наследников.
Законом определялось, что они вступают в свои права только через шесть месяцев после смерти писателя. А потому лишь 8 апреля 1965 года «Литературная газета» поместила заметку «Литературное наследие В.С. Гроссмана»[181].
Текст стандартный. Газета сообщила, что «Секретариат правления Московского отделения Союза писателей РСФСР утвердил Комиссию по литературному наследию В.С. Гроссмана».
Далее – список. Первым указан Березко, получивший должность председателя.
Второй – Б.А. Галин. Известный журналист, прозаик, а в годы войны – специальный корреспондент «Красной звезды».
Далее – Липкин, Письменный, Твардовский. Затем вдова Гроссмана. Она и дочь стали обладательницами авторского права – до истечения двадцати пяти лет после смерти автора. Затем разрешались публикации без согласования с наследниками.
Замыкала список М.Г. Козлова, представитель ЦГАЛИ СССР. Отдел, который она там возглавляла, занимался комплектованием: сотрудники встречались с писателями, а также наследниками, вели переговоры относительно приобретения архивных материалов.
Деятельность комиссии описывал Липкин в мемуарах. Но дату утверждения ее состава не указал.
Зато всех, кто вошел в состав комиссии, мемуарист перечислил. И подчекнул, что таково было «решение руководства московского отделения Союза писателей».
В 1986 году, когда американское издательство выпустило книгу Липкина, многим читателям-эмигрантам было ясно, по каким причинам все, кого назвал мемуарист, получили от «руководства» предложение войти в состав комисии. Зато неясным оставалось, почему ее возглавил Березко. Советский классик – Твардовский, да и функционерский статус его повыше.
Тут подразумевался вопрос. И, словно предупреждая его, Липкин сообщил: «Предложили было председательское место Твардовскому, мы этого горячо желали, много значила бы его подпись под различными ходатайствами, но Твардовский, согласившись стать членом комиссии, от председательствования отказался, сославшись на свою занятость в качестве редактора “Нового мира”. Кандидатуры Эренбурга и Паустовского, выдвинутые нами, были отклонены писательским руководством».
Версия Липкина изложена крайне невнятно. Читатель может лишь догадываться, что имел в виду мемуарист.
Допустим, что пресловутые «мы» – сам Липкин, Березко, Галин, Письменный, Губер и Козлова – «предложили» Твардовскому «председательское место». Но такое невероятно. Прежде всего, потому, что должность председателя не была выборной. Его назначало руководство писательской организации, формировавшее комиссию.
Липкин, Березко, Галин, Письменный, Губер и Козлова могли согласиться или отказаться работать в комиссии, однако выбирать председателя им не полагалось. Не входило это в их компетенцию.
Допустим, Липкин имел в виду, что «председательское место» предлагало Твардовскому «писательское руководство». Такой вариант толкования соответствует реалиям эпохи, но ему противоречит сказанное далее про «кандидатуры Эренбурга и Паустовского, выдвинутые нами».
Здесь подразумевается, что Липкин, Березко, Галин, Письменный, Губер и Козлова совещались, решая, кому же, кроме Твардовского, полагалось бы «председательствовать». Затем обратились к Эренбургу и Паустовскому.
Но такое невероятно. Комиссия не существовала, пока состав ее – вместе с председателем – не утвердил Секретариат правления Московского отделения СП РСФСР. До утверждения не могли бы пресловутые «мы» обсуждать, кому бы «горячо желали» подчиняться, а после не было смысла выдвигать «кандидатуры».
Опять несуразица. Липкин же далее сообщил: «Березко имел те основания возглавить комиссию, что был хорошо знаком с Гроссманом, ценил и любил его талант, Гроссман посещал с ним рестораны, ему импонировали светскость и непринужденность Березко в этих славных учреждениях».
Иронизировал мемуарист. Еще и добавил профессиональную характеристику председателя комиссии: «К его литературной деятельности Гроссман относился насмешливо, но добродушно».
Следует из сказанного мемуаристом, что Березко стал председателем комиссии вопреки традиции. Полагалось бы ее возглавлять советскому классику. Хотя бы Эренбургу, либо Паустовскому.
Липкин не объяснил, почему же «писательским руководством» были «отклонены» эти «кандидатуры». Объяснение читателям-современникам подсказывал контекст: оба упомянутых мемуаристом классика советской литературы считались либералами.
Но, во-первых, эти «кандидатуры» не были «выдвинутыми». Их не выдвигали по указанным выше причинам. Во-вторых, если и принять – условно – версию мемуариста, она не объясняет, почему же Березко занял «председательское место». Липкин предложил шутку вместо объяснения.
В совокупности абсурдных суждений Липкина ясна лишь прагматика. Он пытался отвлечь внимание читателей от парадокса: Твардовский вошел в состав комиссии по литературному наследию Гроссмана, однако не возглавил ее.
Для читателей, знакомых с литературным контекстом 1960-х годов, парадокс очевидный. Твардовский – по его статусу – мог быть только председателем в этой комиссии.
Подчеркнем, что Липкин не объяснял, а именно маскировал парадокс. Использовал обычный прием: яркая деталь отвлекала внимание читателя от несуразиц повествования. Это история о ресторанах, которые Гроссман «посещал» вместе с Березко. И у многих читателей возникала иллюзия, что объяснение дано.
Его нет по-прежнему. Ясно только, что Твардовский оказался среди подчиненных Березко, хотя такое положение не соответствовало писательскому авторитету и функционерскому статусу.
Нет оснований полагать, что Твардовский постольку решил в комиссии работать, поскольку считал Гроссмана другом. Их дружба еще в 1949 году закончилась. Да и руководство ССП не имело полномочий, чтобы заставить новомирского редактора – против его воли – стать подчиненным Березко. Такое решение он тоже сам принял.
Значит, правомерны два вопроса. Первый – когда принял решения. Второй, соответственно, почему они были именно такими.
Ответ на первый вопрос подсказывают материалы личного дела. В частности записи Воронкова, относящиеся к похоронной церемонии.
Согласно традиции, руководить «траурным митингом» полагалось будущему председателю комиссии по литературному наследию умершего. 16 сентября 1964 года Воронков, составлявший план выступлений на гражданской панихиде, указал Березко в качестве руководителя.
17 сентября в 11 часов начался «траурный митинг». Руководил Березко. Для литераторов, знакомых с традицией ССП, это означало, что уже решен вопрос о назначении председателя комиссии по литературному наследию.
Следовательно, не позднее 16 сентября Воронков уже знал, что Твардовский не будет председателем комиссии. Вот и назначил Березко руководить «траурным митингом».
Поэтому Липкин в мемуарах не только не указал дату утверждения состава комиссии, но и не сообщил, кто руководил «траурным митингом». Читатели-современники, знавшие традицию, сразу бы уяснили, когда было принято решение назначить Березко председателем. Соответственно, теряло бы смысл все сказанное мемуаристом о поисках нужной кандидатуры.
Теперь – почему Твардовский согласился войти в состав комиссии. Лишь одна причина вероятна. Предложение было получено не только от руководства ССП. Еще и в ЦК КПСС «предложили».
В ЦК КПСС, как издавна повелось, руководствовались соображениями целесообразности. Формирование комиссии по литературному наследию Гроссмана – вопрос политический. Не менее важный, чем проведение похоронной церемонии. При решении учитывались два фактора.
Надлежало демонстрировать, что не изменилось отношение к Гроссману: для подготовки его публикаций сформирована вполне представительная комиссия. При этом партийным функционерам нужно было еще и контролировать издательские планы на самом раннем этапе.
Реальный контроль обеспечивал Березко. Ну а комиссия выглядела представительной благодаря авторитету Твардовского.
Этот вариант был компромиссом для советского классика. Многие писатели считали его другом Гроссмана, и участие в работе комиссии выглядело как проявление гражданского мужества. Зато председательская должность оказалась бы вовсе некстати.
Отметим, что Твардовский числился в комиссии до смерти – почти шесть лет. Из них пять оставался главредом. Однако за это время в «Новом мире» не было ни одной гроссмановской публикации.
Случайности тут нет. Решение было принято в сентябре 1964 года: Твардовский постольку не возглавил комиссию, поскольку не собирался печатать гроссмановские рукописи. Стань он председателем, в каждой редакции выясняли бы, почему сам не публикует материалы, которые рекомендует другим. А упрашивать, получать отказы – не по статусу.
Липкин не мог не догадаться, какими соображениями руководствовался новомирский главред. Но анализировать их не стал. Это противоречило бы концепции биографического мифа Гроссмана. Как представителю сил добра Твардовскому надлежало защищать интересы писателя-нонконформиста.
Мнимая причина
Разумеется, Липкин мог бы вообще обойти тему поисков кандидата на «председательское место». Но, как показывает дальнейшее, она была нужна для описания работы комиссии. Предстояло ведь объяснить, что за результаты достигнуты и в какой срок.
Итак, результы. Липкин отметил: «Поначалу комиссия работала довольно слаженно, даже энергично, особенно если вспомнить, что мы занимались литературным наследием автора арестованного романа. Что нам удалось? Опубликовать в журналах несколько рассказов Гроссмана, его дневниковые записи военных лет, «Добро вам» – увы, в искаженном виде».
Мы уже рассматривали сочиненные мемуаристом истории про его мытарства в связи с изданиями очерка «Добро вам». К этому уместно вернуться и позже. В данном случае примечательно, что Липкин не уточнил, сколько рассказов и в каких журналах «удалось» опубликовать, а также где и когда напечатаны «дневниковые записи». Намекнул только, что комиссией сделано гораздо меньше, нежели было задумано.
Далее мемуарист сообщил, что же помешало реализовать замыслы. По его словам, большой «урон нашей комиссии нанесли две смерти: Твардовского и Письменного, людей разной степени литературной авторитетности, но одинаково порядочных. То, что их не стало, я особенно остро почувствовал в один памятный день, когда мы собрались на очередное заседание в маленькой комнатке Дома литераторов. Я не могу сказать о себе, что отличаюсь интуицией, электрической силой предчувствия, во всех обстоятельствах жизни предпочитаю опираться на факты, но в тот день, пока мы рассаживались, в воздухе чудились отрицательные ионы, которые прыгали от Березко и Галина. Наконец Березко высказался, нервно и неуверенно, больше чем обычно заикаясь: «В моей голове не укладывается, – сказал он, – что писатель-патриот, каким я всегда считал Гроссмана, написал грязную, враждебную нам повесть “Все течет”, теперь изданную за рубежом и прославляемую всяким охвостьем. Я предлагаю поместить от имени всей нашей комиссии письмо в “Литературной газете”, в котором мы должны с гражданственным гневом осудить и самого Гроссмана, и буржуазных писак, его хвалителей, заявить, что считаем нашу комиссию распущенной»».
Согласно Липкину, он решение председателя считал неприемлемым. А вот «Галин присоединился к предложению Березко, тоже выразил недоумение – как это Гроссман, создавший нужные нашему народу произведения, написал клеветническую повесть, и добавил с надеждой, обратившись ко мне: “Может быть, не Гроссман ее написал? Вы читали?”. Я ответил вопросом: “А вы читали? А вы, Георгий Сергеевич, читали?”. Березко и Галин молчали, видно было, что они здорово напуганы».
Читателям-современникам была очевидна прагматика вопросов. Если повесть уже признана антисоветской, ее нельзя – без специального на то разрешения – читать и упоминать в печати. Соответственно, Липкин, не дожидаясь ответа, спросил «Березко, получил ли он указания о письме в “Литературную газету” и о самороспуске нашей комиссии от секретариата московского отделения Союза писателей…».
Вопрос опять резонный. Он подразумевался широко известным контекстом. Публикации, считавшиеся антисоветскими, не полагалось обсуждать публично без специального на то разрешения. Значит, Березко, начавший обсуждение, уже получил сведения в Секретариате Московского отделения СП РСФСР. Могли там и указать председателю, что «самороспуск» обязателен. Тогда полемика бессмысленна. Но если так было, следовало об этом сообщить коллегам, в противном случае ясно, что решения пока нет.
Согласно Липкину, он председателя застал врасплох. Тут же выяснилось, что «указания не было, Березко и Галин стремились опередить события…».
Мемуарист, по его словам, и стыдил «напуганных», и апеллировал к здравому смыслу. Заявил, что нельзя рассуждать «о произведении, даже не прочитав его, что решение о роспуске нашей комиссии должно исходить от секретариата, а, поскольку этого нет, мы обязаны спокойно продолжать работу, порученную нам секретариатом, – заниматься изданием и популяризацией литературного наследия Гроссмана».
Тут вмешалась Козлова. Заявила, «что опубликование в «Литературной газете» предлагаемого Березко письма будет только на руку врагам, что мы должны сохранить Гроссмана как советского писателя, не отдавать его нашим недоброжелателям. Там, за рубежом, считают, что «Все течет» есть вторая часть романа, и пусть продолжают так считать, хорошо, что ничего они не знают, пусть треплются (sic! – Ю. Б-Ю., Д.Ф.)».
Но и Козловой, как утверждал Липкин, не удалось изменить ситуацию. Фактически комиссия была ликвидирована: «Мы разошлись, не приняв никакого решения, но с того дня наши заседания прекратились».
Из сказанного мемуаристом следует, во-первых, что Березко по собственной инициативе предложил коллегам печатно объявить «комиссию распущенной». После чего ее работа была прекращена.
Во-вторых, из сказанного Липкиным следует, что с ним и Козловой непременно солидаризовались бы «в тот памятный день» Твардовский и Письменный – будь они живы. Другой вывод сделать нельзя.
Однако версия Липкина опять неубедительна. Противоречия тут явные – на уровне характеров и хронологии.
Начнем с характеров. Березко к середине 1960-х годов – опытный функционер, Галину тоже опыта хватало. Но оба словно бы не замечали, что грубейшим образом нарушают субординацию, вынося на обсуждение комиссии решение о «самороспуске» до согласования с вышестоящей инстанцией. Быть такого не могло в принципе.
Перейдем к хронологии. В мемуарах Липкина «тот памятный день» календарно не определен. Ясно только, что «последнее заседание» комиссии состоялось после того, как умерли Твардовский и Письменный, однако не ранее первого заграничного издания повести «Все течет…». А такого быть не могло.
Письменный умер 28 августа 1971 года. Твардовский – 18 декабря.
В ноябре 1970 года публикацию гроссмановской повести начали западногерманские эмигрантские журналы «Грани» и «Посев». Напечатано было три главы[182].
Полностью опубликовало повесть выпускавшее оба журнала издательство «Посев». Книга в том же самом 1970 году вышла[183].
Твардовский и Письменный были тогда живы. Возможно, не вполне здоровы, однако умершими не считались.
Защищая версию Липкина, предположим, что в Секретариат Московского отделения СП РСФСР известие об издании гроссмановской повести за границей поступило с опозанием. Более чем на год запоздало. Но такое невероятно.
К руководителям писательских организаций сведения о несанкциониованных изданиях поступали обычно из ЦК КПСС. Ну а туда, соответственно, из КГБ, где ситуацию постоянно контролировали. Извещали вполне оперативно, ведь контрмеры следовало планировать незамедлительно. В данном случае вероятность промедления вообще нулевая: Гроссман – автор конфискованного романа и повести, которую тоже признали антисоветской.
Секретариат ЦК партии еще в октябре 1962 года обсуждал донесение Семичастного о гроссмановской повести. Нет оснований полагать, что в руководстве Московского отделения СП РСФР не знали о ней через восемь лет. Своевременно извещен был и Березко – именно как функционер.
КГБ же в 1970 году возглавлял Ю.В. Андропов. Кстати, его донесение ЦК КПСС о крамольной повести опубликовано газетой «Труд» – в числе прочих архивных документов, цитировавшихся выше[184].
Речь там шла не о заграничном издании. 11 мая 1970 года Андропов сообщал: «По поступившим в Комитет госбезопасности данным, среди писателей и в окололитературных кругах получила некоторое распространение неопубликованная рукопись умершего в 1964 году писателя В. Гроссмана под названием “Все течет”, антисоветского содержания. Копия рукописи прилагается».
Известно, что упомянутую Андроповым форму «распространения» советские граждане именовали, не без иронии, «самиздатом». Подразумевалась ассоциация с такими аббревиатурами, как Госиздат, Воениздат и т. д. Уже на исходе 1950-х годов многочисленные энтузиасты копировали рукописи доступными средствами, невзирая на опасность ареста.
Значит, не позже 11 мая 1970 года гроссмановская повесть – в «самиздате». О ней знали давно. Потому Андропов и не предлагал какие-либо меры, не просил инструкции. Новостью была только рукопись, приложенная к донесению. Завершала его фраза: «Сообщается в порядке информации».
Если принять версию Липкина, нужно согласиться с тем, что более года КГБ, постоянно следивший за «самиздатом», не обращал внимания на эмигрантское издательство «Посев», или же не сообщал о его продукции ЦК партии. Но, подчеркнем, такое невероятно.
Липкин еще и сам себе противоречил. Увлекся нарративом и забыл, что рассказал несколько ранее – в связи с публикацией очерка «Добро вам».
Согласно Липкину, он, после издания очерка в ереванском журнале, получил от Берзер совет: предложить Твардовскому «перепечатать «Добро вам» в разделе «По страницам журналов»: был такой раздел в «Новом мире», в нем помещались небольшие произведения, взятые из провинциальных журналов».
В данном случае неважно, советовала ли такое Берзер. Главное, что далее Липкин сообщил: «Твардовский, как и я, был членом комиссии по литературному наследству Гроссмана, и моей обязанностью, среди прочих, было информировать Твардовского о наших заседаниях, которые он не посещал».
Но если Твардовский вообще «не посещал» заседания, так не присутствал бы и на последнем, даже будь он жив. Смерть его не изменила бы расстановку сил в комиссии по литературному наследию Гроссмана.
Выдумана и липкинская «обязанность информировать Твардовского». С новомирским главредом Березко как функционер достаточно часто встречался на заседаниях Секретариата ССП, и уже поэтому обоим не нужен был посредник.
Да и Липкину к началу работы комиссии – за пятьдесят. В ССП состоял более тридцати лет, считался авторитетным переводчиком, так что не по годам ему, да и не по статусу быть на посылках у Березко.
«Обязанность» – выдуманная причина разговора с Твардовским. В его друзьях Липкин не числился, это многие современники помнили, так что вне редакции беседа маловероятна. Опять же, формально предложить главреду публикацию следовало бы председателю комиссии – Березко. Вот и пришлось Липкину фантазировать, чтобы обозначить свою активность.
Придумано и продолжение истории про конфликтную ситуацию в «Новом мире». Липкин сообщил, что «Твардовский наотрез отказался перепечатать “Добро вам”. Он сказал, что высоко ценит моральные качества Василия Семеновича, но что писатель он средний. Я напомнил Твардовскому о его прежних, известных мне отзывах о Гроссмане, весьма хвалебных, даже восторженных. Твардовский крепко выругался, я ответил ему в том же духе…».
Как выше отмечалось, не занимался Липкин ереванскими публикациями очерка, аналогично и московская публикация – в сборнике – подготовлена без его участия. Опять же, нет оснований полагать, что Березко понадобился бы посредник.
Липкин запутался в своих версиях. Это немудрено. Он решал сразу две задачи: конструировал биографический миф Гроссмана и одновременно – собственный.
Для решения первой задачи требовалось доказывать, что Твардовский как представитель сил добра был всегда на стороне Гроссмана. По крайней мере, не противостоял ему. Решая вторую, Липкин демонстрировал, что сам он и после смерти друга оставался верен дружбе, бесстрашно конфликтовал с каждым из предавших ее, невзирая на авторитеты. Тут и возникали противоречия – даже на уровне вымысла.
История про «здорово напуганных» Березко и Галина тоже выдумана. Кстати, разоблачения Липкин мог не опасаться: еще до издания мемуаров оба умерли. В данном случае неважно, из-за чего с ними сводил счеты мемуарист. Очевидна прагматика версии: деятельность комиссии по литературному наследию Гроссмана прекратилась только из-за трусости председателя. Других причин не было.
Липкин это еще раз акцентировал. По его словам, Березко «понимал, что поступил гадко. Встретив однажды меня, он спросил: “Вы не подадите мне руки?” Я подал ему руку. Ничтожный, слабый, он мог бы в другом обществе быть приличным человеком».
В общем, «самый близкий друг Гроссмана» пожалел труса, когда тот раскаялся. Такое запоминается. Но яркая деталь опять выдумана. Цель понятна: отвлечь читательское внимание от несуразиц всей истории о комиссии по литературному наследию. А главное – скрыть причины, в силу которых работа внезапно прекратилась.
Зато можно определить, как долго – по словам Липкина – работала эта комиссия. В июле 1965 года начали, а закончили примерно через пять лет.
Не так уж мал срок. Теперь сопоставим с ним описанные мемуаристом результаты – согласно библиографии.
Сразу два рассказа Гроссмана опубликовано в майском номере журнала «Москва» за 1966 год. Еще один напечатал в июле «Наш современник»[185].
Перейдем теперь к упомянутым Липкиным «военным дневникам». Было тоже две публикации.
Несколько выдержек из гроссмановских записей военных лет – в семьдесят восьмом томе антологии «Литературное наследство». Ее выпускал Институт мировой литературы Академии наук СССР. Книга сдана в набор 29 января 1966 года[186].
Журнал «Вопросы литературы» поместил выдержки из гроссмановских записей в майском номере 1968 года. Публикация была побольше, нежели в «Литературном наследстве», но все равно невелика[187].
Липкин утверждал, что комиссии удалось еще и напечатать гроссмановский очерк, правда, «в искаженном виде». С учетом ранее сказанного мемуаристом, понятно: речь шла о публикации в сборнике. Выпущен он издательством «Советский писатель» в 1967 году. Объем – примерно девять печатных листов[188].
Значит, публикаций всего пять. Такой результат пятилетней работы трудно назвать значительным. Вот почему Липкин и употребил слово «удалось», когда подводил итоги. Подчеркнул, что комиссия занималась «литературным наследием автора арестованного романа».
Но тем более странно, что Липкин вообще не упомянул о публикациях, тоже относящихся к указанному им же периоду деятельности. Прежде всего – газетных.
Весьма популярен был тогда столичный еженедельник «Литературная Россия». Гроссмановский рассказ напечатан там 11 марта 1966 года[189].
Не менее популярной была «Литературная газета». Рассказ Гроссмана напечатан там 23 августа 1967 года[190].
Были и другие заметные газетные публикации того же периода. Вряд ли мемуарист считал их не заслуживающими упоминания[191].
Не упомянул он и переиздание романа «Степан Кольчугин». Его в 1966 году выпустило издательство «Художественная литература»[192].
В 1972 году вышел еще один сборник гроссмановской прозы – воениздатовский. Липкин о нем тоже не упомянул[193].
Объяснение – во всех случаях – одно. Липкин не знал про эти публикации. Да и о прочих, упомянутых в мемуарах, лишь слышал, однако не видел. Потому и характеризовал их с продуманной невнятностью.
Судя по осведомленности Липкина, комиссия не решала упомянутую им задачу – «издания и популяризации литературного наследия Гроссмана». Другой вывод сделать нельзя. Забывчивость тут ни при чем.
Истории про «напуганного» и раскаявшегося Березко, а также о перебранке с Твардовским сочинены еще и затем, чтобы отвлечь внимание читателей от бездействия комиссии. Создать видимость работы и помех.
Видимость и сущность
На самом деле изданиям Гроссмана не препятствовала идеологическая цензура. По крайней мере, препятствий было не больше, чем после обращения к Хрущеву. Это видно по динамике публикаций – как прижизненных, так и посмертных.
Летом 1964 года вновь опубликован роман «За правое дело». Книгу выпустило издательство «Советский писатель»[194].
Весной 1965 года опубликован небольшой сборник рассказов «Осенняя буря». Его выпустило издательство «Советская Россия»[195].
Разумеется, издание планировалось еще при жизни Гроссмана. Но книга была сдана в набор на исходе ноября 1964 года и подписана к печати два месяца спустя. Комиссия по литературному наследию еще не была тогда сформирована. Но издательство не нуждалось в ее посредничестве. Занималась публикацией вдова – Губер.
7 мая 1965 года «Литературная Россия» напечатала выдержки из гроссмановский записных книжек военных лет. Хранила их, как известно, Губер, она и стала публикатором. Опыт в этой области у вдовы был невелик, так что предисловие написал давний гроссмановский приятель – Галин[196].
Комиссия по литературному наследию опять ни при чем. Она была сформирована через два месяца.
Заголовок публикации – «Народ на войне». Скорее всего, это цитата или реминисценция. В 1917 году киевским издательством выпущена так озаглавленная кника С.З. Федорченко. По словам автора, она составлена из записей военных лет. В нэповскую эпоху было несколько дополненных переизданий, включавших и материалы более поздние[197].
О записных книжках Гроссмана отнюдь не случайно вспомнили именно в 1965 году. Тема войны оказалась весьма актуальной – изменился политический контекст.
Как известно, в октябре 1964 года лидером партии стал председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев. Его поддержали руководители КГБ и Министерства обороны.
Официально Хрущеву, как ранее Сталину, инкриминировали монополизацию власти, произвол. И опять было провозглашено возвращение к «ленинским принципам коллективного руководства»[198].
Новый лидер нашел и новый прием идеологической консолидации. К двадцатилетию окончания Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен государственный праздник – День Победы. Отмечали его каждый год 9 мая[199].
Инициированная Хрущевым кампания «разоблачения культа личности» деактуализовалась окончательно. Подразумевала она, кроме прочего, скорбь и раскаяние – количество жертв сталинского режима исчислялось миллионами, а причастных к преступлениям было еще больше. Новая пропагандистская схема обозначала иные перспекивы осмысления прошлого.
Да, скорбь отнюдь не исключалась. Но имелась все же возможность признать колоссальные жертвы обоснованными. А главное, было чем гордиться. В самой кровопролитной за всю мировую историю войне СССР одолел силу абсолютного зла. День Победы объединял и сторонников, и противников «десталинизации».
Подготовка к празднованию Дня Победы началась, разумеется, до обнародования соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР. Она велась по всей стране – в небывалых ранее масштабах. И практически все издания планировали тематические публикации.
Ну а Гроссман считался классиком советской литературы и военной журналистики. Предоставленные вдовой материалы пришлись весьма кстати. Соответствовали тенденции.
Проявлением закономерности была и публикация в «Литературном наследстве». Ее подготовила Губер – вместе с предисловием и комментарием.
Сообразно официальной установке, в 1968 году поместил фрагменты гроссмановских записей журнал «Вопросы литературы». Разумеется, в майском номере. Подготовлена была подборка материалов писателей-фронтовиков для раздела «Публикации, сообщения, воспоминания». Общий подзаголовок – «Защищая социалистическое отечество»[200].
В том же разделе помещены фрагменты дневниковых записей Б.Н. Полевого и П.Н. Воронько. Оба, кстати, сталинские лауреаты[201].
Гроссмановские материалы опять предоставила Губер. Она же подготовила краткую вступительную статью и комментарий, привела ссылку на публикацию в «Литературном наследстве».
Теперь – о журнальных публикациях прозы Гроссмана. Посредничество комиссии по литературному наследию не требовалось и здесь. Например, давними были связи писателя с журналом «Москва», напечатавшим сразу два рассказа в майском номере 1966 года.
Журнал этот выходил с 1957 года и считался изданием СП РСФСР. Возглавил редакцию прозаик Н.С. Атаров. Он поначалу ориентировался на читательский спрос, актуальную – для читателей – проблематику. Но разрешенное до поры «Новому миру» было уже непозволительно «Москве». Критики инкриминировали главреду «отход от партийной линии»[202].
Атаров стал весьма осторожен, а ситуация не менялась. Он лишился должности главреда, когда не прошло и двух лет после назначения[203].
В дальнейшем стал еще осторожнее. Благодаря чему даже функционерскую карьеру продолжал – не без покровительства Суслова.
Редакцию «Москвы» возглавил Е.Е. Поповкин, автор романов не популярных, но расхваленных критиками – за точное следование актуальным идеологическим установкам. Кстати, сталинский лауреат 1952 года.
Замена главреда тоже соответствовала установкам, актуальным в 1958 году. Поповкин реализовал проект, альтернативный «Новому миру».
Сусловским был этот проект. Характерно, что после встречи главного идеолога партии с автором крамольного романа журнал «Москва» опубликовал рассказ Гроссмана в январском номере 1963 года[204].
На том сотрудничество Гроссмана и журнала «Москва» не завершилось. Подборка рассказов напечатана в сентябрьском номере 1964 года[205].
Как выше упоминалось, «Новый мир» не публиковал Гроссмана. Потому закономерно, что после смерти писателя вдова его обратилась в другие журналы, пусть и менее популярные – «Москва» и «Наш современник». Стоит еще раз подчеркнуть, что и в указанных случаях Губер не требовалось посредничество комиссии.
Губер, в отличие от комиссии, времени даром не теряла. Действовала и впрямь энергично. Хотя бы потому, что гонорары за гроссмановские публикации были ее главным источником доходов.
Вернемся теперь к гроссмановскому сборнику, выпущенному издательством «Советский писатель» в 1967 году. Примечательно, что там не указаны фамилии публикаторов. Составитель, ответственный за подбор материалов, композицию и подготовку к печати, тоже не назван. Отсюда следует, что книга подготовлена без участия гроссмановских наследниц – вдовы и дочери. Они лишь санкционировали публикацию и получили им причитавшийся гонорар.
Это вовсе не значит, что задачу составления решал издательский редактор. Учитывая советскую эдиционную традицию, уместно предположить, что составителем книги был автор предисловия – Атаров[206].
Тираж книги вполне солидный – пятьдесят тысяч. Пусть объем сборника невелик, зато переплет картонный, и на второй странице помещена фотография Гроссмана.
Под фотографией – пространная аннотация. Без подписи, но, судя по стилю, она тоже подготовлена Атаровым. Прежде всего, был обозначен статус автора книги: «Василий Гроссман известен советским читателям своими романами “Степан Кольчугин” и “За правое дело”. Вошедшие в этот сборник рассказы замечательного писателя пока еще не приобрели столь широкой популярности, так как печатались главным образом лишь в литературных журналах»[207].
Ключевой оборот – «пока еще не приобрели столь широкой популярности». Отмечено, что официальный статус автора не изменился. Далее уточнялось: «Сборник “Добро вам” включает в себя, помимо нескольких старых рассказов Василия Семеновича Гроссмана, многое, что было написано в последние годы безвременно умершего писателя, так и не успевшего увидеть опубликованными многие свои творения».
Губер ли инициировала выпуск сборника, Атаров ли, руководство ли издательства – неизвестно. Однако вполне очевидно, что комиссия по литературному наследию тут опять ни при чем. В противном случае из ее состава выбрали бы и составителя, и автора предисловия.
Уместно подчеркнуть: Губер начала подготовку гроссмановских публикаций до создания комиссии по литературному наследию мужа. Не исключено, что после к ее помощи вдова и прибегала, но требовалось лишь формальное согласование, не более.
Судя по динамике публикаций «автора арестованного романа», у вдовы были помощники гораздо более авторитетные, нежели писатели, включенные в состав комиссии. Вышестоящие инстанции демонстрировали, что Гроссман по-прежнему считается классиком советской литературы.
Разумеется, издание повести за границей впоследствии повлияло на ситуацию. Но формально она оставалась прежней.
Два года спустя, как отмечалось выше, была опубликована еще одна книга. Пусть небольшая, это в данном случае не важно.
Существенно же, что критики обсуждали публикации вполне уважительно. Можно сказать, отношение было акцентированно благожелательным. Отсюда и следовало, что официальная литературная репутация Гроссмана не изменилась.
Полемика с предисловием
Отметим, что критики после смерти Гроссмана обсуждали только новые публикации. Вопросы оценки переиздававшихся романов «Степан Кольчугин» и «За правое дело» не ставились – классика советской литературы.
Зато своего рода подведением итогов стало предисловие к сборнику, выпущенному в 1967 году. Атаров не расхваливал, но анализировал позднюю гроссмановскую прозу – в контексте биографии[208].
Липкин о предисловии отозвался снисходительно. По его словам, Атаров «написал неплохо, кое-что увидел».
Но авторитетные историки литературы оценивали предисловие высоко. Бочаров, например. В условиях второй половины 1960-х годов Атаров сделал максимально возможное.
Прежде всего, обозначил специфику биографическго контекста. Буквально первой же фразой. «Мать Василия Гроссмана, беспомощная старуха, была уничтожена в толпе других таких же в яру под Бердичевом 15 сентября 1941 года. Об этом нет ни строчки упоминания у Гроссмана, но мы-то знаем».
Атаров знал Гроссмана еще с довоенных лет, встречались и на войне – как фронтовые корреспонденты. Тогда и услышал от давнего знакомого о смерти его матери в Бердичеве[209].
И все же первая фраза предисловия выглядит странно. Без уточнения оставлен оборот «в толпе таких же». Каких – можно лишь догадаться.
Причиной была вовсе не атаровская небрежность. Советские редакторы-цензоры настолько опасались «еврейской темы», что сам этноним стал чуть ли не табуированным.
Ну а читатель-современник ориентировался на обозначенный контекст. Понимал, что речь шла о массовых убийствах евреев, причем не только советских: «Документальный очерк Василия Гроссмана «Треблинский ад» в виде маленькой брошюры распространялся на Нюрнбергском процессе и был, может быть, последним чтением Геринга и Кальтенбруннера. И только в свете подобных нерассказанных фактов можно до конца осознать угрюмую, тяжелую и трудную прозу Гроссмана последних лет».
Атаров противопоставлял гроссмановскую прозу тому, что принято было называть «легким чтением». По словам автора предисловия, писатель и не стремился развлечь читателя, тут иной пафос: «Антифашизм Гроссмана – выношенный плод его жизни».
Читатель-современник догадывался, что критик подразумевает не только расистскую политику нацистской Германии. Сталинскую тоже.
Но формально атаровский вывод не противоречил цензурным установкам. И автор предисловия вновь и вновь акцентировал специфику биографического контекста: «Есть у венгерского поэта Антала Гидаша (в переводе Н. Заболоцкого) стихи, родственно-близкие послевоенной прозе Гроссмана:
Черные руки вздымают мосты, Мертвые люди вздымают персты, Мать моя, руку вздымаешь и ты.Быть антифашистом – значит обладать гражданской зоркостью.
Быть антифашистом – значит чувствовать ответственность перед мертвыми, читать свою рукопись глазами тех, кто погиб.
Быть антифашистом – значит верить в доброту человека, в конечное торжество человечности над скотством».
Намек был прозрачным. Атаров опять рассуждал не только и не столько о борьбе с нацизмом.
Тезисы суммировались уже в качестве выводов. Получалось, что Атаров не столько автора сборника характеризовал, сколько анализировал личные наблюдения: «Писатель Василий Гроссман обладал этими свойствами – в жизни он был нелюдимый, замкнутый человек, неудобный для легкой дружбы, угрюмый и грозный, как правосудие. К тому же в последние годы он знал, что умирает, – он умер от рака. И только сейчас, перечитывая его посмертный сборник рассказов, понимаешь, как этот нелюдимый человек неутомимо искал дороги и тропинки к людям, как этот порою обижавший близких человек ненавидел предательство дружбы, как этот угрюмый и грозный, точно само правосудие, человек верил в непобедимую доброту человечности».
Здесь отчетлива интонация сочувствия, дружеского участия, скорби. Липкин же, цитируя предисловие, внес свои коррективы – на правах «самого близкого друга». Чуть ли не одернул Атарова: «Правильно, Гроссман был неудобный человек для легкой дружбы, ненавидевший предательство дружбы. Но что это за дружба, если она легкая и способна на предательство? Знакомство, завязавшееся в редакции, в доме творчества, во время пирушки, всегда ли превращается в дружбу? Гроссман требовал от дружбы честности, стойкости, самоотверженности».
Далее мемуарист перешел к инвективам. На правах «самого близкого друга» рассуждал об излишней доверчивости писателя-нонконфомиста: «Тот же Атаров льнул к нему, приходил к нему, как ученик к учителю, и Гроссман встречал его благосклонно, но, вступив в партию, Атаров стал функционером, его назначили редактором журнала “Москва”, он постепенно отстранился от преследуемого Гроссмана, и, конечно, когда они случайно встречались, Гроссман смотрел на него “угрюмо и грозно”».
Значит, когда Атаров, стал главредом, он избегал гонимого писателя-нонконформиста, которого считал ранее своим учителем. Предал дружбу. Гроссман, соответственно, рассердился. Отсюда следует, что в первую очередь к автору предисловия относится им же сказанное.
Однако Липкин, увлекшись нарративом, опять забыл и хронологию, и библиографию. Его инвективы, как водится, не выдерживают проверки.
Атаров моложе Гроссмана лишь на пару лет. С тем же интервалом дебютировал в качестве прозаика и до войны успел выпустить три книги. Так что не приходил он к давнему знакомому «как ученик к учителю». Это выдумал Липкин. Полемический задор.
Кстати, партбилет Атаров получил в 1947 году, а редакцию «Москвы» возглавил десять лет спустя. Интервал немалый, о чем Липкин не знал или забыл.
Да и Гроссман в 1957 году – вовсе не «преследуемый». Наоборот, вполне преуспевающий. Его статус классика советской литературы подтвержден официально.
За «отход от партийной линии» Атаров смещен с должности главреда в 1958 году. Однако и тогда Гроссман не был «преследуемым». Наоборот, еще более хвалимым и ценимым.
Мемуарист придумал сюжет предательства. Но полемика опять исключалась: когда вышла липкинская книга, Атаров уже восемь лет как умер.
Что за счеты сводил Липкин – трудно судить. Главное, небылицы сочинял не только про Атарова. Причем был в антипатиях последователен: «Фронтовые дороги свели Гроссмана с Борисом Галиным, этот правдистский очеркист гордился тем, что они с Гроссманом на “ты”, и Гроссману, я видел, льстило такое поклонение, но и Галин, как теперь выражаются, “слинял”, когда Гроссман попал в беду, и если бы Гроссман узнал, как уже после его смерти подло повел себя Галин, когда за рубежом вышло в свет “Все течет”, то, бесспорно, говорил бы о Галине “угрюмо и грозно”».
Липкин опять увлекся нарративом. Соответственно, вновь забыл про хронологию и библиографию.
«Поклонение» – опять выдумка. Галин на год старше Гроссмана, состоял в ССП с момента основания, был не просто «очеркистом», а спецкором «Правды». Это высокий статус даже в журналистской элите. Ко всему прочему, три книги выпустил до войны, сталинский лауреат 1948 года.
«Свели» его и Гроссмана не «фронтовые дороги» – знакомство состоялось еще в довоенную пору. Липкину об этом не было известно.
Значение жаргонизма «слинял» можно толковать весьма широко. Опять же, неясно, как понимать оборот «когда Гроссман попал в беду». Кампания ли 1953 года подразумевалась мемуаристом, арест ли рукописей – можно лишь догадываться. Ну а про то, как «подло повел себя Галин» после издания крамольной повести, Липкин просто сочинил, что уже отмечалось выше.
Досталось не только Атарову и Галину. Мемуарист подробно рассказывал о череде гроссмановских друзей, по его словам, изменивших дружбе. Вряд ли нужно выяснять, где в прочих сюжетах вымысел. Похоже, что везде.
Комментарий мемуариста к небольшому фрагменту предисловия весьма пространен. Если подводить итоги, то Гроссмана предавали многие друзья, а вот Липкин – нет. Прагматика ясна: как раз к нему и не относится сказанное Атаровым о «предательстве дружбы». Но мемуаристу, казалось бы, незачем было оправдываться.
Атаровское же предисловие было неординарным в первую очередь по интонации. Так эмоционально гроссмановскую прозу еще не обсуждали:
«Книга правдивая и, в общем, печальная.
Откуда печаль? Трудно ответить одним словом. Но, может быть, ответ – именно в тоске по необычной, конечной, постигаемой лишь внутренним взором красоте человечности, в тоске по своей Сикстинской мадонне? Но Мадонну писал молодой и счастливый Рафаэль. А Гроссману последних лет – болезни и одиночества, – пожалу, сродни поздние рембрантовский томления? Об этом не берусь судить…».
Сказанное про одиночество не подтверждалось какими-либо аргументами. Причем Атаров не мог не знать: у Гроссмана была семья – жена, пасынок. И, разумеется, дочь.
Однако критик не так уж далек от истины. Его приятельские отношения с Гроссманом не прерывались, и, похоже, что сказал Атаров гораздо меньше, нежели знал. Ограничился намеками, понятными лишь узкому кругу знакомых.
Семья Гроссмана фактически распалась к началу 1950-х годов. Дочь, правда, не забывала отца – ни здорового, ни больного. Но она вышла замуж, растила сына, заботилась о матери, в общем, хватало собственных хлопот.
Весьма сложными были отношения с Заболоцкой. Она в 1958 году овдовела и все же за Гроссмана так и не вышла замуж – формально. О причинах можно спорить, но их анализ в нашу задачу не входит.
Бесспорно, что у Гроссмана не было новой семьи. Это уже отмечалось выше. Отношения же с Губер и ее сыном значительно ухудшились после ареста романа, что замечали близкие знакомые. А позже – обсуждали и литературоведы.
Так, семейная коллизия анализируется в упомянутой выше монографии Гаррардов «The bones of Berdichev: The life and fate of Vasily Grossman». Соавторы не только исследовали ныне фактически недоступные материалы, но и провели опросы многих современников писателя[210].
Комментировали Гаррарды и документы, уже опубликованные к моменту издания монографии. В частности, материалы, напечатанные газетой «Труд». Особое внимание привлекло донесение Семичастного, где указывалось: «Копии отрывков из рукописи Гроссмана прилагаются».
Речь шла о повести. Гаррарды отвергли версию прослушивания: «Откуда могли быть получены эти выдержки, если не от осведомителя из числа близких к Гроссману людей? Кто-то, должно быть, скопировал или сфотографировал фрагменты рукописи и отправил их в КГБ».
Доносчика Гаррарды не винили. Отметили, что советским законодательством предусматривалась уголовная ответственность за недонесение о таких преступлениях, как «антисоветская пропаганда». А это, соответственно, позволяло сотрудникам КГБ и ранее существовавших аналогичных учреждений использовать фактор страха при вербовке.
Такую специфику Гроссман, согласно Гаррардам, учитывал. Он «знал или догадывался, что в его окружении был Иуда, уже предавший его…».
Кого именно подозревали в предательстве Гаррарды – не сообщается. По их словам, десятилетия спустя уже «невозможно установить личность информатора. О жутком давлении уголовной ответственности за недоносительство, которое испытывали на себе советские граждане, можно судить по одной истории, рассказанной нам Екатериной Васильевной, дочерью Гроссмана. Она сказала, что Ольга Михайловна однажды обратилась к ней с экстраординарной просьбой. К ней подошел ее сын Федор и заявил, что слышал, как Гроссман читал отрывки из работы, которая была известна как “Все течет”. Федор был напуган и, чтобы обезопасить себя и мать, предложил ей отправить властям коллективное письмо, где было бы сказано, что они не знают содержания повести. Однако Ольге Михайловне следует отдать должное: прежде, чем что-либо предпринять, она отправилась к Екатерине Васильевне за советом. Та, по ее воспоминаниям, твердо ответила: «Это было бы преступлением”. Ольга Михайловна и Федор так и не отправили такого письма».
Похоже, история Липкина про напуганных иностранной публикацией гроссмановской повести и спешивших от автора отречься тоже отражает некие событии. Только не те, что описывал мемуарист.
Не Березко с Галиным напугались. И не Липкину с Козловой пришлось увещевать отрекавшихся.
Но Гаррарды анализировали не только рассказ дочери писателя. Важным аргументом была повесть, где автор рассуждал о гипотетическом суде над осведомителями, предававшими друзей и знакомых из страха или ради карьерных выгод[211].
Ну а Гроссман, если судить по его повести, считал, что среди знакомых вовсе не один «инфораматор». И беспристрасность отвергал:
«Но знаете ли вы, что самое гадкое в стукачах и доносителях? Вы думаете, то плохое, что есть в них?
Нет! Самое страшное то хорошее, что есть в них, самое печальное то, что они полны достоинств, добродетели.
Они любящие, ласковые сыновья, отцы, мужья… На подвиги добра, труда способны они.
Они любят науку, великую русскую литературу, прекрасную музыку, смело и умно некоторые из них судят о самых сложных явлениях современной философии, искусства…
А какие среди них встречаются преданные, добрые друзья! Как трогательно навещают они попавшего в больницу товарища!».
Не так уж много знакомых навещали писателя в больницах. И, конечно, историки литературы не раз пытались определить, кого Гроссман имел в виду. Но отождествление повествователя и автора – ошибка. Прямой связи нет. Соответственно, неуместны параллели и аналогии.
Впрочем, Гроссман даже здесь пытался найти оправдание предателям. Смягчил выводы:
«Да, да, они не виноваты, их толкали угрюмые, свинцовые силы. На них давили триллионы пудов, нет среди живых невиновных… Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и судье.
Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?».
Он и себя обвинял. За то, что выжил, когда вокруг гибли невиновные.
Возможно, тогда уже не с кем было поговорить о чувстве вины. Гроссман фактически разошелся со всеми друзьями молодости, кроме Лободы. Но и тот жил не в Москве, встречались изредка.
Был ли Гроссман одинок на самом деле – трудно судить. Однако вряд ли случайно герой его повести размышляет постоянно о раскаянии, одиночестве.
Неизвестно, читал ли Атаров последнюю гроссмановскую повесть. Важно, что он акцентировал мотивы одиночества, раскаяния, негодования в поздних рассказах.
Суждения Атарова противоречили биографическому мифу Гроссмана, созданному Липкиным. Возможно, поэтому они и вызвали столь резкие возражения мемуариста. Даже инвективы, обоснованные только вымыслами.
Критический дискурс
Можно отметить, что от всех статей о Гроссмане, изданных после его смерти, атаровское предисловие к сборнику отличается разительно. В нем есть то, что, по словам критика, свойственно последним рассказам писателя – чувства сопричастности, вины, скорби, надежды. Пусть и несколько замаскированные ссылками на актуальные пропагандистские установки.
Содержание книги, изданной в 1967 году, характеризовалось тоже весьма эмоционально. Атаров утверждал, что к «раскаленным рассказам писателя-антифашиста Гроссмана – таким, как “Дорога”, “Авель”, “Тиргартен”, – вплотную примыкают, как бы даже возгораясь от их жара, рассказы бытописателя. Это и есть основная часть книги: “Несколько печальных дней”, “Лось”, “Из окна автобуса”, “Обвал”…».
Далее предлагалась оценка интенций автора. Они, согласно Атарову, были выражены вполне ясно и неизменно: «Все тот же Гроссман. Те же коллизии добра и зла стоят перед ним, те же образы его осаждают. Увидевший треблинский ад писатель не разучился ужасаться и повседневному, привычному всем нам зрелищу эгоизма и сытости, душевной беспамятности и слепоты равнодушия».
Итоговые выводы формулировались в качестве риторических вопросов. Разумеется, о прагматике выпуска сборника: «Так что же, нужна ли нам, полезна ли нам эта литература нравственной сосредоточенности – поступка по совести и поступка против совести? Или, может быть, нам предпочтительней для коммунистического воспитания людей литература утилитарной целесообразности поступка?».
Полемика здесь подразумевалась. Автору рассказов, опубликованных в сборнике, порою инкриминировали пессимизм, негативно влияющий на читателей. И Атаров подчеркивал: «Я вижу большое общественное значение творчества Василия Гроссмана в том, что он будит беспокойство, не дает нам заслониться и остынуть».
Далее вывод конкретизировался. Гроссман, согласно Атарову, всю жизнь исполнял долг писателя: «Быть добрым к людям – они этого заслуживают – и не давать им от себя самих заслониться».
Подчеркнем, что основное место в атаровском предисловии уделено анализу очерка «Добро вам!». Он и ранее был замечен критиками.
Так, на публикацию в «Литературной Армении» первым откликнулся столичный ежемесячник «Дружба народов». Этот журнал и специализировался на издании переводов литературы так называемых союзных республик. В июньском номере 1966 года помещена рецензия В.Я. Канторовича – «Поэзия и философия одного очерка»[212].
Оценка задана уже в заголовке. Далее тезис развивался: «Люди, встреченные писателем в Армении, запечатлены рукой художника, их будешь долго помнить. Эти портреты, как часто случается в очерках, стали своего рода “проблемами в лицах”. Часто через судьбы персонажей постигаешь как нашу современность, так и противоречия прошлых лет».
Приведен был и конкретный пример. Выбрал Канторович эпизод, по мнению Липкина, исключенный московским цензором и ереванским редактором: «В своих очерках В. Гроссман коснулся многих проблем, имеющих значение не только для Армении. Но поводом для них всегда служат реальное события или случай, свидетелем которых был писатель именно в Армении. Такова сильная сцена на колхозной свадьбе, где воин-армянин вспоминает военные статьи Гроссмана, посвященные армянам, и говорит о своем желании, чтобы о гибели евреев в фашистских газовых печах и рвах когда-нибудь написал сын многострадального армянского народа».
Канторович не раз подчеркнул, что важнейшая характеристика ереванской публикации – искренность автора. Равным образом, мастерство и гуманизм: «Вот так написаны эти то жгучие, то сдержанные страницы гроссмановского очерка “Добро вам!”. Повсюду присутствует автор – не лирический герой, не условная маска, а живой человек с нелегким опытом за плечами».
Важен и другой вывод. Канторович отметил, что публикация очерка – весьма значительное литературное событие. По мнению рецензента, «талант и сама личность Василия Гроссмана раскрылись наиболее полно».
Что до сборника гроссмановской прозы, то на его публикацию едва ли не первым откликнулся журнал «Знамя». Статья под заголовком «Человек среди людей» опубликована в февральском номере 1968 года[213].
Кожевников по-прежнему был главным редактором журнала, а статья безоговорочно хвалебная. Акцентировалось, что Гроссман – мастер психологической характеристики. И, конечно, гуманист: «Писатель исповедует, выявляет своих героев, дурных и хороших, сильных и слабых, после чего почти всякий рассказ как бы превращается в кафедру, с высоты которой учительствуют, преподают простую и вместе с тем немыслимо трудную науку добра».
Гуманизм, разумеется, ассоциировался с пресловутым антифашизмом. Что и подчеркивал рецензент: «Гроссман – неистовый, фанатичный враг фашизма. Он видит его черты и симптомы в вещах, на первый взгляд совершенно “безвинных”, незначительных. Обличая фашизм во всех его проявлениях, писатель взывает ко всему доброму, что “есть в людях, потому что они люди”; говоря о величайшей ответственности каждого живущего на земле за судьбы всех ее конкретных обитателей, он взывает к душе человеческой, ибо “понял силу этой души, обращенную не к небесному богу, а к людям”».
Вскоре откликнулся и еженедельник «Литературная Россия». 3 марта 1968 г. там была опубликована рецензия И.Е. Гитович[214].
Начиналась рецензия с общей характеристики издания. Гитович подчеркивала, что сборник необычный: «Эта книга вышла спустя три года после смерти Василия Гроссмана. Писатель так и не увидел в печати ни “Тиргартена”, ни “Обвала”, ни путевых заметок “Добро вам!”, ни ряда других рассказов – из тех, что были написаны им в последние годы жизни».
Далее приводилась характеристика Гроссмана. Рецензент утверждала: «Все, что создавалось писателем на протяжении десятилетий, связано одним стремлением – понять и распутать сложный клубок противоречий, из которых состоит жизнь, история, человеческие судьбы и характеры, найти, говоря словами самого Гроссмана, подлинную “меру душ и вещей”. Именно так старался он осмыслить и будничные, житейские ситуации в своих “бытописательских” рассказах, и страшные коллизии ХХ века в антифашистских романах и рассказах».
Едва ли не важнейшей публикацией Гитович называла гроссмановские путевые заметки об Армении. Впрочем, тут она вполне солидаризовалась с Канторовичем и Атаровым: «Не в абстрактных категориях, а в человеческих судьбах, в облике людей, их быте, привычках, даже в сером камне армянского пейзажа ощутил писатель “четвертую координату мира – координату времени”. “Связь времен” предстала перед ним как вековая связь людей, навсегда закрепленная и в памятниках культуры, и в обычаях “класть кирпичи и обтесывать камень”. Глядя на сплетенные пальцы людей, двигавшихся в свадебном хороводе, писатель почти физически ощутил ту великую силу добра, что во все времена противостояла злу – всевозможным проявлениям расизма, ужасам фашизма, всем способам истребления людей – физического и духовного».
Соответственно, речь опять шла об искренности, гуманизме, мастерстве. Таков и вывод, формулировавшийся рецензентом: «Не раз писали о чеховской традиции в творчестве Гроссмана. Очевидно, следует понимать ее не только в историко-литературном плане – манере повествования или особенностях сюжета. Философский, нравственный смысл ее заключен в обостренном чувстве совести и правды, в неодолимом стремлении освободить человеческое сознание от всевозможных догм».
Завершалась рецензия гроссмановской цитатой из очерка об Армении, вынесенной и в заглавие. По словам Гитович, «как завещание нам звучат последние слова очерка: “Пусть обратятся в скелеты бессмертные горы, а человек пусть длится вечно”».
Рецензия Гитович весьма примечательна именно в аспекте критической рецепции. Акцентировалось, что Гроссман – классик не только советской литературы, но и мировой.
Откликнулась также «Литературная газета». 20 марта была опубликована рецензия В.П. Рослякова «Воздух истории. О сборнике рассказов Василия Гроссмана “Добро вам!”»[215].
Характеристика сборника была, по сути, стандартной. Рецензент утверждал: «В книге “Добро вам!” писатель останавливается не столько перед конкретными фактами истории, сколько перед самой историей, перед историей собственной жизни и полувекового существования Советского государства».
Далее предлагалась характеристика автора сборника. По словам рецензента, «Гроссман, каким он предстает перед нами в этой книге, видит не только частности истории, пусть и самые значительные, но и ощущает, понимает эти частности во всем их объеме и во всей сложности того, чем была переполнена минувшая половина века. Это понимание вошло в его человеческий и писательский опыт. Но надо быть большим мастером, чтобы выразить это в рассказе, и порой в коротком рассказе, где нет ни значительных событий, ни потрясающих коллизий».
Гроссман, согласно Рослякову, рассуждал о проблемах осмысления жизни. Таков пафос книги в целом: «Писатель напряженно думает, что есть главное и неглавное в жизни, преходящее и непреходящее – вечное, всегда нужное и необходимое для человеческого счастья. Часто в этих поисках писатель достигает предельного драматизма».
По словам рецензента, Гроссман, рассуждая о проблемах осмысления жизни, оставался писателем исключительно советским. Росляков акцентировал, что в публикуемых рассказах автор, «опираясь на свои поиски высшей человеческой нравственности, которая для него неотъемлема от нравственности коммунистической, сумел произнести, может быть, самые глубокие и самые убийственные слова о фашизме».
Очевидно, что здесь, как в прочих откликах, главными характеристиками писателя Гроссмана были признаны мастерство, искренность, гуманизм. Это и фиксировалось уже цитированной статьей Мунблита о Гроссмане – в нормативной Краткой литературной энциклопедии.
На том обсуждение гроссмановских прозы в СССР, по сути, завершилось. Причиной были опять политические изменения.
В июне 1967 года началась и закончилась так называемая Шестидневная война. В этом конфликте правительство СССР – изначально на стороне арабских государств, чьи войска были разгромлены израильскими.
СССР сразу заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Что фактически и обозначило начало очередных антисемитских кампаний. Именуемых, как повелось издавна «антисионистскими».
Пресловутая «еврейская тема», с которой предсказуемо ассоциировалось восприятие гроссмановского наследия, стала особенно нежелательной. Ситуация, правда, менялась постепенно. До поры критики еще обсуждали новые гроссмановские публикации, но ограничения – на уровне тематики и проблематики – ужесточались. А в октябре 1973 года начался и закончился очередной арабо-израильский конфликт, получивший название Войны Судного дня.
Объединенные войска арабских государств, напавшие на Израиль, были вновь разгромлены. Соответственно, в СССР «антисионистские» кампании уже не прекращались. В этом контексте Гроссман – опять лишний.
Формально запрет не вводился. Гроссман по-прежнему считался исключительно советским писателем. Было лишь так называемое «замалчивание».
На общем фоне советского литературного процесса «замалчивание» гроссмановского наследия осталось практически незамеченным. Писатель умер, новых публикаций нет, значит, критикам и обсуждать нечего. Ну а выбор тем литературоведческих работ был еще более жестко регламентирован. Так, Бочаров издал первую монографию о Гроссмане в 1970 году. Успел. Следующая – двадцать лет спустя.
Вне осмысления
За границей наследие Гроссмана не считалось актуальным, даже после того, как была опубликована повесть «Все течет…». Обсуждалось она лишь эмигрантскими изданиями.
Изменения стали заметны, когда полностью был издан роман «Жизнь и судьба». Но мировую известность он получил уже в переводах на европейские языки. Гроссман все-таки победил – хоть и после смерти. Если точнее, через двадцать лет.
В СССР наследие Гроссмана по-прежнему «замалчивали». Актуализировалось оно лишь на исходе 1980-х годов. Тогда же Липкиным была изложена – в дополненном варианте – история тайной отправки рукописи за границу, публикаций там и на родине автора.
Она тоже крайне запутана, изобилует явными противоречиями. В особенности это относится к источникам публикаций романа.
Но проблема устранения противоречий до недавнего времени даже не ставилась. Она игнорировались.
Это вполне объяснимо. Постановка такой проблемы с необходимостью подразумевала бы выявление целого комплекса других, уже не только академического характера.
Прежде всего, критическое рассмотрение мемуарных свидетельств традиционно воспринимается как недоверие мемуаристам, сомнение в их добросоветсности. Часто и в качестве оскорбления. Это выше уже отмечалось.
В данном случае актуальной стала бы еще и проблема текстологической корректности публикаций романа «Жизнь и судьба» на русском языке. А вслед за ней – авторитетности всех переводов, получивших международную известность. Права же издателями давно куплены, продукция выпускается.
Наконец, критическое рассмотрение липкинской версии сказалось бы на оценке публикаций литературоведов, ее некритично использовавших. Меж тем она тиражируется десятилетими, воспроизведена многократно – со ссылками на умершего в 2003 году автора или без них. Противодействие тут прогнозируется изначально.
Так и случилось. Весьма резкие возражения были вызваны нашей статьей «Интрига и судьба Василия Гроссмана», опубликованной в шестом номере журнала «Вопросы литературы» за 2010 год[216].
Мы рассматривали историю ареста романа и спасения рукописей. Разумеется, анализировали источники, в том числе и мемуарные, доказывали, что сведения, предоставленные мемуаристами, весьма часто не подтверждаются, либо непосредственно опровергаются официальными документами и библиографией Гроссмана.
Все остальные проблемы – достоверности сведений о заграничных и отечественных публикациях романа, аналогично и текстологической корректности продолжающихся изданий – нами в статье лишь сформулированы. До решения было далеко. О том и последняя фраза: «Интрига завершена, последствия еще не осмыслены».
Через два года журнал «Вопросы литературы» поместил статью критика Сарнова «Как это было: К истории публикации романа Василия Гроссмана “Жизнь и судьба”». С точки зрения жанра уместнее бы именовать напечатанное мемуарами. Что, кстати, постулировал автор в первом же абзаце: «Я давно уже собирался об этом написать. Ведь многое из того, что я про это знаю, уйдет вместе со мной. А сохранить это знание надо, – если не для сегодняшнего читателя, так хоть для истории»[217].
Далее Сарнов начал полемику с нами. Причем весьма агрессивно: «Это наведение тени на ясный день (sic! – Ю. Б.-Ю., Д. Ф.) меня изумило, потому что все, что изображается тут авторами цепью загадок, на которые до сих пор не существует ответа, на самом деле давно и хорошо известно».
Откуда «давно и хорошо известно» – тут же объяснил. Изложил свою версию истории романа. Если сравнивать с липкинской – сюжетная канва не изменилась. Наш оппонент рассуждал о доносе Кожевникова, мудрости и прозорливости «самого близкого друга Гроссмана», спасшего рукопись, помощи Войновича, сумевшего переправить копии через границу, саботаже заграничных издателей, публикации в Лозанне первой книги, а также изданиях в СССР.
Правда, есть принципиально различие. В новой версии среди, так сказать, действующих лиц – Сарнов. Не только свидетель описываемых событий, но и участник борьбы за публикацию романа Гроссмана.
Фактографическую основу изложенной в статье версии Сарнов компилировал из фрагментов опубликованных мемуаров и вольного их пересказа. Иногда пояснял, какие издания цитировал, чаще без этого обходился. Добавлял и детали, ссылаясь уже на свои воспоминания.
Компиляция – обычный случай в мемуаристике. Однако существенно, что Сарнов – на правах точно знавшего, «как это было» – объявил неоспоримой свою версию, равным образом, все им же использованные мемуарные свидетельства.
Тут критический подход, если верить нашему оппоненту, вообще непродуктивен. А по отношению к сказанному Липкиным – чуть ли не безнравствен. Мемуары «самого близкого друга Гроссмана», как утверждал Сарнов, «надежный вполне достоверный документ».
Спорить тут не с чем. Читателей призвали верить.
Подчеркнем, что наиболее запальчиво Сарнов отвергал все нами сказанное о мемуарных свидетельствах, относящихся к публикации романа Гроссмана за границей и в СССР. Буквально инкриминировал злой умысел: «Вся их статья построена на упрямом стремлении игнорировать, а то и отрицать факты и обстоятельства не только хорошо известные, но и фундаментально изученные».
Впрочем, его мемуары для нас тоже источник. Суждения нашего агрессивного оппонента мы последовательно рассматривали в статье «К истории публикации романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба» или «Как это было» у Б. Сарнова». Она напечатана в сорок пятом номере журнала «Toronto Slavic Quarterly»[218].
По сути, мы продолжили тему. Но – применительно к истории публикаций романа за границей и на родине автора – проблемы уже не только обозначали. Еще и ставили в пригодной для решения форме.
В частности, демонстрировали противоречия в упомянутых версиях мемуаристов. Доказывали, что по совокупности их свидетельств нельзя установить, одна ли рукопись была копирована для нелегальной отправки за границу, сколько туда попало копий и когда именно, а также какие способы использовались каждый раз для доставки материалов.
Равным образом, доказывали, что нет возможности определить, какие текстологические принципы использовались при подготовке отечественных изданий гроссмановского романа, насколько корректно формировалась источниковая база. Что важно с точки зрения репрезентативности публикаций.
Но одну проблему мы обсуждать не стали тогда. Речь идет о причинах необычной агрессивности нашего оппонента. Все же его возражения несводимы к формам научной полемики. Это своего рода начальственный окрик, требование почтения и безоговорочного повиновения, неукоснительного соблюдения запретов. Прием советский, в силу чего и деактуализировавшийся.
Отчасти реакцию нашего оппонента можно было бы объяснить факторами субъективными. Еще с начала 1990-х годов Сарнов публиковал в периодике эссе о советской литературе, причем весьма часто и пространно цитировал или пересказывал там мемуары Липкина. Затем издавал сборники – уже в качестве монографий[219].
Проведенный нами критический анализ липкинских свидетельств, оказался, вероятно, некстати в связи с публикациями Сарнова. Вот и агрессия проявилась.
Эскапада Сарнова – проявление тенденции. Как уже не раз отмечалось, истина вовсе не обязательно востребована. Довольно часто она многим мешает.
Но обычно защитники гроссмановского биографического мифа попросту игнорируют все, что выходит за его рамки. Так произошло, например, с монографией Гаррардов. В большинстве своем результаты, полученные исследователями, остаются и ныне словно бы незамеченными – если противоречат суждениям мемуаристов.
Что до истории публикаций романа Гроссмана за границей и в СССР, то упомянутые выше проблемы оставались вне осмысления более четверти века. Их тоже словно бы не видели.
Стоит подчеркнуть: мы решали и решаем задачи исследовательские. На основании анализа источников реконструируем биографию писателя в контексте литературного процесса. Нам важно определелить, что происходило и когда. А еще – почему именно так, а не иначе.
Разрушение созданного мемуаристами биографического мифа Гроссмана – не цель для нас. Мы его исследуем, а не спорим с ним. Нам важно установить, почему и как он формировался, в силу каких причин бытует.
В какой-то мере биография писателя – история его книг. Этот тезис общеизвестен, и вряд ли его нужно вновь обосновывать. В общем, «Жизнь и судьба».
Роман «Жизнь и судьба», изданный после смерти Гроссмана, радикально изменил отношение к его биографии. История конфискованных рукописей продолжилась в контексте новой эпохи. Не хрущевской, а брежневской. И далее – всех последующих. Но это уже другие интриги, причем в иных контекстах. Об этом – в следующей книге.
Сноски
1
См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 57.
(обратно)2
См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 51–52.
(обратно)3
См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении писателя Гроссмана В.С. орденом Трудового Красного Знамени // Правда. 1956, 19 янв.
(обратно)4
См. напр.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 55.
(обратно)5
Подробнее см.: Фельдман Д.М. Терминология власти: Советские политические термины в историко-культурном контексте. М.: Форум: Неолит. 2015. С. 15–56.
(обратно)6
Политбюро ЦК КПСС. О культе личности и его последствиях // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 128–170.
(обратно)7
Гроссман В. С. За правое дело. Кн. 1. М.: Советский писатель, 1956.
(обратно)8
См.: Бузин Д. Александр Фадеев: Тайны жизни и смерти. М.: Алгоритм, 2008. С. 119–140.
(обратно)9
См.: Лурье Л., Малярова И. 1956 год: Середина века. СПб: Нева, 2007. С. 344–347.
(обратно)10
См.: Золотусский И. Война и свобода // Гроссман В. С. Жизнь и судьба. Куйбышев: Кн. изд-во, 1990. С. 3.
(обратно)11
Гроссман В. С. Жизнь и судьба. М.: Книжная палата, 1989. С. 440.
(обратно)12
См.: Булгаков М. А. Собачье сердце // Грани. 1968. № 69. С. 24.
(обратно)13
См. подробнее: Одесский М. П. Авангард и советская пресса. Случай Даниила Хармса // Одесский М. П. Четвертое измерение литературы. М.: РГГУ, 2011. С. 410–429.
(обратно)14
См.: Короткова-Гроссман Е. В. «С отцом мои отношения были доверительными» // Мир новостей. 2013, 9 янв.
(обратно)15
Здесь и далее цит. по: Вишневский И. П. Роман В. Гроссмана «За правое дело» // Вишневский И. П. Этих лет не смолкнет слава. Львов: Кн. журн. изд., 1958. С. 44–72.
(обратно)16
Гроссман В. С. Повести. Рассказы. Очерки. М.: Воениздат, 1958.
(обратно)17
Левин Ф. М. Василий Гроссман. Предисловие // Гроссман В. С. Повести. Рассказы. Очерки. М.: Воениздат, 1958. С. 3–14.
(обратно)18
Здесь и далее цит. по: Левин Ф. М. Указ. соч.
(обратно)19
Здесь и далее цит. по: Замятин Е. И. Я боюсь // Замятин Е. И. Избранные произведения. М.: Советская Россия, 1990. С. 403–406.
(обратно)20
См., напр.: Файман Г. «И всадили его в темницу…». Замятин в 1919, в 1922-1924 гг. // Новое о Замятине. Сборник материалов. М.: МИК, 1998. С. 78–88; Галушкин А. Ю. Письмо Е. Замятина А. Воронскому: К истории ареста и несостоявшейся высылки Замятина в 1922–1923 гг. // De Visu. 1992. № 0 («нулевой»). С. 12–23; см. также: Михайлов О. Гроссмейстер литературы // Замятин Е. И. Полное собрание сочинений в одном томе. М.: Альфа-Книга, 2011. С. 1231–1254.
(обратно)21
См. подробнее: Галушкин А. Ю. «Дело Пильняка и Замятина». Предварительные итоги расследования // Новое о Замятине. Сборник материалов. М.: МИК, 1998. С. 89–146.
(обратно)22
См., напр.: Агурский М. Идеология национал-большевизма. Paris: YMCA-PRESS, 1980. С. 201–223.
(обратно)23
См., напр.: Струве Г. П. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 15–49; 191–246.
(обратно)24
Подробнее см.: Галушкин А. Ю. «Дело Пильняка и Замятина»: Предварительные итоги расследования // Новое о Замятине. М.: МИК, 1997. С. 89–148.
(обратно)25
Волин Б. М. Недопустимые явления // Литературная газета. 1929, 26 авг.
(обратно)26
См.: Литературная газета. 1929, 2 сент.
(обратно)27
См. подробнее: Киянская О. И., Фельдман Д. М. Очерки истории русской советской литературы и журналистики 1920-х–1930-х годов. Портреты и скандалы. М.: Форум, 2015. С. 113–119.
(обратно)28
Маяковский В. В. Наше отношение // Литературная газета. 1929, 2 сент.
(обратно)29
См.: Против буржуазных трибунов под маской советского писателя. Против переклички с белой эмиграцией. Советские писатели должны определить свое отношение к антиобщесвенному поступку Б. Пильняка // Там же.
(обратно)30
См.: Волин Б. Вылазки классового врага в литературе // Книга и революция. 1929. № 18. С. 4–7.
(обратно)31
Батрак И. В лагере попутчиков // Земля Советская. 1929. № 10. С. 44–46.
(обратно)32
Флейшман Л. С. Борис Пастернак в двадцатые годы. Munchen: Wilhelm Fink, 1980. С. 124.
(обратно)33
См., напр.: Лурье Л., Малярова И. 1956 год. Середина века. СПб: Нева, 2007. С. 3–6; Сенявский А. С. Предисловие // ХХ съезд КПСС в контексте российской истории. М.: типография ИРИ РАН, 2012. С. 3–8.
(обратно)34
Фельдман Д. М. Терминология власти. С. 62–109.
(обратно)35
Фельдман Д. М. Терминология власти. С. 62–109.
(обратно)36
Здесь и далее цит. по: Симонов К. М. Глазами глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине // Знамя. 1988. № 4. С. 119–120. См. также: Фельдман Д. М. Терминология власти. С. 37–48.
(обратно)37
Здесь и далее цит. по: РГАСПИ. Ф. 629. Оп. 1. Д. 54. Л. 68–71. См. также: Барсуков Н. А. Историческая веха // XX съезд и его исторические реальности. М., 1991. С. 15. Ср.: Максименков Л. Культ: Заметки о словах-символах в советской культуре // Свободная мысль. 1993. № 10. С. 40–41.
(обратно)38
Здесь и далее цит. по: Аскольдова-Лунд М. Сюжет прорыва. Как начинался «Новый мир» Твардовского // Свободная мысль – XXI. 2002. № 1. С. 72–82.; № 2. С. 70–80.
(обратно)39
Овечкин В. Районные будни // Новый мир. 1952. № 9. С. 204–221; Он же В одном колхозе // Там же. 1952. № 12. С. 187 – 209.
(обратно)40
См.: Турков А. М. Александр Твардовский. М.: Молодая гвардия, 2010. С. 188.
(обратно)41
См.: Троепольский Г. Из записок агронома // Новый мир. 1953. № 8. С. 78–112; № 9. С. 52–99; Тендряков В. Падение Ивана Чупрова // Там же. № 11. С. 104–134.
(обратно)42
Здесь и далее цит. по: Померанцев В. Об искренности в литературе // Там же. № 12. С. 218–245.
(обратно)43
См. подробнее: Громова Н. А. Распад. Судьба советского критика: 40-50-е годы. М.: Эллис Лак, 2009. С. 199–202.
(обратно)44
Абрамов Ф. Люди колхозной деревни в послевоенной прозе // Новый мир. 1954. № 4. С. 210–231.
(обратно)45
Подробнее см., напр.: Крутикова-Абрамова Л. В. Слово в ядерный век: О публицистике // Жива Россия: Федор Абрамов: его книги, прозрения и предостережения. СПб.: Атон, 2003. С. 41.
(обратно)46
См.: Решение Секретариата ЦК КПСС от 23 июля 1954 г. «Об ошибках редакции журнала “Новый мир”» // История советской политической цензуры: Документы и комментарии. М., 1997. С. 106–115.
(обратно)47
См.: Турков А.М. Указ. соч. С. 355–383.
(обратно)48
См.: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг. М.: РОССПЭН, 2004. С. 368–404.
(обратно)49
См.: Новый мир. 1954. № 9. С. 288.
(обратно)50
Турков А. М. Указ. соч. С. 222–225.
(обратно)51
См.: Новый мир. 1954. № 12. С. 288.
(обратно)52
См.: Струве Г. П. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 199–213.
(обратно)53
См.: Бунин И. А. Рассказы и очерки // Новый мир. 1955. № 6. С. 157–172.
(обратно)54
См.: Дубинский Ил. В таежной деревне. Из записок комбайнера Михаила Бровкина // Там же. 1955. № 1. С. 74–121; Погодин Н. Мы втроем поехали на целину. Героическая комедия // Там же. 1955. № 12. С. 44–88; Овечкин В. Трудная весна // Там же. 1956. № 3. С. 30–78; № 5. С. 37–68; № 9. С. 121–178;
(обратно)55
См.: Пиляр Ю. Все это было // Там же. 1955. № 10. С. 113–158; № 11. С. 85–132.
(обратно)56
Тендряков В. Саша отправляется в путь // Там же. 1956. № 2. С. 25–88; № 3. С. 79–133.
(обратно)57
См.: Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Документы / отв. ред. К. Аймермахер, сост. В. Ю. Афиани. М.: РОССПЭН, 2002.; Сенявский А. С. ХХ съезд на весах истории // ХХ съезд КПСС в контексте российской истории. С. 9–29; Лурье Л., Малярова И. Указ. соч. С. 8–130.
(обратно)58
Фельдман Д. М. Терминология власти. С. 288–316.
(обратно)59
Дудинцев В. Д. Не хлебом единым // Новый мир. 1956. № 8. С. 31–118; № 9. С. 37–118; № 10. С. 78–96.
(обратно)60
Здесь и далее цит. по: Обсуждаем новые книги // Литературная газета. 1956, 27 окт.
(обратно)61
Здесь и далее цит. по: Дудинцев В. Д. Между двумя романами. СПб: Журнал «Нева», 2000.
(обратно)62
Здесь и далее цит. по: Платонов Б. Реальные герои и литературные схемы // Литературная газета. 1956, 24 нояб.
(обратно)63
Здесь и далее цит. по: Ерёмин Д. Чем жив человек // Октябрь. 1956. № 12. С. 166–173.
(обратно)64
Здесь и далее цит. по: Киселев В. Социалистический реализм – наше оружие // Литературная газета. 1956, 15 дек.
(обратно)65
Здесь и далее цит. по: На партийных собраниях писателей // Литературная газета. 1956, 29 дек.
(обратно)66
Здесь и далее цит. по: Создавать произведения, достойные нашего народа // Там же. 1957, 26 янв.
(обратно)67
Здесь и далее цит. по: Создавать произведения, достойные нашего народа // Там же. 1957, 26 янв.
(обратно)68
Здесь и далее цит. по: С чувством ответственности перед народом. За литературу большой жизненной правды // Там же, 9 фев.
(обратно)69
См.: Выше знамя партийности литературы! // Там же, 12 фев. См. также: Выше творческую активность // Там же, 26 фев.
(обратно)70
Здесь и далее цит. по: Партия и вопросы развития советской литературы и искусства // Коммунист. 1953. № 3. С. 15–16.
(обратно)71
Здесь и далее цит. по: Подводя итоги // Литературная газета. 1957, 19 мар.
(обратно)72
Здесь и далее цит. по: Партия и вопросы развития советской литературы и искусства // Коммунист. 1953. № 3. С. 12–17.
(обратно)73
См.: Записка отдела культуры ЦК КПСС об издании романа В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым» издательством «Молодая гвардия» // Аппарат ЦК КПСС и культура 1953 – 1957. Документы. М.: РОССПЭН, 2001. С. 613–614.
(обратно)74
Дудинцев В. Д. Не хлебом единым. М.: Советский писатель, 1957.
(обратно)75
См.: Шамота Н. Человек в коллективе // Коммунист. 1957. № 5 (апрель). С. 75–87; Бутенко А. О социализме и его «гуманистических» критиках // Там же. С. 101–111.
(обратно)76
См.: Громова Н. А. Распад. С. 397–398.
(обратно)77
Здесь и далее цит. по: Записка отдела культуры ЦК КПСС «О некоторых вопросах современной литературы и о фактах неправильных настроений среди части писателей» // Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. С. 570–579.
(обратно)78
См.: РГАНИ. Ф. З. Оп. 14. Д. 88. Л. 54; Ф. 89. Оп. 6. Д. 2. Л. 1–13.
(обратно)79
Здесь и далее цит. по: Каверин В. А. Эпилог. М.: Московский рабочий. 1990. С. 232–233. Ср.: Он же. Литератор. М.: Советский писатель. 1988. С. 108–109.
(обратно)80
См.: Поликарпов Д., Трощенко Е. Записка Отдела культуры ЦК КПСС о разрешении издать роман В. Д. Дудунцева «Не хлебом единым…» // Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. С. 581.
(обратно)81
См.: Дудинцев В. Д. Не хлебом единым. Роман в 4 ч. Мюнхен: ЦОПЭ, 1957.
(обратно)82
Здесь и далее цит. по: От издательства // Дудинцев В. Там же. С. 1–5.
(обратно)83
Здесь и далее цит. по: От издательства // Дудинцев В. Там же. С. 7.
(обратно)84
См., напр.: Подводя итоги // Литературная газета. 1957, 19 марта; Кузнецов М. Главная тема современности // Вопросы литературы. 1957. № 7. С. 155–156; За партийную принципиальность, за единство сил советской литературы. Заседания 15 мая и 16 мая // Литературная газета. 1957, 21 мая; 1957, 22 мая; Храпченко М. Мировозрение и творчество // Вопросы литературы. 1957. № 9. С. 80–83; Софронов А. Во сне и наяву. Литературные заметки // Литературная газета. 1957, 7 дек.
(обратно)85
См. подробнее: Дудинцев В. Д. Между двумя романами. С. 74–78; 132–207.
(обратно)86
См.: Ein Briefwechsel zwischen dem Autor und dem Verlag der Sternbucher // Dudinzew W. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Hamburg: Henri Nannen Verlag, 1957. S. 451–469; Дудинцев В. Д. Между двумя романами. СПб: Журнал «Нева», 2000. С. 150–160.
(обратно)87
Дудинцев В. Д. Между двумя романами. С. 191–199.
(обратно)88
См. подробнее: Фельдман Д. М. Терминология власти. С. 9–14.
(обратно)89
См. подробнее: Фельдман Д. М. Терминология власти. С. 15–61.
(обратно)90
См.: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель»… С. 225–242.
(обратно)91
Лопез Ж., Отхмезури Л. Жуков. Портрет на фоне эпохи / Пер. с фр. В. Е. Климанова. М.: Центрполиграф, 2015. С. 638–658.
(обратно)92
См.: Бианки Н. П. К. Симонов, А. Твардовский в «Новом мире». М.: Виоланта, 1999. С. 30–34.
(обратно)93
См.: Твардовский А. Т. Рабочие тетради 60-х годов / публикация В. А. Твардовской, О. А. Твардовской; примечания В. А. Твардовской // Знамя. 2002. № 9. С. 174.
(обратно)94
См.: Твардовский А.Т. Рабочие тетради 60-х годов / публикация В. А. Твардовской, О. А. Твардовской; примечания В. А. Твардовской // Знамя. 2002. № 9. С. 176.
(обратно)95
См.: Симонов К. М. Предисловие // Ильф И. А., Петров Е. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М.: Гослитиздат, 1956. С. 3–14.
(обратно)96
См.: Новый мир. 1958. № 6. С. 288; № 7. С. 288.
(обратно)97
См.: Литературная хроника. В Союзе писателей СССР // Литературная газета. 1958, 28 июня.
(обратно)98
См.: Дудинцев В. Д. Повести и рассказы. М.: Трудрезервиздат, 1959; Он же. Повести и рассказы. М.: Профтехиздат, 1959; Он же. Рассказы. М.: Московский рабочий, 1963; Он же. Новогодняя сказка. М.: Московский рабочий, 1965; Он же. Не хлебом единым. М.: Художественная литература, 1968.
(обратно)99
Здесь и далее цит. по: Твардовский А. Т. Письмо Симонову К. М. // Твардовский А. Т. Собр. соч. М.: Художественная литература, 1983. Т. 6. С. 82.
(обратно)100
Казакевич Э. Г. Звезда // Знамя. 1947. № 1. C. 11–66.
(обратно)101
См.: Литературная Москва. Литературно-художественный сборник московских писателей. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956. С. 832.
(обратно)102
См.: Казакевич Л. Э. Об альманахе «Литературная Москва» и не только // URL: .
(обратно)103
Здесь и далее цит. по: Гроссман В. С. Тиргартен // Наш современник. 1967. № 7. С. 54–71.
(обратно)104
См: Чехов А. П. А. С. Суворину. 7 янв. 1889, Москва // Чехов А. П. Собр. соч. М.: Правда, 1985. Т. 12. С. 153–154.
(обратно)105
См.: Юность. 1956. № 1. С. 112.
(обратно)106
См.: Юность. 1958. № 12. С. 128.
(обратно)107
См.: Юность. 1962. № 2. См. также: Гладилин А. Улица генералов. М.: Вагриус, 2008. С. 71–72.
(обратно)108
Здесь и далее цит. по: Толстой И. Н. Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ. М.: Время, 2009.
(обратно)109
BBC. Русская служба. ЦРУ участвовало в издании романа «Доктор Живаго» // URL:
(обратно)110
См.: Письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» Б. Пастернаку // С разных точек зрения. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. М.: Советский писатель, 1990. С. 12–41.
(обратно)111
См.: Провокационная вылазка международной реакции // Литературная газета. 1958, 25 октября.
(обратно)112
Здесь и далее цит. по: Заславский Д. Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка // Правда. 1958, 26 октября.
(обратно)113
См.: Гроссман В. С. За правое дело. М.: Воениздат, 1954; Он же. За правое дело. М.: Воениздат, 1955; Он же. Степан Кольчугин. В 2 кн. М.: Гослитиздат, 1955; Он же. За правое дело. М.: Советский писатель, 1956; Он же. Повести. Рассказы. Очерки. М.: Воениздат, 1958; Он же. За правое дело. М.: Воениздат, 1959; Он же. Степан Кольчугин. М.: Детгиз, 1959; Он же. Степан Кольчугин. В 2 кн. М.: Гослитиздат, 1960.
(обратно)114
См.: Фельдман Д. М. До и после ареста. Судьба рукописи Василия Гроссмана // Литературная Россия. 1988, 11 нояб.
(обратно)115
См.: Фельдман Д. М. До и после ареста. Судьба рукописи Василия Гроссмана // Литературная Россия. 1988, 11 нояб.
(обратно)116
Некрасов В. П. Сталинград // Знамя. 1946. № 8–9. С. 3–83; № 10. С. 38–146; Некрасов В. П. В окопах Сталинграда. [В 2-х ч.] // Роман-газета. 1947. № 9–10.
(обратно)117
См: Garrard C., Garrard J. The bones of Berdichev. The life and fate of Vasily Grossman. N.-Y.: The Free Press, 1996. P. 259.
(обратно)118
РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 18. Ед. хр. 50.
(обратно)119
Чуковский К. И. Дневник (1930–1969). М.: Современный писатель, 1997. С. 296.
(обратно)120
Цит. по: Фельдман Д. М. Указ. соч.
(обратно)121
Цит. по: Фельдман Д. М. Указ. соч.
(обратно)122
Здесь и далее цит. по: Г. Бильштейн. Литературная контрабанда из СССР.
(обратно)123
См.: РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 1–4.
(обратно)124
Ямпольский Б. С. Последняя встреча с Василием Гроссманом // Континент. 1976. № 8. С. 133–155.
(обратно)125
Цит. по: Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. М.: Симпозиум, 2010. С. 40.
(обратно)126
См., напр.: Письма редакций газет «Красная звезда» и «На боевом посту», болгарского издательства «Народна култура» и берлинского издательства Диетца В. С. Гроссману о его романе «Жизнь и судьба» // РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 2. Ед. хр. 15.
(обратно)127
См. напр.: Бар-Селла З. Литературный котлован: Проект «Писатель Шолохов». М.: РГГУ, 2005. С. 247.
(обратно)128
См.: Из секретных архивов. Жизнь и судьба. Как пытались уничтожить рукопись романа, а заодно и самого Василия Гроссмана // Труд. 1992, 3 окт.
(обратно)129
См.: Записки КГБ при СМ СССР о писателе И. С. Гроссмане // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 250. См. также: Огрызко В. В. Будет добиваться правды: Василий Гроссман. Кто и почему запрещал роман «Жизнь и судьба» // Литературная Россия. 2014, № 35–36.
(обратно)130
См.: Из секретных архивов. Жизнь и судьба. Как пытались уничтожить рукопись романа, а заодно и самого Василия Гроссмана // Труд. 1992, 3 окт.
(обратно)131
См.: Из секретных архивов. Жизнь и судьба. Как пытались уничтожить рукопись романа, а заодно и самого Василия Гроссмана // Труд. 1992, 3 окт.
(обратно)132
См.: Из секретных архивов. Жизнь и судьба. Как пытались уничтожить рукопись романа, а заодно и самого Василия Гроссмана // Труд. 1992, 3 окт.
(обратно)133
Ямпольский Б. С. Последняя встреча с Василием Гроссманом // Континент. 1976. № 8. С. 137.
(обратно)134
См.: Закон СССР от 25.12.1958 об утверждении основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик // Ведомости Верховного Совета СССР. 195. № 1. Ст. 6.
(обратно)135
См.: Из секретных архивов. Жизнь и судьба.
(обратно)136
См.: Из секретных архивов. Жизнь и судьба.
(обратно)137
Гроссман В. С. Старый учитель. Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1962.
(обратно)138
См.: Записки КГБ при СМ СССР о писателе И. С. Гроссмане. Л. 15–19.
(обратно)139
Фельдман Д. М. Терминология власти. Советские политические термины в историко-литературном контексте. М.: Форум; Инфра-М, 2015. С. 432–445. См. также: Одесский М., Фельдман Д. Идеологема «патриот» в русской, советской и постсоветской культуре // Одесский М., Фельдман Д. Поэтика власти. Тираноборчество. Революция. Террор. М.: РОССПЭН, 2012. С. 240–260.
(обратно)140
Здесь и далее цит. по: Записки КГБ при СМ СССР о писателе И. С. Гроссмане.
(обратно)141
См. также: Огрызко В. В. Будет добиваться правды.
(обратно)142
Далее цит. по: Фельдман Д. М. До и после ареста. Судьба рукописи Василия Гроссмана // Литературная Россия. 1988, 11 нояб.
(обратно)143
Здесь и далее цит. по: Роскина Н. А. Четыре главы. Из литературных воспоминаний / Н. А. Роскина. Paris: YMCA-PRESS, 1980. С. 101–129.
(обратно)144
См. подробнее: Громова Н. А. Распад. Судьба советского критика: 40-50-е годы. М.: Эллис Лак, 2009. С. 17–41.
(обратно)145
См.: Из секретных архивов. Жизнь и судьба. Как пытались уничтожить рукопись романа, а заодно и самого Василия Гроссмана // Труд. 1992, 3 окт.
(обратно)146
См.: Из секретных архивов. Жизнь и судьба. Как пытались уничтожить рукопись романа, а заодно и самого Василия Гроссмана // Труд. 1992, 3 окт.
(обратно)147
См.: Из секретных архивов. Жизнь и судьба. Как пытались уничтожить рукопись романа, а заодно и самого Василия Гроссмана // Труд. 1992, 3 окт.
(обратно)148
Свирский Г. Ц. На лобном месте: литература нравственного сопротивления (1946–1976 гг.) / Предисл. Е. Г. Эткинда. London: Overseas publishers, 1979.
(обратно)149
Эткинд Е. Г. Двадцать лет спустя / Е. Г. Эткинд // Время и мы. 1979. № 45. С. 5–12.
(обратно)150
Здесь и далее цит. по: Маркиш Ш. П. Пример Василия Гроссмана // Гроссман В. С. На еврейские темы. В 2-х тт. Т. 2. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1985. С. 341–490.
(обратно)151
См.: Закс Б. Г. Немного о Гроссмане // Континент. 1980. № 26. С. 352–364.
(обратно)152
Бианки Н. П. К. Симонов, А. Твардовский в «Новом мире». М.: Виоланта, 1999.
(обратно)153
Твардовский А. Т. Рабочие тетради 60-х годов / публикация В. А. Твардовской, О. А. Твардовской; примечания В. А. Твардовской // Знамя. 2002. № 9. С. 171–199.
(обратно)154
Чуковский К. И. Дневник (1930–1969). М.: Современный писатель, 1997. С. 364.
(обратно)155
См.: Гроссман В. С. Из писем В. Гроссмана к жене / Сост., предисловие и примечания Р. Авакяна // Глазами друзей. Сборник художественных очерков русских советских писателей об Армении // Ереван: Айастан, 1967. С. 351–362.
(обратно)156
Кочар Р. К. Дети большого дома. В 2-х кн. / Пер. с арм. В. С. Гроссмана и А. А. Таронян. Ереван: Армгосиздат, 1962.
(обратно)157
Здесь и далее цит. по: Кочар М. Р. Гроссман восхищался Кечарисом, а Бродский рвался за границу // URL: (дата последнего обращения: 01.09.2016).
(обратно)158
См.: Кочар Р. К. Дети большого дома / Пер. с арм. А. А. Тадеосян. Ереван: Айпетрат, 1954.
(обратно)159
См.: Кочар Р. К. Дети большого дома / Пер. с арм. А. А. Тадеосян. Ереван: Айпетрат, 1954.
(обратно)160
См.: Он же. То же. М.: Советский писатель, 1955.
(обратно)161
См.: Он же. Дети большого дома / Пер. с арм. А. А. Тадеосян. М.: Воениздат, 1956.
(обратно)162
См. подробнее: Bit-Yunan Y. Vasily Grossman and Hrachya Kochar // Grossman V. An Armenian Sketchbook / With an introduction and appendices by R. Chandler and Y. Bit-Yunan. London: Maclehouse Press Quercus, 2013. P. 197–208.
(обратно)163
См., напр.: Демирчян Д. К. Вардананк: исторический роман в 2-х кн. / Пер. с арм. А. А. Тадеосян. М.: Известия, 1961; Даштенц Х. Ходедан: роман / Авториз. пер. с арм. А. А. Тадеосян. Ереван: Айпетрат, 1961; Айвазян С. Б. Протяни руку, жизнь: роман / Пер. с арм. А. А. Тадеосян. Ереван: Айпетрат, 1963; Тапалцян Х. К. Айренашэн: роман / Авториз. пер. с арм. А. А. Тадеосян. М.: Советский писатель, 1966; Тарунц М. Был город, и в городе том… Рассказы / Авториз. пер. с арм. А. А. Тадеосян. М.: Советский писатель, 1967; Зорьян С. И. Семья Амирянов: роман / Пер. с арм. А. А. Тадеосян. М.: Советский писатель, 1967.
(обратно)164
Пушкин А. С. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года // Пушкин А. С. ПСС в 17 тт. Т. 8(1). М.: Воскресенье, 1995. С. 443–490.
(обратно)165
См.: Гроссман В. С. Добро вам // Литературная Армения. 1965. № 6. С. 32–54; № 7. С. 27–52.
(обратно)166
Гроссман В. С. Добро вам! // Литературная Армения. 1965. № 7. С. 51.
(обратно)167
Гроссман В. С. Добро вам! Рассказы / Предисл. Н. С. Атарова. М.: Совет-ский писатель, 1967. С. 270.
(обратно)168
Гроссман В. С. Добро вам! Из путевых заметок / Сост., предисловие и примечания Р. Авакяна // Глазами друзей. Сборник художественных очерков русских советских писателей об Армении. Ереван.: Айастан, 1967. С. 349.
(обратно)169
Гончар-Ханджян Н. А. К истории публикации «Добро вам» и к истории журнала «Литературная Армения» // Литературная Армения. 1989. № 2. С. 76–87.
(обратно)170
См.: Твардовский А. Т. Паустовскому К. Г. 26 ноября 1958 г. // Твардовский А. Т. Собр. соч. М.: Художественная литература, 1983. Т. 6. С. 93–94.
(обратно)171
См.: Паустовский К. Г. Редакционной коллегии журнала «Новый мир», А. Т. Твардовскому, А. Г. Дементьеву. 7 дек. 1958 г. Ялта // Паустовский К. Г. Собр. соч. М.: Художественная литература, 1986. Т. 9. С. 351–353.
(обратно)172
См: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 36-43.
(обратно)173
См.: Правление Союза писателей СССР и РСФСР, Правление Московской организации СП РСФСР с прискорбием извещают… // Известия. 1964, 16 сен.
(обратно)174
РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 44.
(обратно)175
РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 45–46.
(обратно)176
См.: В. С. Гроссман //Литературная газета. 1964, 17 сен.
(обратно)177
См.: В. С. Гроссман // Советская культура. 1964, 17 сен.
(обратно)178
РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 36.
(обратно)179
Здесь и далее цит. по: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 37–43.
(обратно)180
РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 12.
(обратно)181
См.: Литературное наследие В. С. Гроссмана // Литературная газета. 1965, 8 апр.
(обратно)182
Гроссман В. С. Все течет… // Грани. 1970. № 78. С. 3–33; Гроссман В. С. Тихая Машенька: Главы из книги «Все течет…» // Посев. 1970. № 11. С. 51–56.
(обратно)183
Гроссман В. С. Все течет… Frankfurt: Посев, 1970.
(обратно)184
Из секретных архивов. Жизнь и судьба. Как пытались уничтожить рукопись романа, а заодно и самого Василия Гроссмана // Труд. 1992, 3 окт.
(обратно)185
См.: Гроссман В. С. Обвал. Птенцы: рассказы // Москва. 1966. № 5. С. 68–78; Гроссман В. С. Тиргартен: рассказ // Наш современник. 1966. № 7. С. 54–70.
(обратно)186
См.: Гроссман В. С. Из записных книжек военных лет. 1941–1942. // Литературное наследство. Т. 78: Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Кн. 2. М.: АН СССР. С. 158–179.
(обратно)187
См.: Гроссман В. С. Из записных книжек военных лет // Вопросы литературы. 1968. № 5. С. 136–170.
(обратно)188
См.: Гроссман В. С. Добро вам! Рассказы. М.: Советский писатель, 1967.
(обратно)189
См.: Гроссман В. С. Собака: рассказ // Литературная Россия. 1966. 11 мар.
(обратно)190
См.: Гроссман В. С. В Кисловодске: рассказ // Литературная газета. 1967. 23 авг.
(обратно)191
См.: Гроссман В. С. Битва на Волге // Известия. 1966. 16 нояб.
(обратно)192
См.: Гроссман В. С. Степан Кольчугин: роман в 2-х кн. М.: Художественная литература, 1966.
(обратно)193
См.: Гроссман В. С. Жизнь. М.: Детиздат, 1972.
(обратно)194
См.: Гроссман В. С. За правое дело. М.: Советский писатель, 1964.
(обратно)195
См.: Гроссман В. С. Осенняя буря. М.: Советская Россия, 1965.
(обратно)196
См.: Гроссман В. С. Народ на войне. Из записных книжек В. Гроссмана / Предисл. Б. Галина // Литературная Россия. 1965, 7 мая.
(обратно)197
См.: Федорченко С. З. Народ на войне. Фронтовые записи. Киев: Издательство подотдела Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского земского союза, 1917.
(обратно)198
См.: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг. М.: РОССПЭН, 2004. С. 253–478.
(обратно)199
Верховный Совет СССР. Указ от 8 мая 1945 г. № 26 «Об объявлении 9 мая Праздником Победы» // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938–1975. М.: Известия, 1975. Т. 3. С. 55.
(обратно)200
Защищая социалистическое отечество // Вопросы литературы. 1968. № 5. С. 102.
(обратно)201
См.: Полевой Б. Первое и последнее // Там же. С. 122–135; Воронько П. Из партизанского дневника // Там же. С. 171–180.
(обратно)202
См., напр.: Кремлев И. Заметки о журнале «Москва» // Литературная газета. 1957, 11 июля.
(обратно)203
См, напр.: Ткаченко А. Переделкинские прогулки. М., 2002. См. также: Кондратович А. Новомирский дневник 1967–1970. М., 1991.
(обратно)204
См.: Гроссман В. С. Лось // Москва. 1963. № 1. С. 115–120.
(обратно)205
См.: Он же. Молодая и старая: рассказ. Две миниатюры: Из окна автобуса. За городом // Москва. 1964. № 9. С. 97–106.
(обратно)206
Здесь и далее цит. по: Атаров Н. Предисловие // Гроссман В. С. Добро вам! Рассказы. М.: Советский писатель, 1967. С. 3–17.
(обратно)207
См.: <Атаров Н. С.> Василий Гроссман Добро вам! Рассказы. М.: Советский писатель, 1967. С. 2.
(обратно)208
См.: <Атаров Н. С.> Василий Гроссман Добро вам! Рассказы. М.: Советский писатель, 1967. С. 3–17.
(обратно)209
Сообщено А. Г. Бочаровым.
(обратно)210
Garrard C., Garrard J. The bones of Berdichev. The life and fate of Vasily Grossman. N.-Y.: The Free Press, 1996. P. 294–295.
(обратно)211
Garrard C., Garrard J. The bones of Berdichev. The life and fate of Vasily Grossman. N.-Y.: The Free Press, 1996. P. 294–295.
(обратно)212
Здесь и далее цит. по: Канторович В. Я. Поэзия и философия одного очерка // Дружба народов. 1966. № 11. С. 280–281.
(обратно)213
Здесь и далее цит. по: Миль Л. Человек среди людей // Знамя. 1968. № 2. 244–246.
(обратно)214
Здесь и далее цит. по: Гитович И. Е. «А человек пусть длится вечно» // Литературная Россия. 1968, 8 мар.
(обратно)215
Здесь и далее цит. по: Росляков В. П. Воздух истории. О сборнике рассказов Василия Гроссмана «Добро вам» // Литературная газета. 1968, 20 мар.
(обратно)216
См.: Бит-Юнан Ю., Фельдман Д. Интрига и судьба Василия Гроссмана // Вопросы литературы. 2010. № 6. С. 153–183.
(обратно)217
См.: Сарнов Б. Как это было // Вопросы литературы. 2012. № 6. С. 9–39.
(обратно)218
См.: Бит-Юнан Ю., Фельдман Д. К истории публикации романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба», или «Как это было» у Б. Сарнова // Toronto Slavic Quarterly. 2013. № 45. С. 175–203.
(обратно)219
См., напр.: Сарнов Б. М. Сталин и писатели. В 4-х кн. М.: Эксмо, 2008-2011.
(обратно)
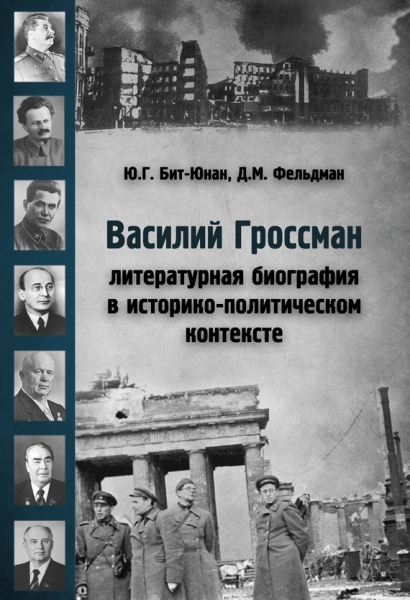

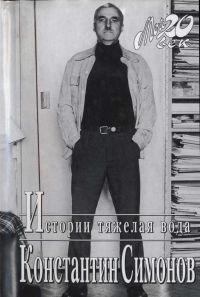

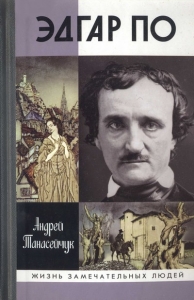

Комментарии к книге «Василий Гроссман. Литературная биография в историко-политическом контексте», Юрий Геваргисович Бит-Юнан
Всего 0 комментариев