Джованни Казанова История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 5
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Глава I
Я поселяюсь в доме начальника сбиров. Я провожу там приятную ночь и полностью восстанавливаю свои силы и здоровье. Я иду на мессу; неудобная встреча. Сильное средство, к которому я вынужден прибегнуть, чтобы заиметь шесть цехинов. Я вне опасности. Мое прибытие в Мюнхен. Эпизод с Бальби. Я отправляюсь в Париж. Мое прибытие в этот город, убийство Людовика XV.
Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности. Я увидел дворец семьи Гримани, старейшина которой, бывший тогда Государственным Инквизитором, должен был там сейчас находиться, и мне не следовало ему показываться. Я спросил у пастуха, кому принадлежит красный дом, который виден в некотором отдалении, и мое удивление было велико, когда я узнал, что это дом человека, называемого Капитаном провинции, который был начальником сбиров. Я попрощался с крестьянином и машинально спустился с холма. Непостижимо, но я направился к этому ужасному дому, от которого, натурально и по всей логике, должен был бы бежать. Я пошел прямо к нему, и на самом деле я осознаю, что направлялся туда не по своей воле. Если правда, что мы все подчиняемся воздействию благой невидимой субстанции, которая направляет нас к нашему счастью, как случалось, хотя и редко, с Сократом, я должен полагать, что то, что заставило меня идти туда, и была эта субстанция. Должен сказать, что за всю свою жизнь я не совершал более дерзкого поступка.
Я с вполне свободным видом, без колебаний, вхожу в этот дом. Я вижу во дворе ребенка, играющего с юлой, и спрашиваю, где его отец; вместо того, чтобы мне ответить, он зовет свою мать. Через мгновение я вижу появляющуюся очень красивую беременную женщину, которая очень вежливо спрашивает, что мне нужно от ее мужа, которого сейчас нет.
– Мне очень жаль, мадам, что моего кума сейчас нет, хотя я и рад случаю познакомиться с его прекрасной половиной.
– Вашего кума? Значит, я говорю с Его Превосходительством Виттури? Мне сказали, что вы были столь добры, что предложили ему стать крестным отцом ребенку, которого я ношу. Счастлива с вами познакомиться, и мой муж будет в отчаянии, что вы не застали его дома.
– Я надеюсь, что он вскоре придет, потому что я хотел бы попросить постель на эту ночь. Я не смею никуда явиться в том состоянии, в каком вы меня видите.
– У вас будет, тем не менее, постель и сносный ужин, и мой муж придет вас поблагодарить по своем возвращении за оказанную нам честь. Час назад он уехал верхом вместе со всеми своими людьми, и я ожидаю его возвращения только через три-четыре дня.
– И почему он уехал так надолго?
– Вы разве не знаете, что двое заключенных бежали из Пьомби? Один патриций, а другой – частное лицо по имени Казанова. Пришло письмо от Мессера Гранде их искать; если он их найдет, их отведут в Венецию, а если нет, – он вернется домой, но их будут искать по меньшей мере дня три.
– Мне очень жаль, дорогая кума, но я не хотел бы вас беспокоить, тем более, что мне надо было бы выспаться.
– Это сейчас же будет исполнено, и моя мать вас обслужит. Что с вашими коленями?
– Я упал во время охоты в горах. Это глубокие ссадины, и я потерял много крови.
– Бедный сеньор! Но моя мать вас вылечит.
Она позвала мать и, сказав ей все, что нужно, ушла. Эта прелестная жена стражника совсем ничего не соображала, потому что ничто не выглядело столь неправдоподобно, как история, которую я ей поведал. Верхом – в белых чулках! На охоту – в одежде из тафты! Без пальто, без слуги! Ее муж, когда вернется, будет очень над ней смеяться. Ее мать позаботилась обо мне со всей вежливостью, какую я мог ждать от людей самого высокого воспитания. Она приняла по отношению ко мне материнский тон и, перевязывая мои раны, называла меня все время сыном. Если бы моя душа была спокойна, я бы выдал ей бесспорные знаки своей вежливости и своей признательности, но место, где я находился, и опасная роль, которую я играл, слишком серьезно меня занимали.
Осмотрев мои колени и мои бедра, она сказала, что мне придется немного потерпеть, но что завтра я буду здоров; мне нужно только прикладывать к ранам на всю ночь влажные салфетки и выспаться, не тревожа их. Я хорошо поужинал и затем предоставил ей возможность действовать; я задремал, пока она надо мной колдовала, потому что я не мог никогда вспомнить, как она от меня ушла; она должна была раздеть меня как ребенка, я не говорил и ничего не соображал. Я ел, утоляя голод, который должен был испытывать, и заснул, уступая непреодолимой потребности. Я ни о чем не мог думать. Был час ночи, когда я кончил есть, и утром, когда я проснулся и услышал, что звонит тринадцать часов, я решил, что это волшебство, потому что мне показалось, что я только что заснул. Мне понадобилось более пяти минут, чтобы восстановить свои ощущения, чтобы призвать свою душу к реальности, чтобы увериться, что ситуация мне не снится, словом, чтобы перейти от сна к действительному пробуждению; но как только я очнулся, я быстро снял свои повязки и удивился, увидев, что они все подсохли. Я оделся менее чем за четыре минуты, уложил свои волосы в кошелек и вышел из своей комнаты, которая была открыта; я спустился по лестнице, пересек двор и покинул этот дом, не обращая внимания на то, что там находились двое людей, которые не могли быть никем иным как сбирами. Я удалился от этого места, где нашел вежливость, добрый стол, лечение и полное восстановление моих сил, вместе со страхом, который заставил меня дрожать, потому что я видел, что подвергся очень неосмотрительно самому очевидному из всех рисков. Я удивлялся себе, что вошел в этот дом, и еще более, что смог из него выйти, и мне показалось невозможным, что за мной никто не пошел. Я шел пять часов подряд лесами и горами, встретив только нескольких крестьян и ни разу не оглянувшись.
Еще не было и полудня, когда, идя своей дорогой, я услышал звон колокола. Посмотрев вниз с возвышенности, на которой я находился, я увидел маленькую церковь, откуда доносился колокольный звон, и, увидев входящий в нее народ, я понял, что это месса; мне пришло в голову пойти ее послушать. Когда человек находится в беде, все, что приходит ему на ум, кажется внушенным свыше. Это был праздник Поминовения Всех Усопших[1]. Я спускаюсь, вхожу в церковь и вижу г-на Марк-Антонио Гримани, племянника Государственного Инквизитора, с м-м Марией Пизани, его супругой. Я увидел, что они удивлены. Я сделал им реверанс и прослушал мессу. По выходе моем из церкви, месье вышел вслед за мной, а мадам осталась позади. Он подошел ко мне и сказал:
– Что вы здесь делаете? Где ваш компаньон?
– Я отдал ему семнадцать ливров, что у меня были, чтобы он шел спасаться другой дорогой, более легкой, в то время, как я пошел здесь, окраинами, что более трудно, и у меня нет ни су. Если Ваше Превосходительство будет настолько любезно, что окажет мне какую-то помощь, мне будет легче.
– Я не могу вам ничего дать, но вы встретите монахов-отшельников, которые не дадут вам умереть с голоду. Но расскажите мне, как вы смогли выбраться из Пьомби.
– Это очень интересно, но это долгая история, и отшельники могут в ожидании все съесть.
Сказав это, я отвесил ему реверанс. Несмотря на мою крайнюю нужду, этот отказ подать милостыню доставило мне удовольствие. Я нашел себя гораздо более джентльменом, чем этот месье. Я узнал в Париже, что когда его жена узнала про это дело, она высказала ему упреки. Нет сомнения, что сантименты более свойственны женщинам, чем мужчинам.
Я шел до захода солнца, и, усталый и голодный, остановился у одиноко стоящего дома, который приятно выглядел. Я попросил поговорить с хозяином, но служанка сказала, что он ушел на свадьбу, за реку, где проведет ночь; но что ей дано распоряжение оказывать добрый прием его друзьям. Соответственно, она предоставила мне добрый ужин и очень хорошую постель. Я заметил по нескольким адресам писем, что я нахожусь у г-на Ромбенчи, консула не помню какого государства. Я написал ему и оставил там запечатанное письмо. Выспавшись, я быстро оделся, пересек реку, пообещав расплатиться с перевозчиком по возвращении, и, после пяти часов ходьбы, я пообедал в монастыре у капуцинов. После обеда я шел до двадцати двух часов, придя в дом, хозяин которого был мой друг. Это был крестьянин, мой знакомый. Я захожу, спрашиваю хозяина, и мне указывают дверь комнаты, где он сидит, собираясь писать. Я иду его обнять, но при виде меня он вскакивает и говорит мне немедленно уйти, приводя нелепые и оскорбительные аргументы. Я описываю ему мой случай, мои затруднения и прошу у него шестьдесят цехинов под свою расписку, заверив, что г-н де Брагадин ему их вернет, но он отвечает, что не может мне помочь и, более того, подать стакан воды, потому что, увидев меня у себя, он дрожит от страха заслужить неудовольствие Трибунала. Это был мужчина шестидесяти лет, маклер по векселям, который был мне обязан. Его жестокий отказ произвел на меня совсем другое действие, чем от г-на Гримани. То ли от гнева, то ли от возмущения, или повинуясь расчету или природному порыву, я схватил его за колет, показывая свой эспонтон и грозя смертью, если он крикнет. Весь дрожа, он достал из кармана ключ и сказал мне, указывая на секретер, что там лежат деньги, и чтобы я взял, что хочу, но я сказал ему открыть самому. Он сделал это и открыл ящик, где лежало золото; я сказал ему отсчитать мне шесть цехинов.
– Вы просили у меня шестьдесят.
– Да, когда я хотел их от друга; но насильно я возьму лишь шесть и не оставлю тебе расписки. Тебе их вернут в Венеции, куда я напишу завтра, что ты меня вынудил сделать, существо трусливое и недостойное жить.
– Извините, умоляю, возьмите все.
– Нет. Я ухожу и советую тебе дать мне уйти спокойно, или, боюсь, как бы я не вернулся и не предал огню твой дом.
Я прошагал два часа и, видя, что наступает ночь, остановился в крестьянском доме, где, скверно поужинав, лег спать на соломе. Утром я купил старый редингот и поехал дальше верхом на осле, потом купил близ Фельтре пару сапог. Так я миновал местечко, называемое Ла Скала. Стража, стоявшая там, спросила у меня только имя. Я сел в телегу, запряженную парой лошадей, и рано утром прибыл в Борго ди Вальсугана, где нашел трактир, который назвал отцу Бальби. Если бы он не подошел ко мне сам, я бы его не узнал. Зеленый редингот и низко надвинутая сельская шляпа его совершенно преобразили. Он сказал, что фермер дал ему все это за мое пальто, и плюс еще цехин, и что он прибыл сюда рано утром и хорошо поел. Он закончил свой рассказ, добавив весьма благородно, что не ожидал меня здесь увидеть, потому что не думал, что я назвал ему это место с намерением сдержать свое слово. Я провел в этом трактире весь следующий день, не сходя с кровати, за написанием более чем двадцати писем в Венецию, из которых десять-двенадцать были официальными объяснениями, которые я давал по поводу того, что вынужден был проделать, чтобы добыть шесть цехинов. Монах писал нелепые письма отцу Барбариго, своему настоятелю, патрициям, своим братьям, и галантные письма служанкам – виновницам своего падения. Я спорол нашивки со своей одежды и продал свою шляпу, потому что ее пышность делала меня слишком заметным.
На следующий день я заночевал в Пержине, где юный граф д’Альберг пришел со мной повидаться, узнав, уж не знаю каким образом, что мы те люди, что спаслись от государства Венеции. Я проехал в Трент и в Больцано, где, нуждаясь в деньгах, чтобы одеться и закупить рубашек, обратился к старому банкиру по имени Менч, он предоставил мне надежного человека, которого я отправил в Венецию с письмом для г-на де Брагадин, который открыл мне через него кредит. Негоциант Менч поселил меня в гостинице, где я провел в постели все шесть дней, что понадобились его человеку, чтобы съездить в Венецию и вернуться. Он вернулся с векселем на сто цехинов, акцептованным на того же Менча. С этими деньгами я оделся; но прежде рассчитался по долгам с моим товарищем, который выдавал мне все эти дни всё новые основания считать его общество невыносимым. Он говорил мне, что без него я никогда бы не спасся, и в силу своих обязательств я должен ему половину всей моей возможной наличности. Он был влюблен во всех служанок и, не имея ни красивого лица, ни фигуры[2], чтобы сделать их милыми и покорными, получал от них на свои заигрывания лишь добрые оплеухи, которые принимал с примерным терпением. Это было мое единственное развлечение. Мы сели в почтовую карету и на третий день прибыли в Мюнхен. Я поселился в «Олене», где узнал, что два молодых брата из семьи Контарини находятся здесь уже некоторое время в сопровождении графа Помпеи из Вероны; но, не будучи с ними знакомым и не имея больше необходимости встречаться с отшельниками, чтобы выжить, я не озаботился пойти сделать им мои реверансы. Я сделал это для графини де Коронини, которую знал в Венеции по монастырю Сен-Жюстин, и которая была в большой милости при дворе.
Эта именитая дама, тогда в возрасте семидесяти лет, меня очень хорошо приняла и предложила поговорить с Выборщиком[3], чтобы обеспечить мне право убежища. На другой день, сделав, как обещала, она сказала мне, что суверен не имеет ко мне никаких претензий и что я могу чувствовать себя в безопасности в Мюнхене и по всей Баварии; однако это отнюдь не касается отца Бальби, который, в качестве монаха-сомаска и беглеца, может быть представлен сомасками Мюнхена, и что она не хочет иметь дела с монахами. Графиня, однако, посоветовала ему поскорее покинуть город и искать убежища в другом месте, с тем, чтобы избежать каких-либо дурных действий, которые могут последовать от монахов, его собратьев.
Чувствуя по совести и по чести себя обязанным заботиться об этом несчастном, я пошел к исповеднику Выборщика, чтобы попросить каких-то рекомендаций для монаха в некоторых городах Швабии. Этот исповедник, который был иезуит, принял меня весьма дурно. Он сказал, чтобы только от меня отделаться, что в Мюнхене обо мне весьма наслышаны. Я спросил у него спокойным тоном, высказывает ли он это мнение как хорошее или как дурное, и он мне не ответил. Он вышел от меня, и священник сказал мне, что он пошел засвидетельствовать чудо, о котором говорил весь Мюнхен.
– У императрицы, – сказал он, – вдовы Карла VII, чей труп находится еще в зале, выставленный на обозрение публики, по смерти до сих пор теплые ноги.
Он сказал, что я могу пойти посмотреть сам на это чудо. Весьма заинтересованный в том, чтобы, в конце концов, быть свидетелем чуда, и к тому же заинтересовавшись сам по себе, потому что у меня всегда были ледяные ноги, я пошел посмотреть на августейшую покойницу, у которой действительно ноги были теплые, но это было вследствие жарко натопленной печи, находящейся очень близко от мертвого тела Ее Величества. Танцовщик, находившийся там и хорошо мне знакомый, подошел ко мне и поздравил меня с благополучным освобождением, о котором говорил весь город. Этот танцовщик пригласил меня пообедать, на что я с удовольствием согласился; его звали Микеле да л’Агата, и его жена была та самая Гардела, с которой за шестнадцать лет до того я был знаком у старика Малипьеро, который угостил меня тогда ударами своей трости за то, что я шутил с Терезой. Ла Гардела. Она стала знаменитой танцовщицей и была весьма красива, была рада меня увидеть и услышать из моих уст всю историю моего побега. Она заинтересовалась монахом и дала мне рекомендательное письмо в Аугсбург к канонику Басси, болонцу, своему другу и декану собора Св. Морица. Она тут же написала письмо и заверила, передавая его, что мне нет нужды больше заботиться о монахе, потому что она уверена, что декан позаботится о том, чтобы уладить его дело в Венеции.
Обрадованный тем, что отделался от него столь почетным образом, я отправился в гостиницу, рассказал ему о случившемся, дал письмо и обещал, что не покину его, в случае, если декан не встретит его должным образом. Я отправил его на следующий день на рассвете, в хорошей коляске.
Он написал мне четыре дня спустя, что декан принял его как нельзя лучше, поселил у себя, одел аббатом, представил князю-епископу, из семьи Дармштат, который разрешил ему пребывание в городе. Декан, кроме того, предложил ему жить у себя, пока не будет получена из Рима его секуляризация от сана священника и разрешение вернуться в Венецию, потому что, поскольку он не будет больше монахом, с него снимаются обвинения со стороны Трибунала Государственных Инквизиторов. Отец Бальби оканчивал свое письмо просьбой прислать несколько цехинов ему на мелкие расходы, потому что он слишком горд, как он мне сказал, чтобы просить денег у декана, который не догадался сам их ему дать. Я ему не ответил.
Оставшись в одиночестве и в покое, я подумал восстановить свое здоровье, потому что усталость и страдания вызвали у меня нервические спазмы, которые могли стать весьма серьезными. Правильный режим вернул мне менее чем в три недели отличное здоровье. В эти дни из Дрездена прибыла м-м Ривьер с сыном и двумя дочерьми, старшую из которых намеревалась выдать замуж в Париже. Сын учился и был, по общему мнению, весьма развит, а старшая дочь, которую она собиралась выдать замуж за комедианта, радовала красотой и обнаруживала талант в танцах; она превосходно владела клавесином и блистала в обществе, являя собой все преимущества молодости. Все это семейство было радо меня видеть, и я был весьма счастлив, когда м-м Ривьер, предваряя мои пожелания, дала мне понять, что мое общество до Парижа будет ей приятно. Не было и речи о том, чтобы я оплатил свою часть расходов, и я должен был принять этот подарок. В моих планах было обосноваться в Париже, и я воспринял это как перст судьбы, указывающий мне, что счастье меня ждет в карьере авантюриста, для которой я направлялся в единственный город во вселенной, где слепая богиня распределяет свои дары среди тех, кто к ней прибегает. Я не ошибся, как читатель увидит в свое время и в своем месте, но милости Фортуны оказались бесполезны, я растерял все из-за своего безрассудного поведения. Тюрьма Пьомби за пятнадцать месяцев дала мне возможность понять болезни моего разума, но мне надо было бы побыть там еще подольше, чтобы проникнуться правилами, которые могли бы их излечить.
М-м Ривьер очень хотела, чтобы я ехал с ней, но она не могла откладывать свой отъезд, а я должен был ждать ответа из Венеции и денег, которые, впрочем, не могли сильно задержаться. Она сказала, что задержится на восемь дней в Страсбурге, я заверил ее, что присоединюсь там к ней, и она уехала из Мюнхена восемнадцатого декабря.
Я получил из Венеции вексель, которого ожидал, через два дня после ее отъезда, оплатил свои небольшие долги и направился в Аугсбург, не столько для того, чтобы повидаться с отцом Бальби, сколько чтобы познакомиться с любезным деканом Баси, который состоял при князе. Прибыв в Аугсбург, через семь часов после отъезда из Мюнхена, я пошел к декану. Декана не было, я нашел отца Бальби, одетого аббатом, причесанного, напудренного, что придавало его коже еще более темный оттенок. Этот человек, которому не было еще и сорока, был не только некрасив, но имел физиономию, в которой отражались низость, малодушие, наглость и глупая хитрость. Я увидел, что он хорошо устроен, хорошо обслуживается, я увидел у него книги, все, что необходимо для письма, я выдал ему мои поздравления, назвал его счастливым и сказал, что счастлив сам, предоставив ему все эти преимущества и выразив надежду, что вскоре увижу его секулярным священником. Далекий от того, чтобы поблагодарить меня, он сказал, что я избавился от него, и, узнав, что я направляюсь в Париж, заявил, что охотнее поехал бы со мной, потому что Аугсбург ему до смерти надоел.
– Что вы хотите делать в Париже?
– А что вы сами будете делать?
– Я извлеку пользу из своих талантов.
– А я из моих.
– Для этого я вам не нужен. Отправляйтесь. Персоны, которых я сопровождаю, возможно, откажутся от меня, если я поеду с вами.
– Вы мне обещали, что меня не покинете.
– Вы считаете, что вас покидают, если вам предоставляют все, что вам необходимо?
– Все необходимое? У меня нет ни су.
– Вам не нужны деньги. И если вы полагаете, что вам нужны деньги для удовольствий, обратитесь к вашим братьям.
– У них денег нет.
– К вашим друзьям.
– У меня нет друзей.
– Тем хуже; Значит, вы никогда ни с кем не дружили.
– Оставьте мне несколько цехинов.
– Я потратил их все без остатка.
– Подождите декана, он завтра появится. Поговорите с ним, убедите его, чтобы он одолжил мне денег, Скажите, что я ему их верну.
– Я не стану его ждать, потому что сейчас уезжаю, и я не настолько нагл, чтобы просить его дать вам денег.
После этого резкого диалога я его покинул; я направился на почту и уходил, весьма недовольный тем, что доставил столь большую удачу человеку, который этого не заслуживал. В конце марта я получил в Париже письмо от благородного и честного декана Баси, в котором тот дал мне отчет в том, что отец Бальби сбежал от него с одной из его служанок, прихватив с собой некоторую сумму денег, золотые часы и дюжину столовых приборов из серебра; он не знает, куда тот уехал.
Ближе к концу года я узнал, что он направился со служанкой декана в Куар, столицу Граубюндена, где попросил, чтобы его приняли в церковь кальвинистов, и был опознан законным мужем дамы, которая была с ним, но поскольку узнали, что он не имеет, на что жить, от него отстали. Поскольку у него не было денег, служанка, которую он обманул, его покинула, перед тем несколько раз побив. Отец Бальби, не зная теперь, ни куда идти, ни на что жить, решил направиться в Брессе, город, принадлежащий Республике, где явился правителю, назвал ему свое имя, рассказал о своем бегстве и своем раскаянии и попросил принять под свое покровительство, чтобы заслужить прощение. Покровительство подесты началось с того, что вернувшегося дурака поместили в тюрьму, затем написали в Трибунал, спрашивая, что с ним делать; В соответствии с полученными распоряжениями, его направили в цепях к Мессеру Гранде, тот передал его в Трибунал, который снова поместил его в Пьомби, где он уже не застал графа Асквина, которого отправили в Кватро, из уважения к его возрасту, тремя месяцами позже моего бегства. Я узнал пять-шесть лет спустя, что Трибунал, подержав отца Бальби в Пьомби два года, отправил его в его монастырь, где настоятель выслал его в исправительный монастырь близ Фельтре, построенный в горах; но отец Бальби остался там только на шесть месяцев. Он сбежал оттуда и направился в Рим пасть в ноги папы Реццонико, который отпустил ему его монастырские грехи, и он вернулся на родину в качестве священника, где жил весьма несчастливо, потому что никогда не мог себя вести достойно. Он умер в нищете в году.
Я направился в Страсбурге в гостиницу Духа к м-м Ривьер и ее очаровательному семейству; они встретили меня с выражениями искренней радости. Мы провели там несколько дней и отправились в Париж в добротной берлине, причем я счел своим долгом оплатить за себя тем, что поддерживал веселье всей компании. Прелести м-ль Ривьер похитили мою душу, но я вел себя сдержанно и не хотел проявить неуважение к ее матери и к тому, как мне надлежало вести себя в моей ситуации, чтобы исключить малейшие любовные поползновения. Хотя и слишком молодой для этого, я развлекался, играя роль отца и проявляя заботы о том, чтобы путешественники пользовались в дороге всеми возможными удобствами и хорошим ночлегом.
Мы прибыли в Париж утром 5 января 1757 года, в среду, и я остановился у моего друга Баллетти, который встретил меня с распростертыми объятиями, заверив, что, несмотря на то, что я не давал ему о себе никаких известий, он меня ждал, поскольку с моим бегством, необходимым последствием которого стало мое удаление из Венеции и даже мое изгнание, он не мог себе представить, чтобы я мог выбрать иное укрытие, кроме города, где я провел подряд два года, наслаждаясь всеми приятностями жизни. Во всем доме воцарилась радость, когда узнали о моем прибытии, и я обнял его мать и его отца, которые, на мой взгляд, остались такими же, какими я их оставил в 1752 году. Но тот, кто меня поразил, была м-ль Баллетти, сестра моего друга. Ей было пятнадцать лет и она стала очень красивой; мать воспитала ее, передав ей все, что может дать дочери нежная и умная мать, все, что касается таланта, грации, ума и знания жизни. Сняв комнату на той же улице, я пошел в Отель Бурбон, чтобы представиться г-ну аббату де Берни, который был начальником Департамента иностранных дел, имея все основания рассчитывать на него в своей карьере. Я прихожу туда, мне говорят, что он в Версале; стремясь его повидать, я направляюсь на Пон Рояль, беру коляску, называемую в народе «комнатный горшок», и прибываю туда в половине седьмого. Узнав, что он вернулся в Париж вместе с графом де Кантилана, послом Неаполя, мне ничего не остается, кроме как сделать то же. Я возвращаюсь в той же коляске; но едва подъехав к заставе, я вижу множество людей, бегающих в панике повсюду и слышу крики:
– Король убит, только что убили Его Величество.
Мой кучер, ошеломленный, собирается дальше следовать своим путем, но мою коляску останавливают, меня заставляют сойти и отводят в кордегардию, где я вижу за три-четыре минуты более двадцати задержанных, весьма удивленных и столь же виноватых, как и я. Не знаю, что и думать, и полагаю, что это если не наваждение, то сон. Мы сидим там и переглядываемся, не смея разговаривать; удивление владеет нами, каждый, хотя и не виновный, испытывает страх.
Но четыре или пять минут спустя входит офицер и, попросив у нас очень вежливо извинения, говорит, что мы можем идти.
– Король, – говорит он, – ранен, и его доставили в его апартаменты. Убийца, которого никто не знает, арестован. Везде ищут г-на де Мартиньер.
Поднявшись в мою коляску, очень обрадованный, что меня заметил, молодой человек, очень хорошо одетый, с лицом, заслуживающим доверия, просит меня взять его с собой, заверяя, что оплатит половину; но вопреки законам вежливости я отказываю ему в этом удовольствии. Бывают моменты, когда не следует быть вежливым.
За те три часа, что я добирался до Парижа, потому что «комнатные горшки» движутся очень медленно, мимо меня проследовали галопом по меньшей мере две сотни курьеров. Каждую минуту я видел нового, и каждый курьер кричал и объявлял во всеуслышание о новости, которую он несет. Первые говорили то же, что я уже слышал; четверть часа спустя – что королю пустили кровь, затем – что рана не смертельная, и час спустя – что рана настолько легкая, что Его Величество сможет, если захочет, направиться в Трианон.
С этой интересной новостью я вошел к Сильвии и нашел все семейство за столом, потому что еще не было и одиннадцати. Я вхожу и вижу всех пораженными.
– Я еду из Версаля, – говорю я.
– Король убит.
– Отнюдь нет, он сможет, если захочет, отправиться в Трианон. Г-н де ла Мартиньер пустил ему кровь, убийца арестован и что его сожгут, после того, как будут пытать и четвертуют заживо.
На этой новости, которую слуги Сильвии сразу распространили дальше, все соседи пришли, чтобы меня послушать, и благодаря мне весь квартал хорошо спал этой ночью. В это время французы воображали себе, что любят своего короля, и всячески это выражали; сегодня пришлось узнать их немного лучше. Но в глубине души французы всегда одинаковы. Эта нация создана, чтобы пребывать всегда в состоянии насилия; ничто не истинно относительно нее, все только кажущееся. Это корабль, которому нужно только движение, который жаждет только ветра, и любой дующий ветер хорош. Не таковы ли и войска Парижа?
Глава II
Министр иностранных дел. Г-н де Булонь, генеральный контролер. Г-н герцог де Шуазель. Аббат де Лавиль. Г-н Парис дю Верне. Учреждение лотереи. Мой брат прибывает в Париж из Дрездена, его принимают в Академию живописи.
Итак, я снова в великом Париже, и, не имея возможности рассчитывать на мою родину, должен сам вершить свою судьбу. Я здесь провел два года, но, не имея в то время иной заботы, кроме как прожигать жизнь, я ничему не научился. В этот второй раз мне следовало ориентироваться на людей, близ которых обитала слепая богиня. Я видел, что для того, чтобы в чем-то преуспеть, мне следовало пустить в ход все мои способности, физические и моральные, водить знакомство с великими и влиятельными, владеть собой и носить цвета всех тех, кому, как я увижу, мне следует понравиться. Чтобы следовать этим максимам, мне надо было остерегаться всего того, что в Париже называется дурным обществом, и расстаться со всеми своими прежними привычками и разного рода претензиями, которые могли бы доставить мне врагов и легко создать репутацию человека, мало пригодного для солидных ролей. В соответствии с такими размышлениями я предписал себе систему скромности, как в поведении, так и в разговорах, которая придала бы мне вид человека, более пригодного для серьезных дел, чем это казалось даже мне самому. Что касалось необходимого содержания, я мог рассчитывать на сотню экю в месяц, которые г-н де Брагадин никогда не забывал мне прислать. Этого было достаточно. Мне следовало только заботиться о том, чтобы хорошо одеться и прилично поселиться; но для начала мне нужна была немалая сумма, потому что у меня не было ни платья, ни рубашек.
Итак, я вернулся на другой день в Бурбонский дворец. Будучи уверен, что швейцар мне скажет, что министр занят, я явился лишь с маленьким письмом, которое ему и оставил. В нем я представлялся ему и говорил, где я остановился. Не было нужды говорить больше. В ожидании я счел для себя необходимым давать всюду, где я появлялся, объяснения по поводу моего побега; это была моя повинность, потому что это длилось по два часа, но я счел это необходимым, потому что должен был держаться любезно по отношению к тем, кто испытывал любопытство, поскольку это было неотделимо от того живого интереса, который они проявляли по отношению к моей персоне.
На ужине у Сильвии я более спокойно, чем накануне, воспринял все знаки дружбы, которых мог только пожелать, и достоинства ее дочери меня поразили. В свои пятнадцать лет она обладала всеми превосходными качествами, которые меня очаровали. Я высказал по этому поводу комплименты ее матери, воспитавшей ее, и не подумал защититься от ее очарования; я еще не в достаточной мере пришел в себя, чтобы вообразить, что оно может объявить мне войну.
Я поднялся спозаранку, беспокоясь о том, что скажет министр в ответ на мою записку. Ответ пришел в восемь часов. Он написал мне, что в два часа я найду его свободным. Он встретил меня, как я и ожидал. Он высказал мне не только удовольствие видеть меня победителем, но и радость, которую испытывает его душа, узнав, что он может мне быть полезен. Он сказал, что как только он получил письмо от М. М. о том, что я спасен, он почувствовал уверенность, что я обязательно буду в Париже, и что это ему я нанесу свой первый визит. Он показал мне письмо, в котором она извещает его о моем задержании, и последнее, где она рассказывает ему историю моего побега, как ей об этом сообщили. Она говорила ему, что с тех пор, как она более не может надеяться увидеть ни одного, ни другого из тех двух мужчин, единственных, с кем она могла бы считаться, жизнь стала ей в тягость. Она жаловалась, что не может найти в себе сил для молитвы. Она говорила, что К. К. часто ходит ее навещать, и что та несчастлива с человеком, за которого вышла замуж.
Пробежав наскоро то, что М. М. написала ему о моем побеге, и найдя все рассказанное неправдой, я предложил ему изложить письменно всю действительную историю. Он поймал меня на слове и пообещал отослать ее нашей несчастной подруге, подарив мне, в самой изящной манере, сверток с сотней луидоров. Он обещал мне подумать обо мне и дать мне знать, когда ему нужно будет со мной переговорить. С этими деньгами я почувствовал себя экипированным; восемь дней спустя я отправил ему историю моего побега, которую разрешил скопировать и найти ей то применение, которое он сочтет для меня полезным. Три недели спустя он дал мне знать, что говорил обо мне с г-ном Эриццо, послом Венеции, который, как он сказал, не собирается причинить мне никаких неприятностей; однако, чтобы не компрометировать себя перед Государственными Инквизиторами, не будет со мной встречаться. Мне до него не было никакого дела. Он сказал мне также, что дал мою историю м-м Маркизе[4], которая меня знает, и с которой он попытается обо мне поговорить, и под конец сказал, что когда я пойду представляться г-ну де Шуазель, мне будет оказан хороший прием, как им, так и генеральным контролером г-ном де Булонь, с которым, имея голову на плечах, я смогу провернуть хороших дел.
– Вам укажут путь, – сказал он, – и имеющий уши да слышит. Попытайтесь сделать что-то полезное с королевскими доходами, избегая сложностей и химер, и если то, что вы напишете, будет не слишком длинным, я выскажу вам свое мнение.
Я ушел от него, полный признательности, но весьма озадаченный поиском возможностей для роста королевских доходов. Не имея никакого представления о финансах, я мучительно напрягал свои мозги, но все идеи, приходившие мне на ум, касались только новых налогов, они все казались мне неприятными или абсурдными, и я их отвергал.
Мой первый визит был к г-ну де Шуазель, как только я узнал, что он в Париже. Он принял меня за своим туалетом, занятый письмом, пока его причесывали. Он оказал мне вежливый прием, прерывая процесс письма маленькими интервалами, задавая мне вопросы, на которые я отвечал, но с малой пользой, потому что, вместо того, чтобы меня слушать, он писал. Время от времени он окидывал меня взглядом, но при этом все равно меня не слыша. Несмотря на это, герцог был человек весьма умный.
Окончив свое письмо, он сказал мне по-итальянски, что г-н аббат де Бернис рассказал ему краткую историю моего побега.
– Расскажите мне, как вам удалось это проделать.
– Эта история, монсеньор, займет два часа, а Ваша Светлость, мне кажется, спешит.
– Расскажите коротко.
– В самом кратком изложении она и требует двух часов.
– В другой раз вы мне расскажете детали.
– Без деталей эта история не интересна.
– Да, разумеется. Но можно сократить, по мере возможности.
– Очень хорошо. Скажу вам, Ваша Светлость, что Государственные Инквизиторы заключили меня в Пьомби. По истечении пятнадцати месяцев и пяти дней я пробил крышу, проник через слуховое окно в канцелярию, в которой пробил дверь, спустился на площадь, сел в гондолу, которая доставила меня на Большую Землю, откуда я прибыл в Мюнхен. Оттуда я прибыл в Париж, где и имею честь засвидетельствовать вам свое почтение.
– Но… что такое Пьомби?
– Это займет еще четверть часа.
– Как вы смогли пробить крышу?
– Это займет полчаса.
– Зачем вы забрались так высоко?
– Еще полчаса.
– Думаю, вы правы. Красота в деталях. Я должен ехать в Версаль. Вы доставите мне удовольствие, как-нибудь появившись у меня. Подумайте между тем, чем я могу быть вам полезен.
Выйдя от него, я направился к г-ну де Булонь. Я увидел человека, совершенно отличного от герцога, по виду, по одежде, по манерам. Он прежде всего поздравил меня по поводу того, что сказал обо мне аббат де Бернис, и о моих способностях в области финансов. Я на это едва не рассмеялся. При том, что это был человек восьмидесяти лет, с печатью гения на лице.
– Сообщите мне, – сказал он, – либо лично, либо письмом ваши взгляды; вы найдете меня благосклонным и готовым рассмотреть ваши идеи. Вот, например, г-н Парис дю Верней, который нуждается в двадцати миллионах на свою военную школу. Дело в том, чтобы отыскать их, не обременяя государство и не разоряя королевскую казну.
– Только господь, месье, обладает созидательной способностью.
– Я не господь, – сказал мне г-н дю Верней, – однако я кое-что создал, но сейчас все переменилось.
– Все, – ответил я ему, – стало сложнее, я это знаю, но, несмотря на это, я придумал операцию, которая доставит королю доход в сотню миллионов.
– Во сколько обойдется королю это предприятие?
– Ни во что, кроме затрат по сбору средств.
– Это нация должна обеспечить этот доход?
– Да, но добровольно.
– Я понимаю, о чем вы думаете.
– Я счастлив, месье, потому что я никому не сообщал свою идею.
– Если вы не заняты, приходите завтра ко мне обедать, и я продемонстрирую вам ваш проект, который прекрасен, но имеет ряд почти непреодолимых трудностей. Несмотря на это, мы поговорим. Вы придете?
– Буду счастлив.
– Так я вас жду. Я живу в Плезанс.
После его ухода генеральный контролер расхвалил мне его талант и его честность. Он был брат Париса де Монмартель, которого тайная хроника считала отцом м-м де Помпадур, потому что он любил м-м Пуассон одновременно с г-ном Ленорман.
Я вышел погулять в Тюильери, размышляя о причудливом случае, который предоставляет мне фортуна. Мне говорят, что нужны двадцать миллионов, я хвалюсь, что могу достать сотню, не знаю как, и человек знаменитый и опытный в делах приглашает меня обедать, чтобы поведать мне, что он знает мой проект. Если он думает выведать что-то у меня, я его разочарую; когда он сообщит мне свою мысль, это позволит мне сказать, что либо он догадался, либо нет, и если я буду в силах, я, возможно, добавлю к ней что-то новое; не услышав ничего, буду хранить таинственное молчание.
Аббат де Бернис признал меня финансистом лишь для того, чтобы получить от меня совет. Без этого меня бы не призвали. К сожалению, я даже не знал их специального жаргона. На следующий день я нанял коляску и, грустный и серьезный, сказал кучеру везти меня в Плезанс к г-ну дю Верней. Это было немного дальше, чем Венсенн.
И вот я у дверей этого знаменитого человека, который спас Францию после бедствий, причиненных системой Лоу за сорок лет до этого. Я застал его в обществе семи-восьми персон перед ярким огнем. Он представил меня под моим именем в качестве друга министра иностранных дел и Генерального Контролера. После этого он представил мне этих господ, обозначив трех или четырех как интендантов финансов. Я раскланялся и через мгновение превратился в Гарпократа[5].
Поговорив о Сене, которая замерзла на толщину ступни, о г-не де Фонтенель, который только что умер, о Дамьене, который не хочет ничего рассказать, и о пяти миллионах, которых будет стоить королю этот уголовный процесс, поговорили затем о войне и похвалили г-на де Субис, которого король назначил командующим. Эта часть беседы касалась потребных расходов и ресурсов. Я провел полтора часа в скуке, потому что все их рассуждения были настолько нашпигованы терминами из их области, что я ничего не понял. После следующих полутора часов, проведенных за столом, где я открывал рот только для еды, мы перешли в залу, где г-н дю Верней оставил компанию, чтобы провести меня в кабинет вместе с человеком с добрым застывшим выражением лица, примерно пятидесяти лет, где представил его мне под именем Кальзабижи. Минуту спустя вошли также два интенданта. Г-н дю Верней с веселым и учтивым видом передает мне тетрадь ин-фолио, говоря:
– Вот ваш проект.
Я вижу на обложке: Лотерея на девяносто билетов, в которой выигрыши каждый месяц выпадают только на пять номеров, и тд. и тд. Я возвращаю ему тетрадь и немедленно сообщаю, что это и есть мой проект.
– Месье, – говорит он, – вы предугадали: это проект г-на де Кальзабижи, который перед вами.
– Я счастлив, что я думаю так же, как месье; но если вы им не воспользовались, могу ли я спросить причину?
– Имеется несколько доводов против этого проекта, все правдоподобные, ответы на которые весьма неясны.
– Я знаю из них во всей природе только один, – отвечаю я холодно, – который мог бы мне заткнуть рот. Это было бы, если бы король не разрешил своим подданным играть.
– Этот довод можно не рассматривать: Король позволит своим подданным играть; но будут ли играть они сами?
– Я удивлен, что кто-то сомневается в том, что нация готова будет платить, если будет выигрывать.
– Допустим, они будут играть, если будут уверены, что есть некая касса. Как образовать этот фонд?
– Королевская казна. Декрет Совета. Достаточно предположить, что король в состоянии оплатить сто миллионов.
– Сто миллионов?
– Да, месье. Надо произвести впечатление.
– Значит, вы допускаете, что король может их потерять?
– Я это допускаю; но лишь после того, как он получит сто пятьдесят. Зная силу политического расчета, вы должны исходить только из этого.
– Месье, я тут не одинок. Допустите, что в первом же тираже король может потерять запредельную сумму?
– Между возможностью и действительностью – бесконечность; но я соглашусь. Если король потеряет в первом же тираже большую сумму, судьба лотереи решена. Это несчастье. Следует морально учитывать такую возможность. Но вы знаете, что все страховые конторы богаты. Я вам докажу перед всеми математиками Европы, что, поскольку Бог нейтрален, невозможно, чтобы король не выиграл в этой лотерее один из пяти. Это секрет лотереи. Вы согласны, что разум должен опираться на математическое доказательство?
– Я согласен с этим. Но скажите мне, почему не ввести правило Кастеллетто[6], чтобы выигрыш короля был гарантирован?
– Не существует в мире такого Кастеллетто, которое давало бы абсолютную и очевидную уверенность, что король всегда выигрывает. Кастеллетто состоит лишь в том, чтобы сохранять предварительный баланс, когда необычный выигрыш выпадает на один, два или три номера и может причинить держателю лотереи большие потери. Кастеллетто, впрочем, объявляет предельную сумму. Кастеллетто сможет дать вам уверенность в выигрыше только лишь отложив тираж до той поры, пока все шансы не выровняются, и тогда лотерея не пойдет, так как в этом случае, возможно, придется ждать тиража десять лет, а кроме того, я скажу вам, что в этом случае лотерея станет совершеннейшим мошенничеством. То, что гарантирует от этого бесславного конца, это фиксируемый тираж каждый месяц, потому что публика при этом рассчитывает, что держатель все же может проиграть.
– Не будете ли вы любезны поговорить об этом в Совете полного состава?
– Охотно.
– И ответить на все возражения?
– На все.
– Не хотите ли вы представить мне ваш план?
– Я представлю свой план, месье, только когда идея будет принята и я буду уверен, что ее одобрят и мне предоставят те преимущества, на которые я рассчитываю.
– Но ваш план всего лишь этот, который вы здесь видите.
– Я в этом сомневаюсь. В своем плане я показываю, в общих чертах, сколько король получит в год, и доказываю это.
– Можно будет, наверное, продать его компании, которая заплатит королю определенную сумму.
– Прошу прощения. Лотерея может иметь успех только в предположении, что она будет действовать неотвратимо. Я не хочу связываться с неким комитетом, который, чтобы увеличить доход, будет думать об умножении операций, увеличивая наплыв участников. Я уверен в этом. Эта лотерея, если я должен в ней участвовать, будет королевская или никакая.
– Г-н Кальзабижи думает как вы.
– Я этим вполне удовлетворен.
– Есть ли у вас персоны, готовые заниматься Кастеллетто?
– Это должны быть просто «умные машины», которых во Франции должно хватать.
– Какую вы предполагаете ставку барыша?
– В двадцать на сотню при каждом тираже. Тот, кто принесет королю экю на каждые шесть франков, получит пять, и конкурс будет таков, что, при прочих равных, нация уплатит монарху, по меньшей мере, пятьсот тысяч франков в месяц. Я докажу это на Совете, при условии, что он будет состоять из членов, которые, уразумев конечную правильность расчетов, физическую и политическую, не уклонятся от их принятия.
Довольный тем, что мог осветить все, для чего меня пригласили, я вышел, чтобы немного пройтись. Возвратившись, я застал их за обсуждением этого вопроса. Кальзабижи, дружелюбно подойдя ко мне, спросил, предусматриваю ли я в своем плане «кадерну». Я ответил, что публика должна иметь возможность играть также и на «квин»[7], но в своем плане я ввожу более строгое правило, по которому игрок может играть на кадерну и на квин только при условии, что он одновременно играет и на терн. Он ответил, что в своем плане он допускает простую кадерну с выигрышем пятьдесят тысяч к одному. Я мягко ответил ему, что во Франции есть люди, весьма сильные в арифметике, которые, увидев неравные выигрыши во всех шансах, воспользуются сговором. Он пожал мне руку, сказав, что хотел бы, чтобы мы выступили вместе. Оставив свой адрес г-ну дю Верней, я ушел поздно вечером, довольный и уверенный, что оставил хорошее впечатление в голове у старика.
Три-четыре дня спустя я увидел у своих дверей Кальзабижи, которого заверил в том, что не ожидал его здесь увидеть, поскольку не смел надеяться. Он сказал мне без обиняков, что манера, с которой я говорил с этими месье, их поразила, и что наверняка, если я захочу склонить к этому Генерального контролера, мы учредим лотерею, в которой сможем сыграть заметную роль.
Я этому верю, – ответил я ему, – но роль, которую они будут в ней играть сами, будет еще больше, и, несмотря на это, они не торопятся; они не послали за мной, а впрочем, это для меня не самое важное дело.
– Сегодня у вас будут новости. Я знаю, что г-н де Булонь говорил о вас с г-ном де Куртейль.
– Уверяю вас, я этого не добивался.
Он попросил меня с совершеннейшей любезностью пойти с ним отобедать, и я согласился. В тот момент, когда мы выходили, я получил записку от аббата де Бернис, в которой говорилось, что если я могу быть завтра в Версале, он доставит мне случай говорить с м-м Маркизой, и что в то же время я встречусь там с г-ном де Булонь.
Не из небрежности, но с умыслом я дал прочесть эту записку Кальзабижи. Он сказал, что у меня в руках все, что нужно, чтобы склонить дю Верней к устроению лотереи.
– И ваша судьба будет решена, если вы, конечно, не настолько богаты, чтобы этим пренебречь. Мы приложим все усилия, чтобы довести до конца это дело, и мы опровергнем эти глупые возражения, которые вам приводили на той неделе. Ваш проект почти в точности как мой. Будем действовать вместе, доверьтесь мне. Помните, что в одиночку у вас возникнут непреодолимые трудности, и что «умные машины», которые вам понадобятся, не обитают повсеместно в Париже. Мой брат возьмет на себя все тяготы дела; убедитесь и удовлетворитесь половиной выгод от управления, при том, что будете лишь развлекаться.
– Так это М., ваш брат, автор проекта.
– Это мой брат. Он болен, но у него хороший ум. Мы сейчас повидаемся с ним.
Я увидел человека в кровати, всего покрытого лишаями, что не мешало ему есть с превосходным аппетитом, писать, беседовать и вообще совершать все действия, свойственные человеку здоровому. Не создавалось впечатления, что вы общаетесь с приличным человеком, потому что, помимо того, что лишаи его обезображивали, он вынужден был всякий раз чесаться в том или другом месте, что в Париже считается вещью немыслимой, недопустимой ни при каких обстоятельствах, хоть от того, что ему чешется из-за болезни, хоть от дурной привычки. Кальзабижи мне сказал, что он ведет себя так, не обращая ни на кого внимания, потому что у него кожный зуд и для него нет другого облегчения, кроме как чесаться.
– Бог, – сказал тот мне, – дал мне ногти именно для этой цели.
– Вы, таким образом, проникаете в суть вещей, и я вас поздравляю. Однако я полагаю, что вы чесались бы, даже если бы Бог забыл дать вам ногти.
Я увидел его улыбку, и мы поговорили о нашем деле. Менее чем за час я обнаружил в нем много ума. Он был старший, но был мальчишка. Великий расчетчик, очень сведущий в финансах, теоретически и практически, осведомленный в коммерции всех народов, знаток истории, замечательный ум, обожатель прекрасного пола и поэт. Он родился в Ливорно, работал в Неаполе в министерстве и приехал в Париж вместе с г-ном де л’Опиталь. Его брат был также знающий человек, но уступал ему во всем.
Он показал мне большую груду рукописей, где прояснил все, что касается лотереи.
– Если вы полагаете, – сказал он мне, – что сможете все сделать, не обращаясь ко мне, я вас поздравляю; но вы напрасно обманываетесь, поскольку, если у вас не было практики, и если у вас нет людей, имеющих опыт в этом деле, ваша теория вам будет ни к чему. Что вы будете делать, когда получите декрет? Когда вы станете говорить перед Советом, вы хорошо сделаете, если обозначите границы, за пределами которых вы умываете руки. Без этого вас будут все время отсылать за греческие календы. Могу вас также заверить, что г-н дю Верней будет рад видеть нас объединившимися. Что касается аналитических расчетов выигрышных шансов при равных ставках, уверяю вас, что не следует их рассматривать для кадерны.
Вполне убежденный, что следует действовать вместе с ним, не подавая однако вида, что я в нем нуждаюсь, я вышел вместе с его братом, который перед обедом должен был меня представить своей жене. Я увидел старуху, весьма известную в Париже под именем «генеральша ла Мот», знаменитую своей прежней красотой и своими каплями, другую пожилую женщину, которую звали в Париже баронессой Бланш, которая состояла до сих пор любовницей г-на де Во; другую, которую звали Президентшей, и еще одну, красивую как ангел, которую звали м-м Раззетти, из Пьемонта, жену скрипача из Оперы, которая была доброй подругой г-на де Фопертюи, интенданта Меню[8], и многих других. На этом обеде я не блистал. Это был первый обед, когда голова моя была занята серьезным делом. Я ничего не говорил. Вечером у Сильвии меня также нашли рассеянным, несмотря на все возрастающую любовь, которую внушала мне юная Баллетти.
На другой день я отправился за два часа до рассвета в Версаль, где министр де Бернис встретил меня весело, сказав, что можно поспорить, что без него я бы никогда не удосужился заняться финансами.
– Г-н де Булонь мне сказал, что вы удивили г-на де Верней, который является одним из самых великих людей Франции. Появитесь у него и засвидетельствуйте ему свое почтение. Лотерея будет учреждена и вы будете ее организатором. Как только король отправится на охоту, будьте у малых апартаментов, и как только я улучу момент, я вас введу к м-м маркизе. Потом вы пойдете в Бюро иностранных дел представиться аббату де Лавилю: это Первый комиссар, он примет вас хорошо.
Г-н де Булонь обещал мне, что как только г-н де Верней даст знать ему, что Совет Эколь Милитэр согласился, он организует выход декрета об учреждении лотереи, и предложил, чтобы я сообщал ему о других планах, если они у меня появятся.
В полдень м-м де Помпадур направилась в малые апартаменты вместе с г-ном принцем де Субис и моим протектором, который ввел меня к этой гранд-даме. Сделав мне реверанс, как обычно, она сказала, что чтение истории моего побега ее весьма заинтересовало.
– Эти господа там, наверху, – сказала она, улыбаясь, – весьма озадачены. Пойдете ли вы к послу?
– Самым большим знаком уважения, который я могу ему дать, мадам, это не ходить к нему.
– Я надеюсь, что теперь вы подумаете остаться у нас.
– Это было бы счастьем моей жизни, но я нуждаюсь в протекции, и я знаю, что в этой стране ее оказывают только таланту. Это меня беспокоит.
– Я полагаю, что вы можете рассчитывать на это, поскольку у вас есть добрые друзья. Я с удовольствием постараюсь быть вам полезной при случае.
Аббат де Лавиль принял меня весьма хорошо и покинул только после того, как заверил, что, как только представится случай, он подумает обо мне. Я пошел обедать в таверну, где ко мне подошел аббат с добрым лицом и спросил, не хочу ли я, чтобы мы пообедали вместе. Вежливость не позволила мне уклониться от этого. Садясь за стол, он сделал мне комплимент по поводу хорошего приема, оказанного мне аббатом де Лавилем.
– Я там был, – сказал он, – занятый написанием письма, но слышал почти все, сказанное им. Смею ли спросить, кто открыл вам доступ к этому достойному аббату?
– Если вас это очень интересует, месье аббат, я не колеблясь вам это сообщу.
– О! Отнюдь нет. Прошу меня извинить.
После этой оплошности он говорил со мной только о вещах безразличных или приятных. Мы уехали вместе в «ночном горшке»[9] и прибыли в Париж в восемь часов, где, назвавшись друг другу и обменявшись обещаниями взаимных визитов, расстались. Он сошел на улице Бон Анфан, а я отправился ужинать к Сильвии на улицу Пти Лион. Эта мудрая женщина поздравила меня с моими новыми знакомствами и посоветовала их поддерживать.
У себя я нашел записку от г-на дю Верней, который просил меня быть завтра в одиннадцать часов в Эколь Милитэр. В девять часов ко мне пришел Кальзабижи, передав от брата большую рукопись, содержащую арифметические таблицы лотереи, которые я могу представить Совету. Это были расчеты вероятностей для разных случаев, которые подтверждали то, что я высказывал. Суть состояла в том, что игра в лотерею была в точности равной при оплате выигравших билетов, если вместо пяти номеров вытягивались шесть. Нами предлагалось тянуть лишь пять, и это давало физическую уверенность в выигрыше одного для выборки более пяти, это давало восемнадцать при выборке свыше девяноста, что составляло всю сумму лотереи. Эта демонстрация приводила к выводу, что лотерея не могла поддерживаться при выдаче шести номеров, потому что управленческие расходы достигали ста тысяч экю.
С этими инструкциями, вполне убежденный, что я должен следовать этому плану, я направился в Эколь Милитэр, где было устроено совещание. Г-н д’Аламбер был приглашен присутствовать в качестве эксперта в области общей арифметики. Это не было бы сочтено необходимым, если бы г-н дю Верней был один; но там были умные головы, которые, не будучи убеждены в правильности политического расчета, оспаривали его очевидность. Совещание длилось три часа.
После моего доклада, который длился полчаса, г-н де Куртей резюмировал то, что я сказал, и затем провели час в обсуждении мелочей, которых я лишь слегка коснулся. Я сказал им, что если искусство вычисления, в основном, это, собственно, искусство находить единственное выражение для комбинации многих соотношений, такое же определение подходит как для моральных вычислений, так и для математических. Я убедил их, что без этой уверенности мир не знал бы страховых контор, которые все богаты и процветают, смеясь над фортуной и слабыми головами, которые ее боятся. Я окончил, сказав, что в мире нет такого ученого и честного человека, который был бы в состоянии предложить себя в качестве главы этой лотереи, пообещав, что она будет прибыльна в каждом тираже, и что, если появится такой отважный человек, давая им подобное заверение, они должны его выгнать вон, потому что либо он не сдержит своего слова, либо он мошенник.
Г-н дю Верней поднялся, говоря, что, во всяком случае, всегда можно все отменить. Все эти господа, подписав бумагу, которую представил им г-н дю Верней, удалились. Кальзабижи явился на другой день сказать мне, что дело сделано и что ожидают только выпуска декрета. Я предложил ему заходить каждый день к г-ну де Булонь и напоминать ему об авансе, пока не узнаю от г-на дю Верней, что мне его назначили.
То, что мне предложили и на что я согласился, были шесть приходных бюро и четыре тысячи франков пенсиона за организацию лотереи. Это был доход с капитала в сто тысяч франков, который я буду волен снова вкладывать через бюро, поскольку этот капитал являлся залогом.
Декрет Совета вышел восемью днями спустя. Управление передавалось Кальзабижи, с жалованьем в три тысячи франков за тираж и пенсионом в четыре тысячи франков в год, как и мне, с большим бюро предприятия в отеле лотереи на улице Монмартр. Что касается моих шести бюро, я сразу продал пять, по цене две тысячи франков за каждое, и открыл с блеском шестое на улице Сен-Дени, поместив там, в качестве служащего, моего лакея. Это был молодой итальянец, очень толковый, который до того служил лакеем у князя де ла Католика, посла Неаполя. Назначили день первого тиража и опубликовали, что все выигравшие билеты будут оплачены через восемь дней после тиража в главном бюро лотереи. Я не позднее чем через двадцать четыре часа вывесил афишу, что все выигравшие билеты, подписанные мной, будут оплачены в моем бюро на улице Сен-Дени через двадцать четыре часа после тиража. Результатом явилось то, что весь народ приходил играть в мое бюро. Мой выигрыш составлял шесть процентов от выручки. Пятьдесят или шестьдесят служащих других бюро были достаточно глупы, чтобы пойти пожаловаться Кальзабижи на мои действия. Он не мог ответить им ничего иного, кроме как сказать, что они вольны последовать за мной, поступив так же, но для этого им нужно было иметь деньги.
Моя выручка за первый тираж составила 40 тысяч ливров. Час спустя после тиража мой служащий принес мне книгу записей и показал, что мы должны выплатить от семнадцати до восемнадцати тысяч ливров по ставкам «амб», и я дал ему деньги. Моему служащему привалило счастья, так как, хотя он и ничего не просил, он получал все время чаевые, которые ему выплачивали, и к которым я не имел никакого отношения. Лотерея выпускала 600 тысяч номеров в главном тираже, который состоял из двух миллионов. Один Париж давал 400 тысяч номеров. На другой день я обедал у г-на дю Верней вместе с Кальзабижи. Мы имели удовольствие слушать от него жалобы на то, что слишком много заработали. В Париже выиграли только восемнадцать-двадцать терн, которые, хотя и будучи в сумме маленькими, создали лотерее блестящую репутацию. Разгорелся ажиотаж, мы предвидели в следующем тираже двойной доход. Прелестная баталия, которую я провел за столом по поводу моих действий, доставила мне удовольствие. Кальзабижи показал, что благодаря моему трюку я обеспечил себе ренту со 120 тысяч номеров в год, что разорило всех других держателей. Г-н дю Верней ему ответил, что он сам часто делал подобные ходы, и что, впрочем, все держатели могут поступить таким же образом, это может только повысить репутацию лотереи. В следующий раз терна на 40 тысячах номеров вынудила меня одолжить денег. Моя выручка составила 60 тысяч, но я был вынужден заложить свою кассу накануне тиража. Во всех больших домах, где я появлялся, и в фойе театров, как только меня видели, мне давали деньги с просьбой играть на них в их пользу, как я хочу, и передавать им билеты, потому что они в этом ничего не понимают. Я носил в своих карманах крупные и мелкие билеты, предоставляя им выбирать, и возвращался домой с карманами, полными золота. Остальные участники не имели такой привилегии. Это были люди, не созданные для подобных дел. Я единственный катался в карете; это давало мне имя и открытый кредит. Париж был и до сих пор остается городом, где обо всем судят по видимости; в мире нет другой страны, где так легко можно обманывать. Но теперь, поскольку читатель достаточно познакомился с этой аферой, я больше не буду говорить об этой лотерее, разве что, между прочим.
Месяц спустя после моего прибытия в Париж, сюда приехал из Дрездена вместе с м-м Сильвестри мой брат Франко, художник, тот самый, с которым я приезжал в этот город в 1752 году. Он провел четыре года, копируя все самые прекрасные батальные картины в знаменитой галерее. Мы встретились с радостью, но когда я предложил ему кредит из всех моих самых значительных знакомств, чтобы помочь ему пройти в Академию, он ответил, что не нуждается в протекции. Он создал полотно, представляющее батальную сцену, выставил его в Лувре и заслужил одобрение. Академия предоставила 12 тысяч на приобретение его картины. Мой брат за время своей выставки стал знаменит и заработал, в свои двадцать шесть лет, почти миллион; но, несмотря на это, роскошь и две неудачные женитьбы его разорили.
Глава III
Граф Тирета из Тревизо. Аббат Коста. Ламбертини, фальшивая племянница папы. Прозвище, которое она дала Тирета. Тетя и племянница. Совещание у камелька. Казнь Дамиена. Ошибка Тирета. Гнев м-м ХХХ, примирение. Я счастлив с м-ль де ла М-р. Дочь Сильвии. М-ль де ла М-р выходит замуж, моя ревность и отчаянное решение. Счастливые изменения.
В начале марта ко мне явился прекрасный молодой человек в рединготе, вида веселого, честного и благородного, с письмом в руке. Он передал мне его в такой манере, что я сразу узнал в нем венецианца. Я вскрыл письмо и обрадовался. Оно было от моей дорогой и уважаемой м-м Манзони. Она рекомендовала мне подателя сего, графа де Тирета из Тревизо, который сам мне расскажет свою грустную историю. Она присылала мне также небольшой сундучок, в котором, как она мне написала, я найду все свои манускрипты, поскольку, она уверена, больше меня не увидит. Я поднялся, чтобы сказать ему, что если он чего-нибудь от меня хочет, ему не найти более сильной рекомендации.
– Скажите же, месье граф, как я могу быть вам полезен.
– Я нуждаюсь в вашей дружбе. Совет моей родины избрал меня в прошлом году занять опасный пост. Меня сделали держателем «Мон-де Пьете»[10] в компании еще с двумя ноблями моего возраста. Развлечения карнавала вызвали у нас необходимость изыскать денег, мы воспользовались частью того, что было у нас в кассе, надеясь вернуть это до того, как должны будем представить отчет. Надеялись мы напрасно. Отцы моих двух коллег, более богатые, чем мой, спасли их, заплатив, а я, в невозможности это сделать, решился на бегство. М-м Манзони посоветовала мне обратиться за помощью к вам, поручив мне также доставить вам маленький сундук, который вы получите сегодня же. Я приехал вчера дилижансом из Лиона; у меня осталось только два луи; у меня есть рубашки, но из одежды только то, что на мне. Мне двадцать пять лет, у меня железное здоровье и твердое намерение делать все, чтобы жить как порядочный человек, но я ничего не умею делать и не имею никакого таланта; я только играю на поперечной флейте для собственного удовольствия; я говорю и пишу только на своем языке и у меня нет литературных способностей. Как вы думаете, сможете ли вы что-нибудь для меня сделать? Должен вам также сказать, что я не могу рассчитывать получить чью-либо поддержку, и менее всего моего отца, который, чтобы спасти честь семьи, отказал мне в наследстве, которого я теперь лишен до конца жизни. Этот короткий рассказ меня удивил, но его искренность мне понравилась. Я сказал ему принести свои вещи в комнату, соседнюю с моей, которая также сдавалась, и заказать себе в комнату еду.
– Все это, дорогой граф, не будет вам ничего стоить, а тем временем я подумаю о вас. Мы поговорим завтра. Я никогда не ем у себя. Оставьте меня, потому что я должен работать, и если вы пойдете пройтись, остерегайтесь дурных знакомств, и, в особенности, не говорите никому о ваших делах. Думаю, вы любите игру?
– Я ее проклинаю, потому что она – наполовину причина моего разорения.
– А другая половина?
– Женщины.
– Женщины? Они созданы, чтобы платить вам.
– Дай боже, чтобы я нашел такую. У нас водятся только шлюхи.
– Если вы не деликатны в этом отношении, вам повезет в Париже.
– Что вы имеете в виду под словом «деликатен»? Я не могу быть сутенером.
– Вы правы. Я имею в виду мужчину, который может быть нежен, при условии, что влюблен; который не заставит страдать в своих объятиях и старую развалину.
– Если это так, я не разборчив. Я чувствую, что женщина богатая сочла бы меня влюбленным, даже если бы сочетала в себе все самое отвратительное.
– Браво. Вы добьетесь успеха. Вы пойдете к послу?
– Боже сохрани.
Весь Париж сейчас в трауре. Поднимитесь на второй этаж. Вы найдете там портного. Закажите себе черную одежду и скажите ему от моего имени, что хотите ее к завтрашнему утру. Прощайте.
Возвратившись в полночь, я нашел у себя сундучок со всей моей корреспонденцией и любимые миниатюры. Всю жизнь я пользовался табакерками с вделанными в них миниатюрными портретами.
На другой день я увиделся с Тирета, одетым в черное.
– Вот видите, – сказал я ему, – как все быстро делается в Париже?
В этот момент мне объявили о приходе аббата де ла Коста. Я не вспомнил это имя, но тем не менее пригласил его войти. Я увидел того же аббата, что встретил у аббата де Лавиль. Я попросил у него прощения за то, что за недостатком времени не нанес ему визит. Он поздравил меня с успехом моей лотереи. Он сказал о том, что узнал, что я распределил билетов более чем на две тысячи экю в отеле «Кельн».
Да, я там имею всегда в карман от восьми до десяти тысяч франков.
– Я там также беру на тысячу экю.
– Пожалуйста. В моем бюро вы сможете выбирать номера.
– Мне это неважно. Не дадите ли мне сами такие, как есть.
– Охотно. Вот. Выбирайте.
Выбрав несколько, он попросил у меня письменный прибор, чтобы написать расписку.
– Никаких расписок, – сказал я, смеясь и забирая свои билеты, я даю их только за наличные.
– Я принесу их вам завтра.
– И вы получите завтра билеты: они зарегистрированы в бюро и я не могу поступить иначе.
– Дайте мне те, что не зарегистрированы.
– Я этого не делаю, так как, если они выиграют, я должен буду заплатить из собственного кармана.
– Я полагаю, вы можете пойти на риск.
– Я так не думаю.
Он заговорил затем с Тирета по-итальянски и предложил ему представить его м-м де Ламбертини, вдове папского племянника. Я сказал, что тоже пойду, и мы отправились туда.
Мы сошли у ее дверей на улице Кристины. Я увидел женщину, которой, несмотря на ее моложавый возраст, я дал бы сорок лет: худая, с черными глазами, живая, ошеломляющая, смешливая, такая, наконец, что может породить каприз. Я разговорил ее и нашел, что она не вдова и не племянница папы; Она была из Модены и настоящая авантюристка. Я видел, что Тирета ею заинтересовался. Она хотела пригласить нас обедать, но мы уклонились. Один Тирета остался. Я высадил аббата на набережной Ферай и пошел обедать к Кальзабижи.
После обеда он принял меня тет-а-тет и сказал, что г-н дю Верней сказал ему известить меня, что он не разрешает мне распределять билеты за свой счет.
– Он принимает меня за дурака или за жулика. Я пожалуюсь г-ну де Булонь.
– Вы сделаете ошибку, потому что известить не означает обиду.
– Вы сами меня обижаете, высказывая такое мнение. Но я не стану дожидаться второго такого рода высказывания.
Он меня успокоил и уговорил пойти вместе с ним поговорить с г-ном де Верней. Бравый старик увидел, что я в гневе, попросил у меня прощения и сказал, что так называемый аббат де ла Кост сказал ему, что я допускаю такую вольность. Я больше ни разу не видел этого аббата, того самого, который три года спустя был приговорен к галерам, где и окончил свои дни, за то, что продавал в Париже билеты лотереи Треву, которой не существовало.
На следующий день после визита ко мне этого аббата я увидел входящего ко мне в комнату Тирета. Он сказал мне, что провел ночь с папской племянницей и полагает, что она осталась довольна его персоной, поскольку захотела его поселить у себя и содержать, если он согласится говорить г-ну Ленуар, который был ее любовником, что он ее кузен.
– Она предполагает, – сказал он, – что этот месье даст мне должность в откупах. Я ей ответил, что как близкий друг не могу на что либо решиться, не посоветовавшись с вами. Она предложила мне пригласить вас к ней обедать в воскресенье.
– Я с удовольствием пойду.
Я нашел эту женщину безумно влюбленной в моего друга, которого она называла графом «Шесть ударов», под которым он и был известен в Париже, пока там оставался. Она выдавала его за владельца этого ленного имения, что во Франции сочли легендой, и хотела стать его дамой. Рассказав мне о его ночных подвигах, как будто я был ее старейшим другом, она сказала, что хотела бы его поселить, что имеет на то согласие г-на Ленуар, который даже радуется, что у нее поселится ее кузен. Она ожидала его после обеда, и ей не терпелось его тому поскорее представить.
После обеда, говоря снова о качествах моего соотечественника, она к нему приставала, и он, впрочем, довольный ее рассказами о своей доблести, указывал ей на мое присутствие. Это зрелище меня нисколько не поражало, но, видя экстраординарное телосложение моего друга, я понял, что он может рассчитывать сделать карьеру везде, где есть женщины ее типа.
В три часа пришли две женщины в возрасте. Это были картежницы. Ламбертини представила им г-на «Шесть ударов» как своего кузена. Со своим импозантным именем он стал объектом большого интереса и желания его проверить, тем более, что его тарабарщина была сочтена неудобопонятной. Героиня не замедлила поведать на ушко своим подругам комментарии к его прекрасному имени и расхвалить необычайное богатство своего вассала. Это невероятно, говорили матроны, лорнируя его, и Тирета, казалось, говорил им: Дамы, не сомневайтесь!
Подъезжает фиакр. Я вижу толстую женщину, прехорошенькую племянницу и бледного мужчину, одетого в черное, в круглом парике. После взаимных объятий Ламбертини представляет своего кузена «Шесть ударов»; удивляются его имени, но комментарии обходятся молчанием; обращают внимание только на редкую смелость, проявленную человеком, появившимся в Париже, не зная ни слова по-французски, и при этом развлекающему своей тарабарщиной всю компанию, которая, ничего не понимая, разражалась смехом. Ламбертини приготовила все для брелана[11], не удосужившись пригласить меня играть, но она хотела, чтобы ее дражайший кузен сел играть возле нее, напополам. Он не понимал игры, но это было неважно, – он научится, она хочет его обучать. Очаровательная демуазель не знала никаких игр, я обеспечил себе место рядом с ней у камина. Тетушка говорит мне со смехом, что я напрасно буду искать тем для разговора, но это для нее извинительно, потому что она всего месяц как вышла из монастыря.
Однако я уселся рядом с ней у огня, потому что увидел, что завязалась игра. Она первая нарушила молчание, спросив у меня, кто этот красивый месье, который не умеет говорить.
– Это сеньор из моей страны, который из-за дела чести бежал оттуда. Он заговорит по-французски, когда научится, и тогда над ним больше не будут насмехаться. Мне досадно, что я его сюда привел, потому что менее чем через двадцать четыре часа его мне испортили.
– Каким образом?
– Я не осмеливаюсь вам это говорить, потому что, возможно, ваша тетушка сочтет это дурным.
– Я не собираюсь ей докладывать; но, наверное, мое любопытство следовало бы сдерживать.
– Мадемуазель, я осознаю свою вину, но я принесу покаяние, рассказав вам все. М-м Ламбертини уложила его в постель с собой и дала ему после этого странное имя «Шесть ударов». Это все. Мне жаль, потому что до этого случая он не был распутником.
Как я мог говорить такое знатной девице, порядочной девице, для которой происходящее в доме Ламбертини было совершенно внове? Я был поражен, увидев, как ее лицо окрасилось стыдом. Я не мог этому поверить. Две минуты спустя она удивила меня совершенно неожиданным вопросом.
– Что общего, – говорит она, – между названием «Шесть ударов» и тем, что он лег спать с мадам?
– Он сделал ей шесть раз подряд то, что порядочный муж делает своей жене лишь раз в неделю.
– И вы полагаете меня достаточно тупой, чтобы я рассказывала моей тете то, что вы сейчас сказали?
– Но я еще более поражен другим.
– Я вернусь через минутку.
Проделав то, что забавная историйка вынудила ее проделать, она вошла обратно и стала позади стула тетушки, изучая фигуру героя; затем она вернулась на свое место, вся пылая.
– Чем еще другим вы поражены, что хотели мне сказать?
– Смею ли я говорить вам все?
– Вы мне столько всего сказали, что, мне кажется, остались только какие-то мелочи.
– Знайте же, что сегодня, после обеда, она его обязала проделать это в моем присутствии.
– Но если это вам не нравится, очевидно, вы ревнуете.
– Это не так. Я чувствую себя униженным из-за обстоятельства, о котором я не осмеливаюсь вам говорить.
– Мне кажется, вы насмехаетесь надо мной с этим вашим «не осмеливаюсь».
– Боже сохрани, мадемуазель. Она заставила меня убедиться, что мой друг превосходит меня на два дюйма.
– Я наоборот полагаю, что это вы выше его на два дюйма.
– Речь не идет о росте, но о другом размере, который вы можете себе вообразить и в котором мой друг истинный монстр.
– Монстр? И что же это такое? Не лучше ли не быть ни в чем монстром?
– Это правильно и справедливо; но в этой области некоторые женщины, не похожие на вас, любят монструозность.
– Я не вполне себе представляю эту область, чтобы вообразить, какова должна быть величина, которая может быть названа монструозной. Я также нахожу странным, что это может вас унизить.
– Поверите ли вы, если увидите меня?
– Увидев вас, когда я вошла сюда, я об этом не подумала. У вас вид человека весьма пропорционального; но если вы знаете, что это не так, мне вас жаль.
– Взгляните, прошу вас.
– Я полагаю, что это вы монстр, потому что вы внушаете мне страх.
Она отошла и встала позади стула своей тетушки, но я не сомневался, что она вернется, потому что явно была далеко не столь глупа и невинна. Я полагал, что она хочет играть роль, и, безотносительно того, хорошо или плохо она сыграла, я был рад тому, что она была заинтересована. Я должен был ее наказать за попытку меня обмануть, и, поскольку я находил ее очаровательной, я был рад, что мое наказание, очевидно, не сможет ей не понравиться. Мог ли я сомневаться в ее уме? Весь наш диалог поддерживался ею, и все то, что я говорил или делал, происходило в соответствии с ее очевидными устремлениями.
Четыре или пять минут спустя ее толстая тетушка, проиграв брелан, говорит племяннице, что она приносит несчастье и что она пренебрегает правилами вежливости, оставляя меня одного. Та ей ничего не возражает и возвращается с улыбкой ко мне.
– Если бы тетя знала, – говорит она, – что вы сделали, она бы не обвинила меня в невежливости.
– Если бы вы знали, как я теперь унижен! Чтобы показать вам, что я раскаиваюсь, я должен теперь уйти. Но правильно ли это истолкуют?
– Если вы уйдете, моя тетя скажет, что я глупа, что я вас утомила.
– Тогда я остаюсь. До этого случая вы не имели представления о том предмете, который я счел возможным вам показать?
– Я имела только смутное представление. Только месяц, как моя тетя забрала меня из Мелюна, где я находилась в монастыре с восьми лет, а сейчас мне семнадцать. Меня хотят уговорить принять постриг, но я не соглашаюсь.
– Вы недовольны тем, что я сделал? Если я и согрешил, это из добрых побуждений.
– Я не должна вам это позволять, это моя ошибка. Я прошу вас только быть скромным.
– Не сомневайтесь в моей скромности, потому что в противном случае я первый пострадаю.
– Вы преподали мне урок, который будет мне полезен в будущем. Но вы продолжаете. Прекратите, или я и в самом деле уйду.
– Останьтесь, это окончилось. Вы видите на этом платке действительный признак моего удовольствия.
– Что это?
– Это материя, которая, будучи помещенной в соответствующую печь, выходит оттуда через девять месяцев мальчиком или девочкой.
– Понимаю. Вы превосходный учитель. Вы рассказываете мне это с видом профессора. Должна ли я поблагодарить вас за ваше усердие?
– Нет. Вы должны меня извинить, потому что я никогда бы не сделал того, что я сделал, если бы не был влюблен в вас с первого момента, как вас увидел.
– Должна ли я принять это как признание в любви?
– Да, мой ангел. Оно дерзко, но несомненно. Если оно не происходит от сильной любви, я – предатель, достойный смерти. Могу ли я надеяться, что вы меня полюбите?
– Я об этом ничего не знаю. Единственное, что я теперь знаю, это, что я должна вас ненавидеть. Вы заставили меня проделать менее чем за час путь, который я думала возможным совершить только после замужества. Вы сделали меня намного более знающей в области, на которой я никогда не осмеливалась заострять мою мысль, и я чувствую себя виноватой, поскольку позволила себя соблазнить. Как это происходит, что теперь вы стали вдруг спокойны и вежливы?
– Это потому, что мы разговариваем разумно. Потому, что после вспышки удовольствия любовь отдыхает. Видите?
– Еще! Разве это конец урока? Такой, каким я вас теперь вижу, вы не внушаете мне страха. Но огонь погас.
Она берет связку хвороста и, чтобы возродить пламя, становится на колени. В этой позиции, когда она нагнулась, я протягиваю решительную руку ей под платье и немедленно натыкаюсь на дверцу, несомненно закрытую, через которую могу проникнуть к полному счастью, только ее пробив. Но в тот же момент она встает, садится и говорит мне с чувствительной нежностью, что она девушка хорошего происхождения, и она полагает, что может требовать уважения. Я приношу ей миллион извинений, и, в заключение моего дискурса, она успокаивается. Я сказал ей, что моя дерзкая рука заверила меня, что она еще не была счастлива ни с одним мужчиной. Она ответила, что мужчина, который доставит ей счастье, не может быть никем иным, как ее мужем, и в знак прощения позволила мне осыпать ее руку поцелуями. Я бы продолжил начатое, если бы кое-кто не пришел. Это оказался г-н Ленуар, который, в соответствии с переданной ему запиской, явился выяснить, что хочет ему сказать м-м Ламбертини. Я увидел мужчину среднего возраста, простого и скромного, который очень вежливо попросил присутствующих не смущаться и не прерывать игру. Ламбертини меня представила и, услышав мое имя, он спросил, не художник ли я. Когда он узнал, что я старший брат художника, он высказал мне комплимент относительно лотереи и относительно того, что сделал для меня г-н дю Верней; но прежде всего его интересовал кузен, которого она ему сразу представила под именем графа Тирета. Я объяснил ему, что графа мне рекомендовали, и что он был вынужден покинуть свою родину из-за дела чести. Эта Ламбертини добавила, что собирается его поселить у себя и не хотела этого делать прежде, чем услышит его одобрение. Он ответил, что она сама себе хозяйка и что он будет счастлив видеть его в ее обществе. Поскольку он очень хорошо говорил по-итальянски, Тирета вздохнул с облегчением. Он отошел от игры, и мы собрались вчетвером у камина, где, дождавшись своей очереди, хорошенькая демуазель принялась болтать с г-ном Ленуар, обнаруживая массу здравого смысла. Он заговорил с ней о ее монастыре и, когда она назвала свое имя, стал говорить с ней о ее отце, с которым был знаком. Тот был советником парламента Руана. Эта очаровательная девица была высокого роста, несомненная блондинка, с очень правильными чертами лица, выражающими простоту и скромность. Ее большие голубые глаза, слегка навыкате, выражали нежность и живые желания ее души. Ее платье, по фигуре, украшенное бутоньеркой, подчеркивало ее элегантность и красоту ее груди. Я видел, что г-н Ленуар, не говоря ей об этом, отдал ей должное, как и я перед тем. Но у него не было такого случая, как у меня, заявить ей об этом. В восемь часов он ушел. Полчаса спустя м-м ХХХ ушла также, вместе со своей племянницей, которую называла де ла М-р, и с мужчиной невыразительного вида, который пришел вместе с ними. Я также ушел вместе с Тирета, который пообещал хозяйке завтра к ней переселиться и сдержал слово.
Три или четыре дня спустя после этого расклада я получаю письмо, адресованное в мое бюро. Это письмо – от м-ль де ла М-р. Вот его копия:
«М-м ХХХ, моя тетушка, сестра моей покойной матери, религиозна, азартна, богата, скупа и несправедлива. Она меня не любит и, не добившись успеха в том, чтобы заставить меня принять постриг, хочет выдать замуж за торговца из Дюнкерка, которого я не знаю. Заметьте, что она сама его тоже не знает. Посредник, организующий этот брак, поет ему хвалы. Тот доволен, что она пообещала ему 1200 экю в год при своей жизни и заверила, что после ее смерти я унаследую пятьдесят тысяч экю. Заметьте однако, что по завещанию моей матери она должна, в случае моего замужества, передать мне двадцать пять тысяч. Если то, что произошло между вами и мной не создало у вас впечатление обо мне как о существе недостойном, я предлагаю вам мою руку с 25 тысячами экю и другие двадцать пять тысяч по смерти моей тетушки. Не отвечайте мне, потому что я не знаю, ни как, ни через кого, ни где я смогу получить ваше письмо. Вы ответите мне лично в воскресенье у м-м Ламбертини. У вас есть четыре дня, чтобы подумать. Я не знаю, люблю ли я вас, но знаю, что должна предпочесть вас для себя любому другому. Я чувствую, что должна заслужить ваше доверие, также, как вы – мое. Я, впрочем, уверена, что вы обеспечите мне жизнь сладкую. Если вы предвидите, что счастье, о котором я грежу, отвечает и вашим мечтам, я предупреждаю, что вам понадобится адвокат, так как моя тетушка скупа и большая кляузница. Когда вы определитесь, надо, чтобы вы разыскали меня в монастыре, куда я вернусь перед тем, как решиться на любой шаг, потому что иначе со мной обойдутся до крайности жестоко, о чем я не могу даже и подумать. Если предложение, которое я вам делаю, вам не подходит, я попрошу вас об одолжении, на которое весьма рассчитываю и за которое буду вам благодарна. Вы постараетесь больше меня не видеть, тщательно избегая тех мест, где я могу бывать. Таким образом, вы поможете мне вас забыть. Почувствуйте, что я могу быть счастлива лишь выйдя за вас замуж или забыв вас! Прощайте. Я уверена, что увижу вас в воскресенье».
Это письмо меня тронуло. Я видел, что оно продиктовано добродетелью, честью и умом. Я увидел в уме м-ль де ла М-р даже больше достоинств, чем в ее внешности. Я устыдился, что введу ее в соблазн и унижение, если отвергну ее руку, которую она предложила мне с таким благородством, и я видел в то же время, что она предлагает мне судьбу высшую по сравнению со всем тем, на что, по здравом размышлении, я мог претендовать; но идея женитьбы заставляла меня трепетать; я слишком хорошо предвидел, что в правильном браке я буду несчастен и, соответственно, моя половина – тоже. Мои колебания при необходимости решиться в те четыре дня, что она мне дала, подсказали мне, что я в нее не влюблен; но при этом я никак не мог решиться отвергнуть ее предложение и, еще менее того, сказать ей об этом. Я провел эти четыре дня, думая все время о ней, чувствуя, что я ее уважаю, сожалея о том оскорблении, которое я ей наношу, но не имея сил решиться искупить это оскорбление. Когда я думал о том, что в противном случае она меня возненавидит, я тем более не мог этого вынести; итак, перед вами несчастный человек, который должен принять определенное решение и не может этого сделать.
Опасаясь, как бы некий демон не заставил меня пренебречь м-ль де ла М-р, заставив пойти в комедию или в оперу, я направился обедать к этой Ламбертини, ни на что не решившись. Она была на мессе. Терета был в ее комнате, играя на флейте; увидев меня, он отложил ее, чтобы отдать мне деньги, которых мне стоила его черная одежда.
– Итак, ты при деньгах, поздравляю.
– Поздравление сродни соболезнованию, потому что эти деньги краденные, хотя я только сообщник. Здесь мошенничают и заставляют меня в этом помогать; и я участвую, чтобы не быть сочтенным за дурака. Моя хозяйка вместе с тремя-четырьмя другими женщинами разоряют простаков. Это занятие меня возмущает, и я не могу больше выдержать. Меня убьют, или я убью, и по любому мне это будет стоить жизни; таким образом, я думаю покинуть как можно скорее этот притон.
– Я тебе советую так и сделать, мой друг, и побуждаю к этому. Лучше сделать это сегодня, чем завтра.
– Я не хочу никакого скандала, потому что г-н Ленуар, человек галантный и мой друг, который считает меня кузеном этой мошенницы и не прислушается к клевете, усомнится в некоторых вещах и, возможно, покинет ее, услышав причины, которые заставляют меня уйти. В течение пяти-шести дней я найду предлог и вернусь к тебе.
Пришла Ламбертини, обрадованная, что неожиданно меня увидела; она сказала, что у меня будет общество м-ль де ла М-р с ее тетей. Я спросил у нее, довольна ли она «шестью ударами», и она ответила, что он не всегда соответствует своему героическому имени, но она любит его не меньше. Пришла м-м ХХХ со своей племянницей, которая выразила удовольствие меня видеть. Она была в полу-трауре и прекрасна до такой степени, что я удивлялся своей нерешительности. Тирета удалился и, поскольку никакое соображение не могло помешать мне демонстрировать мою склонность к м-ль де ла М-р, я уделил ей все свое внимание. Я сказал ее тете, что расторгну свой обет безбрачия, если смогу найти хоть вполовину такую же, как она.
– Моя племянница, месье, честна и нежна, но не имеет ни ума, ни религиозности.
– Оставим в стороне ум, моя дорогая тетя, но что касается религиозности, это тот упрек, который мне никогда не делали в монастыре.
– Надеюсь. То были иезуитки. Речь идет о благодарности, дорогая племянница, о благодарности. Но поговорим о другом. Я хочу только, чтобы ты смогла понравиться тому, кто будет твоим мужем.
– Значит, мадемуазель накануне свадьбы?
– Ее судьба исполнится в начале следующего месяца.
– Это человек судейский?
– Это негоциант с весьма приличным положением.
– Г-н Ленуар мне сказал, что мадемуазель дочь советника, я не предполагаю мезальянса.
– Это ничего не значит. Он знатен и благороден и думает только о том, чтобы сделать ее счастливой.
Эта речь не могла не огорчать красавицу, которая слушала, ничего не говоря, и я повернул разговор в сторону большого стечения народа, которое ожидается на Гревской площади, чтобы наблюдать казнь Дамьена, и, видя всеобщее любопытство к ужасному спектаклю, я предложил им широкое окно, откуда мы сможем это видеть все пятеро. Они изъявили согласие в соннику[12]. Я дал слово их принять, но, поскольку окна у меня не было, поднявшись из-за стола, я сослался на неотложное дело и поехал в фиакре на Гревскую площадь, где за четверть часа снял за три луи хорошее окно на антресоли между двумя лестницами. Я заплатил и взял квитанцию, по которой, в случае отказа, мне платили неустойку в шестьсот франков. Окно было как раз напротив эшафота. Вернувшись к этой Ламбертини, я нашел ее погруженной в пикет с записями вместе с Тирета против мадам ХХХ.
М-ль де ла М-р не знала ничего, кроме «Кометы»[13], я предложил ей компанию и, для того, чтобы поговорить, мы отошли в другой конец залы. Я сказал ей, что, получив ее письмо, я ощутил себя счастливейшим из людей, в то же время отметив в ней ум и характер, созданные, чтобы внушить обожание к ней любого мужчины, не лишенного чувства.
– Вы станете моей женой, – сказал я ей, – и я буду благословлять до последнего моего вздоха счастливую дерзость, с которой я поразил вашу невинность, потому что без нее вы бы никогда не решились отдать мне предпочтение перед сотней других, равных вам рождением, из которых ни один бы вам не отказал даже и без приманки в 50 тысяч экю, которые ничего не стоят в сравнении с вашими личными достоинствами и вашим образом мыслей. Теперь, когда вы знаете мои чувства, не будем ничего торопить, доверьтесь мне. Дайте мне время нанять дом, меблировать его и занять положение, когда меня смогут счесть достойным жениться на девушке ваших достоинств. Поймите, что сейчас я живу в меблированной комнате, что у вас есть родственники и что сейчас, к моему стыду, я в деле такой важности выступаю как авантюрист.
– Вы слышали, что мой предполагаемый жених скоро прибудет, и когда он появится, дело пойдет быстро.
– Не настолько быстро, чтобы я не смог в двадцать четыре часа избавить вас от любой тирании, даже если ваша тетя узнает, что за удар придет к ней с моей стороны. Знайте, мой ангел, что первым из моих ходатаев будет министр иностранных дел, который, уверившись, что вы не хотите другого мужа, кроме меня, обеспечит вам надежное убежище в одном из лучших монастырей Парижа, сам найдет вам адвоката, и, если завещание составлено ясно, заставит вашу тетю в кратчайшее время выдать вам ваше приданое и дать обеспечение на остаток вашего наследства. Успокойтесь и ожидайте торговца из Дюнкерка. Будьте уверены, что я не оставлю вас в трудном положении. Вас больше не будет в доме вашей тети в тот день, когда потребуется ваша подпись под контрактом.
– Я сдаюсь и полагаюсь на вас, но прошу вас принять в расчет особенность, которая ранит до последней степени мою деликатность. Вы сказали, что я никогда не услышала бы от вас предложения женитьбы, и вы прекратили бы видеться со мной, если бы вы не приняли решения в прошедшее воскресенье, как это и произошло. Это отчасти верно, потому что без серьезных оснований я предприняла внезапно сумасшедший поступок, предложив вам сразу свою руку; но наш брак мог бы совершиться и другим образом, потому что могу вам сказать по правде, что в любом случае я дала бы вам предпочтение перед всем миром.
В ответ на это благородное объяснение я поцеловал ей руку с таким пылом, что не стал бы ждать женитьбы и четверти часа, если бы там были в наличии нотариус и священник, имеющий право нас обвенчать. Поглощенные нашим делом, мы не обратили внимания на ужасный шум, поднятый компанией по другую сторону залы; я счел долгом вмешаться, по крайней мере, чтобы успокоить Тирета.
Я увидел раскрытую шкатулку, полную различных украшений, и двух мужчин, спорящих с Тирета, держащим в руке книгу. Я сначала решил, что это лотерея, – но почему спорят? Тирета говорит мне, что это жулики, которые выманили у него тридцать или сорок луи с помощью этой книги, и передал эту книгу мне. Один из этих людей говорит мне, что книга содержит лотерею, и здесь нет ничего незаконного.
– Эта книга, – говорит он, – состоит из двенадцати сотен листов, из которых две сотни – лоты, а остальная тысяча – пустые. Каждый выигрышный листок, соответственно, приходится на пять проигрышных. Персона, желающая играть, должна дать малый экю и поместить кончик булавки случайным образом между листов книги. Книгу открывают в том месте, где вставлена булавка, и смотрят на лист. Если он белый, персона, уплатившая малый экю, его теряет, а если открывается лот, человек получает лот, обозначенный на этом листе, или деньги, в которые оценен этот лот и которые указаны на листе. Заметьте, что наименьший лот стоит двенадцать франков, и что есть лоты, которые стоят до шести сотен, а один – двенадцать сотен. В течение часа, когда эти дамы и этот месье играли, они выиграли несколько лотов, и эта мадам выиграла кольцо за шесть луи, которое бы получила, если бы не предпочла получить деньги, которые, желая продолжить игру, проиграла.
В конце концов, – сказала м-м ХХХ, которая выиграла кольцо, мы здесь шестеро, и эти месье с их проклятой книгой выманили у нас наши деньги. Вы видите, что мы поражены.
Тирета назвал их жуликами, и один из них ответил, что устроители лотереи Эколь Милитэр такие же. Тирета влепил ему добрый удар и, во избежание дальнейшего, я встал между ними и предложил им замолчать, чтобы окончить дело.
– Все лотереи, – сказал я им, – выгодны устроителям, но та, что при Эколь Милитэр, имеет своим главой короля, и я ее главный устроитель. В этом качестве я конфискую эту шкатулку и предоставляю вам выбор. Либо вы возвращаете компании все деньги, которые выиграли, и я отпускаю вас с вашей шкатулкой, либо я отправляю за агентом полиции, который отводит вас в тюрьму вместе с реквизированным мной, и завтра сам г-н Берье рассудит дело. Это ему я отнесу завтра утром эту книгу. Мы, таким образом, посмотрим, верно ли то, что если вы жулики, то и мы такие же.
Видя такой неблагоприятный оборот, они предпочли вернуть деньги. Их заставили вернуть все сорок луи, несмотря на то, что они божились, что выиграли только двадцать. Я им поверил, но vae victis[14], я диктовал условия, и я решил, чтобы они платили.
Они хотели забрать книгу, но я не захотел ее отдавать. Они могли считать себя счастливыми, что ушли со своей шкатулкой. Дамы, смягчившись, говорили мне после их ухода, что я мог бы отдать несчастным их реквизит.
Они пришли ко мне на другой день в восемь часов утра и тронули меня, подарив большой футляр с двадцатью четырьмя восьмидюймовыми фигурками из саксонского фарфора. Я, впрочем, вернул им книгу, предупредив, что их арестуют, если они осмелятся еще гулять по Парижу со своей лотереей. Я лично отнес в тот же день двадцать четыре красивые фигурки м-ль де ла М-р. Это был весьма богатый подарок, и ее тетя рассыпалась в благодарностях.
Несколько дней спустя, это было 28 марта, я направился очень рано за дамами, которые завтракали у Ламбертини с Тирета и повез их на Гревскую площадь, держа м-ль де ла М-р у себя на коленях. Дамы, все трое, уселись непосредственно у окна, опираясь локтями на верх ограждения, чтобы не мешать нам видеть. У окна было две створки, обе были подняты к третьему этажу и, находясь позади дам, мы должны были также присесть; поскольку стоя мы не могли ничего увидеть. Мне приходится объяснить читателю все эти обстоятельства. У нас хватило терпения находиться постоянно в этом положении все четыре часа, пока длился этот ужасный спектакль. Я не буду о нем ничего говорить, потому что это затянется слишком на долго, и к тому же это известно всему свету. Дамиен был фанатик, который попытался убить Луи XV, полагая, что совершает доброе дело. Он ничего ему не сделал, только проткнул слегка кожу, но это неважно. Народ настаивал на казни, называя его чудовищем, которое выблевал ад, чтобы убить лучшего из королей, которого следовало обожать и которого называли Любимым (le Bien-Aimé). Между тем, это тот самый народ, который истребил всю королевскую семью, всю знать Франции и всех тех, кто придал нации ее прекрасный характер, заставлявший ее предпочитать, любить и брать за образец для всех остальных народов. Народ Франции, говорит сам г-н де Вольтер, – самый отвратительный из всех. Хамелеон, принимающий любые цвета и способный на все, что велит ему начальник, хорошего или дурного. От казни Дамиена я вынужден был отвести взор, когда раздался рев толпы, а у него осталась лишь половина тела, но эта Ламбертини и м-м ХХХ не отвернулись; и это не было свидетельством черствости их сердец. Они мне сказали, и я должен был сделать вид, что им поверил, что они не могут чувствовать сострадание к такому монстру, так они любили Луи XV. Правда, однако, что Тирета держал м-м ХХХ в такой странной позиции все время, пока длилась экзекуция, что, возможно, это стало причиной того, что она не осмеливалась ни двинуться, ни повернуть голову.
Находясь сзади нее и сильно прижавшись к ней, он задрал повыше ее платье, чтобы не ставить свои ноги поверх него. Но затем я увидел, лорнируя их, что он задрал платье немного больше, чем нужно; впрочем, решив, что не хочу ни прерывать предприятие моего друга, ни мешать м-м ХХХ, я занял позицию позади своего предмета обожания, так, чтобы ее тетя могла быть уверена, что то, что ей делает Тирета, не видно ни мне, ни ее племяннице. Я слушал перемещения платья в течение целых двух часов и, находя мероприятие весьма занятным, не отклонялся от принятой позиции. Я восхищался про себя добрым аппетитом Тирета даже больше, чем его отвагой, потому что в последнем отношении я часто бывал так же храбр, как и он.
Когда я увидел, в конце действа, что м-м ХХХ встает, я также отвернулся. Я увидел своего друга веселым, свежим и спокойным, как будто ничего не было, но дама показалась мне более задумчивой и серьезной, чем обычно. Она оказалась в фатальной необходимости утаить и спокойно пережить то, что ей учинил грубиян, с тем, чтобы не насмешить Ламбертини и не открыть своей племяннице тайн, которых та должна была еще не знать.
Я отвез Ламбертини до ее дверей, попросив оставить мне Тирета, поскольку имел к нему дело. Затем я доставил к ее дому на улице Сен-Андре-дез-Арт м-м ХХХ, которая просила меня прийти к ней завтра, поскольку хотела мне что-то сказать. Я отметил, что она не попрощалась с моим другом. Я повел его обедать к Ланделю, торговцу вин, в отель Дебюсси, где подавали превосходное скоромное и постное за шесть франков с головы.
– Что ты делал, – спросил я его, – позади м-м ХХХ?
– Я был уверен, что ни ты, ни другие ничего не видели.
– Это возможно; но видя начало маневра и предвидя то, что ты собираешься проделать, я стал так, чтобы помешать видеть то, что ты делаешь, м-ль де ла М-р и этой Ламбертини. Я представлял себе, что ты делаешь, и восхищался твоим аппетитом; Но м-м ХХХ рассердилась.
– Она притворялась, потому что держалась спокойно два часа подряд, и мне не приходит в голову ничто иное, чем то, что я доставлял ей удовольствие.
– Я тоже так думаю; но ее самолюбие должно внушить ей, что ты проявил к ней неуважение, и действительно это так! Ты видишь, она на тебя надулась, и она хочет завтра поговорить со мной.
– Но, полагаю, она не будет говорить с тобой об этом пустяке. Тогда она будет выглядеть дурой.
– Почему нет? Ты не знаешь набожных. Они бывают рады случаю выложить подобную исповедь третьим лицам, проливая слезы, особенно, когда они некрасивы. Может быть, м-м ХХХ рассчитывает на сатисфакцию, и я с удовольствием в этом поучаствую…
– Я не знаю, на какого рода сатисфакцию она может претендовать. Если она не была согласна, она вполне могла влепить мне удар ногой, от которого я бы свалился с лестницы навзничь на спину.
– Ламбертини тоже на тебя сердится, я это заметил. Возможно, она тоже кое-что видела, и находит, что ты ею пренебрег.
– Эта Ламбертини сердится на меня по другой причине. Вчера ночью я устроил скандал и к вечеру должен освободить помещение.
– Тем лучше?
– Тем лучше. Вот какая история. Вчера к вечеру молодой человек, служащий на ферме, которого старая генуэзская плутовка привела к нам ужинать, проиграв сорок луи в Пти Паке, швырнул карты в нос моей хозяйке, назвав ее воровкой. Я взял подсвечник и погасил свечу о его физиономию, по правде говоря, с риском, что выбью ему глаз, но в глаз не попал. Он бросился к шпаге, подняв крик, и если бы генуэзка не заступила ему дорогу, у нас был бы мертвец, так как я обнажил свою. Несчастный, увидев в зеркале свой шрам, пришел в такую ярость, что утихомирить его было возможно, только вернув его деньги. Их ему и вернули, несмотря на мое упорное нежелание, поскольку вернуть их можно было, только признав плутовство. Это стало причиной очень едкого диспута у меня с Ламбертини, когда молодой человек ушел. Она сказала, что ничего не произошло, и что мы поимели бы сорок луи, если бы я не вмешался; что это она, а не я, была оскорблена, и что, проявив хладнокровие, добавила генуэзка, мы бы имели его еще долго, в то время как теперь один бог знает, что он будет делать со шрамом, который оставила горящая свеча на его лице. Раздраженный бесчестной моралью этих мошенников, я послал их… подальше, моя дорогая хозяйка сказала, что я нищий. Если бы не пришел г-н Ленуар, я бы задал ей выволочку. Они мне говорили успокоиться, но я слишком разгорячился. Я сказал приличному человеку, что его любовница назвала меня нищим, что она шлюха, что она мне не кузина и что я съезжаю сегодня. Говоря так, я поднялся к себе в комнату и там заперся. В два часа я пойду забрать мои вещи и выпью завтра утром с тобой кофе.
Тирета был прав. Открывая все больше для себя его характер, я видел, что он не рожден для профессии альфонса.
На другой день ближе к полудню я отправился пешком к м-м ХХХ, которую застал вместе с племянницей. Четверть часа спустя она сказала ей оставить нас одних и вот что мне сказала:
– Вы будете удивлены, месье, беседой, которую я собираюсь с вами провести. Это жалоба неслыханного порядка, которую я решилась вам принести без долгих размышлений, поскольку случай острый и неотложный. Чтобы решиться, я должна была только утвердиться в мысли, которая зародилась во мне с первой минуты, как я вас увидела. Я полагаю вас умным, деликатным, человеком чести и благонравным, истинно религиозным; если я ошибаюсь, возникнут несчастья, потому что, будучи оскорбленной и не имея средств к защите, я должна отомстить, и, в качестве его друга, вы огорчитесь.
– Вы жалуетесь на Тирета?
– На него самого. Это злодей, который нанес мне беспримерное оскорбление.
– Я никогда не считал его на это способным. Какого рода это оскорбление, мадам? Откройтесь мне.
– Месье, я вам этого не скажу; но надеюсь, вы догадаетесь. Вчера, во время казни этого злодея Дамиена он в течение двух часов подряд странным образом злоупотреблял позицией, которую занимал позади меня.
– Я все услышал, и вы можете не продолжать. Вы правы, и я его осуждаю, потому что это злоупотребление; но позвольте вам сказать, что случай этот не беспримерный и не редкий; я даже думаю, что его можно извинить, либо любовью, либо актуальностью ситуации, при слишком близком соседстве противника-соблазнителя и юности грешника. Это преступление, которое можно искупить разными способами, к полному согласию сторон. Тирета мальчик, очень хорошего происхождения, и брак вполне осуществим, и если брак не отвечает вашему образу мыслей, можно возместить его вину очень постоянной дружбой, способной дать вам очевидные знаки его раскаяния и заслуживающие вашего прощения. Подумайте, мадам, о том, что он мужчина и, соответственно, подвержен всем слабостям человечества. Согласитесь также, что ваше очарование могло в какой-то мере способствовать помрачению его чувств. Я полагаю, наконец, что он может стремиться получить прощение.
– Прощение? Все, что вы тут сказали, происходит из мудрости христианской души; но все ваше рассуждение основано на ошибочном предположении. Вы игнорируете содеянное. Но увы! Что, если об этом догадаются?
М-м ХХХ, уронив несколько слезинок, привела меня этим в отчаяние. Я не знал, что и подумать. Он что, украл у нее кошелек? – говорил я себе. Осушив слезы, она продолжила так:
– Вы изобразили вину, которую, при некотором усилии, можно сопоставить с разумом и найти в этом случае, соглашусь, соответствующее возмещение; но то, что сделал этот грубиян, это мерзость, о которой я отказываюсь думать, потому что она должна была свести меня с ума.
Великий боже! Что слышу я? Я трепещу. Скажите мне, на этом ли я свете.
– Полагаю, что да, потому что не думаю, что можно вообразить себе что-то хуже. Я вижу, вы взволнованы. Дело, между тем, обстоит именно так. Извините мои слезы и ищите их происхождение, прошу вас, только в досаде и стыде.
– И в религии.
– Да. Это даже главное. Я опустила это, не зная, относитесь ли вы к этому так же, как я.
– Как могу, бог мне судья.
– Сможете ли вы стерпеть, если я обреку себя на осуждение, потому что я хочу отомстить.
– Откажитесь от этого проекта, мадам; я никогда не смогу быть в нем замешан, и если вы от него не откажетесь, позвольте по крайней мере, чтобы я его проигнорировал. Я обещаю ничего ему не говорить, хотя, поскольку он живет у меня, законы гостеприимства обязывают меня его предупредить.
– Я полагала, что он живет с ла Ламбертини.
– Он вчера оттуда ушел. Он там провинился. Это скандальный эпизод. Я забрал его оттуда.
– Что вы говорите? Вы меня удивляете и открываете мне глаза. Я не хочу его смерти, месье; но согласитесь, что он должен мне сатисфакцию.
– Я согласен, но я не нахожу эквивалента проступку. Я знаю только один и настоятельно рекомендую на нем остановиться.
– Скажите, какого он рода.
– Я неожиданно доставлю его вам в руки и оставлю тет-а-тет с вами, покорного вашему справедливому гневу, но при условии, что останусь в комнате, соседней с той, где вы будете его принимать, так, чтобы он об этом не знал, потому что я должен отвечать перед самим собой за его жизнь.
– Я согласна. Это будет в этой комнате, где я вас принимаю, а вы оставите его мне в другую, которую я вам покажу, но он не должен об этом знать.
– Он даже не будет знать, что я веду его к вам. Я не хочу, чтобы он знал, что я осведомлен об этом безобразии. Я оставлю его с вами под неким предлогом.
– Когда вы рассчитываете его привести? Мне не терпится его изобличить. Я заставлю его содрогнуться. Не могу себе представить, какие доводы он мне пролепечет в обоснование своего поступка.
Она обязала меня пообедать с ней и аббатом де Форж, который пришел в час. Этот аббат был ученик знаменитого епископа Оксерра, который еще жив. Я так хорошо говорил за столом о благодати и столько цитировал Св. Августина, что аббат и его прихожанка приняли меня за ревностного янсениста, что вполне противоречило действительности. М-ль де ла М-р на меня не смотрела и, полагая, что на это есть причины, я не адресовал ей ни слова.
После обеда я предложил м-м ХХХ доставить ей виновного на следующий день, выйдя с ним пешком из Комеди Франсез, будучи уверен, что в темноте он не узнает ее дома.
Но Тирета только рассмеялся, когда я все ему рассказал, спросив с трагикомическим видом, какую ужасную акцию осмелился он провести по отношению к женщине, респектабельной во всех отношениях.
– Никогда бы не мог подумать, – ответил он, – что она может вообразить, что кому-нибудь это понравится.
– Значит, ты не отрицаешь, что сотворил ей этот ужас?
– Если она так сказала, я не буду отрицать, но чтоб мне умереть, если я могу в этом поклясться. В той позиции, в которой я находился, очевидно, я не мог действовать иначе. Но я ее успокою и постараюсь быть краток, чтобы не заставлять тебя ждать.
– Отнюдь нет. Твой и мой интерес диктуют, наоборот, чтобы ты был долог, поскольку я уверен, что не соскучусь. Ты должен будешь не замечать, что я в доме; и если все же ты не останешься там больше, чем на час, возьми фиакр и уходи. Их стоянка на улице. Ты понимаешь, что минимальная вежливость м-м ХХХ по отношению ко мне должна обязать ее не оставлять меня одного и без огня. Ты помни, что она хорошего происхождения, богата и набожна. Постарайся проявить свою дружбу не только головой к затылку, но и de faciem ad faciem, (Лицом к лицу – Д’Аламбер осмелился его поправить. Я поступил так же. Какая нужда королю говорить на латыни, не выучив ее. (Примечание автора на полях)).
Ты, возможно, сделаешь удачный ход. Если она спросит тебя, почему ты не видишься больше с Ламбертини, ты не говори ей причины. Твоя скромность ей понравится. Постарайся, наконец, хорошенько искупить свое отвратительное преступление.
– Мне сказать ей нечего, кроме правды. Я не знал, куда входил.
– Соображение уникальное, и француженка отлично сможет счесть его достаточным.
Выйдя из Комедии, я отослал мою коляску и отвел виновного к матроне, которая встретила нас очень благородно, сказав, что она никогда не ужинает, но если бы мы ее предупредили, она бы что-нибудь для нас нашла. Выложив ей все последние новости, что были в ходу, я попросил ее позволить мне оставить с ней моего друга, поскольку должен идти встретиться с иностранцем в Отель Испании.
– Если я задержусь хотя бы на четверть часа, – сказал я Тирета, – ты меня не жди. Ты найдешь фиакры на улице. Мы увидимся завтра.
Вместо того, чтобы спуститься по лестнице, я вошел в смежную комнату через дверь из коридора. Две или три минуты спустя я увидел м-ль де ла М-р, которая, держа в руке подсвечник, сказала мне со смеющимся видом, что не могла понять, не сон ли это.
– Моя тетя, – сказала она, – велела мне не оставлять вас одного и сказать горничной, чтобы не входила, пока она не позвонит. Вы оставили «Шесть ударов» наедине с ней и она велела мне говорить тихо, потому что он не должен знать, что вы здесь. Могу я узнать, что это за странная история? Уверяю вас, мне очень любопытно.
– Вы все узнаете, мой ангел, но я замерз.
– Она велела мне также развести хороший огонь. Она стала очень щедра. Видите, вот свечи.
Мы сели у огня и я рассказал ей всю историю, которую она выслушала с большим вниманием, но не очень хорошо поняла то место, где речь пошла о том, чтобы объяснить ей сущность преступления Тирета. Я не преминул объяснить ей дело в ясных выражениях, сопроводив их также жестикуляцией, что заставило ее смеяться и краснеть одновременно. Я сказал ей, что, обустраивая ее тетушке сатисфакцию, я организовал все таким образом, чтобы наверняка самому оставаться все это время с ней наедине, и, говоря это, я в первый раз покрывал поцелуями все ее красивое лицо, что, поскольку это не сопровождалось никакими другими вольностями, она восприняла благоприятно, как неоспоримое свидетельство моей нежности.
– Две вещи, – сказала мне она, – я не понимаю. Первая – как «Шесть ударов» смог проделать с моей тетушкой это преступление, которое, как я понимаю, должно было прекрасно ощущаться атакуемой стороной, и было бы невозможно, если бы она не была согласна; это заставляет меня предположить, что моя добрая тетушка была согласна.
– Конечно, потому что она могла бы изменить позу.
– И даже без этого, поскольку, как мне кажется, от нее зависело сделать для него проникновение невозможным.
– В этом, мой ангел, вы ошибаетесь. Настоящему мужчине нужна только неизменность позиции, и он преодолеет барьер достаточно легко, Кроме того, я не предполагаю, что у вашей тети этот вход таков же, как, например, у вас.
– В этом отношении, я не поддамся и сотне Тирета. Другая вещь, которой я себе не представляю, это как она смогла поведать вам об этой обиде, которая, как она должна была понять, если у нее есть хоть капля ума, могла вас лишь рассмешить, как смешит и меня. Я не только не понимаю, на какого рода сатисфакцию она могла бы претендовать со стороны безумного грубияна, который, быть может, не придает этому событию никакого значения. Я полагаю, что он попытался бы сделать то же самое по отношению к любой персоне, сзади которой он оказался бы в этот момент умопомешательства.
– Вы рассуждаете правильно, потому что он сам мне сказал, что знал, что вошел, но по правде не знал, куда.
– Он странное животное, этот ваш друг.
– В том, что касается сатисфакции, на которую претендует ваша тетя, и которую она, возможно, рассчитывает получить, она мне ничего не говорила, но думаю, что эта сатисфакция должна будет состоять в признании в любви, которое он должен будет сделать в надлежащей форме, искупив тем самым свою вину, совершенную по недомыслию, и сделав его истинным любовником, так что он проведет эту ночь с ней, как если бы они поженились этим утром.
– Ох! В довершение всего, история становится совсем забавной. Я ничего не понимаю. Она слишком заботится о своей прекрасной душе; и еще, как вы хотите, чтобы этот молодой человек смог играть роль влюбленного, имея перед собой ее лицо? Он ведь не видел его, когда делал с ней это на Гревской площади. Видели ли вы когда-нибудь лицо, столь неприятное, как у моей тетушки? У нее лицо, покрытое пятнами, гноящиеся глаза, гнилые зубы, невыносимый запах изо рта. Она отвратительна.
– Это все пустяки, сердце мое, для такого человека, как он, который, в возрасте двадцати пяти лет, всегда готов. Это я могу быть мужчиной, только будучи взволнованным такими прелестями, как ваши, которыми мне не терпится обладать полностью и законным образом.
– Вы найдете во мне самую влюбленную из женщин и я уверена, что настолько завладею вашим сердцем, что ничто не сможет от меня его вырвать, до самой моей смерти.
Прошел уже час, беседа ее тетушки с Тирета все еще продолжалась, и я понял, что дело пошло всерьез.
– Поедим чего-нибудь, – сказал я ей.
– Я могу дать вам лишь хлеба, сыра и ветчины, и вина, которое нравится моей тете.
– Несите все, потому что мой желудок приходит в упадок.
Едва я это сказал, она ставит два куверта на маленький столик и приносит все, что есть. Сыр был из Рокфора, а ветчина превосходна. Всего хватило бы на десять персон, но мы все съели с неутолимым аппетитом и опустошили две бутылки вина. Удовольствие блестело в прекрасных глазах очаровательной девы, и за этим простым столом мы провели не менее часа.
– Вам не интересно знать, – спросил я, – что ваша тетя делает наедине с «Шестью ударами» в течение двух с половиной часов?
– Может, они играют? Но впрочем, есть дыра. Я вижу только две свечи, у которых остались лишь кончики фитилей длиной с дюйм.
– Разве я не говорил вам? Дайте мне покрывало, и я лягу на этом канапе, а вы идите ложиться спать. Пойдемте, посмотрим вашу кровать.
Она ввела меня в свою маленькую комнату, где я увидел милую кровать, маленькую скамеечку для молитвы и большое распятие. Я сказал ей, что ее кровать слишком мала, она ответила, что нет, и показала, что прекрасно помещается там во весь рост. Очаровательная у меня будет жена!
– Ах! Ради бога, не двигайтесь и позвольте мне расстегнуть это платье, которое скрывает неизвестные мне прелести, которые я хотел бы съесть.
– Дорогой друг, я не могу вам сопротивляться, но потом вы перестанете меня любить.
Ее расстегнутое платье, позволяло мне видеть ее лишь наполовину, она не смогла противиться моим настойчивым попыткам. Она вынуждена была позволить мне обнажить перед моим взором все ее прелести и позволить моему рту их все пожирать, и, пылая, наконец, от желания, так же, как и я, она раскинула руки, умоляя меня пощадить самое сокровенное. Кто бы не обещал в подобных обстоятельствах? Но какова также должна быть и женщина, если она влюблена, что думает убедить любовника сдержать данное обещание, когда амур утвердился на месте разума? Проведя час в любовных играх, о которых она до сей поры не имела никакого представления, и воспламенивших ее, я встал, смертельно уязвленный обязанностью ее покинуть, не выдав ее прелестям той главной награды, которую они заслуживали. Я увидел, что она вздыхает.
Поскольку я решил идти ложиться на канапе, а огонь уже погас, я попросил у нее принести одеяло, так как было холодно. Оставаясь в кровати вместе с ней и воздерживаясь, как я ей обещал, как легко понять, я задремал. Она сказала, чтобы я оставался в постели, пока она пойдет разжечь хворост. Второпях, она не подумала одеться, и в течение минуты я наблюдал жаркое пламя, но не столь жаркое, как то, что зажгли во мне ее прелести, сила воздействия которых в позиции, которую она приняла для разжигания хвороста, стала непреодолимой. Я бросился к ней с намерением нарушить данное ей слово, уверенный, что ей не хватит сил противиться. Я сказал, сжав ее в объятиях, что окажусь в незавидном положении, если, хотя бы из чувства жалости, если не любви, она не решится сделать меня счастливым.
– Станем же счастливы, – отвечала мне она, – и будьте уверены, что, с моей стороны, жалость тут не при чем.
Мы возлегли на канапе и разделились лишь на рассвете. Снова разведя огонь, она пошла к себе, заперлась и улеглась спать, а я тоже заснул.
Разбудила меня ближе к полудню сама м-м ХХХ, в галантном дезабилье.
– Добрый день, мадам. Что с моим другом?
– Он мой. Я его простила. Он дал мне самые очевидные доказательства, что он ошибся. Он пошел к себе. Вы ему не говорите, что вы провели ночь здесь, так как он может подумать, что вы провели ее с моей племянницей. Я вам обязана. Я нуждаюсь в вашем прощении, и особенно в вашей скромности.
– Будьте в этом уверены, мадам; следует ли мне знать, что вы его простили?
– Почему нет? Этот мальчик – нечто, стоящее выше прочих смертных. Если бы вы знали, как он меня любит! Я ему благодарна. Я попросила его поселиться ко мне с пенсионом на год, и он будет прекрасно устроен и еще лучше накормлен. Поэтому мы сегодня уедем в Вийетт, где у меня красивый маленький домик. В этих обстоятельствах я должна действовать таким образом, чтобы оградиться от злых языков. В Вийетте у него будет хорошая комната, куда вы сможете приезжать, когда захотите, чтобы поужинать. Вы найдете там и добрую постель. Я только опасаюсь, что вам там будет надоедать, так как моя племянница девица неприветливая.
– Ваша племянница весьма любезна, она накормила меня вкусным ужином и составила мне добрую компанию вплоть до трех часов утра.
– Я очень рада. Как это она проделала – ведь у нас ничего не было?
– Мы съели все, что было, и потом она отправилась спать, а я прекрасно выспался здесь.
– Я не думала, что у этой девушки достанет ума на такое. Пойдемте, повидаемся с ней. Она заперлась. Открывай же, открывай. Зачем ты заперлась, недотрога. Месье – очень порядочный человек.
Она открыла свою дверь, извиняясь, что предстала перед нами в таком неодетом виде, но она была ослепительна.
– Ну вот, – говорит мне ее тетя, – видите вы ее? Она недурна. Жаль, что она столь глупа. Ты хорошо сделала, что накормила ужином г-на Казанову. Я играла всю ночь, а когда играют, теряют голову. Я совершенно не помнила, что вы здесь, и, зная, что граф Тирета ужинал, ни о чем не распорядилась. Но мы еще поужинаем. Я взяла этого мальчика на пансион. У него превосходный характер и он умен. Вы увидите, как быстро он научится говорить по-французски. Одевайся, племянница, потому что нам надо паковаться. Мы отправляемся после обеда провести весну в Вийетт. Слушай. Не стоит рассказывать об этом приключении моей сестре.
– Не сомневайтесь, тетушка. Разве я говорила ей что-нибудь в другие разы?
– Видите, как она глупа! Слушая это «другие разы», можно подумать, что такое случается со мной не в первый раз.
– Я хотела сказать, что я никогда ей ничего не рассказываю.
– Мы обедаем в два часа, вы пообедаете с нами, и мы тут же уедем. Тирета мне обещал, что он будет здесь со своим маленьким багажом. Мы поместим все в фиакр.
Я предложил ей не откладывать и отправился быстро к себе, любопытствуя узнать от самого Тирета обо всей этой истории.
По своем пробуждении он мне рассказал, что продался на год за двадцать пять луи в месяц, жилье и питание.
– Я тебя поздравляю. Она мне сказала, что ты – сверхчеловек.
– Я работал над этим всю ночь, но я уверен, что ты также не терял времени даром.
– Одевайся, потому что я должен идти на обед, и я хочу видеть, как ты уедешь в Вийетт, куда я также буду иногда приезжать, потому что твоя цыпочка мне сказала, что у меня там будет комната.
Мы прибыли туда в два часа. М-м ХХХ, одетая юной девушкой, являла собой фигуру комическую, а м-ль де ла М-р была прекрасна как звезда. В четыре часа они уехали вместе с Тирета, а я направился в Итальянскую Комедию.
Я был влюблен в эту девицу, но дочь Сильвии, с которой я не имел другого удовольствия, кроме ужинов в семейном кругу, ослабляла эту любовь, в которой мне не оставалось ничего большего и желать. Нам нравятся женщины, которые, несмотря на то, что любят нас и уверены, что нами любимы, отказывают нам в своих милостях и огорчают нас. Если эти женщины нас любят, они должны бояться нас потерять и, соответственно, должны делать все, что могут, чтобы поддерживать все время в нас желание. Если мы их получаем, очевидно, мы перестаем их желать, потому что к тому, что имеют, уже не стремятся; женщины правы, когда отказывают нам в наших желаниях. Но если взаимные желания двух полов равны, почему никогда не бывает так, что мужчина отказывается от женщины, которую любит и которой добивается? Соображение может быть только такое: любящий мужчина, зная, что его любят, ищет еще случая получить то же наслаждение и от других объектов. Поэтому ему не терпится удовлетворить свое желание. Женщина, в своих собственных интересах, должна искать побольше поводов для получения удовольствия, чем даже ей самой нужно; по этой же причине она оттягивает, как только можно, эти моменты, потому что, быстро отдавшись, она рискует потерять то, что ее интересует больше всего: свое собственное удовольствие. Это чувство присуще природе женского пола, и оно единственное есть причина кокетства, которое разум в женщине прощает, и которое она никогда не простит в мужчине. Поэтому такое поведение встречается у мужчин крайне редко.
Дочь Сильвии меня любила и знала, что я ее люблю, хотя я и никогда не решился бы объясниться; Однако она тщательно избегала мне это показать. Она опасалась поощрить меня к тому, чтобы потребовать от нее милостей, и, будучи неуверенна, что у нее хватит сил мне в этом отказать, боялась после этого меня потерять. Ее мать и отец предназначали ее Клеману, который в течение трех лет обучал ее игре на клавесине, она его знала и не имела оснований отказываться, поскольку, хотя и не будучи в него влюбленной, она его не ненавидела. Зная, что он ей предназначен, она смотрела на него с удовольствием. Самая удачная партия для хорошо образованных девушек – это предаться в руки Гименея без участия Амура, и они этому не противятся. Кажется, они знают, что их мужья не созданы, чтобы стать их возлюбленными. То же соображение, в основном, царит в Париже и среди мужчин. Французы ревнивы по отношению к своим любовницам, но никогда – к своим женам; но учитель клавесина Клеман был, по-видимому, влюблен в свою ученицу, и она была страшно довольна, что я это замечал. Она знала, что эта уверенность заставит меня, в конце концов, объясниться, и она не ошиблась. Я решился после отъезда м-ль де ла М-р, и в этом раскаялся. После моего объяснения Клеман был уволен, но я оказался в худшем положении. Мужчина, который заявляет о своей влюбленности иначе, чем пантомимой, должен отправляться в школу. Три дня спустя после отъезда Тирета я поехал в ла Вийетт отнести ему весь его багаж, и м-м ХХХ встретила меня с удовольствием. В тот момент, когда мы садились за стол, приехал аббат Форже. Этот ригорист, который в Париже демонстрировал по отношению ко мне большую дружбу, за обедом ни разу не взглянул на меня, и то же – по отношению к Тирета. Но тот потерял, наконец, спокойствие к десерту. Он встал из-за стола первым, попросив м-м ХХХ извещать его каждый раз, когда за ее столом будет этот месье, с которым та сразу же и удалилась. Тирета повел меня посмотреть свою комнату, которая, естественно, соседствовала с комнатой мадам. Пока он размещал свои вещи, мадемуазель отвела меня осмотреть мое жилище. Это была хорошенькая комната на первом этаже; ее комната была напротив. Я продемонстрировал ей, с какой легкостью я смогу пройти к ней, когда все улягутся, но она ответила мне, что ее кровать слишком мала, и это она придет ко мне.
Она рассказала мне про все те глупости, что проделывала ее тетушка с Тирета.
– Она полагает, – сказала мне она, – что мы не догадываемся, что он спит с ней. Она позвонила сегодня утром в одиннадцать часов и приказала мне пойти спросить у него, хорошо ли он спал ночью. Видя его несмятую постель, я спросила у него, не провел ли он ночь за письмом. Он сказал мне, что да, попросив ничего не рассказывать мадам.
– Он тебе строит глазки?
– Нет. Но тем не менее. С его небольшим умом он должен все же понимать, что он достоин презрения.
– Почему?
– Потому что моя тетя ему платит.
– Ты мне тоже платишь.
– Это правда, но той же монетой, что и ты мне.
Ее тетя говорила, что у нее нет ума, и сама так думала. Но у нее был ум и добродетель, и я бы ее никогда не обольстил, если бы она не была воспитана в монастыре бегинок.
Я вернулся к Тирета, где провел добрый час. Я спросил у него, доволен ли он своей ролью.
– Я исполняю ее без удовольствия, но поскольку это мне ничего не стоит, я не чувствую себя несчастным. Мне не нужно смотреть на ее лицо, а в остальном она вполне ничего.
– Она заботится о тебе?
– Она переполнена чувствами. Этим утром она не хотела, чтобы я пожелал ей доброго утра. Она говорит мне, что уверена, что ее отказ меня огорчит, но что я должен отдать предпочтение своему здоровью перед удовольствием.
Когда аббат Форж ушел и мадам осталась одна, мы пошли в ее комнату. Она приняла меня совершенно по-приятельски, обращаясь с Тирета как с ребенком, что выглядело совершенно возмутительно. Но мой бравый друг дарил ей свои ласки с такой добросовестностью, что я вынужден был залюбоваться. Она заверила его, что он больше не увидит аббата Форжа. Тот сказал, что она погибшая женщина в этом мире и в ином, и пригрозил покинуть ее, и она поймала его на слове.
К м-м ХХХ пришла с визитом комедиантка по имени Кино, оставившая театр, соседка, а четверть часа спустя я увидел м-м Фавар с аббатом де Вуазенон, еще через четверть часа пришла м-ль Амелин с красивым мальчиком, которого она называла своим племянником и которого звали Шалабр; это было похоже на правду, но она не считала, что на этом основании она должна изображать его мать. Г-н Патон, пьемонтец, который был с ней, после многих упрашиваний организовал банк фараон и менее чем через два часа собрал деньги у всей компании, за исключением меня, поскольку я не играл. Я занимался только м-ль де ла М-р. Помимо всего, банкер был явный трус, но Тирета заметил это лишь после того, как проиграл все свои деньги и сотню луи на слово. Банкер, впрочем, бросил карты, и Тирета сказал ему на добром итальянском, что он жулик. Пьемонтец весьма хладнокровно ему ответил, что он ошибается. Я сказал, что Тирета пошутил, и заставил его, хотя и со смешком, в этом признаться. Он удалился в свою комнату. Дело не имело никакого продолжения, и Тирета признал, что был неправ.(Восемь лет спустя я увидел г-на Патона в Петербурге, а в 1767 году он был убит в Польше (Примечание автора на полях).)
Тем же вечером я сделал ему самое серьезное замечание. Я указал ему, что когда он садится играть, он должен составить свое мнение о банкере, который может быть и жуликом, но одновременно и храбрым, и соответственно, осмеливаясь ему это говорить, он рискует жизнью.
– Значит, я должен допустить, чтобы меня обкрадывали?
– Да, потому что у тебя есть выбор. Ты волен не играть.
– Клянусь богом, я не заплачу сотню луи.
– Советую тебе их заплатить, даже до того, как он их потребует.
Три четверти часа спустя, после того, как я лег, м-ль де ла М-р бросилась в мои объятия, и мы провели гораздо более сладкую ночь, чем предыдущая.
На другой день, позавтракав с м-м ХХХ и ее дружком, я вернулся в Париж. Три или четыре дня спустя пришел Тирета мне сказать, что прибыл торговец из Дюнкерка, что он должен обедать у м-м ХХХ и что она хочет, чтобы я пришел на обед. Я оделся с сокрушенным сердцем. Я не мог ни согласиться с этим браком, ни сделать то, что я мог бы, чтобы ему помешать. Я нашел м-ль де ла М-р более принаряженной, чем обычно.
Ваш жених, – сказал я, – не нуждается во всем этом великолепии, чтобы найти вас очаровательной.
– Моя тетя так не думает. Мне любопытно его увидеть, хотя, учитывая то, что вы говорили, я уверена, что он никогда не будет моим мужем.
Минуту спустя пришел он, вместе с банкиром Корнеманом, который устраивал этот брак. Я увидел прекрасного мужчину, около сорока лет, с открытым лицом, очень хорошо, хотя и просто, одетого, который обратился к м-м ХХХ в простой и вежливой манере и взглянул на лицо м-ль де ла М-р, лишь когда ее ему представили. Его вид при этом стал более нежным и без всяких околичностей он заявил ей, что он хотел бы, чтобы впечатление, которое она произвела на него, хотя бы в малой степени совпало с тем, которое он мог бы произвести на нее. Она ответила ему только глубоким реверансом, не расставаясь с серьезным вниманием, с которым она его изучала.
Сели за стол, обедали и говорили о разных вещах, но не о браке. Будущие супруги переглядывались с любопытством, но не разговаривали. После обеда мадемуазель удалилась в свою комнату, и мадам пошла в свой кабинет вместе с г-ном Корнеманом и женихом, где они провели два часа. Выйдя оттуда и перед тем, как месье должны были вернуться в Париж, она позвала племянницу и в ее присутствии сказала жениху, что ждет его завтра, и что она уверена, что ее племянница увидит его с удовольствием.
– Не правда ли, моя дорогая племянница?
– Да, дорогая тетя. Я с удовольствием увижу месье завтра.
Не дожидаясь этого ответа, он удалился.
– Ну что ж, что скажешь о твоем муже?
– Позвольте, тетя, я скажу вам об этом только завтра; и за столом будьте добры говорить со мной, потому что, может быть, мое лицо его и не оттолкнуло, но он не может еще судить, разумна ли я.
– Я боялась, что ты будешь говорить свои глупости и испортишь хорошее впечатление, которое ты на него произвела.
– Тем лучше для него, если правда его разочарует, и тем хуже для него и для меня, если мы решим пожениться, не узнав, как следует, заранее наш образ мыслей.
– Как ты его находишь?
– Он мне кажется приятным; но подождем до завтра. Возможно, это он не захочет меня завтра, поскольку я так глупа.
– Я отлично знаю, что ты считаешь себя умной, и именно потому, что ты глупа, вопреки тому, что г-н Казанова полагает в тебе глубокий ум. Он смеется над тобой, дорогая племянница.
– Я уверена в обратном, дорогая тетя.
– Полно. Вот глупость во всех ее формах.
– Но я прошу у вас прощения, – говорю я. Мадемуазель совершенно права, полагая, что я далек от того, чтобы над ней насмехаться, и я вполне уверен, что завтра она будет блистать во всех темах, которые мы ей предложим.
– Тогда вы оставайтесь здесь, и мы убедимся в этом. Мы составим партию в пикет, и я буду играть против вас «шуэт». Моя племянница будет играть с вами в паре, потому что нужно, чтобы она училась.
Тиретта попросил позволения у своей цыпочки пойти в комедию. Мы не делали никаких визитов, мы играли вплоть до ужина, и, послушав Тирета, который хотел дать нам отчет о комедии, пошли спать.
Я был поражен, увидев перед собой м-ль де ла М-р, полностью одетую.
– Я пойду раздеться, – сказала мне она, – после того, как мы поговорим. Скажи мне без уверток, должна ли я согласиться на этот брак?
– Как ты находишь г-на Х?
– Он мне отнюдь не противен.
– Тогда соглашайся.
– Этого достаточно. Прощай. С этого момента наши любовные отношения окончены, А наша дружба начинается. Я иду ложиться в свою кровать.
– Наша дружба начнется завтра.
– Нет, Представь, что я умерла, и ты тоже. Мне трудно, но это решено. Если я должна стать женой этого человека, я должна быть уверена, что достойна ею быть. Может так статься, что я буду счастлива. Не удерживай меня, позволь мне уйти. Если бы ты знал, как я тебя люблю!
– По крайней мере, обнимемся.
– Увы, нет.
– Ты плачешь.
– Нет. Ради бога, позволь мне уйти.
– Сердце мое, ты будешь плакать в своей комнате. Я в отчаянии. Останься. Я буду твоим мужем.
– Нет, я больше не могу на это согласиться.
Произнося эти последние слова, она вырвала свои руки из моих и вышла, оставив меня охваченным стыдом. Я не спал. Я был в ужасе. Я не знал, виновен ли я больше в том, что соблазнил ее, или в том, что отдал ее другому.
На завтра, на обеде она блистала. Она беседовала со своим будущим столь разумно, что я видел, что он очарован сокровищем, которым будет обладать. Я притворился, как обычно, что у меня болят зубы, чтобы не разговаривать. Печальный, задумчивый и больной также и от ужасной ночи, которую провел, я с удивлением чувствовал, что влюблен, ревную, в отчаянии. М-ль де ла М-р со мной не говорила и на меня не глядела; она была права, и я ее не упрекал.
После обеда мадам вошла в свою комнату вместе с племянницей и г-ном Х, и вышла оттуда через час, сказав нам, что мы должны их поздравить, что через восемь дней она станет женой месье и уедет в тот же день с ним в Дюнкерк.
– Завтра, – добавила она, – мы все приглашены на обед к г-ну Корнеману, где будет подписан контракт.
Не могу описать читателю несчастное состояние моей души.
Решено было пойти в Комеди Франсез и, поскольку их было четверо, я уклонился. Я отправился в Париж и, думая, что у меня лихорадка, сразу лег спать, но вместо отдыха, в котором я нуждался, мучения, которые жестокое раскаяние причиняло моей душе, увлекли меня в ад. Я думал, что должен помешать этому браку, либо умереть. Уверенный, что м-ль де ла М-р меня любит, я не мог поверить, что она мне воспротивится, когда я дам ей понять, что ее отказ мне будет стоить жизни. С этой мыслью я встал с постели и написал ей письмо, полное самых бурных изъявлений страсти… Утихомирив таким образом мою боль, я заснул и поздним утром отправил письмо Тирета, поручив ему тайно передать письмо мадемуазель и заверив, что не выйду, пока не получу ответа. Я получил его четыре часа спустя. Вот, что я, содрогаясь, прочел:
«Дорогой друг, уже поздно. Выходите. Приходите обедать к г-ну Корнеману, и будьте уверены, что в течение нескольких недель мы оба сможем одержать над собой большую победу. Наша любовь останется лишь в нашей памяти. Прошу вас больше мне не писать».
Я был в отчаянии. Этот отказ в сочетании с более чем жестоким приказом больше ей не писать привел меня в ярость. Я уверился, что ее непостоянная душа стала влюблена в торговца… Эта мысль внушила мне желание пойти и убить его. Сотни мрачных способов выполнить мой бесчестный проект толпой проносились в моем влюбленном воображении, ревнивом, воспаленном, обуреваемом гневом и позорной досадой. Этот ангел мне казался чудовищем, которое я должен ненавидеть, либо неверной, которую я должен покарать. Я подумывал о суровых средствах и, вопреки тому, что мне это казалось подлым, я бы, не колеблясь, убил ее. Я решился пойти найти жениха, который остановился у Корнемана, чтобы разъяснить ему все, что произошло между девушкой и мной, и если этого окажется недостаточно, чтобы заставить его забыть свой проект женитьбы на ней, заявить ему, что один из нас должен умереть, и, наконец, убить его, если он отбросит мой вызов.
Вполне решившись последовать моему ужасному плану, о котором я теперь не могу вспомнить без стыда, я поел с волчьим аппетитом, лег в постель и проспал глубоким сном всю ночь. Пробудившись, я нашел свое состояние без изменений. Я оделся, положил заряженные пистолеты в карманы и направился к Корнеману, на улицу Гренье-Сен-Лазар. Мой соперник спал. Я жду. Четверть часа спустя я вижу его передо мной с распростертыми объятиями. Он меня обнимает; он говорит, что ждал этого визита, потому что, видя меня в качестве друга его невесты, он должен был догадаться и о других чувствах к ней, обуревавших меня, и что он вполне будет сочувствовать ее мнению обо мне.
Физиономия этого благородного человека, его открытый вид, сила его слов неожиданно лишили меня решимости говорить с ним так, как я хотел. Я стал краток, Я не знал, что ему сказать. К счастью, он дал мне время прийти в себя. Он говорил со мной добрую четверть часа, пока не пришел г-н Корнеман и нам не принесли кофе. Когда я должен был, наконец, что-то ему сказать, я говорил только вежливые слова.
Выйдя из этого дома совсем другим, чем когда я в него вошел, я ощутил себя пораженным, не только обрадованным, что не последовал своему проекту, но пристыженным и униженным тем, что лишь благодаря случаю я не стал злодеем, подлецом. Я встретился с моим братом и, проведя утро с ним, я отвел его обедать к Сильвии, где оставался вплоть до полуночи. Я увидел, что ее дочь – это та, что заставит меня забыть м-ль де ла М-р, которую я не мог больше видеть вплоть до ее свадьбы.
На другой день я сложил в шляпную коробку весь свой необходимый багаж и направился в Версаль беседовать с министрами.
Глава IV
Аббат де Лавиль. Аббат Галиани. Характер неаполитанского диалекта. Я отправляюсь в Дюнкерк, с секретной миссией. Я получаю искомое. Я возвращаюсь в Париж дорогой через Амьен. Мои довольно комичные выходки. Г-н де ла Бретоньер. Мой доклад нравится. Я получаю пятьсот луи. Размышления.
Министр иностранных дел спросил меня, не склонен ли я и не чувствую ли в себе способностей к секретным поручениям. Я ответил, что чувствую склонность ко всему, что представляется мне порядочным, дает возможность заработать денег, а что касается таланта, то оставляю это на его усмотрение. Он сказал мне переговорить с аббатом де Лавиль.
Этот аббат, первый помощник, был человек холодный, глубокий политик, душа своего департамента, где совершались важные дела. Он хорошо послужил государству, будучи управляющим делами посольства в Гааге, признательный король, в благодарность, дал ему аббатство, которое он и получил в день своей смерти. Получилось немного слишком поздно. Наследником всего того, что он получил, явился Гарнье, человек случая, который был поваром г-на д’Аржансон и стал весьма богатым человеком, извлекши пользу из дружбы, которую аббат де Лавиль всегда к нему питал. Эти два друга примерно одного возраста оставили у нотариуса свои завещания, в которых каждый из них завещал другому все свое состояние. Соответственно, тот, кто пережил другого, был Гарнье.
Итак, этот аббат, изложив мне краткую диссертацию о природе секретных поручений и об осторожности, которую должны соблюдать те, кто этим занимается, сказал, что прежде всего должен разъяснить мне, что из себя представляет некое дело, на которое я могу согласиться, и приглашает меня пообедать. Я познакомился за столом с аббатом Галиани, секретарем посольства Неаполя. Он был братом маркиза, о котором я говорил, когда описывал мое путешествие в эту страну. Этот аббат был весьма умен. Он обладал в высшей степени талантом придавать всему, что он говорил самого серьезного, комическую окраску, притом без всякого смеха, говоря превосходно по-французски, с легким неаполитанским акцентом, что делало его ценимым во всякой компании. Аббат де Лавиль сказал ему, что г-ну де Вольтеру понравилось, как он перевел его «Генриаду» неаполитанскими стихами, так, что вызывал смех у читателей. Тот ответил, что Вольтер ошибся, потому что такова природа неаполитанского языка, на который невозможно переложить стихи, не вызывая смеха.
– Представьте себе, – сказал он, – что мы бы имели перевод Библии и Илиады, и они вызывали бы смех.
– Оставим в стороне Библию, но относительно Илиады я удивлен.
Возвратившись в Париж накануне отъезда м-ль де ла М-р, ставшей м-м П., я не мог себе отказать пойти к м-м ХХХ, чтобы принести той свои поздравления и пожелать ей хорошего путешествия. Ее непринужденный и удовлетворенный вид, вместо того, чтобы меня уколоть, мне понравился. Явный знак моего выздоровления. Мы поговорили без малейшей враждебности. Ее муж показался мне очень достойным человеком. Отвечая на его авансы, я предложил нанести ему визит в Дюнкерке, без намерения сдержать свое слово, но я его сдержал. Итак, Тирета остался один со своей куколкой, чья привязанность становилась с каждым днем все более безумной.
В спокойствии души я продолжал питать чистую любовь к Манон Баллетти, которая ежедневно демонстрировала мне все новые знаки своей сердечной привязанности. Дружба и уважение, которые привязывали меня к ее семье, удерживали меня от всякого намерения ее соблазнить, но, делаясь день ото дня все более в нее влюбленным и не думая просить ее в жены, я не вдумывался, какова же может быть моя цель. В начале мая аббат де Берни написал мне явиться в Версаль переговорить с аббатом де Лавиль. Этот аббат спросил, не буду ли я любезен посетить восемь-десять военных кораблей, стоящих на рейде Дюнкерка, чтобы познакомиться с офицерами, которые ими командуют, с тем, чтобы быть в состоянии сделать ему доклад обо всем, что касается их снабжения, численности матросов, разного рода боеприпасов, управления и полиции. Я ответил, что могу провести такое исследование и по возвращении подам ему письменный рапорт, и что он сам скажет, хорошо ли я справился с поручением.
– Это будет, – сказал он, – поручение секретное, я не могу дать вам никакого письма. Я могу только пожелать вам доброго пути и дать вам денег.
– Мне не надо никаких денег. Вы дадите мне по моем возвращении столько, сколько сочтете нужным; и до отправления мне понадобится не менее трех дней, потому что я должен обеспечить себя несколькими письмами.
– Постарайтесь только вернуться до конца месяца. Это все.
В тот же день я имел во дворце Бурбон получасовую беседу со своим покровителем, который, не одобрив мою деликатность при отказе от выдачи денег авансом, дал мне сверток в сотню луи, будучи, как всегда, сам человеком деликатным. С этого момента я больше не прибегал к заимствованиям из кошелька этого щедрого человека, за исключением случая в Риме, четырнадцать лет спустя.
– Что касается секретного поручения, – сказал он, – я сожалею, что не могу дать вам паспорт, но вы сможете получить его под неким предлогом у камергера этого года, по протекции Сильвии. Вам надо будет вести себя крайне осмотрительно, и, в особенности, в отношении коррупции, поскольку, вы, полагаю, понимаете, что если с вами случится какая-нибудь неприятность, жалоба вашему поручителю вам не поможет. От вас откажутся. Единственные признаваемые шпионы – это послы. Вам необходимо проявлять сдержанность и осторожность. Если по вашем возвращении вы покажете мне свой доклад, прежде чем нести его к аббату де Лавиль, я скажу вам свое мнение относительно того, о чем следует умолчать.
Весь захваченный этим делом, в котором я был совершенным новичком, я сказал Сильвии, что поскольку я собираюсь сопровождать до Кале неких англичан и затем вернуться в Париж, она оказала бы мне большое одолжение, если бы достала мне паспорт от герцога Жевр. Готовая мне помочь, она написала герцогу, сообщив мне, что я должен лично передать ее письмо в его собственные руки, поскольку такие паспорта выдаются только под расписку людям, которых рекомендуют. Они считаются действительными только в провинции Иль де Франс, но признаются по всему северу королевства. Я отправился туда вместе с ее мужем. Герцог был в своем поместье Сен-Туэн. Как только он меня увидел и прочел письмо, он приказал выдать мне паспорт, и, покинув Марио, я направился в ла Вийетт спросить у м-м ХХХ, не желает ли она, чтобы я что-нибудь передал от нее племяннице. Та сказала, что я мог бы отвезти ей коробку фарфоровых статуэток, если г-н Корнеман их еще не отправил. Я пошел к банкиру, который мне их отдал, и передал также ему сотню луи, попросив перевести эту сумму в вексель на надежный дом в Дюнкерке, с приватным поручением, потому что собираюсь туда для развлечения. Корнеман сделал все это с удовольствием, и к вечеру я уехал.
Три дня спустя я остановился в Дюнкерке, в гостинице Консьержери. Через час после приезда я сделал приятный сюрприз очаровательной м-м П., передав ей коробку и приветы от ее тети. В тот момент, когда она воздавала хвалы своему мужу, который сделал ее счастливой, пришел он сам и, обрадованный, что меня видит, предложил мне комнату, не спрашивая, надолго ли я в Дюнкерке. Разумеется, поблагодарив его и получив от него приглашение отобедать чем бог послал, я попросил его отвести меня к банкиру, которому меня рекомендовал г-н Корнеман.
Этот банкир, прочтя письмо, тут же выплатил мне сотню луи и попросил подождать его в моей гостинице к вечеру, чтобы представить меня коменданту. Это был г-н де Барай. Этот человек, очень вежливый, как все французы в должности, задав мне обычные вопросы, пригласил пообедать вместе с его супругой, которая была еще в комедии. Прием, который она мне оказала, был таков же, как и ее мужа, и, будучи отпущен для игры, я начал знакомиться со всеми – наземными и морскими офицерами.
Разглагольствуя о флотах всей Европы и выдавая себя за знатока, поскольку служил в военном флоте моей Республики, мне понадобилось всего три дня не только, чтобы свести знакомство лично со всеми капитанами кораблей, но и подружиться с ними. Я рассуждал, кстати и некстати, о конструкции кораблей, о венецианских способах маневрирования, и я замечал, что бравые моряки, которые меня слушали, интересовались мной больше, когда я болтал всякие пустяки, чем когда говорил о вещах тонких. Один из этих капитанов, который пригласил меня обедать на свой борт на четвертый день, сделал так, что меня приглашали все остальные, либо на завтрак, либо на полдник. Каждый, кто оказывал мне эту честь, занимал меня на весь день. Я проявлял любопытство ко всему, я спускался в трюм, задавал сотни вопросов, и находил повсюду молодых офицеров, которые старались произвести впечатление солидных, так что мне совершенно не пришлось вызывать пересуды. Я выяснял в доверительных беседах все, что мне было нужно для подтверждения моего доклада. Прежде чем лечь в постель, я записывал все, что выяснил за день хорошего и плохого об интересующем меня судне. Я спал только четыре-пять часов. За пятнадцать дней я счел, что в достаточной мере все выяснил.
В этом путешествии глупости и пустяки меня совершенно не занимали, мое поручение было единственным объектом моих размышлений и всех моих демаршей. Я обедал один раз у банкира де Корнеман, один раз – у м-м П. в городе и еще один – в ее маленьком доме в провинции, в одном лье от города. М-м П. меня туда отвезла, и, оказавшись наедине с ней, я видел, что она очарована моим поведением.
Я оказывал ей только те знаки внимания, которые присущи истиной дружбе. Видя, что она очаровательна, а мое любовное предприятие с ней закончилось лишь пять-шесть недель назад, я был удивлен своей холодностью. Я себя знал слишком хорошо, чтобы приписать мое поведение собственной добродетели. Отчего же это? Итальянская поговорка, описывающая природу этого явления, называет истинную причину: C… non vuol pensieri[15].
Моя миссия была закончена. Я попрощался со всеми, сел в почтовую карету и возвратился в Париж, поехав для собственного удовольствия другой дорогой, чем та, которой отправлялся. Приехав к полуночи не помню на какую почту, я заказал лошадей до следующей. Почтальон мне сказал, что следующая почта будет в Эр, военном городке, в который нельзя въезжать ночью. Я ответил ему, что меня впустят, и повторил приказ выдать двух лошадей для моей коляски. И вот Эр. Стучат и говорят: – курьер. Заставив прождать час, мне открывают и говорят, что я должен пойти поговорить с комендантом. Я иду, ругаясь, и меня проводят до самого алькова человека в элегантном ночном колпаке, лежащего с женщиной, как я замечаю, хорошенькой.
– Чей вы курьер? – спрашивает он.
– Ничей, но поскольку я тороплюсь…
– Я не желаю ничего больше знать. Мы поговорим завтра. А пока вы останетесь в кордегардии. Дайте мне спать. Идите.
Меня отводят в кордегардию, где я провожу остаток ночи, сидя на земле. Наступает день, я кричу, я ругаюсь, я говорю, что хочу уйти. Никто не отвечает. Звонит десять часов, я говорю офицеру в кордегардии, повысив голос, что комендант волен меня убить, но он не может отказать мне в письменных принадлежностях, ни отправить курьера в Париж. Он спрашивает мое имя; я даю его прочесть в моем паспорте; он говорит, что отнесет его прочесть коменданту, я вырываю паспорт из его рук; он говорит мне идти вместе с ним говорить с комендантом, и я соглашаюсь.
Идем. Офицер входит первый и выходит четыре минуты спустя, чтобы пригласить меня. Я представляю коменданту свой паспорт, он читает, поглядывая на меня, тот ли я человек, затем возвращает мне, говоря, что я свободен. Он приказывает офицеру позволить мне взять почтовых лошадей.
– А теперь, – говорю я ему, – я уже не тороплюсь. Я должен отправить кое-кому курьера и подождать его возвращения. Задержав мое путешествие, вы нарушили право.
– Это вы его нарушили, сказавшись курьером.
– Я, наоборот, сказал вам, что я не курьер.
– Вы сказали это почтальону, и этого достаточно.
– Почтальон ошибся. Я сказал ему только, что заставлю мне открыть.
– Почему вы не показали мне ваш паспорт?
– Почему вы не дали мне для этого времени?
– Через три-четыре дня мы узнаем, кто из нас ошибся.
– Делайте, что вам угодно.
Меня отводят на почту, которая в то же время и гостиница, и минуту спустя я вижу у дверей мою почтовую коляску. Я спрашиваю у начальника почты экспресс, готовый отправиться по моему приказу, комнату с хорошей кроватью, письменные принадлежности, хорошего бульону сразу и добрый обед на два часа. Я приказываю принести мой багаж и все, что находится в моей коляске, раздеваюсь, моюсь и собираюсь писать, сам не знаю, кому, так как, по правде говоря, понимаю, что не прав; но я притворялся важной персоной, и мне кажется, что надо придерживаться этой роли. Однако мне досадно, что я вызвался оставаться в Эре до возвращения экспресса, который я запросил. Я решил провести тут ночь и отдохнуть. Я был в рубашке и пил заказанный бульон, когда увидел перед собой коменданта.
– Я сожалею, – сказал он очень вежливо, – что вы соизволили рассердиться, в то время, как я лишь исполнял свой долг, поскольку я должен доверять словам вашего почтальона, которые он ни за что бы не сказал без вашего прямого приказа.
– Это возможно, но ваш долг не простирается до того, чтобы выгнать меня из вашей комнаты.
– Мне нужно было поспать.
– У меня сейчас такая же потребность, но вежливость мешает мне последовать вашему примеру.
– Осмелюсь ли я спросить, служили ли вы?
– Я служил на море и на суше, и я покинул службу в возрасте, когда другие начинают.
– Если вы служили, вы должны знать, что ворота военного города не открывают ночью иначе, чем для курьеров короля, либо высшего военного командования.
– Но после того, как их откроют, можно быть вежливым.
– Не будете ли вы столь любезны, чтобы одеться и прогуляться со мной?
Это предложение мне понравилось, хотя его высокомерие меня задело. Удар шпаги, нанесенный или полученный, предстал перед моим воображением во всей своей соблазнительной прелести. Я ответил ему со спокойным и уважительным видом, что честь пойти с ним прогуляться заставит меня пренебречь всеми моими другими делами. Я попросил его присесть, поскольку я не одет. Я беру штаны, брошенные на кровати, с пистолетами в карманах, вызываю парикмахера, который в две минуты причесывает мне волосы, достаю из клеенчатого футляра мою шпагу и прицепляю ее сбоку. Закрыв комнату, я даю ключ хозяину, и мы выходим.
Пройдя три или четыре улицы, мы входим через ворота во двор, который я счел проходным, но он останавливается в конце перед открытой дверью, и я вижу многочисленную компанию мужчин и женщин. Я чуть было не надумал убежать.
– Вот моя жена, – говорит мне комендант, и затем, без запинки, говорит им – вот, г-н де Казанова, который будет с нами обедать.
– Это здорово, – говорит красивая дама, поднимаясь, после того, как разложила свои карты, иначе, месье, я бы никогда не смогла простить вас за то мучение, которое вы причинили нам этой ночью, разбудив нас.
– Это, однако, ошибка, которую я хотел бы искупить, мадам. После подобного чистилища, позвольте вам сказать, я ощущаю себя оказавшимся в раю.
Она смеется и, предложив мне место рядом с собой, продолжает свою партию. Я мгновенно почувствовал себя захваченным во всех смыслах, но мне не оставалось ничего другого, как сохранять спокойствие, тем более что этот симпатичный фарс меня уберег, к моему большому счастью, от очень плохого шага и дал мне вполне удачный предлог отказаться от отправки, уж не знаю, кому, курьера, которого я заказал. Комендант, который чувствовал удовольствие от своей победы, стал очень весел, разговаривал о войне, о дворе, о текущих делах, непринужденно обращаясь ко мне, как будто между ним и мною никогда не было ни малейших разногласий. Он наслаждался, чувствуя себя героем пьесы; но, со своей стороны, я чувствовал себя молодым человеком, желающим заставить старого офицера дать ему сатисфакцию, поскольку там присутствовала некая особа, которая могла бы оказать мне всю честь, на которую я мог претендовать.
Нас обслужили, и для успеха своей роли, зависящего только от манеры игры, мне, не выспавшемуся ночью, к счастью, не приходилось во время обеда вступать в разговор, бросая лишь изредка удачные реплики, дававшие возможность блистать мадам. Она была не менее чем на тридцать лет моложе своего мужа, и за столом совершенно не говорилось о недоразумении, заставившем меня провести шесть часов в кордегардии, но на десерт сам комендант не удержался и побил стекла, выдав насмешливую фразу:
– Вы проявили себя простаком, – сказал он, – подумав, что я буду биться с вами. Я вас поймал.
– Не знаю, подумал ли я именно так, – ответил я, – но знаю, что мне стало вдруг любопытно, к чему приведет эта прогулка, и я восхищен вашим умом. Далеко не ощущая себя пойманным, я чувствую, что удовлетворен, и я даже вам благодарен.
Он мне не ответил, и мы вернулись к столу. Мадам приняла меня в свою игру под названием «Три», затем мы пошли прогуляться, и, ближе к вечеру, я откланялся, но уехал только на следующий день, после того, как переписал набело свой доклад.
В пять часов утра я спал в своей почтовой карете, когда меня разбудили. Я был у ворот города Амьен, и разбудил меня служащий бюро, в котором оплачивают право проезда въезжающие в город торговцы. Этот служащий спрашивает, не везу ли я чего-либо противного указам короля. В раздраженном состоянии, в которое впадет всякий, кого грубо лишают сладости сна, чтобы задать бессмысленный вопрос, я ответил ему с проклятием, что у меня ничего нет, и чтобы, черт побери, он дал мне поспать.
– Поскольку вы грубите, – отвечает он, – мы вас осмотрим.
Он приказывает почтальону заехать с моей коляской, велит развязать мою поклажу, говорит мне выйти, спрашивает мои ключи и заставляет меня ждать, пока они все не осмотрят.
Я понимаю свою ошибку, но не могу уже ничего поделать, Не имея ничего запретного, я могу не опасаться, но моя несдержанность заставила меня терпеть пару часов скуки, молчаливого раздражения, и позволила этим негодяям воспользоваться своим правом, что они и проделали. Я вижу на их наглых рожах мстительное наслаждение. Во Франции чиновники, служившие в то время при городских воротах для проверки пассажиров, представляли собой самую накипь из отбросов, но когда с ними обращались как с людьми достойными вежливого обращения, они старались также быть более сносными. Монетка в двадцать четыре су, выданная с надлежащей охотой, делала их гуманными, Они отвешивали пассажиру реверанс, желали ему доброго пути, не чиня никаких препятствий. Я знал это, но бывают моменты, когда человек теряет чувство юмора и забывает или пренебрегает тем, что знает.
Мучители опустошили мои чемоданы и перетряхнули мои рубашки, между которыми, как они говорили, я мог бы прятать английские кружева. Осмотрев все, они вернули мне ключи, но этим дело еще не кончилось. Оставалось еще осмотреть коляску. Мерзавец, который ее обыскивал, победно закричал, обнаружив пачку табаку, который, уезжая из Дюнкерка, я купил в Сен-Омере. Главарь банды торжествующе воскликнул, что они конфискуют мою коляску и что я должен уплатить две сотни франков штрафа.
Но тут я уже потерял терпение, и оставляю читателю представить себе все, что я наговорил этим сбирам. Я потребовал, чтобы они отвели меня к Интенданту, но они ответили, что если я хочу, могу отправляться к нему сам. Окруженный многочисленной толпой каналий, которая все возрастала, я вошел в город, шагая как бешеный. Я вхожу в первую лавку, которую вижу открытой, и прошу хозяина послать кого-нибудь со мной, чтобы отвести меня к Интенданту; я рассказываю ему мое дело, и человек доброго вида, находящийся там, говорит мне, что отведет меня сам, но что я ничего не добьюсь, поскольку ему должны уже были доложить обо всем. Он сказал, что если я не заплачу или не оставлю залога, я не выпутаюсь легко из этого дела. Я прошу меня проводить и предоставить там действовать самому. Он говорит мне, что прежде я должен избавиться от каналий, оставив им луи в ближайшем кабаке и велев идти позавтракать. Я даю ему луи и прошу его оказать мне такую любезность. Он с этим превосходно справился, и все канальи исчезли, испуская крики радости. Таков этот народ, который сейчас полагает себя королем Франции. Человек, который пошел меня проводить к Интенданту, сказал, что он является прокурором по этим делам.
Мы приходим к Интенданту, но портье говорит, что тот вышел в одиночку, что он вернется домой только ночью, и он не знает, где тот обедает.
– Ну вот, – говорит мне прокурор, – день потерян.
– Пойдем поищем его там, где он может быть, у него должны быть друзья, привычки. Я заплачу вам луи за потерянный день.
– Я в вашем распоряжении.
Мы потратили четыре часа в напрасных его поисках в десяти или двенадцати домах. Я разговаривал во всех этих домах с хозяевами, либо с хозяйками, преувеличивая повсюду важность моего дела. Меня выслушивали, мне сочувствовали, и единственное, что говорили мне утешительного, было то, что он непременно вернется к себе ночевать, и в любом случае он меня выслушает.
– В полвторого прокурор отвел меня к пожилой даме, уважаемой в городе. Она сидела за столом, в одиночестве. Выслушав меня внимательно, она сказала совершенно хладнокровно, что не думает, что проявит нескромность, сообщая иностранцу, куда делся человек, который по своему статусу не должен никогда оказываться вне доступа.
– Итак, месье, могу разъяснить вам то, что не является тайной. Моя дочь говорила мне вчера вечером, что была приглашена к м-м ХХ, и что Интендант также должен там обедать. Так что идите сейчас туда, и найдете его за столом в компании лучших людей Амьена. Советую вам, – сказала она с улыбкой, – пойти туда без предварительного представления. Тамошние слуги, ходящие там от кухни к зале, где все едят, укажут вам дорогу, не спрашивая вас ни о чем. Там вы с ним и поговорите, вопреки его желанию и вопреки тому, что вы с ним незнакомы; он выслушает все, что вы мне тут рассказали ужасного в своем подлинном гневе. Я сожалею, что не могу присутствовать при этом театральном зрелище.
Я быстро отвесил ей реверанс и бегом направился к указанному дому с уже приуставшим прокурором. Я вошел без всяких затруднений вместе со слугами и с моим гидом в залу, где увидел двадцать человек, восседающих вокруг стола в большом веселье.
– Извините, дамы и господа, – сказал я им, – что в том ужасном положении, в котором, как вы видите, я нахожусь, я вынужден явиться нарушить мир и веселье вашего застолья.
При этом комплименте, сказанном голосом гневным, все вскочили. Я был встрепан и весь в поту, лицо было ужасно; можно представить себе удивление компании, состоящей из элегантных женщин и мужчин, готовых за ними ухаживать.
– Я ищу, – продолжил я говорить, – в течение семи часов по всем домам этого города г-на Интенданта, которого, наконец, нахожу здесь, потому что знаю, что он здесь, и, если он имеет уши, он меня сейчас выслушает. Прежде всего, я хочу ему сказать, чтобы он приказал своим сателлитам, которые реквизировали мой экипаж, чтобы они мне его просто вернули, чтобы я мог продолжить свое путешествие. Если каталанские законы предписывают, что за семь унций табака, взятого мной для собственного употребления, я должен заплатить двенадцать сотен франков, я их не признаю, и я объявляю ему, что не хочу платить ни су. Я останусь здесь, я отправлю курьера моему послу, который пожалуется королю, что в Иль-де-Франс нарушают права человека в моем лице, и я получу сатисфакцию. Луи XV достаточно велик, чтобы не желать быть причастным к этому странному способу убийства. Это дело, во всяком случае, если мне назначат репарации, станет делом большой государственной важности, потому что отмщение моей Республики не обратится к убийству французов, путешествующих у нас, но к изгнанию их всех из наших пределов. Вот, кто я такой. Читайте!
Кипя гневом, я швыряю на середину стола мой паспорт. Человек его подхватывает, читает, я соображаю, что это Интендант. В то время, как документ переходил из рук в руки и сотрапезники удивлялись, он, сохраняя высокомерный вид, заявляет, что он находится в Амьене, чтобы следить за исполнением ордонансов, и что, соответственно, я проеду, только заплатив или оставив залог.
– Если такова ваша обязанность, вы должны рассматривать мой паспорт как ордонанс. Будьте сами моим поручителем, если вы джентльмен.
– Разве в вашей стране дело чести – ручаться за нарушителей?
– В моей стране делом чести является не опускаться до бесчестных дел.
– На службе короля нет бесчестных дел.
– Слова палача.
– Выбирайте слова.
– Выбирайте ваши действия. Знаете ли вы, месье, что я человек свободный, чувствительный и оскорбленный, и что я ничего не боюсь. Вы вынудите меня выбросить вас в окно.
– Месье, – говорит мне дама тоном хозяйки, – у меня никого не бросают в окно.
– Гнев, сударыня, часто заставляет терять голову. Но я у ваших ног, чтобы получить прощение. Но соблаговолите принять во внимание, что это первый случай в моей жизни, когда я оказываюсь в силках мошенничества в пределах королевства, где я полагал, что могу опасаться насилия лишь со стороны воров с большой дороги; против них у меня есть пистолеты; против этих месье у меня есть паспорт, но я вижу, что он ничего не стоит. За семь унций табаку, которые я купил в Сен-Омере три недели назад, этот месье спускает с меня шкуру, он прерывает мое путешествие, в то время как король – мой гарант, что никто не посмеет его прервать; хотят, чтобы я платил пятьдесят луи, меня обрекают ярости разнузданной черни, от которой порядочный человек, которого вы видите перед собой, избавляет меня лишь с помощью денег; я вижу, что меня здесь принимают за преступника, а человек, который должен меня защищать, скрывается, прячется. Его сбиры, стоящие на воротах этого города, перевернули мою одежду, мои рубашки, чтобы покуражиться и наказать меня за то, что я не выдал им монеты в двадцать четыре су. То, что со мной произошло, станет завтра новинкой для дипломатического корпуса в Версале и в Париже, и через несколько дней об этом прочтут во многих газетах. Я не хочу платить ни су. Говорите, месье Интендант, должен ли я отправить курьера к герцогу де Жевр?
– Платите. И если не хотите, делайте, что хотите.
– Итак, прощайте, дамы и господа.
В тот момент, когда я, взбешенный, выхожу из залы, я слышу голос, который говорит мне по-итальянски минутку подождать. Я вижу пожилого человека, который говорит Интенданту следующие слова:
– Прикажите, чтобы месье разрешили следовать дальше. Я внесу за него залог. Слышите ли вы меня, Интендант? Вы не знаете итальянского пыла. Я провел в Италии всю прошедшую войну и несколько раз с ним сталкивался. Я нахожу, что месье прав.
– Очень хорошо, – говорит мне Интендант; платите только тридцать или сорок франков в контору, потому что это уже записано.
– Я не хочу ничего платить, повторяю вам. Но кто вы, честный человек, который ручается за меня, не зная, кто я такой?
– Я военный комиссар, меня зовут ла Бретоньер, и я живу в Париже в Отеле де Сакс на улице Коломбье; я буду там послезавтра. Окажите мне честь прийти ко мне, и мы вместе пойдем к г-ну де Бритар, который, основываясь на нашем изложении, освободит меня от поручительства, которое я оказываю вам с истинным удовольствием.
Выразив ему мою полную признательность и заверив, что он увидит меня у себя в самое ближайшее время, я попросил прощения у всей компании и пошел обедать в трактир вместе с моим добрым прокурором, который был вне себя. Поднявшись из-за стола, я дал ему два луи. Без этого человека и бравого военного комиссара мне бы пришлось туго, потому что, хотя у меня и были деньги, я никогда не мог бы решиться выкинуть пятьдесят луи.
Моя коляска стояла готовая у дверей трактира; в тот момент, когда я в нее садился, я вижу одного из служащих, которые меня задерживали, который говорит мне, что я найду там все, что в ней было.
– Это поразительно, – отвечаю я; – найду ли я там и мой табак?
– Табак, мой принц, конфискован.
– Мне это досадно. Я подарю вам луи.
– Один момент. Я сейчас возьму его.
– У меня нет времени ждать. Трогай, почтальон!
Я прибыл в Париж на следующий день. Четыре дня спустя я направился к ла Бретоньеру, который отвел меня к генеральному фермеру Бритару, который освободил его от поручительства. Это был молодой и очень любезный человек, который краснел от того, что заставили меня пережить.
Я сразу отнес свое донесение министру, в Отель де Бурбон, который провел два часа для того, чтобы снять вместе со мной все, что он счел неясным. Я потратил ночь, чтобы привести все в окончательный вид, и на завтра отнес его в Версаль аббату де Лавиль, который, прочитав, сказал мне холодно, что даст мне знать о результате в свое время. Месяц спустя я получил пятьсот луи, и имел удовольствие узнать, что г-н де Гремиль, министр морского флота, счел мой рапорт не только точным, но и весьма поучительным. Многие естественные опасения помешали мне получить те почести, которые хотел оказать мне мой покровитель.
Когда я рассказал ему о двух приключениях, которые со мной случились, – одно в Эре, другое в Амьене, – он посмеялся, но сказал мне, что великая доблесть человека, облеченного секретной миссией, должна состоять в том, чтобы никогда не ввязываться в некие дела, потому что когда, тем не менее, он ввязывается в них на собственную голову, они заставляют о нем говорить, а это то, чего ему следует избегать.
Эта комиссия стоила департаменту Морского флота 12 000. Министр мог бы легко узнать все, что я ему рассказал в своем докладе, не потратив ни су. Самый молодой офицер мог бы для этого ему прекрасно послужить, не прилагая особого ума. Но таковы были при монархическом правлении все департаменты французского министерства. Они проматывали деньги, которые им ничего не стоили, на своих ставленников, на тех, кто им нравился; они были деспотичны, народ растоптан, государство обременено долгами и финансы – в таком плохом состоянии, что надвигалось неминуемое банкротство: революция была необходима. Это язык тех, кто правит сейчас во Франции, притворяясь министрами, верными народу, хозяину Республики. Бедный народ! Глупый народ, который мрет от голода и нищеты, либо бросается творить резню по всей Европе, чтобы обогатить тех, кто его обманул.
Сильвия сочла весьма забавными приключения в Эре и в Амьене, а ее дочь проявила большое сочувствие по поводу плохой ночи, которую я вынужден был провести в кордегардии Эра. Я ответил ей, что я бы не отчаивался, если бы рядом со мной была жена, и она отметила, что эта жена, будучи доброй, должна была бы отправиться в кордегардию вместе со своим мужем. – отнюдь нет, моя дорогая дочь, – сказала ей умная Сильвия, в таких случаях верная жена, оставив в надежном месте экипаж, пошла бы разыскивать должностное лицо, чтобы освободить своего мужа.
Глава V
Граф де ла Тур д’Овернь и м-м д’Урфе. Камилла. Моя страсть к любовнице графа; нелепая авантюра, которая меня излечивает. Граф де Сен-Жермен.
Несмотря на эту зарождающуюся любовь, я не терял вкуса к продажным красотам, которые блистали на панели и заставляли о себе говорить; но меня больше всего привлекали содержанки и прочие, принадлежавшие публике, поскольку пели, танцевали и играли в комедиях. Осознав себя во всем свободными, они наслаждались своим правом отдаваться, то по любви, то за деньги, и то одному, то другому в одно и то же время. Я сходился со всеми очень легко. Фойе театров – это знатный рынок, на котором любители пользуются своим талантом, чтобы плести интриги. Я достаточно хорошо пользовался этой приятной школой; я начинал с того, что становился другом их признанных любовников, и преуспевал благодаря искусству никогда не показывать ни малейших претензий, и, в особенности, казаться не то чтобы непоследовательным, а без всяких последствий. Нужно было всегда иметь наготове кошелек в руке, но если обращать мало внимания на пустяки, потеря бывала не так велика, как удовольствие. Я был уверен, что так или иначе все окупится.
Камилла, актриса и танцовщица Итальянской Комедии, с которой я закрутил любовь семь лет назад в Фонтенбло, была девочкой, к которой я был очень привязан из-за развлечений, которые находил у нее в маленьком домике у Белой заставы, где она жила со своим любовником, графом д’Эгревиль, который очень ценил мое общество. Он был братом маркиза де Гамаш и графини дю Рюмэн, красивый юноша, очень добрый и довольно богатый. Он никогда не был столь счастлив, как когда видел много народа в гостях у своей любовницы. Она любила только его; однако, полная ума и жизненного опыта, она не лишала надежды никого, кто проявлял к ней склонность; не скупясь и не проявляя излишней щедрости на свои милости, она заставляла себя обожать в своем кругу, не допуская ни бестактности, ни обидного пренебрежения.
Среди тех, кого, после своего любовника, она выделяла более других, был граф де ла Тур д’Овернь. Это был сеньор высокого рождения, который ее боготворил, но, будучи недостаточно богат для того, чтобы она целиком принадлежала ему, должен был довольствоваться тем, что ему доставалось. Говорили, что она любила его в качестве второго. Она содержала для него за недорогую цену молодую девочку, преподнеся ему ее, так сказать, в подарок, видя его столь влюбленным. Ла Тур д’Овернь содержал ее в Париже для себя в меблированных комнатах на улице Таранн; он говорил, что любит ее, так как это подарок, который сделала ему его дорогая Камилла, и часто приводил ее с собой ужинать на Белую заставу. Ей было пятнадцать лет, она была проста, наивна, без малейших амбиций; она говорила своему любовнику, что никогда не простит ему неверности, за исключением, если это будет с Камиллой, которой она считает для себя долгом уступать, потому что обязана ей своим счастьем. Я настолько влюбился в эту девочку, что часто отправлялся ужинать к Камилле лишь в надежде встретить ее там и насладиться наивностями, которыми она забавляла всю компанию. Я скрывался, как только мог, но был настолько увлечен ею, что часто уходил печальным с ужина, поскольку видел невозможность излечить мою страсть обычными путями. Я сочтен был бы странным, если бы позволил кому-то догадаться, и Камилла надо мной бы безжалостно посмеялась. Но вот что произошло со мной, излечив от этой страсти.
Как-то, покинув маленький домик Камиллы у Белой заставы, я искал фиакр, чтобы вернуться к себе, поскольку весь народ после ужина уже разошелся. Мы задержались за столом до часу после полуночи, и мой лакей сказал, что не нашел фиакра. Ла Тур д’Овернь сказал, что отвезет меня без малейшего неудобства, хотя его коляска была только на две персоны.
– Моя малышка, – сказал он, – посидит на нас.
Я, естественно, согласился, и вот я в коляске, с графом слева от меня и Бабеттой, сидящей на бедрах у нас обоих. Сгорая от желания, я думаю воспользоваться случаем и, не теряя времени, поскольку кучер погоняет быстро, беру ее за руку, сжимаю ее, она сжимает мою, я для начала подношу ее к губам, покрывая ее молча поцелуями и, стараясь убедить ее в своем пыле, пускаюсь во все тяжкие, как и должно быть в столь великом расположении моей души; но как раз в момент кризиса я слышу Ла Тур д’Оверня, который говорит мне:
– Я исполнен благодарности, мой дорогой друг, к чувству вежливости вашей страны, которому я даже не считал себя достойным; я надеюсь, что это не простая ошибка.
При этих ужасных словах я протягиваю руку и чувствую рукав его одежды; в такие моменты не хватит никакого присутствия духа, тем более, что за этими словами последовал взрыв смеха, который обнаруживал человека вполне понятливого. В моем расслабленном состоянии я не имел возможности ни рассмеяться, ни отрицать произошедшее. Бабетта спрашивает у своего друга, над чем он так смеется, и, поскольку он хочет объяснить ей, что его рассмешило, я ничего не говорю и чувствую себя до крайности глупо. К счастью, коляска останавливается, мой лакей открывает дверь, чтобы мне выйти, и я вхожу к себе, пожелав им доброй ночи, на что ла Тур д’Овернь мне желает того же, продолжая от души смеяться. Я же стал смеяться над приключением лишь полчаса спустя, поскольку оно было на самом деле потешное; но вопреки этому, я нашел его грустным и неприятным по причине насмешек, от которых должен был отбиваться.
Три или четыре дня спустя я решил отправиться попросить завтрака у любезного сеньора в восемь часов утра, потому что Камилла послала ко мне узнать, как я себя чувствую. Это дело не должно было помешать мне видеться с ней, но я желал узнать заранее, с какой ноги мне выступать.
Как только очаровательный Ла Тур меня увидел, он разразился смехом и, хорошенько посмеявшись, бросился меня обнимать, изображая девицу. Я попросил его, наполовину смеясь, наполовину серьезно, забыть эту глупость, поскольку не знал, как мне защищаться.
– Зачем думать, – ответил он, – о защите? Мы вас все любим, То, что произошло, – очень комичное приключение, которое веселит нас каждый вечер.
– Так что все об этом знают?
– А вы сомневаетесь? Камилла задыхается от смеха, и вы должны прийти этим вечером; я приведу Бабетту, и она вас насмешит, поскольку придерживается мнения, что вы не ошиблись.
– Она права.
– Как это, она права? Говорите это другим. Вы оказываете мне слишком много чести, я этого не стою; но вы правильно решили.
Естественно, я поддержал эту версию за столом, выражая удивление нескромностью де Ла Тур и говоря, что победил свою страсть, которую к нему испытывал. Бабетта называла меня грубой свиньей, полагая, что я не излечился. Это приключение непостижимым образом отвратило меня от нее, склонив к дружбе к Ла Тур д’Овернь, который обладал всеми качествами, чтобы быть любимым всеми. Но эта дружба, к сожалению, имела роковое продолжение.
Это было в понедельник в фойе Итальянской Комедии. Этот очаровательный человек попросил меня одолжить сотню луи, обещая вернуть их в субботу.
– У меня их нет. Вот к вашим услугам мой кошелек, – говорю я, – в нем только десять-двенадцать луи.
– Мне нужно сто, и сейчас, потому что я потерял их вчера вечером на слово у принцессы д’Ангальт (Это мать императрицы Екатерины Российской (замечание автора на полях)).
– У меня их нет.
– У держателя лотереи должно быть в наличии более тысячи.
– Согласен, но моя касса неприкосновенна; я должен сдать ее банковскому агенту сегодня в восемь.
– Ничто не помешает вам сдать ее, потому что в субботу я вам все отдам. Вычтите оттуда сотню и положите на ее место мое слово чести. Полагаете ли вы, что оно стоит сотни луи?
При этих словах я повернулся к нему спиной, прося подождать, пошел в мое бюро на улице Сен-Дени, взял сто луи и отнес ему. Наступила суббота, я его не видел, и утром в воскресенье я заложил свое кольцо и возместил в кассе ту сумму, которую взял накануне у банковского агента. Три-четыре дня спустя, в амфитеатре Итальянской Комедии – ла Тур д’Овернь, который подходит ко мне и приносит свои извинения. Я отвечаю ему, показывая свою руку без кольца и говоря, что заложил его, чтобы спасти свою честь. Он отвечает мне с грустным видом, что его обманули, но он уверен, что вернет сумму в следующую субботу.
– И я вам ее передам, – говорит он, – мое слово чести.
– Ваше слово чести у меня в кассе, так что позвольте мне его уже не учитывать; Вы вернете мне сотню луи, когда захотите.
При этих словах я увидел, что этот бравый сеньор побледнел, как смерть.
– Мое слово чести, мой дорогой Казанова, – говорит он, – мне дороже жизни, и я верну вам сто луи завтра в восемь часов утра в ста шагах от кафе, что имеется в конце Елисейских Полей. Я передам их вам тет-а-тет, никто нас не увидит; надеюсь, что вы меня не обманете и вы будете при шпаге, как я при своей.
– Это очень неприятно, господин граф, что вы изъявили желание заставить меня платить столь дорого за удачное словцо. Вы оказываете мне огромную честь, но я предпочел бы попросить у вас прощения, если это сможет помешать этому досадному делу.
– Нет, я неправ гораздо больше, чем вы, и эта вина может быть стерта лишь кровью одного из нас двоих. Вы придете?
– Да.
Я поужинал очень грустно у Сильвии, потому что я любил этого бравого человека, но себя любил не меньше. Мне казалось, что я неправ, потому что мое словцо было действительно слишком резкое, но я не собирался отказываться от свидания.
Я пришел в кафе минуту спустя после него; мы позавтракали; он заплатил, и затем мы вышли, направившись к Этуаль. Когда мы убедились, что не видны, он отдал мне сверток с сотней луи с очень гордым видом и, сказав, что одного удара шпаги тому или другому должно быть достаточно, он обнажил оружие, отойдя на четыре шага. Вместо ответа, я обнажил свое и, прежде, чем он встал в позицию, вскинул вперед в выпаде свой правый сапог и, уверенный, что поразил его в грудь, отскочил назад, выполняя его условие. Нежный, как барашек, он опустил свою шпагу, поднял руку к груди и, не показывая мне, что она окрашена кровью, сказал мне, что он удовлетворен. Я сказал ему все, что мог сказать, и должен был сказать и больше, в то время, как он прижимал к груди платок. Я обрадовался, видя, что кончик моей шпаги окровавлен только на глубину в линию. Я предложил ему проводить его, но он не захотел. Он попросил меня сохранять скромность и быть ему в будущем другом. Обняв его и проливая слезы, я вернулся к себе, очень огорченный и очень продвинувшийся в школе жизни. Это дело осталось неизвестным никому. Восемь дней спустя мы ужинали вместе у Камиллы.
В эти дни я получил двенадцать тысяч франков от аббата де Лавиль в качестве вознаграждения за то, что я проделал в Дюнкерке. Камилла мне сказала, что Ла Тур д’Овернь находится в постели из-за своего ишиаса, и если я хочу, мы можем пойти к нему завтра нанести визит. Я согласился, мы туда пошли и, позавтракав, я сказал ему с серьезным видом, что если он допустит меня проделать над его ляжкой то, что я хочу, я его вылечу, потому что его страдание не из-за того, что называют ишиасом, а из-за некоего сырого ветра, и я могу заставить его улетучиться с помощью талисмана Соломона и пяти слов. Он рассмеялся, но сказал мне делать, что хочу.
– Тогда я пойду купить кисть, сказал я.
– Я отправлю слугу.
– Нет, потому что я должен быть уверен, что он не будет торговаться, а кроме того я должен купить некоторые снадобья.
Я пошел, купил селитры, серного цвета, ртути и маленькую кисть и сказал ему, что мне надо немного его урины, произведенной прямо сейчас. Разразившийся смех его и Камиллы не заставил меня изменить мой серьезный вид; я дал ему стаканчик, задернул занавески, и он подчинился. Изготовив маленькую порцию амальгамы, я сказал Камилле растереть ее ему на ляжке своими руками, в то время, как я буду бормотать заклинание, но что все сорвется, если она засмеется. Отсмеявшись с добрую четверть часа, они согласились, наконец, принять такой же серьезный вид, как и я. Ла Тур предоставил свою ляжку Камилле, которая, вообразив, что играет роль в комедии, принялась натирать больного, в то время, как я стал бормотать вполголоса то, что невозможно было им понять, так как я и сам не знал, что говорю. Я боялся сам испортить операцию, видя гримасы, которые делала Камилла, чтобы не рассмеяться. Не было ничего более комического. Наконец, сказав, что натирать достаточно, я обмакнул кисть в смесь, затем одним движением нанес ему знак Соломона – пятиконечную звезду, образованную пятью линиями. После этого я обернул его ляжку тремя салфетками и сказал ему, что если он проведет в своей постели двадцать четыре часа, не развертывая салфеток, я гарантирую, что он выздоровеет. Мне понравилось, что, как я видел, они больше не смеялись. Они были удивлены.
После этого фарса, который я придумал и разыграл без всякого предварительного намерения, дорогой, в фиакре, я рассказал Камилле множество историй, которые она выслушивала столь внимательно, что когда я ее покидал, я видел, что она поражена.
Четыре или пять дней спустя, когда я уже почти забыл все, что проделывал с г-ном де Ла Тур д’Овернь, в восемь часов утра я вдруг слышу, как у моей двери останавливаются лошади. Я смотрю в окно и вижу его сходящим с лошадей и входящим ко мне.
– Вы были уверены в успехе, – говорит он, обнимая меня, – поскольку не пришли на другой день проверить, как я себя чувствую после вашей удивительной операции.
– Разумеется, я был уверен, но если бы у меня было время, вы бы меня, тем не менее, увидели.
– Скажите, можно ли мне пойти в баню.
– Никаких бань, пока вы не почувствуете себя здоровым.
– Я вам обязан. Все удивлены, поскольку я не мог помешать рассказать о чуде всем моим знакомым. Находятся мудрецы, которые смеются надо мной, но я не обращаю на них внимания.
– Мне кажется, вы должны быть сдержаны, потому что вы знаете Париж. Меня назовут шарлатаном.
– Никто так не думает, и я пришел просить вас доставить мне удовольствие.
– Чего вы хотите?
– У меня есть тетя, известная и прославленная как ученая во всех абстрактных науках, великий химик, женщина большого ума, очень богатая, сама себе хозяйка, знакомство с которой может быть вам полезно. Она умирает от желания с вами увидеться, познакомиться с вами, и уверена, что вы не таков, как о вас думает Париж. Она уговорила меня привести вас к ней обедать, и я надеюсь, что вы не откажете. Эту тетю зовут маркиза д’Урфе.
Я ее не знал, но имя д’Урфе мне тотчас припомнилось, поскольку я знал историю знаменитого Анн д’Урфе, талант которого расцветал в конце XVI века. Эта дама была вдовой своего правнука, и я видел, что она прекрасно могла, принадлежа к такой фамилии, быть напитана всеми возвышенными доктринами, относящимися к науке, которая меня весьма интересовала, хотя я и считал ее химерической. Я, конечно, ответил г-ну де ла Тур д’Овернь, что пойду с ним к его тетушке, когда он захочет, но не на обед, по крайней мере, если мы не будем там только втроем.
– Она содержит, – ответил он мне, – ежедневно стол на двенадцать кувертов, вы будете там у нее обедать со всем, что есть лучшего в Париже.
– Это как раз то, чего я не хочу, поскольку я ненавижу репутацию магика, которую вы мне создаете по доброте души.
– Отнюдь нет, вы вполне известны, и с вами хотят познакомиться. Герцогиня де л’Орагэ мне сказала, что четыре-пять лет назад вы захаживали в Пале-Рояль и что вы проводили целые дни с герцогиней д’Орлеан и м-м де Буфлер, м-м дю Бло, и сам Мелфорт говорил мне о вас. Вы напрасно не возобновляете свои старые привычки. То, что вы сделали для меня, убеждает меня в том, что вас могла бы ждать блестящая судьба. Я знаю в Париже сотню персон высокого ранга, мужчин и женщин, у кого та же болезнь, что и у меня, и которые отдали бы вам половину своего состояния, если бы вы их вылечили.
Ла Тур рассуждал здраво; но поскольку я знал, что то, что я ему сделал – не более чем шалость, удавшаяся благодаря случайности, я не старался стать общественной фигурой. Я сказал, что категорически не желаю выставляться на публике, и что следует объяснить м-м его тетушке, что я пойду к ней лишь самым скромным образом и никак не иначе, и ей следует только назначить день и час. В тот же день, вернувшись к себе около полуночи, я нашел записку от графа, в которой он написал мне быть завтра в полдень в Тюильери на террасе Капуцинов, и он придет туда, чтобы отвести меня обедать к ней, заверив, что мы будем единственными, для кого будет открыта ее дверь.
Встретившись точно в назначенный час, мы направились к этой даме. Она жила на набережной Театинцев, рядом с отелем де Буйон. М-м д’Урфе, прекрасная, хотя и пожилая, встретила меня очень достойно, со всей любезностью старого двора времен Регентства. Мы провели полтора часа, разговаривая о вещах нейтральных, но одновременно, не показывая виду, нас внимательнейшее изучали. Мы оба хотели свернуть разговор на что-то более интересное. Я не боялся разыгрывать из себя невежду, потому что им был. М-м д’Урфе демонстрировала лишь любопытство, но я со всей очевидностью видел, что ей не терпится показать свою осведомленность. В два часа нам троим предложили обед, какой в обычные дни там подают для двенадцати. После обеда Ла Тур д’Овернь нас покинул, направляясь повидать принца Тюренн, которого оставил сегодня утром в сильной лихорадке, и тут Мадам стала говорить со мной о химии, алхимии, магии и обо всем том, что составляло область ее увлечения. Поскольку мы перешли к вопросам Великого Творения[16], и я, в своей простоте, спросил у нее, знает ли она о первичной материи, она, соблюдая вежливость, не рассмеялась, но с тонкой улыбкой сказала мне, что у нее есть теперь то, что называют Философским Камнем, и что она посвящена во все Великие Действия. Она показала мне свою библиотеку, которая принадлежала еще великому д’Урфе и Рене Савойской, его жене, что она пополнила ее манускриптом, который обошелся ей в сто тысяч франков. Ее излюбленный автор был Парацельс, который, согласно ей, был ни мужчиной и ни женщиной, и который имел несчастье отравиться слишком большой дозой Универсального Средства[17]. Она показала мне маленький манускрипт, где был описан Великий Процесс в весьма ясных французских выражениях. Она сказала, что не запирает его на сотню замков, потому что он написан шифром, ключ от которого имеется только у нее.
– Вы сейчас говорите, мадам, не о стеганографии?[18]
– Нет, месье, и если вы хотите, вот копия, которую я вам дарю.
Я согласился и положил ее в карман.
Из библиотеки мы прошли в ее лабораторию, которая меня удивила; она показала мне материю, которую держала в огне в течение пятнадцати лет, и которую нужно было держать там еще четыре или пять. Это был Порошок Преображения, который должен был за минуту превращать любой металл в золото. Она показала мне трубу, в которой осаждается уголь и поддерживает в печи огонь все время нужной температуры, поступая туда под действием собственного веса, так, что она часто не заходит в лабораторию по три месяца, не боясь, что огонь погаснет. Через маленький проход снизу отводится зола. Кальцинирование ртути было для нее детской забавой; она продемонстрировала мне кальцинат и сказала, что когда я захочу, она покажет мне процесс. Она показала мне «дерево Дианы» знаменитого Таллиамеда, ученицей которого она была. Этот Таллиамед, как известно всем, был ученый Майе, который, согласно м-м д’Урфе, не умер в Марселе, как убеждал всех аббат ле Массерье, но жив, и она сказала мне с легкой улыбкой, что она часто получает от него письма. Если бы Регент Франции его слушал, он жил бы до сих пор. Она сказала мне, что Регент был ее первейший друг, что это он дал ей прозвище Эгерии[19] и это он выдал замуж м-м д’Урфе. У нее был комментарий Раймонда Луллия, который прояснял все то, что Арнольд де Вильнёв записал после Роджера Бэкона и Жебера, которые, согласно ей, не умерли. Этот драгоценный манускрипт был в шкатулке из слоновой кости, ключ от которой она держала при себе, впрочем, ее лаборатория была закрыта от всех. Она показала мне бочонок, наполненный платиной из Перу, которую она могла конвертировать в золото, когда заблагорассудится. Лично г-н Вуд преподнес ей это в подарок в 1743 году. Она показала мне такую же платину в четырех разных вазах, из которых в трех она лежала, неповрежденная, залитая кислотами серной, азотной и соляной, и лишь в четвертой, где она использовала царскую водку, платина не смогла сопротивляться. Она расплавляла ее с помощью вогнутого зеркала и сказала мне, что только платина не поддается любым другим способам плавления, чем, по ее словам, оказывается выше золота. Она показала мне ее осаждение с помощью нашатыря, чего нельзя добиться для золота. У нее была печь атанор, действующая уже пятнадцать лет. Я видел, что она полна сажи, что указывало, что ею пользовались за день-два до того. Возвращаясь к ее «Дереву Дианы», я со всем уважением поинтересовался, не полагает ли она, что это просто детская игра для развлечения. Она с достоинством ответила, что также для развлечения она создала деревья, используя серебро, ртуть и пары селитры, совместно кристаллизуя их, и что она не рассматривает свое дерево только как металлическое растение, предназначенное лишь для того, чтобы демонстрировать в миниатюре то, что природа может творить в большом масштабе, но сказала, что она может создать дерево Дианы, которое будет настоящим солнечным деревом, способным производить золотые яблоки, которые можно собирать и которые воспроизводятся вплоть до исчерпания одного из ингредиентов, который она смешивает с «шестью прокаженными»[20] в соотношении их качеств. На это я скромно заметил, что не считаю это возможным без «порошка творения». М-м д’Юрфе ответила мне лишь милой улыбкой. Она показала мне чашку из фарфора, где лежали нитраты ртути, серы и, в другой чашке, – соль постоянства.
– Полагаю, – сказала мне маркиза, – вы знаете, что это за ингредиенты.
– Я их знаю, – ответил я, – если эта «соль постоянства» – из урины.
– Да, вы знаете.
– Я восхищен, мадам, вашей проницательностью. Вы проанализировали амальгамацию, с помощью которой я начертал пентакль на бедре вашего племянника, но здесь нет известкового налета, который мог бы проявить для вас слова, что придают силу пентаклю.
– Для этого не нужно известкового налета, а лишь манускрипт одного адепта, лежащий у меня в комнате, который я вам покажу, где эти слова выписаны.
Я ничего не ответил, и мы вышли из лаборатории.
Едва войдя в свою комнату, она достала из ящика черную книгу, которую положила на свой стол, и стала искать фосфор; пока она искала, я открыл книгу, что лежала сзади нее, и увидел, что она покрыта пентаклями и, к счастью, увидел тот самый талисман, что начертал на бедре ее племянника, в окружении имен Гениев планет, за исключением двух – Сатурна и Марса, и быстро закрыл книгу. Эти Гении были те же, что у Агриппы, которого я знал, но, не показывая виду, я подошел к ней, когда она, секунду спустя, нашла фосфор, что меня действительно удивило, но я поговорю об этом позже.
Мадам присела на свое канапе, указав мне сесть рядом и спросив, знаю ли я талисманы графа де Треве[21].
– Я никогда о них ни с кем не говорил, но я знаю талисманы Полифила.
– Говорят, что это те же самые.
– Я так не думаю.
– Мы об этом узнаем, если вы можете написать слова, что вы произносили, рисуя пентакль на бедре моего племянника. Книга укажет, если я здесь увижу слова, которые окружают тот талисман.
– Это будет доказательство, я согласен. Сейчас я их напишу.
Я написал имена Гениев, мадам открыла пентакль, перечислила мне имена и, притворяясь удивленным, я передал ей мою бумагу, где она прочла с большим удовлетворением те же самые имена.
– Вы видите, – сказала она, – что Полифил и граф де Треве трактуют одну и ту же науку.
– Я признаю это, мадам, если в вашей книге найдется метод произносить неизреченные имена. Знаете ли вы теорию планетарных часов?
– Думаю, что да, но она не нужна в этой операции.
– Прошу прощения. Я нарисовал на бедре г-на де Ла Тур д’Овернь пентакль Соломона в час Венеры, и если бы я не начал с Анаэля, который есть гений планеты, моя операция бы не удалась.
– Да, это то, что я упустила. И после Анаэля?
– Следует перейти к Меркурию, от Меркурия к Луне, от Луны к Юпитеру, от Юпитера к Солнцу. Вы видите, что это магический цикл в системе Зороастра, в котором я перескакиваю через Сатурна и Марс, которых наука исключает для этой операции.
– А если бы вы начали действовать в час Луны, например?
– Я бы тогда пошел к Юпитеру, затем к Солнцу, затем к Анаэль, то-есть к Венере, и кончил бы Меркурием.
– Я вижу, месье, что вы в высшей степени постигли практику часов.
– Без этого, мадам, ничего нельзя добиться в магии, потому что тут нет времени для вычислений; но это нетрудно. За месяц изучение вопроса становится привычкой любого кандидата. Труднее вопросы, касающиеся культа, потому что этот вопрос более сложен, но и это преодолевается. Я не начинаю у себя утра, не выяснив, сколько минут составляют час в данный день, и мне необходимо, чтобы мои часы были отрегулированы наилучшим образом, поскольку минута все решает.
– Не будете ли вы любезны сообщить мне эту теорию?
– Вы найдете это у Артефиуса и более ясно у Сандивуайя.
– У меня они есть, но они на латыни.
– Я сделаю вам перевод.
– Вы будете столь любезны?
– Вы показали мне такие вещи, мадам, которые вынуждают меня к этому, из соображений, о которых я, возможно, смогу сказать вам завтра.
– Почему не сегодня?
– Потому что я должен прежде узнать имя вашего Гения.
– Вы знаете, что у меня есть Гений.
– Вы должны его иметь, если правда, что у вас есть порошок превращений.
– У меня он есть.
– Поклянитесь Порядком.
– Я не смею, и вы знаете, почему.
– Завтра, возможно, я сделаю так, что вы больше не будете сомневаться.
Эта клятва была от Розенкрейцеров, она никогда не произносится перед непосвященными, так что м-м д’Юрфе боялась, и должна была бояться, проявить нескромность, и я, со своей стороны, должен был показать, что опасаюсь того же. Мне необходимо было выиграть время, но я знал, что представляет из себя эта клятва. Ее можно давать мужчинам между собой без особого стеснения, но м-м д’Юрфе как женщина должна была испытывать неловкость, произнося ее мужчине, которого видела перед собой в первый раз.
– Когда мы видим эту клятву, – сказала мне она, – провозглашенной в нашем Святом писании, она там завуалирована. Он клянется, говорит святая Книга, положив ей руку на ягодицу. Но имеется в виду не ягодица. Также не бывает, чтобы мужчина принимал эту клятву таким образом от женщины, потому что женщина не имеет права слова.
В девять часов вечера граф де ла Тур д’Овернь пришел к своей тете и был удивлен, застав меня еще у нее. Он сказал, что лихорадка его кузена принца Тюрена возобновилась, и что найдено, что у него оспа. Он сказал, что должен расстаться с ней не менее чем на месяц, потому что должен запереться вместе с больным. М-м д’Юрфе похвалила его усердие и дала ему пакетик, сказав, чтобы он вернул его ей после того, как принц выздоровеет. Она сказала повязать его ему на шею и быть уверенным в счастливом высыпании (оспенном) и скорейшем выздоровлении. Он обещал, взял пакетик и ушел.
Я сказал маркизе, что не знаю, что содержится в ее пакетике, но если оно относится к магии, я не верю в его пользу, поскольку магия в этом случае не показана. Она ответила, что в нем содержится электрум[22], поэтому я попросил у нее прощения. Она сказала, что ценит мою скромность, но думает, что я не останусь недоволен ее обществом, если захочу поддержать это знакомство. Она сказала, что познакомит меня со всеми своими друзьями, приглашая пообедать с каждым из них по отдельности, и что затем я смогу с приятностью общаться со всеми ими вместе. В соответствии с этим распорядком, я обедал на другой день с г-ном Жерэн и его племянницей, которые мне не понравились. В другой день – с Макартни, ирландцем, физиком в старом вкусе, который весьма меня утомил. В другой раз она приказала своему швейцару впустить монаха, который разговаривая о литературе, наговорил тысячу дерзостей относительно Вольтера, которого в то время я любил, и против «Духа законов», в авторстве которого он отказывал его знаменитому создателю Монтескье, что говорило о плохом уме монаха. В другой день она устроила мне обед с шевалье д’Арзиньи, человеком девяноста лет, которого называли старейшиной петиметров, бывавшего при дворе Луи XIV, отличавшегося тогдашней вежливостью и знавшего множество анекдотов того времени. Этот человек меня весьма позабавил; он был нарумянен, носил платье того века; вел себя очень нежно по отношению к своей любовнице, для которой держал домик, где ужинал ежедневно в компании ее подруг, молодых и очаровательных, которые предпочитали его общество любому другому; несмотря на все он не делал попыток быть ей неверным, потому что спал с ней каждую ночь. Этот очаровательный человек, хотя и дряхлый и дрожащий, имел характер нежный и манеры такие странные, что я счел правдой все, что он говорил. Его аккуратность была необычайна. В первой бутоньерке его платья у него был большой букет из тубероз и нарциссов, с сильным запахом амбры, исходящим от его помады, покрывавшей его брови и удерживавшей на голове укладку из волос, его зубы источали весьма сильный аромат, который не был неприятен м-м д’Урфе, но мне был невыносим. Если бы не это, я постарался бы доставлятъ себе удовольствие бывать в его обществе так часто, как только можно. Г-н д’Арзиньи был эпикуреец из принципа, человек удивительного спокойствия; он говорил, что согласился бы получать двадцать четыре палочных удара каждое утро, если это даст ему уверенность, что он не умрет в ближайшие двадцать четыре часа, и что чем он становится старее, тем более готов терпеть такое избиение.
В другой день я обедал с г-ном Шароном, советником Высшей палаты, который был докладчиком на процессе против м-м дю Шатле, своей дочери, которая его ненавидела… Этот старый советник был ее счастливым любовником в течение сорока лет, и на этом основании полагал себя обязанным ее вразумлять. Французские власти вразумляют, и считают себя вправе действовать так по отношению к тем, кого любят, поскольку право судить принадлежит им в силу денег, затраченных ими на покупку этого права. Этот советник меня утомил.
Но я порадовался в следующий раз с г-ном де Виарме, племянником Мадам, молодым советником, который пришел к ней обедать вместе со своей супругой. Эта пара была очаровательна, племянник был полон ума, о чем знал весь Париж, читая его «Упреки королю». Он сказал мне, что обязанностью советника является противостоять всему, что может делать король, даже хорошему. Основания, которые он привел мне в поддержку этой максимы, были те же, что приводят все социальные меньшинства. Я не буду утомлять читателя их повторением.
Обед, который развлек меня в наибольшей степени, был тот, который Мадам дала для м-м де Жержи, на который та пришла в сопровождении знаменитого авантюриста графа де Сен-Жермен. Этот человек, вместо того, чтобы есть, говорил с самого начала и до конца обеда, и я слушал его с самым большим вниманием, потому что никто не говорил лучше него. Он обнаружил себя сведущим во всем, он хотел удивлять и действительно удивлял. Он говорил безапелляционно, что однако не удручало, поскольку он был учен, говорил прекрасно на всех языках, был великий музыкант, великий химик, обладал приятной внешностью и обладал способностью превращать всех женщин в своих друзей, поскольку, давая им румяна, украшавшие их кожу, убеждал их не стараться становиться моложе, потому что, говорил он, это невозможно, но надо стараться беречь себя и сохраняться в том же состоянии с помощью воды, которая вообще-то стоит весьма дорого, но которую он дает им в подарок. Этот человек, весьма странный, рожденный, чтобы быть самым дерзким из всех обманщиков, безапелляционно смел утверждать, как бы под давлением, что ему триста лет, что он овладел тайной универсальной медицины, что он творит с природой все, что захочет, что он плавил бриллианты и создавал один большой из десяти-двенадцати мелких, так, что общий вес сохранялся и камень получался самой чистой воды. Это были для него пустяки. Несмотря на свое бахвальство, свои несуразности, очевидные обманы, я не мог заставить себя отнестись к нему как к наглецу, но еще более не мог считать его респектабельным, я, вопреки себе, нашел его удивительным человеком, поскольку он меня действительно удивил. Я вернусь к разговору о нем в своем месте.
После того, как мадам д’Юрфе познакомила меня со всеми своими персонажами, я сказал, что буду обедать у нее, когда ей будет угодно, но всегда только с ней самой тет-а-тет, за исключением ее родственников и Сен-Жермена, чье красноречие и фанфаронады меня забавляли. Этот человек, который часто приходил на обеды в лучшие дома Парижа, там не ел. Он говорил, что его жизнь зависит от пищи, которую он употребляет, и ему с удовольствием уступали, потому что его рассказы составляли душу обеда.
Я все лучше узнавал м-м д’Юрфе, которая считала меня настоящим и преданным адептом под маской человека легкомысленного; но она укрепилась в этой ложной идее пять или шесть недель спустя, когда спросила у меня, расшифровал ли я манускрипт, где описан процесс Великого Созидания. Я сказал, что расшифровал его и, соответственно, прочел, и что я его ей верну, дав слово чести, что не скопирую его.
– Я не нашел там, – сказал я ей, – ничего нового.
– Кроме ключа, месье, извините, если я говорю о вещи невозможной.
– Хотите, мадам, чтобы я назвал вам ваш ключ?
– Сделайте одолжение.
Я выдал ей слово, не относящееся ни к одному языку, и увидел на ее лице удивление. Она сказала, что это за гранью ее понимания, потому что она полагала себя единственной хозяйкой этого слова, которое хранила в памяти и никогда не писала.
Я мог сказать ей правду, что само вычисление, которое послужило мне для расшифровки манускрипта, позволило мне понять это слово, но мне пришел в голову каприз сказать, что некий Гений открыл мне его. Эта ложная доверительность привела к тому, что м-м д’Юрфе стала моей верной адепткой. С этого дня я стал для нее непререкаемым авторитетом, и я злоупотреблял своей властью. Каждый раз, когда я об этом вспоминаю, я чувствую себя удрученным и пристыженным, и сейчас каюсь в этом, чувствуя себя обязанным писать правду в этих Мемуарах. Великое заблуждение м-м д’Юрфе состояло в том, что она верила в возможность входить в общение с духами, которых называют элементарными. Она готова была отдать все, чтобы этого достичь, и знакомилась с разными обманщиками, которые вводили ее в заблуждение, обещая указать дорогу. Теперь, видя перед собой меня, который дал ей столь очевидное свидетельство своей учености, она решила, что достигла своей цели.
– Я не знала, – сказала она мне, – что ваш Гений обладает властью заставить моего открыть ему свои секреты.
– Нет нужды его заставлять, потому что он знает все в силу свойств своей собственной природы.
– Знает ли он также и то, что я храню как секрет в своей душе?
– Разумеется, и он должен мне это сказать, если я его расспрошу.
– Можете ли вы спрашивать, когда захотите?
– В любой момент, если у меня есть бумага и чернила; и даже я могу спрашивать его через вас, сообщив вам его имя. Мой Гений зовется Паралис. Задайте ему письменный вопрос, как если бы вы обращались к смертному; спросите у него, как я мог расшифровать ваш манускрипт, и вы увидите, как я заставлю его вам ответить.
М-м д’Юрфе, дрожа от радости, задала свой вопрос; я обратил его в числа, затем, как всегда, составил пирамиду и извлек ответ на ее письменный вопрос. Этот ответ состоял только из согласных, но с помощью второй операции я доставил ей гласные, которые она расставила, и вот – ответ, абсолютно ясный, который ее поразил. Она видит перед глазами слово, необходимое для расшифровки своего манускрипта. Я ушел от нее, унося с собой ее душу, ее сердце, ее ум и все, что у нее оставалось от здравого смысла.
Глава VI
Ошибочные и противоречивые представления м-м д’Юрфе о моем могуществе. Мой брат женится; проект, зародившийся в день его свадьбы. Я еду в Голландию по финансовым делам правительства. Я получаю урок от еврея Боаза. Г-н д’Аффри. Эстер. Другой Казанова. Я встречаю Терезу Имер.
Принц Тюренн выздоровел от ветряной оспы, граф де Ла Тур д’Овернь его покинул и, зная склонность своей тетки к абстрактным наукам, не был удивлен, что я стал ее единственным другом. Я виделся с ним на наших обедах с удовольствием, как и со всеми его родственниками, чье благородное отношение ко мне меня радовало. Это были его братья г-н де Понкарр и г-н де Виарм, который был в эти дни избран Прево торговцев, и его сын, о котором я, кажется, уже говорил. М-м дю Шатле была его дочь, но судебный процесс сделал их непримиримыми врагами, и о ней не говорилось ни слова.
Ла Тур д’Овернь должен был днями присоединиться к своему Болонскому полку в Бретани, и мы обедали вместе почти каждый день. Прислуга Мадам смотрела на меня как на ее мужа; они говорили, что я должен им быть, полагая, что тем оправдываются долгие часы, которые мы проводили вместе. М-м д’Юрфе, считая меня богатым, вообразила, что я участвую в лотерее Эколь Милитер только для маскировки.
Я обладал, по ее мнению, не только философским камнем, но и свободным общением со всеми элементарными духами. Соответственно, она считала меня способным сотрясать землю, составлять счастье или несчастье всей Франции, и относила мою склонность скрывать свои возможности лишь к оправданному опасению ареста и заключения под стражу, что, по ее мнению, стало бы неизбежным, как только министр узнал бы о моих способностях. Эти ее нелепые представления происходили от откровений, которые ей внушал ее Гений ночами, и которые ее экзальтированная фантазия заставляла считать реальными. Пересказывая мне их с полнейшей искренностью, она сказала однажды, что Гений убедил ее в том, что, поскольку она женщина, я не могу предоставить ей возможность общения с духами, но что я могу, с помощью известной мне операции, переместить ее душу в тело ребенка мужского пола, рожденного от философического соединения бессмертного со смертной, либо смертного с существом женского рода божественной природы.
Поощряя такие безумные представления этой дамы, я не считал, что я ее обманываю, потому что они у нее уже сложились, и было невозможно пытаться ее разубедить. Если бы, как порядочный человек, я сказал бы ей, что все ее идеи абсурдны, она бы мне не поверила, поэтому я решил оставить все как есть. Я мог только получать удовольствие, продолжая позволять считать себя самым великим из розенкрейцеров и самым могущественным из людей дамой, связанной со всем, что было самого высокого во Франции, и, кроме того, обладающей не только состоянием, но и земельной рентой в 80 тысяч ливров и домам в Париже. Я ясно видел, что она не может мне ни в чем отказать, и хотя я не вынашивал никаких планов завладеть этими богатствами ни полностью, ни частично, я не чувствовал в себе сил отказаться от этой власти.
М-м д’Юфрэ была скупа. Она тратила не более тридцати тысяч ливров в год, и пускала в оборот на бирже свои сбережения, что их удваивало. Ее агент скупал ее бумаги, когда они падали, и продавал, когда они росли. Поэтому ее портфель в значительной степени возрастал. Она говорила мне неоднократно, что готова все отдать, лишь бы стать мужчиной, и что она знает, что это зависит от меня.
Я сказал ей однажды, что, правда, владею этой операцией, но не могу на это решиться, потому что для этого пришлось бы ее убить.
– Я это знаю, – отвечала она, – и я даже знаю род смерти, которому я должна подвергнуться, и я согласна.
– И каков, извините, мадам, тот род смерти, который вы, как вы полагаете, знаете?
– Это, – ответила она мне живо, – тот же яд, который убил Парацельса.
– И вы полагаете, что Парацельс обрел ипостаз[23]?
– Нет. Но я знаю, почему. Он не был ни мужчиной, ни женщиной, а нужно определенно быть тем или другим.
– Это верно, но знаете ли вы, как приготовляется этот яд? И знаете ли, что без участия саламандры невозможно его сделать?
– Это возможно, я этого не знала. Прошу вас вопросить в кабале, есть ли в Париже персона, владеющая этим ядом.
Я сразу подумал, что она полагает, что сама имеет этот яд, и, не решаясь указать это в моем ответе, притворился удивленным. Но она не удивилась, и я увидел, что она торжествует.
– Вы видите, – сказала она, – что не хватает только ребенка, несущего в себе мужское начало, извлеченное из бессмертного существа. Я осведомлена, что это зависит от вас, и я не верю, что у вас может не хватить необходимой смелости из-за неуместной жалости, которую вы можете испытывать к моему старому остову.
При этих словах я поднялся и подошел к окну ее комнаты, выходящему на набережную, где оставался с четверть часа, раздумывая о ее безумствах. По моем возвращении к столу, где она сидела, она внимательно на меня посмотрела и, взволнованная, сказала:
– Возможно ли, дорогой друг? Я вижу, вы плакали.
Я оставил ее в этом мнении, вздохнул, взял свою шпагу и покинул ее. Ее экипаж, который каждый день был в моем распоряжении, стоял у дверей, готовый к моим приказам.
Мой брат был единодушно принят в Академию после экспозиции картины, на которой представил батальную сцену; она вызвала одобрение всех знатоков. Академия сама захотела ее приобрести и выплатила за нее пять сотен луи, которые он просил. Он был влюблен в Коралину и женился бы на ней, если бы она не проявила по отношению к нему неверности, которая так его поразила, что для того, чтобы лишить ее всякой надежды на примирение, он женился менее чем за неделю на фигурантке балета Итальянской Комедии. Свадьбу захотел организовать г-н де Санси, казначей консистории, который очень любил эту девушку и в благодарность за прекрасный поступок, который совершил брат, женившись на ней, обеспечил ему заказы картин от всех своих друзей, что предрешило его успех и грядущее процветание.
На этой свадьбе г-н Корнеман, разговаривая со мной о большой нехватке денег в казне, убедил поговорить с генеральным контролером об изыскании средств к исправлению положения. Он сказал, что, вкладывая королевские активы в рынок через почтенную компанию негоциантов в Амстердаме, можно обменять их на бумаги каких-то других вкладчиков, которые, не будучи настолько обесценены, как французские королевские, могут быть легко реализованы. Я попросил его ни с кем об этом не говорить, обещая, со своей стороны, действовать.
Не позднее чем назавтра я поговорил об этом с аббатом, моим покровителем, который, найдя спекуляцию превосходной, посоветовал мне предпринять путешествие в Голландию лично, с рекомендательным письмом от герцога де Шуазейль к г-ну д'Аффри, к которому можно было бы переправить несколько миллионов в королевских бумагах, чтобы учесть их в соответствии с моими разъяснениями. Он сказал мне сначала пойти обсудить дело с г-ном де Булонь, стараясь при этом не создавать впечатление человека, действующего наугад. Он заверил меня, что если я не стану просить денег авансом, мне выдадут все рекомендательные письма, какие я попрошу.
Я в мгновенье ока стал энтузиастом. В тот же день я увиделся с генеральным контролером, который, найдя мою идею очень хорошей, сказал, что г-н герцог де Шуазейль должен быть завтра у Отеля Инвалидов, и что я должен, не теряя времени, поговорить с ним и вручить ему записку, которую он сейчас напишет. Он обещал мне переправить через посла на двадцать миллионов векселей, что в любом случае вернется во Францию. Я хмуро заметил ему, что надеюсь, что нет, если все будет по-честному. Он ответил, что дело идет к миру, и поэтому я не должен давать слишком много маржи, и что в этом я завишу от посла, у которого есть все необходимые инструкции.
Я настолько был захвачен этой комиссией, что провел ночь без сна. Герцог Шуазейль, известный своей решительностью, едва прочтя записку г-на де Булонь и послушав меня пять минут, велел составить мне письмо, адресованное г-ну д’Аффри, которое прочитал и подписал, не дав мне перечесть перед тем, как запечатать; он пожелал мне доброго пути. В тот же день я получил паспорт от г-на де Беркенрооде, попрощался с Манон Баллетти и со всеми своими друзьями, кроме м-м д’Юрфэ, у которой должен был провести весь завтрашний день, и уполномочил подписывать билеты лотереи своего верного помощника.
Месяц назад очень симпатичная и весьма знатная девица родом из Брюсселя вышла замуж, при моем покровительстве, за итальянца по имени Гаэтан, по профессии торговца подержанными вещами. Я был кумом. Грубиян плохо с ней обращался, испытывая приступы ревности, и, соответственно, поскольку несчастная красотка все время мне жаловалась, я несколько раз их мирил. Они пришли пригласить меня пообедать как раз в тот день, когда я складывал багаж, чтобы ехать в Голландию. Мой брат и Тирета были у меня, и, живя еще в меблированных комнатах, я всех пригласил вместо этого обедать к Ланделю, где был приготовлен превосходный стол. Тирета был в своем экипаже; он разорял экс-янсениста, влюбленного в него. На этом обеде Тирета, красивый мальчик и шут в душе, который еще не видел красавиц фламандок, принялся обхаживать ее изо всех сил. Она была этим очарована, мы над этим посмеялись, и все было бы прекрасно, если бы ее муж был разумен и вежлив; но несчастный, ревнивый как тигр, исходил кровью. Он не ел, он ежеминутно бледнел, он метал на свою жену испепеляющие взгляды и совершенно не слушал шуток. Тирета насмехался над ним. Предвидя неприятные сцены, я пытался ограничить его чрезмерную веселость, но напрасно. На прекрасную грудь м-м Гаэтан упала устрица, и Тирета, который находился рядом, быстро подставил ей свои губы и втянул ее. Гаэтан вскочил и влепил своей жене пощечину такой силы, что его ладонь соскользнула с лица жены и попала по лицу соседа. Тирета в ярости схватил его за грудки, повалил на пол и, поскольку оба были не при оружии и дело ограничивалось ударами кулаками, мы не вмешивались; парень поднялся и ревнивец удалился. Его жена, в слезах и в крови, поскольку у нее, как и у Тирета, был разбит нос, попросила меня немного проводить ее, потому что опасалась за свою жизнь по возвращении домой, я поспешил сесть с ней в фиакр, оставив Тирета вместе с моим братом. Она попросила отвести ее к старому прокурору, своему родственнику, который жил на набережной Жевре, на четвертом этаже шестиэтажного дома. Этот человек, выслушав грустную историю, сказал мне, что будучи нищим, не может ничего сделать для бедной несчастной, но что он все сделает, если найдется сотня экю. Я выдал их ему, и он заверил меня, что разорит ее мужа, и он никогда не дознается, где она находится. Она сказала мне, что уверена, что он сделает все, что обещает, и, заверив в своей полной признательности, отпустила меня. По моем возвращении меня из Голландии, читатель узнает, что с ней сталось.
После того, как я убедил м-м д’Юрфе, что направляюсь в Голландию ради блага Франции и что вернусь в начале февраля, она попросила меня продать для нее там акции Индийской компании Гетеборга. У нее их было на 60 000, и она не могла их продать на Парижской бирже, потому что там не было денег, а кроме того, ей не хотели отдавать накопленный процент, который был значительным, поскольку в течение трех лет она не снимала дивидендов. Поскольку я согласился оказать ей эту услугу, она должна была сделать меня собственником этих акций с помощью контракта продажи, который она и оформила в тот же день, за подписями Тортона и Бауэра с площади Виктуар. Вернувшись к ней, я хотел сделать расписку – обязательство вернуть ей стоимость ее активов по своем возвращении, но она этого не захотела. Оставляя ее, я имел удовольствие убедиться в отсутствии на ее лице каких бы то ни было признаков сомнений.
Взяв у г-на Корнемана вексель на три тысячи флоринов на еврея Боаз, банкира двора в Гааге, я отправился в путь. Прибыв через два дня в Анверс, я нанял яхту, которая доставила меня на другой день в Роттердам, где я заночевал. На следующий день я направился в Гаагу, где остановился у Жаке, в «Английском парламенте». В тот же день, накануне Рождества, я представился г-ну д’Афири в тот момент, когда он читал письмо герцога Шуазейля, информировавшее его обо мне и моем деле. Он пригласил меня обедать вместе с г-ном де Кудербак, резидентом короля Польского, выборщика Саксонского, и одобрил мои действия, заметив однако, что сомневается в их успехе, потому что голландцы имеют полные основания сомневаться, что мир наступит в ближайшее время.
Выйдя из отеля посла, я велел отвести себя к банкиру Боаз, которого застал за столом вместе со всей его безобразной и многочисленной семьей. Увидев вексель, он сказал мне, что в этот же день получил письмо Корнемана, в котором тот меня очень восхвалял. Он спросил, почему в канун Рождества я не иду баюкать младенца Иисуса; я ответил, что решил отмечать вместе с ним праздник Маккавеев[24]. Он зааплодировал вместе со всем семейством моему ответу и просил занять комнату у него в доме. Приняв его предложение, я сказал своему лакею явиться в дом Боаз вместе с моей поклажей и после ужина, перед тем, как уйти, попросил его помочь мне реализовать за те несколько дней, что я намерен провести в Голландии, восемнадцать-двадцать тысяч флоринов на какое-нибудь выгодное дело. Он серьезно ответил, что подумает над этим.
Назавтра, с утра, после завтрака с ним и его семейством, он сказал, что решил мое дело, и отвел меня в свой кабинет, где, отсчитав 3 тыс. флоринов золотом и векселями, сказал, что не держит дома более, чтобы выдать мне в неделю 20 тысяч флоринов, как я просил накануне вечером. Очень удивленный той легкостью, с которой обращаются деньги в этой стране, потому что думал всего лишь пошутить, я поблагодарил его за это проявление дружбы и стал слушать дальше.
– Вот документ, – сказал он, – который я получил позавчера из Монетного двора. Они объявляют, что собираются отчеканить 400 тыс. дукатов и готовы их продавать по текущей цене золота, которое, к счастью, в данный момент не очень дорого. Каждый дукат пойдет по пять флоринов, два стюбера[25] и три сантима. Это обменный курс Франкфурта на Майне. Покупаете 400 тысяч дукатов, отвозите или отправляете их в Франкфурт, взяв векселя на банк Амстердама, и вот вам ваша выручка, ясная и чистая. Вы получаете стюбер и одну восьмую с дуката, что даст вам 22 222 наших флорина. Завладейте этим золотом сегодня, и через неделю получите ваш барыш наличными. Дело сделано.
– Но, – ответил я ему, – разве не будет господам с Монетного двора затруднительно доверить мне эту сумму, доходящую более чем до четырех миллионов турских ливров?
– Разумеется, им будет затруднительно, если вы не купите их за наличные или оставите им равную сумму в надежных бумагах.
– У меня нет, мой дорогой месье Боаз, ни такой суммы, ни этого кредита.
– В таком случае вы ни за что не получите в неделю 20 тысяч флоринов. По предложению, которое вы мне сделали, я счел вас миллионером. Я проделаю эту операцию сегодня или завтра для кого-нибудь из своих детей.
Преподав мне этот замечательный урок, Боаз удалился в свою контору, и я пошел одеваться. Г-н Афири приходил, чтобы вернуть мне визит, в «Английский парламент» и, не найдя меня там, написал мне записку, в которой предложил прийти к нему и выслушать то, что он мне скажет. Я так и сделал, пообедал там и узнал из письма, полученного им от г-на де Булонь и показанного мне, что мне следует разместить полученные мной бумаги на сумму двадцать миллионов с потерей в восемь процентов, потому что в настоящий момент дело идет к миру. Показав мне их, он рассмеялся и я сделал то же. Он посоветовал мне не открываться евреям, из которых самый порядочный – это всего лишь меньший жулик, и дал мне собственноручную рекомендацию для Пелса, в Амстердаме, которую я взял с благодарностью, и, желая быть мне полезным в моих делах в Гётебурге, он представил меня шведскому министру. Этот последний адресовал меня г-ну Д. О. Я выехал на следующий день после дня Св. Иоанна, из-за приглашения самых усердных франк-масонов Голландии. Тот, кто меня пригласил, был граф де Тот, брат барона, того, что пропал в Константинополе. Г-н д’Афири представил меня м-м Правительнице, матери штатгальтера, который показался мне слишком серьезным для своего возраста в двенадцать лет. Она ежеминутно засыпала. Она умерла вскоре после того, и у нее нашли водянку головного мозга. Я увидел там также графа Филиппа де Синцендорф, который старался добыть двенадцать миллионов для императрицы и легко их получил под пять процентов годовых. Я узнал в Комедии министра Порты, который был другом г-на де Бонневаль, и думал, что он умрет от смеха при виде меня. Вот довольно комичный факт. Давали трагедию «Ифигения». Статуя Дианы находилась в глубине сцены. В конце акта входила Ифигения в сопровождении всех своих жриц, которые, проходя перед статуей, отдавали глубокий поклон богине. Театральный осветитель, добрый голландский христианин, выходя со сцены, сделал богине такой же реверанс. Партер и ложи разразились смехом, я тоже, но не до смерти. Мне пришлось объяснить турку происходящее, и он принялся смеяться с такой силой, что пришлось отвести его к нему в гостиницу, «Принц Оранский». Не засмеяться над происходящим было бы, я понимаю, признаком глупости, но нужно было обладать турецким умом, чтобы разразиться смехом до такой степени. Был, однако, великий философ, грек, который умер от смеха, наблюдая, как старая беззубая женщина поедает фиги. Те, кто много смеется, счастливее тех, что смеются мало, потому что веселье облегчает селезенку и очищает кровь.
За два часа до прибытия в Амстердам, сидя в двухколесной почтовой коляске, со слугой сзади на запятках, я встретился с четырехколесной коляской, запряженной, как и моя, парой лошадей, с хозяином и слугой. Кучер четырехколесного экипажа хотел, чтобы мой уступил дорогу, мой возражал, что, уступив дорогу, он рискует опрокинуть меня в канаву, но тот упорствовал. Я обратился к хозяину, красивому молодому человеку, и попросил его приказать уступить мне дорогу.
– Я в почтовой коляске, месье, – сказал я ему, – и, кроме того, я иностранец.
– Месье, у нас в Голландии мы не признаем права почты, а если вы иностранец, знайте, что у вас нет никаких преимуществ передо мной, находящемся у себя дома.
Слыша такое, я спускаюсь в снег до середины сапог и, держа обнаженную шпагу, говорю голландцу, чтобы спускался или уступил мне дорогу. Он отвечает мне с улыбкой, что у него нет шпаги, и что в любом случае он не бьётся по такому странному случаю. Он говорит мне подняться и уступает дорогу. Я прибыл к ночи в Амстердам, где поселился в «Звезде Востока». На следующий день я нашел на Бирже г-на Пелса, который сказал, что подумает о моем важном деле, и четверть часа спустя я встретился там с г-ном Д. О., который свел меня в разговоре с негоциантом из Гётеборга, который захотел мне сразу учесть мои шестнадцать акций, давая двенадцать процентов выручки. Г-н Пелс сказал мне подождать и заверил, что обеспечит пятнадцать. Он дал мне обед и, видя, что я очарован качеством его красного вина из Капской провинции, сказал, смеясь, что делает его сам, смешивая вино из Бордо с вином из Малаги. На другой день я обедал у г-на Д. О., который овдовел в сорок лет и у которого была дочь четырнадцати лет. Она была бы красавицей, если бы не ее не слишком красивые зубы. Она была наследницей всех богатств своего любимого отца, который ее обожал. Белокожая, с черными волосами, причесанными без пудры, с говорящими глазами, очень черными и выразительными, она меня поразила. Она говорила очень хорошо по-французски, она бегло играла на клавесине и страстно любила чтение. После обеда г-н Д. О. показал мне ее дом, в котором никто не жил, потому что после смерти своей жены он выбрал апартаменты на первом этаже, в которых расположился весьма комфортно. То, что он мне показал, было помещение из шести-семи комнат, где у него хранилась настоящая сокровищница из коллекций старинного фарфора; стены и переходы были покрыты пластинами из мрамора, каждая комната другого цвета, и увешаны турецкими коврами, подобранными специально для данной комнаты. Большая обеденная зала была вся покрыта алебастром, стол и буфеты из кедрового дерева. Дом был весь покрыт и снаружи мраморной плиткой. В субботу я увидел четырех или пятерых служанок с лестницами, моющих эти великолепные стены; меня насмешило то, что у всех этих служанок были с собой очень большие корзины, что вынуждало их носить штаны, потому что без этой предосторожности они предоставляли бы слишком интересное зрелище для прохожих. Осмотрев дом, мы спустились, и г-н Д. О. оставил меня наедине со своей дочерью в прихожей, где он обычно работал со своими служащими, но в этот день никого не было. Это был первый день нового года.
Исполнив сонату для клавесина, м-ль О. спросила меня, хожу ли я в концерт. Я ответил, что ничто не было мне столь интересно, как пойти туда вместе с ней.
– Думаете ли вы туда пойти, мадемуазель?
– Я пошла бы туда с самым большим удовольствием, но не могу пойти одна.
– Я был бы счастлив послужить вам, но не смею надеяться.
– Вы доставили бы мне самое чувствительное удовольствие, и я уверена, что если вы обратитесь к моему отцу, он вам не откажет.
– Вы уверены?
– Вполне уверена; он допустил бы невежливость, если бы отказал, после того, как вас узнал; я удивлена, что вы сомневаетесь; мой отец человек вежливый; я вижу, что вы не знакомы с нравами в Голландии. Девушки у нас пользуются полной свободой, они теряют ее только когда выходят замуж; идите, идите.
Я вошел к г-ну Д. О., который писал, и спросил, не доставит ли он мне счастье сопроводить его дочь в концерт.
– У вас есть экипаж?
– Да, месье.
– Тогда мне не надо велеть запрягать. Эстер?
– Да, отец?
– Ты можешь одеваться. Г-н Казанова желает оказать любезность проводить тебя в концерт.
– Спасибо, мой добрый папа.
Обняв его, она пошла одеваться, и вот, час спустя, готова, с выражением радости на лице. Я пожелал бы ей немного пудры, но Эстер пожалела цвета своих волос, которые делали ее кожу еще белее. Черная прозрачная косынка прикрывала ее грудь, молодую и слишком крепкую.
Мы спускаемся, я подаю ей руку, чтобы помочь подняться в экипаж, останавливаюсь, полагая, что ее сопровождает горничная или компаньонка, и, не видя никого, поднимаюсь, удивленный. Ее слуга, прикрыв дверцу, поднимается назад. Мне все это кажется невозможным. Такая девушка, в одиночку, со мной! Я онемел. Я спрашивал себя, должен ли я помнить, что я большой распутник, или должен забыть об этом. Эстер, веселая, говорит, что мы будем слушать итальянку, у которой голос как у соловья, и, видя меня растерянным, спрашивает о причине. Я что-то пробормотал в ответ, но закончил, сказав, что она представляется мне сокровищем, хранителем которого я недостоин быть.
– Я знаю, – сказала она, – что в остальной Европе не разрешают девушкам одним выходить с мужчинами, но здесь нас воспитывают быть благоразумными, и мы сами уверены, что, не будучи такими, мы навлечем на себя несчастье.
– Счастлив тот, кто будет вашим мужем, и еще более счастлив, если вы уже его выбрали.
– Ох! Это не мое дело выбирать, но моего отца.
– А если тот, кого он выберет, не будет тем, кого вы любите?
– Нельзя любить кого-то до того, как убедишься, что он будет тебе мужем.
– Значит, вы никого не любите.
– Никого, и даже не пытаюсь узнать, кто это будет.
– Могу ли я поцеловать вам руку?
– Почему руку?
Она отняла руку и дала мне свой рот, возвратив весьма скромно поцелуй, который шел от всего сердца, но я на этом остановился, когда она сказала, что сделала бы так и в присутствии своего отца, если мне это нравится.
Мы прибыли в концерт, где Эстер встретила множество девиц, своих подруг, дочерей богатых негоциантов, красивых и дурнушек, всех старавшихся ее расспросить, кто я такой. Она могла им сказать только мое имя, но очень оживилась, когда увидела невдалеке прекрасную блондинку; она спросила меня, нахожу ли я ту привлекательной; я ответил ей, как оно и было взаправду, что не люблю блондинок.
– Я хочу, однако, вас ей представить, потому что она, может быть, ваша родственница; ее зовут, как и вас, и вот ее отец. Месье Казанова, – говорит она ему, – я представляю вам г-на Казанова, друга моего отца.
– Возможно ли это? Я хотел бы также быть, – говорит он, – вашим другом, но мы, возможно, родственники. Я из семьи, происходящей из Неаполя.
– Тогда мы родственники, хотя и очень дальние, потому что мой отец был из Пармы. У вас есть ваша генеалогия? Мне надо было бы ее завести, но, по правде говоря, у меня не было для этого случая, потому что в этой стране не считаются с этими условностями.
– Не важно, мы можем развлечься на четверть часа, не делая из этого никакого парада. Я буду иметь честь нанести вам завтра визит и принесу вам серию своих предков. Надеюсь, вы не будете огорчены найти среди них своего прародителя?
– Я буду этим очарован, месье, и сам буду иметь честь прийти вас повидать завтра. Смею ли спросить, есть ли у вас здесь коммерческая контора?
– Никакой. Я здесь по финансовым делам и по поручению министра Франции. Я адресуюсь к г-ну Пелс.
Г-н Казанова сделал знак своей дочери, та подошла и он ее мне представил. Она была близкой подругой Эстер; я сел между ними двумя и начался концерт. После прекрасной симфонии, скрипичного концерта и другого – для гобоя, появилась итальянка, о которой столько говорили и которую звали Тренти, и встала позади человека, сидящего за клавесином. Мое удивление было велико, потому что я узнал в предполагаемой м-м Тренти Терезу Имер, жену танцовщика Помпеати, которую читатель, может быть, помнит. Я знал ее за восемнадцать лет до этой эпохи, когда старый сенатор Малипьеро выдал мне удары тростью, застав внезапно за детскими развлечениями с ней, и увидел ее снова в 1753 году в Венеции, где мы один или два раза предались любви, уже не по-детски, а по настоящему. Она уехала в Байрейт, где была любовницей маркграфа. Я хотел ее там повидать, но К. К. и монашенка М. М. не оставили мне свободного времени. Потом меня поместили в Пьомби, и я больше ничего о ней не знал. Каково же было мое удивление увидеть ее на концерте в Амстердаме! Я ничего не говорил, слушая арию, которую она пела ангельским голосом, предваряемую речитативом, начинающимся словами: Eccoti giunla al fin, donna infelice[26]. Аплодисменты длились без конца. Эстер мне сказала, что никто не знает, кто эта женщина, что она знаменита сотней своих историй, что она несчастлива в делах и что она живет, переезжая из города в город по всей Голландии, выступая везде в публичных концертах, где получает в оплату только то, что дают ей присутствующие на серебряную тарелку, с которой она обходит в конце концерта все ряды.
– И наполняется ли ее тарелка?
– Очень мало, потому что все, кто здесь присутствует, уже оплатили свои билеты. Так что хорошо, если она выручает тридцать или сорок флоринов. Она будет послезавтра в концерте в Лейдене, на следующий день – в Гааге, а еще через день – в Роттердаме, затем она вернется сюда; уже более шести месяцев она ведет эту жизнь, и все всегда в восхищении от ее пения.
– У нее есть любовник?
– Говорят, что у нее есть молодые люди в каждом из этих городов, но что они, вместо того, чтобы давать ей деньги, получают их от нее, поскольку сами не имеют ни су. Она ходит всегда одетая в черное, не только потому, что она вдова, но и по причине великого горя, которое, как она говорит, у нее случилось. Вы ее увидите обходящей наш ряд через полчаса.
Я отсчитал у себя в кармане двенадцать дукатов и завернул их в бумажку, ожидая ее с сильным сердцебиением, которое заставляло меня внутренне смеяться, потому что я не находил ему причины.
Когда она пересекла ряд перед моим, я увидел, что она очень удивлена при виде меня, но я отвел от нее взгляд, продолжая разговор с Эстер. Когда она оказалась передо мной, я положил на ее тарелку маленький сверток, не глядя на нее, и она прошла дальше. Но я хорошо разглядел маленькую девочку четырех-пяти лет, сопровождающую ее, которая вернулась обратно, когда они дошли до конца ряда, чтобы поцеловать мне руку. Я был поражен, так как увидел голову этого ребенка, с моей собственной физиономией. Я смог притаиться, но малышка, внимательно на меня глядя, оставалась на месте.
– Не хотите ли конфет, прелестное дитя? – спросил я, берите коробку.
Говоря так, я подал ей полную коробку, сделанную из ракушек, но я дал бы ей и в случае, если бы она была из золота. Она отошла, и Эстер сказала мне, смеясь, что этот ребенок – мой портрет.
– Поразительно, – добавила м-ль Казанова.
– Случай, – сказал я ей, – часто порождает сходства без всякой причины.
После концерта я доставил м-ль Эстер О. в руки ее отца и пошел в «Звезду Востока», где поселился. Я заказал блюдо устриц и собирался поесть их и пойти спать, когда увидел входящую в мою комнату Терезу с ребенком. Я, естественно, поднялся, чтобы в восхищении ее поцеловать, когда она, догадавшись об этом, то ли притворно, то ли всерьез, упала на пол в обмороке. Поскольку это могло быть натурально, я постарался соответствовать обстоятельствам сцены и привел ее в чувство с помощью холодной воды, дав ей также понюхать ароматной соли «О де Люз». Придя в себя, она смотрела на меня, не говоря ни слова. Я спросил, не хочет ли она поужинать, и она ответила, что да. Я быстро распорядился поставить три куверта, и нам принесли обычный ужин, который, однако, продержал нас за столом до семи часов утра, занятых пересказом наших судеб и наших несчастий. Она знала большую часть моих превратностей судьбы, я же не знал ничего о ее. Поэтому это она говорила пять или шесть часов подряд. Софи, это было имя ее дочери, спала глубоким сном на моей кровати до утра. Тереза приберегла на конец своих повествований то, что было наиболее важным и что должно было меня интересовать более всего. Она сказала, что Софии – моя дочь, и достала из кармана ее свидетельство о крещении, где была зарегистрирована дата ее рождения. Мы виделись и любили друг друга в Венеции в начале ярмарки Вознесения 1763 года, и Софи родилась в Байрейте в последний день года; ей пошел как раз шестой год. Я сказал, что убедился в ее правоте, и что, будучи в состоянии дать ей хорошее образование, я готов об этом позаботиться; но она ответила, что это ее сокровище и что я надорву ей душу, если отниму у нее девочку; она предложила мне вместо этого своего сына, двенадцати лет, которого у нее нет средств достойно воспитать.
– Где он?
– Он находится, не скажу, что в пансионе, но в закладе в Роттердаме, так что мне его не отдадут, пока я, по крайней мере, не заплачу тому, у кого он находится, всего, что я ему должна.
– Сколько вы должны?
– Восемьдесят флоринов. Шестьдесят два вы мне уже дали, дайте еще четыре дуката, и мой сын будет у вас, и я стану счастливейшей из матерей. Я передам его вам в Гааге на следующей неделе, поскольку вы говорите, что должны туда вернуться.
– Да, моя дорогая Тереза. Вместо четырех дукатов вот вам двадцать. Мы снова увидимся в Гааге.
Порыв переживаний, вызванных чувством благодарности, и радость, затопившая ее душу, были необычайны, но они не смогли пробудить мою былую нежность, ни, тем более, мою прежнюю склонность, которую я к ней испытывал, потому что я никогда не любил ее страстно. Она сжимала меня в своих объятиях более четверти часа, снова и снова демонстрируя самые живые желания, но напрасно; я возвращал ей ее ласки без той страсти, которой она желала, чтобы убедиться, что они исходят из того же источника, которому Софи была обязана своим рождением. Тереза утопала в слезах; затем она вздохнула, взяла свою дочь и оставила меня, повторив, что мы увидимся снова в Гааге, и что она уезжает в полдень.
Тереза была на два года старше меня, она была блондинка, красива, исполнена ума и таланта, но ее чары были уже не прежние, когда я мог ощутить их силу. История того, что с ней произошло за те шесть лет, начиная с ее отъезда из Венеции в Байрейт, достойна занять моего читателя, и я ее охотно опишу, постараясь вспомнить все ее обстоятельства. Уличенная влюбленным маркграфом в неверности с г-ном де Монперни, она была изгнана, разошлась со своим мужем Помпеати и направилась с любовником в Брюссель, где за несколько дней очаровала принца Шарля де Лорен, который передал ей, в качестве личной привилегии, управление всеми спектаклями во всех Австрийских Нидерландах. С этой привилегией она захватила самые крупные предприятия, что вынудило ее нести огромные расходы, так что менее чем в три года, распродав все свои бриллианты, кружева, гардероб и все, что у нее было, она вынуждена была уехать в Голландию, чтобы не попасть в тюрьму. Ее муж покончил с собой в Вене из-за страданий, причиняемых ему кишечником; он вскрыл себе живот бритвой и умер, вытащив кишки наружу.
Дела так и не позволили мне пойти спать. Г-н Казанова пришел выпить со мной кофе и просил меня пообедать с ним, назначив мне свидание в Бирже Амстердама, которая представляет собой нечто удивительное для любого мыслящего иностранца. Многочисленные миллионеры, выглядящие как деревенщина. Человек, у которого лишь сотня тысяч флоринов – беден до такой степени, что не осмеливается торговать под собственным именем. Г-н Д. О. пригласил меня обедать на завтра в маленький домик, который у него был в Амстеле, и г-н Казанова отнесся ко мне с большим почтением. Прочтя мою генеалогию, которую мне так хорошо составили в Неаполе, он стал восстанавливать свою, которую нашел в точности как моя, но, будучи вполне равнодушен к этому факту, он только посмеялся, в отличие от дона Антонио из Неаполя, который к этому отнесся вполне серьезно и дал тому такие добрые свидетельства. Он предложил мне, однако, свои услуги и свои советы во всем, что касается коммерции, если у меня возникнет такая нужда. Его дочь казалась мне красивой, но я не был поражен ни ее прелестями, ни умом, я был занят только Эстер, о которой говорил несколько раз за столом, так что м-ль Казанова вынудила меня, наконец, признать, что та некрасива. Девушка, которая знает, что красива, торжествует, когда может заткнуть рот мужчине, который говорит одобрительно об одной из равных себе, чьи достоинства бесспорны. Несмотря на это, юная Казанова была близкой подругой Эстер.
После обеда г-н Д. О. сказал, что если я хочу отдать свои акции из пятнадцати процентов, он возьмет их сам, и я избегу затрат на посредника и нотариуса. Я согласился, и после того, как они перешли к нему, я попросил у него оплатить их обменным векселем на Туртона и Бора, в турских ливрах, на мое имя. Посчитав талер банка Швеции по восемь ливров и десять су, он дал мне обменный вексель на предъявителя, привязавшись к обменному курсу Гамбурга, на семьдесят две тысячи франков, в то время как при пяти процентах я должен был получить при этой операции лишь 69 тысяч. Это составляло шесть процентов. Так что я порадовался за м-м д’Юрфе, которая, возможно, не ожидала такой добросовестности с моей стороны. К вечеру я направился с г-ном Пелс в Саардам в закрытой барке, установленной на санях. Я нашел этот способ передвижения очень необычным и весьма занятным. Мы двигались по ветру с превосходной скоростью, преодолев пятнадцать английских миль за час. Нельзя себе представить экипаж ни более удобный, ни более укрытый, ни более безопасный. Никто бы не отказался совершить кругосветное путешествие в подобном экипаже, по морю, покрытому льдом, при условии однако, что ветер дует в корму, потому что иначе он двигаться не может и руль тут не поможет. Что мне особенно понравилось, это та точность, с которой два матроса спустили два паруса, когда, прибыв на остров, они должны были остановить барку. Это единственный момент, когда можно испытать страх, потому что барка продолжает двигаться вперед более чем на сотню шагов даже при спущенных парусах, и если запоздать хотя бы на секунду, сила удара ее о берег разнесет ее на куски. Мы откушали окуней и не могли там погулять из-за сильного ветра, но я побывал там другой раз и ничего не буду рассказывать, так как каждый знает, что такое замечательный Сардам, настоящий питомник богатых торговцев, которые со временем становятся миллионерами в Амстердаме. Мы вернулись к г-ну Пелс в санях, запряженных парой лошадей, принадлежащих ему. Он удержал меня на ужин, и я покинул его лишь в полночь. Он сказал, обратив ко мне свое честное лицо, что, поскольку я стал другом ему и г-ну Д. О., мне не нужно обращаться к евреям по поводу своего большого дела, а следует напрямую обратиться к ним.
На следующий день снег падал большими хлопьями; я направился рано утром к г-ну Д. О., где нашел его дочь в очень хорошем настроении. В присутствии своего отца она стала смеяться надо мной по поводу того, что я провел ночь в гостинице с м-м Тренти.
Г-н Д. О., сказав, что мне нет нужды защищаться, поскольку позволительно любить таланты, просил рассказать, кто эта женщина. Я сказал ему, что она венецианка, муж которой недавно покончил с собой, и что уже шесть лет прошло с тех пор, как мы виделись последний раз.
– Встреча с вашей дочерью, – сказала Эстер, – должна была вас поразить.
Я сказал ей, что эта девочка не может мне принадлежать, так как у ее матери был муж, но она продолжала рассуждать о нашем сходстве и о том, что я засыпал намедни, ужиная у г-на Пелс.
– Я завидую, – с умом возразила она, – кое-кому, кто по секрету вкушает сладкий сон, в то время как я в течение долгого времени мечтаю об этом напрасно и с отвращением, потому что когда просыпаюсь, вместо того, чтобы обрести ум более свободным, нахожу его отягощенным и удрученным отсутствием забот, происходящим от усталости.
– Попробуйте, мадемуазель, провести ночь, слушая длинную историю кого-то, кто вам интересен, но из его собственных уст. Вы с удовольствием уснете в следующую ночь.
– Этого кое-кого не существует. Полагаю, мне нужны книги и помощь кого-то, кто мог бы подобрать для меня интересные. Я люблю историю, путешествия, но я должна быть уверена, что то, что я читаю, – не полная выдумка. Если я в этом не уверена, я бросаю чтение.
Я предложил ей на следующий день книги, перед моим отъездом в Гаагу; она потребовала с меня слово, вместе с комплиментом, что я в Гааге снова увижусь с ла Тренти.
Искренность Эстер вогнала меня в краску, и г-н Д. О. смеялся от всего сердца над судом, который устроила мне его дочь. В одиннадцать часов мы сели в сани и направились в маленький дом, где, как она меня предупредила, будет также м-ль Казанова со своим женихом. Я увидел удовлетворение на ее лице, когда заверил ее, что никто не может мне быть интересней, чем она сама.
Мы увидели обоих покрытыми снегом, вышедшими нас встречать. Мы сошли, вошли в салон, чтобы сбросить наши меха, и я увидел жениха, который, мельком взглянув на меня, что-то тихо сказал своей нареченной. Она смеется, говорит что-то Эстер, которая сообщает это отцу, тот еще пуще смеется. Все смотрят на меня, я уверен, что речь обо мне; я стараюсь казаться индифферентным, но это не должно помешать мне приблизиться к ним. Вежливость превыше всего.
– Можно ошибиться, – говорит г-н Д. О., – но следует, однако, прояснить дело. С вами не произошло ничего забавного во время путешествия из Гааги в Амстердам?
Про этом вопросе я кинул взгляд на жениха и обо всем догадался.
– Ничего забавного, – ответил я, – кроме встречи с приятной личностью, которая вознамерилась опрокинуть мою коляску в канаву, и полагаю, что вижу ее здесь.
Всеобщий смех возобновился, и мы обнялись, но после его рассказа обо всех обстоятельствах юная Казанова желчно сказала ему, что он должен был биться. Эстер возразила, сказав, что он проявил больше мужества, вняв рассудку, и г-н Д. О. поддержал это мнение в резких выражениях; но мятежница, выставив целый парад романтических идей, стала дуться на своего возлюбленного. Я на это объявил ей настоящую войну, которая очень понравилась Эстер.
– Пойдем, пойдем, – сказала прелестная Эстер оживленно, – наденем коньки и скорее пойдем развлекаться на Амстел, потому что я боюсь, что лед растает.
Я не захотел попросить меня уволить от этого. Г-н Д. О. нас покинул. Жених м-ль Казанова приладил мне коньки, и вот – девицы пустились вперед, в коротких юбках, снабженные штанами из черного велюра, чтобы обезопаситься от несчастных случаев. Мы спустились на Амстел, и, учитывая, что я был совершенным новичком на этом манеже, читатель может себе представить, как, упав жестоко на твердый лед по меньшей мере двадцать раз, я решил, что кончу тем, что отобью себе почки; однако, тем не менее, я устыдился бросить партию и окончил ее, только когда позвали на обед. Поднимаясь из-за стола, я чувствовал себя как парализованный во всех своих членах. Эстер дала мне баночку помады и заверила, что следует натереться перед тем, как лечь в кровать, назавтра я почувствую себя вполне хорошо. Она сказала правду. Все много смеялись; я позволял смеяться; я видел, что эта затея была задумана только для того, чтобы посмеяться на мой счет, и не счел это дурным. Я хотел понравиться Эстер и был уверен, что мои покорность и снисходительность мне в этом помогут. Я провел послеобеденное время вместе с г-ном Д. О., предоставив молодым людям снова идти на Амстел, где они оставались до сумерек.
Мы поговорили о моих двадцати миллионах, и я понял из его разъяснений, что смогу их учесть, только обратившись непосредственно к компании негоциантов, которая проведет эту операцию в обмен на остальные бумаги, и что при этом я должен быть готов много потерять. Когда я сказал ему, что охотно совершу сделку с Компанией Индий в Гётеборге, он сказал, что переговорит с маклером, и что г-н Пелс мог бы быть мне весьма полезен.
На другой день, проснувшись, я решил, что пропал. Мне показалось, что последние из моих позвонков, называемые «Os sacrum»[27] рассыпаются на тысячу кусков. Я использовал при этом почти всю помаду, которую дала мне Эстер. Я не забыл ее пожелания. Я велел отвести себя в книжную лавку, где отобрал все книги, которые счел для нее интересными. Я отправил их ей, попросив переправить мне обратно те, что она прочла. Она так и поступила и, поблагодарив меня, просила прийти ее поцеловать перед отъездом в Амстердам, если я хочу получить красивый подарок.
Я зашел туда очень рано, оставив свою почтовую коляску у их дверей. Ее гувернантка проводила меня к ее кровати, где я нашел ее улыбающейся, с лицом цвета лилий и роз.
– Я уверена, – сказала она мне, – что вы бы не пришли, если бы я не воспользовалась словом «поцеловать». Говоря так, она предоставила моим жадным губам всю прелесть своего лица. Разглядев между тем розовые бутоны ее юных грудей, я вознамерился завладеть ими; заметив это, она перестала смеяться и перешла к обороне. Она сказала мне, что я хорошо поступлю, если развлекусь в Гааге с м-м Тренти, у которой находится ценный залог моей нежности. Я заверил ее, что направляюсь в Гаагу лишь затем, чтобы говорить о делах с послом, и что она увидит меня через пять или шесть дней, влюбленным исключительно в нее. Она ответила, что полагается на мое слово, и при прощании наградила меня таким нежным поцелуем, что я почувствовал уверенность, что она предоставит мне все при моем возвращении. Я выехал весьма влюбленным, и прибыл в час ужина к Боазу.
Глава VII
Моя удача в Голландии. Мое возвращение в Париж вместе с молодым Помпеати.
Среди писем, которые я получил на почте, я нашел одно от генерального контролера, который мне сказал, что королевские бумаги на двадцать миллионов находятся у г-на д’Афири, и он отдаст их с потерей не более чем в восемь процентов, и другое, от моего покровителя аббата де Берни, который сказал, что надо провернуть это дело с наибольшей возможной выгодой, и чтобы я был уверен, что если посол обратится к министру, он получит приказ соглашаться на условия по меньшей мере такие, какие можно получить на Парижской бирже.
Боаз, удивленный выгодностью осуществленной мной продажи моих шести акций через Гётебург, сказал, что постарается учесть мои двадцать миллионов в акциях шведской компании Индий, если я подпишу у посла письмо, по которому обязуюсь передать королевские бумаги Франции с потерей десяти процентов, приняв шведские акции на пятнадцать процентов выше номинала, как я продал свои шестнадцать. Я на это согласился при условии, что он не будет требовать от меня отсрочки в три месяца, и что контракт не может быть изменен в случае, если будет заключен мир. Я увидел, что мне следует вернуться в Амстердам, и я туда бы и уехал, если бы не дал слово Тренти ждать ее в Гааге. Она приехала из Роттердама на следующий день и написала, что ждет меня к ужину. Я получил от нее записку в комедии. Слуга, который мне ее принес, сказал, что по окончании пьесы он отведет меня к ней. Отправив своего лакея к Боазу, я пошел к ней.
Я нашел эту необычную женщину на четвертом этаже бедного дома, с дочерью и сыном. Посреди комнаты стоял стол, покрытый черной скатертью, с двумя свечами. Поскольку Гаага была столичный город, я был одет пышно. Эта женщина, одетая в черное, со своими двумя детьми, показалась мне Медеей. Ничего не могло быть миловиднее ее двух созданий. Я нежно прижал к сердцу мальчика, назвав его сыном. Его мать сказала ему, что с этого момента он должен смотреть на меня как на своего отца. Я узнал в нем того, которого видел в мае 1753 года в Венеции у м-м Манцони, и был им очарован. Он был очень мал ростом, было видно, что он будет прекрасной комплекции, хорошо сложен, и в его тонком лице проглядывал ум. Ему было тринадцать лет.
Его сестра находилась там же, неподвижная, ожидая, по-видимому, своей очереди. Взяв ее на колени, я не мог насытиться, покрывая ее поцелуями. Она молча радовалась, видя, что интересна мне больше, чем ее брат. На ней была только легкая юбка. Я целовал все ее прелестное тельце, радуясь, что я – тот, кому это маленькое создание обязано своим существованием.
– Не правда ли, милая мама, это тот самый господин, которого мы видели в Амстердаме, и которого приняли за моего папу, потому что я на него похожа? Но это невозможно, потому что мой папа умер.
– Это правда, – сказал я, – но я могу быть твоим близким другом. Ты хочешь этого?
– Ах, мой дорогой друг! Поцелуемся!
Посмеявшись, мы сели за стол. Героиня подала тонкий ужин и превосходное вино. Она, как она мне сказала, не принимала лучше и маркграфа во время тех интимных ужинов, что давала ему тет-а-тет. Чтобы лучше понять характер ее сына, которого я решил увезти с собой, я с ним поговорил. Я нашел, что он неискренен, скрытен, все время настороже, контролирует свои ответы и, соответственно, никогда не дает их такими, какие шли бы напрямую от сердца, если бы он забылся. Это однако сопровождалось видимостью вежливости и скромности, которые, как он полагал, должны были мне нравиться. Я ласково сказал ему, что его манера могла бы быть превосходной в свое время и в своем месте, но что бывают моменты, когда мужчина может быть счастлив, только освободившись от зажатости, и только в такие моменты можно счесть его приятным, естественно, если это качество присутствует в его характере. Его мать, хваля его во всем остальном, сказала, что его главным качеством является скрытность, что она приучила его быть таким всегда и во всем, и она все время страдает от его привычки быть с нею таким же сдержанным, как и со всеми остальными. Я ясно ему сказал, что это недопустимо, и что я не могу понять, как мог бы отец питать даже не любовь, а какую-то дружбу к сыну, всегда застегнутому на все пуговицы.
– Скажите мне, – сказал я мальчику, – чувствуете ли вы себя в состоянии пообещать относиться ко мне со всем доверием и ни в коем случае не иметь относительно меня никаких секретов, ни настороженности?
– Я обещаю вам, – ответил он, – что скорее умру, чем решусь сказать вам неправду.
– Это в его характере, – вмешалась его мать, – таков ужас, который я внушила ему по отношению ко лжи.
– Это очень хорошо, – ответил я, – но вы могли бы направить вашего сына к добру иной дорогой. Вместо того, чтобы представить ему мерзость лжи, вы могли бы представить красоту правды. Это единственное средство стать любимым, и в этом мире, чтобы быть счастливым, надо, чтобы тебя любили.
– Но, – ответил он мне с усмешкой, которая мне не понравилась, но очаровала его мать, – не лгать и говорить правду – разве это не одно и то же?
– Отнюдь нет, потому что вы же не можете не говорить мне ничего. Речь идет о том, чтобы раскрыть вашу душу, говорить мне все, что творится в вас и вокруг вас, и обнажить мне даже то, что могло бы заставить вас покраснеть. Я помогу вам краснеть, мой дорогой сын, и в скором времени вы уже не будете ощущать в этом риска; но когда мы узнаем друг друга лучше, мы очень скоро увидим, подходим ли мы друг другу, потому что я не смогу никогда относиться к вам как к своему сыну, нежно любимому, и не соглашусь никогда считать ваше отношение ко мне таким, как к любимому отцу, если не увижу в вас самого близкого друга, а разобраться в этом будет моим делом, потому что вы никогда не сможете скрыть от меня ни малейшей из ваших мыслей; но когда я открою ее вопреки вашему желанию, я перестану вас любить и вы на этом проиграете. Вы поедете со мной в Париж, как только я окончу свои дела в Амстердаме, куда направляюсь завтра. К моему возвращению надеюсь найти вас подготовленным вашей матерью к новому будущему.
Я был удивлен, видя мою дочь слушающей не моргая все то, что я говорил ее брату и напрасно старающейся сдержать слезы.
– Почему ты плачешь? – говорит ей ее мать, – это глупо.
Дитя рассмеялось, прыгнув ей на шею, чтобы расцеловать. Я явственно увидел, что ее смех был настолько же притворным, насколько натуральны были слезы.
– Хочешь тоже поехать со мной в Париж? – спросил я.
– Да, мой дорогой друг, но вместе с матерью, потому что без меня она умрет.
– А если я прикажу тебе ехать? – говорит ее мать.
– Я послушаюсь, но вдали от тебя, как я смогу жить?
Моя дорогая дочь делала вид, что плачет. Это было очевидно. Тереза и сама должна была это понимать, и я, отозвав ее в сторонку, сказал, что если она воспитывала своих детей комедиантами, она добилась своего, хотя для общества они – маленькие подрастающие монстры. Я прекратил ее упрекать, потому что увидел, что она плачет, но, тем не менее, это было сказано всерьез. Она просила меня остаться в Гааге еще на день, я ответил, что не могу этого, и вышел ненадолго; но был удивлен, войдя обратно, услышав Софи, говорящую, что для того, чтобы доказать, что я ее друг, я должен пройти некоторое испытание.
– Какое испытание, сердечко мое?
– Прийти поужинать со мной завтра.
– Я не могу, потому что, отказав только что твоей матери в этой любезности, я ее обижу, если соглашусь оказать ее тебе.
– Ах нет, нет, потому что это она подучила меня попросить вас об этом.
Мы засмеялись, но ее мать назвала ее маленькой негодницей, а ее брат был обрадован тем, что не совершил подобной бестактности, и я ясно увидел на лице малышки свидетельство ее душевной растерянности. Я поспешил заверить ее, что не буду стараться огорчать ее мать, внушая ей новые для нее принципы морали, которые она выслушала, пропустив мимо ушей. Я кончил тем, что пообещал прийти поужинать с ней завтра, но при условии, что она выставит только одну бутылку бургундского и три блюда.
– Потому что ты небогата, – сказал я.
– Я это хорошо знаю, дорогой мой друг, но мама сказала, что это вы за все платите.
При этом ответе я должен был опустить руки, и, несмотря на свою досаду, ее мать вынуждена была поступить так же. Бедная, хотя и изворотливая, женщина, восприняла как глупость наивность Софи. На самом деле это был ум, это был алмаз чистой воды, который нуждался только в огранке. Она сказала мне, что вино ей ничего не стоило, что В.Д.Р., молодой человек, сын бургомистра Роттердама, поставляет его ей, и что он будет ужинать с нами завтра, если я позволю. Я, смеясь, ответил, что с удовольствием увижу его. Я ушел, осыпанный поцелуями дочери. Я очень хотел, чтобы ее мать мне ее отдала, но мои просьбы были бесполезны, потому что я видел, что она рассматривала ее как способ обеспечения своей будущей старости. Таков образ мыслей любой женщины – авантюристки, и Тереза была именно авантюристкой. Я дал этой матери двадцать дукатов на то, чтобы она одела на них моего приемного сына, и Софи, исполненная благодарности, бросилась мне на шею. Жозеф хотел поцеловать мне руку, но я заверил его, что в будущем он должен будет благодарить меня только поцелуями. Когда я выходил на лестницу, она захотела показать мне комнату, где спят ее дети. Я видел ее старания, но был весьма далек от того, чтобы испытывать к ней склонность. Меня полностью занимала Эстер.
На следующий день я увидел у Терезы молодого В. Д. Р. Красивый юноша, двадцати двух лет, одетый просто, ни кислый ни сладкий, ни вежливый ни невежливый, без всяких светских навыков. Ему было позволено быть любовником Терезы, но передо мной ему не стоило держаться слишком вольно. Когда она заметила, что он хочет держать себя хозяином, и что он меня шокирует, она перевела его в служащие. Будучи направлен на организацию блюд, убедившись в превосходном качестве подаваемых вин, он ушел, оставив нам десерт. Я также ушел в одиннадцать, заверив ее, что еще увижусь с ней до отъезда. Княгиня Голицина, урожденная Кантемир, пригласила меня на обед.
Назавтра я получил письмо от м-м д’Юрфэ, которая с помощью обменного векселя на Боаза перевела мне 12 тыс. фр., очень благородно заявив, что ее акции стоили ей 60 000 фр. и она ничего не хочет сверх того. Этот подарок пяти сотен луи мне понравился. Все остальное ее письмо было заполнено химерами. Она писала мне, что ее Гений сказал ей, что я вернусь в Париж с мальчиком, рожденным от философского соития, и что она надеется, что я позабочусь о ней. Странный случай! Я заранее смеялся над впечатлением, которое произведет на ее душу появление сына Терезы. Боаз поблагодарил меня за то, что я удовлетворился тем, что он оплатил мне мой вексель дукатами. Золото в Голландии является предметом торговли. Платежи производятся либо бумагами, либо чистым серебром. В настоящий момент никто не хочет дукаты, потому что ажио (меновая стоимость) поднялся на пять стюберов[28].
Пообедав с княгиней Голициной, я пошел переодеться в редингот и зашел в кафе, чтобы почитать газеты. Я увидел В. Д. Р., который, направляясь сыграть партию в бильярд, сказал мне на ухо, что я мог бы заключить на него пари. Такое проявление дружбы мне понравилось. Я счел, что он в себе уверен, и поставил на него, но при трех проигранных им партиях стал заключать пари против него, не известив его об этом. Три часа спустя он кончил игру, проиграв тринадцать или четырнадцать партий, и, полагая, что я все время ставил на него, выразил мне соболезнование. Я увидел его удивление, когда продемонстрировал тринадцать – четырнадцать выигранных дукатов, слегка посмеявшись над его уверенностью в собственной игре и сказав, что выиграл их, играя против него. Весь бильярд над ним посмеялся; он не ожидал насмешек; он был весьма недоволен моими шутками, вышел в гневе, а минуту спустя я пошел к Терезе, поскольку ей обещал. Я должен был завтра уезжать в Амстердам. Она ожидала В. Д. Р., но не стала больше его ждать, когда я рассказал ей, как и почему он в гневе ушел из бильярдной. Проведя часок с Софи на руках, я покинул ее, пообещав, что увижусь с ней через три-четыре недели. Возвращаясь в одиночку к Боазу и имея под рукой шпагу, я, при ярком свете луны, был атакован В. Д. Р… Он сказал, что хотел бы убедиться, так ли остра моя шпага, как мой язык. Я тщетно пытался его успокоить разумными доводами; я медлил обнажать шпагу, хотя он держал свою в руке обнаженной, я говорил ему, что он неправ, так плохо реагируя на шутки, я просил у него прощения, предложил ему отложить свой отъезд, чтобы попросить у него прощения в кафе. Не тут то было, он хотел меня убить, и чтобы заставить меня достать свою шпагу, он ударил меня своей плашмя. Это случилось со мной впервые в жизни. Я достал, наконец, свою шпагу и, еще надеясь заставить его прислушаться к голосу разума, отбил удар и отступил. Он принял это за проявление страха и нанес мне длинный удар, который подрезал мне волосы. Он проткнул мой галстук слева, его шпага прошла дальше, четырьмя линиями правее, и он проткнул бы мне горло. Я в испуге отпрыгнул в сторону и, с намерением убить, ранил его в грудь; будучи уверен в результате, предложил ему покончить на этом. Поскольку он отвечал, что еще не мертв, и продолжал, как бешеный, меня атаковать, я тушировал его четыре раза подряд. При моем последнем ударе он отпрыгнул назад, сказав, что ему достаточно, и просил меня уйти. Я был обрадован, так как, желая обтереть свою шпагу, увидел, что ее острие лишь слегка окрашено кровью. Боаз еще не лег. Поскольку он слышал все происходящее, он посоветовал мне уезжать тотчас в Амстердам, несмотря на то, что я его заверил, что раны не смертельны. Мой экипаж был у шорника, я поехал в коляске Боаза, оставив распоряжение моему слуге выехать назавтра, чтобы доставить мне мой экипаж в Амстердам во второй отель «Библия», где я остановился. Я прибыл туда в полдень, а мой слуга – в начале ночи. Он не смог мне сказать ничего нового, но меня порадовало то, что в Амстердаме ничего не знали и восемью днями позднее. Это дело, хотя и простое, могло доставить мне много неприятностей, потому что репутация бретера совершенно не котируется среди негоциантов, с которыми я в данный момент заключал хорошие сделки.
Мой первый визит был, очевидно, к г-ну Д. О. Но, по существу, это был визит к Эстер. Разлука с ней разожгла во мне огонь. Ее отца не было; я нашел ее за столом, где она писала, развлекаясь арифметической проблемой; я для забавы нарисовал ей два магических квадрата, они ей понравились, она взамен попыталась показать мне шутки, которые я знал, но притворился пораженным. Мой добрый Гений внушил мне построить для нее кабалу. Я предложил спросить письменно что-нибудь, чего она не знала, но хотела бы узнать, заверив, что силой вычисления она получит удовлетворяющий ее ответ. Она засмеялась и спросила меня, почему я так рано вернулся в Амстердам. Я показал ей, как оформить в пирамиду числа, полученные из слов, и все прочие процедуры; затем я заставил ее саму извлечь числовой ответ, который перевел для нее во французский алфавит, и она была поражена, прочитав, что то, что заставило меня вернуться в Амстердам, была любовь. Вне себя от изумления, она заявила мне, что это удивительно, хотя ответ и содержит ложь, и она хотела бы знать, кто может научить ее такому волшебному вычислению. Я ответил, что те, кто умеют это, не могут никого этому научить.
– Как же вы сами узнали?
– Я сам научился этому из одного манускрипта, оставленного мне отцом.
– Продайте мне манускрипт.
– Я сжег его. Мне дозволено научить одного человека, но лишь когда я достигну возраста пятидесяти лет. Если я обучу его раньше этого возраста, мне грозит опасность его потерять. Элементарный дух, связанный с оракулом, удалится. Я узнал это из того же манускрипта.
– Значит, вы можете узнавать все, что есть в мире самого тайного?
– Я обладал бы этой возможностью, если бы ответы не были чаще всего темны по смыслу.
– Если это не слишком долго, не были бы вы столь любезны, чтобы ответить мне еще на один вопрос?
Она спросила, какова ее судьба, и оракул ответил, что она еще не сделала своего первого шага, чтобы определиться. Эстер, вне себя, позвала свою гувернантку и думала удивить ее, показав два оракула, но добрая швейцарка не нашла в этом ничего удивительного. В волнении та назвала ее глупой. Она умолила меня позволить задать еще один вопрос, и я ей разрешил. Она спросила, кто та персона в Амстердаме, которая любит ее больше всех, и тем же методом получила в ответ, что никто не любит ее так сильно, как тот, кому она обязана своим существованием. Бедная девочка, полная ума, серьезно сказала мне, что я сделал ее несчастной, потому что она умрет от горя, если не сможет обучиться этому вычислению. Я ничего ей не ответил, и она грустно посмотрела на меня. Она сформулировала вопрос, протянув свою прекрасную руку к бумаге. Я поднялся, чтобы ей не мешать, но пока она строила пирамиду, я мимоходом бросил взгляд не бумагу и прочел вопрос. Проделав все так, как я ее научил, она сказала, чтобы я получил ответ, не глядя на ее вопрос. Я подошел, и она, покраснев, попросила оказать ей эту любезность. Я согласился, но с условием, что она больше не будет просить меня о таком. Она обещала. Поскольку я подглядел вопрос, я знал, что она просила у оракула позволения показать отцу все вопросы, что она задавала, и сделал так, что она получила в ответе, что ее ждет счастье, если она никогда не будет спрашивать ничего такого, что считала бы необходимым держать в секрете от своего отца. Она вскрикнула, не находя слов, чтобы выразить мне свою благодарность. Я покинул ее, направившись в Биржу, где подробно поговорил о своем большом деле с г-ном Пелс.
На следующее утро пришел красивый и очень вежливый человек с письмом от Терезы, в котором она говорила о нем и заверила, что если у меня есть коммерческие дела, он сможет быть мне полезен. Его звали Рижербоос. Она сказала также, что пять ран В. Д. Р. все были легкие, что мне нечего опасаться и что ничто не может мне помешать, если я захочу вернуться в Гаагу. Она писала, что Софи говорит обо мне с утра до вечера, и что к моему возвращению я буду значительно более доволен своим сыном. Я спросил у г-на Рожербоос его адрес, заверив, что при случае буду целиком полагаться на него. Сразу после его ухода я получил маленькое письмо от Эстер, в котором она просила, от имени своего отца, прийти провести с ней весь день, если какие-то важные дела мне не помешают. Я ответил, что кроме дела, о котором ее отец знает, единственным важным на свете делом будет для меня то, которое сможет привести меня к победе над ее сердцем. Я обещал быть у нее.
Я пошел к ней ко времени обеда. Они с отцом занимались изучением вычислений, приводящих к извлечению из пирамиды разумных ответов. Ее отец обнял меня, излучая своим честным лицом радость и называя себя счастливцем, что имеет такую дочь, которая смогла привлечь мое внимание. Когда я ответил, что обожаю ее, он поощрил обнять ее, и Эстер, вскрикнув, положительно бросилась в мои объятия.
– Я разделался со всеми делами, – сказал мне г-н Д. О., – и весь день у себя. Я знаю еще с детства, дорогой друг, что есть такая наука, которой вы владеете, и я знаком с евреем, который с помощью нее творит великие дела. Он говорит, как и вы, что может сообщить ее лишь одному человеку, под страхом ее утратить самому. Но он столько откладывал это, что умер, так и не сообщив ее никому. Горячка лишила его этой возможности. Позвольте вам сказать, что если вы не поделитесь частично этим вашим талантом, вы никогда не узнаете, чем владеете. Это настоящее сокровище.
– Мой оракул, месье, вещает очень темно.
– Ответы, которые показала мне моя дочь, весьма ясны.
– Она, очевидно, удачно задала вопросы, потому что ответы от этого зависят.
– Мы посмотрим после обеда, обладаю ли я такой удачей, если вы хотите иметь удовольствие со мной работать.
За столом мы говорили о совсем других вещах, к которым он имел отношение, и среди прочего о его премьер-министре, безобразном и грубом, который, как мне казалось, имеет виды на Эстер. После обеда мы снова вернулись к своим делам, и, в присутствии только Эстер, г-н Д. О. достал из кармана два очень длинных вопроса. В одном он хотел знать, что следует сделать, чтобы получить положительное решение Генеральных Штатов в деле, которое его весьма интересует, и детали которого он излагает. Я ответил на этот вопрос весьма темно и очень коротко, предоставив Эстер переложить ответ на слова, а на второй решил ответить ясно. Он спрашивал, какова судьба корабля, название которого он давал и о котором знал, что он отплыл из Восточных Индий, и даже знал дату отплытия, но не знал, что с ним случилось. Уже два месяца, как корабль должен был прибыть; хотелось знать, существует ли он еще, или погиб, и где и как. О нем никто не имел никаких вестей. Компания-собственник была бы удовлетворена страховщиком, давшим ей десять процентов, но не находила такого. Полагать судно погибшим не позволяло письмо некоего английского капитана, который свидетельствовал, что точно видел его на плаву. Суть ответа, который я дал по легкомыслию и не опасаясь никаких неприятных последствий, сводилась к тому, что судно существует и ему не угрожает никакая опасность, и что некоторые сведения о нем будут получены в течение недели. Я это проделал, желая возвысить до небес репутацию моего оракула и рискуя потерять ее полностью. Но я не пошел бы на это, если бы догадался, что собирался проделать г-н Д. О. в соответствии с моим оракулом. От радости он побледнел. Он сказал нам, что очень важно, чтобы мы никому не говорили об этом, потому что он задумал пойти и застраховать судно по наилучшему возможному курсу. Я сказал ему, обеспокоенный, что не отвечаю за правдивость оракула, и что я умру от горя, если окажусь причастен к тому, что он потеряет значительную сумму. Он спросил, подводил ли меня оракул хоть один раз, и я ответил, что он часто вовлекает в ошибки с помощью иносказаний. Эстер, видя мое беспокойство, просила отца воздержаться от всяких поступков по этому поводу.
Г-н Д. О. остался задумчив, много говорил, без толку рассуждая о предполагаемой силе чисел и попросив дочь, чтобы перечитала ему все свои запросы. Их было шесть или семь, все короткие и все соответствующие ответам, прямо или иносказательно, либо шутливо. Эстер, которая составляла все пирамиды, умудрялась, с моей всемогущей помощью, извлечь все ответы. Ее отец, видя ее столь искусной, решил, что она овладела наукой, и самой Эстер это льстило. Проведя семь часов в рассуждениях обо всех этих ответах, которые были сочтены чудесными, мы поужинали. На следующий день, дело было в воскресенье, г-н Д. О. пригласил меня обедать в его домик на Амстеле, который мне был уже знаком. Я с удовольствием согласился.
Возвращаясь домой, я проходил мимо дома, в котором танцевали, и, видя, что народ заходит и выходит, пожелал узнать, что там такое. Это оказался «музико»[29]. Мрачная оргия, происходящая в настоящем вместилище порока, самый безвкусный дебош. Звук от двух или трех инструментов, образующих оркестр, погружал душу в тоску. Зала, провонявшая плохим табаком, вонь чеснока, которым отрыгивали танцующие или сидящие, держащие справа от себя бутылку или кружку пива, а слева – отвратительную девку, явили моему взору и моим чувствам удручающую картину, показывая несчастья жизни и степень падения, до которой может довести грубость удовольствий. Общество, оживлявшее это место, состояло сплошь из матросов и других людей из народа, для которых оно казалось раем, вознаграждающим их за все те тяготы, что они претерпели в долгих и тяжелых плаваниях. Среди публичных женщин, что я там видел, я не нашел ни одной, с которой возможно было бы мне развлечься хоть на минутку. Мужчина со скверным лицом, по виду жестянщик, а по тону – деревенщина, подошел ко мне, спрашивая на плохом итальянском, не хочу ли я потанцевать за су. Я поблагодарил его. Он указал мне на сидящую там венецианку, сказав, что я мог бы подняться в комнату и выпить с ней.
Я подошел, она показалась мне знакомой, но тусклый свет от четырех оплывших свечей не позволил мне разглядеть ее черты. Движимый любопытством, я сел рядом с ней, спросив, правда ли, что она венецианка, и давно ли она покинула родину. Она ответила, что прошло уже восемнадцать лет. Мне предложили бутылку, я спросил ее, хочет ли она выпить, она ответила, что да, сказав, что я могу подняться с ней. Я сказал, что у меня нет на это времени, дал дукат, мне дали сдачу, которую я оставил в руке бедной дьяволицы, она предложила мне поцелуй, который я отверг.
– Вам Амстердам нравится больше, чем Венеция? – спросил я ее.
– В моей стране я не занималась этим проклятым ремеслом. Мне было только четырнадцать лет, и я жила с моими отцом и матерью.
– Кто вас совратил?
– Курьер.
– В каком квартале вы жили?
– Я жила не в Венеции, а в местности Фриули, немного в отдалении от города.
Местность Фриуои, восемнадцать лет, курьер – я почувствовал волнение, я вгляделся в нее внимательно и узнал Люси из Пасеан, но остерегся выйти из своего безразличного тона. Разврат более чем возраст исказил ее лицо и все ее члены. Люси, нежная, красивая, наивная Люси, которую я так любил и которую сберег из-за сантиментов, в таком состоянии, ставшая некрасивой и противной, в борделе Амстердама! Она пила, не смотря на меня и не спрашивая, кто я такой. Я не чувствовал любопытства к ее истории, мне казалось, что я ее знаю. Она сказала, что живет в музико, и что она даст мне красивых девочек, если я зайду ее повидать. Я дал ей два дуката и быстро удалился. Я пошел спать, удрученный, в печали. Мне казалось, что я провел пагубный день, я размышлял также о том, что г-н Д. О. из-за моей глупой кабалы, возможно, потеряет 300 тысяч флоринов. Эта мысль сделала меня противным самому себе, разрушая любовь, которую внушала мне Эстер. Я предвидел, что она станет моим непримиримым врагом, так же как ее отец. Человек может любить, только надеясь на ответную любовь. Явление Люси в музико оставило во мне впечатление, причинявшее мне самые зловещие думы. Я смотрел на себя как на причину ее несчастья. Эстер было только тринадцать лет, и я предвидел ее ужасное будущее положение.
Проведя бессонную ночь, я поднялся, заказал карету и надел нарядную одежду, чтобы засвидетельствовать почтение княгине Голицыной, которая остановилась в «Звезде Востока». Она направилась в адмиралтейство. Я пришел туда и нашел ее там, сопровождаемую г-ном де Рейссак и графом де Тот, который явился узнать новости от моего друга Песселье, у которого я с ним и познакомился. При своем отъезде из Парижа я оставил его серьезно больным. Выйдя из адмиралтейства, я отослал свою карету и своего лакея, велев ему быть в одиннадцать часов у г-на Д. О. на Амстеле. Я пошел туда пешком и, одетый таким образом, наткнулся на голландских каналий, которые меня осмеяли и освистали. Эстер увидела меня в окно, потянули с первого этажа шнурок, дверь открылась, я вошел, закрыл ее и, поднимаясь по деревянной лестнице на пятую или шестую ступеньку, зацепился ногой за что-то, что откатилось. Я смотрю и вижу зеленый портфель, наклоняюсь, чтобы его поправить, но, неловким движением, его сталкиваю, и он падает с лестницы через отверстие, которое бывает перед каждой ступенькой, очевидно, чтобы осветить место под лестницей. Я не останавливаюсь и поднимаюсь. Меня встречают как обычно, и я объясняю им причину моего наряда. Эстер смеется над тем, что я кажусь ей другим, но мне кажется, что они грустны. Приходит гувернантка Эстер и говорит с ними по-голландски. Я вижу Эстер расстроенной и осыпающей отца сотней ласк.
– Я вижу, – говорю я ему, – что с вами случилось какое-то несчастье, если мое присутствие вам мешает, позвольте мне удалиться без всяких церемоний.
Он отвечает, что несчастье не очень велико, и что он с ним смирился и может перенести его спокойно.
– Я потерял, – говорит он, – портфель, довольно дорогой, который, по уму, надо было бы оставить дома, потому что он должен мне понадобиться только завтра. Я мог потерять его только на улице, уж не знаю как. Там крупные обменные векселя, которые я могу помешать учесть, но есть также билеты английского банка, на предъявителя. Возблагодарим Господа за все, дорогая Эстер, и будем молить его сохранить нам здоровье и охранить нас от несчастий, еще более тяжких. Я получал в жизни удары, гораздо более сильные, и вынес их. Не будем больше говорить об этом несчастном случае, который я хочу рассматривать как маленькое банкротство.
Я сохранял молчание, с радостью в душе. Я был уверен, что портфель был тот самый, который я столкнул в отверстие, так что он не был потерян, но я решил, что он должен быть найден только с помощью аппарата кабалистики. Случай был слишком хорош, чтобы им не воспользоваться и не представить моим хозяевам прекрасный пример непогрешимости оракула. Эта идея привела меня в хорошее настроение, я наговорил Эстер множество вещей, которые заставили ее смеяться, и рассказывал истории, высмеивающие французов, которых она не любила.
Мы насладились тонким обедом и деликатными винами. После кофе я сказал, что если они любят игру, я сыграю с ними, но Эстер сказала, что это лишь потеря времени.
– Я не могу насытиться пирамидами, – сказала она; могу ли я спросить, кто нашел портфель моего отца?
– Почему бы и нет, – говорю я ей. Запрос очень прост.
Она составила очень короткий запрос, и получившийся ответ, тоже очень короткий, сказал ей, что портфель никем не найден. Она бросилась обнимать своего отца, который по этому ответу уверился, что его портфель к нему вернется; но она была удивлена, затем очень смеялась, когда я сказал, что она напрасно надеется, что я захочу работать дальше, если она не приласкает меня по крайней мере так же, как своего дорогого отца. Она осыпала меня поцелуями и составила пирамиду с вопросом, где находится портфель. Я сделал, чтобы вышли слова: «Портфель упал под покрытие пятой ступеньки вашей лестницы».
Д. О. и его дочь встали, очень довольные, они спустились и я вслед за ними. Он сам показал нам дыру, в которую должен был провалиться портфель. Он зажег свечу, затем вошел в кладовку, спустился по подземной лестнице и достал своими руками портфель, который находился в воде как раз под отверстием в ступеньке. Мы поднялись обратно и провели более часа в самых серьезных рассуждениях об удивительных способностях оракула, приносящих счастье людям, которые им владеют. Открыв портфель, он показал нам сорок билетов в шахматную клетку, по тысяче фунтов стерлингов каждый, из которых два он подарил своей дочери и еще два – мне, а я, приняв их одной рукой, передал другой прекрасной Эстер, сказав ей сохранить их для меня. Она согласилась, только когда я пригрозил, что не буду больше делать для нее кабалу. Я сказал г-ну Д. О., что хочу только его дружбы. Он обнял меня и уверил в ней до последних своих дней.
Сделав Эстер хранительницей 22 тысяч флоринов, я был уверен, что этим ее привяжу. Очарование этой девушки меня опьяняло. Я сказал ее отцу, что дело, которое лежит у меня на сердце, состоит в дисконтировании двадцати миллионов с минимальными потерями. Он ответил, что надеется сделать так, чтобы я остался довольным, но поскольку нужно, чтобы я часто оказывался вместе с ним, мне надо поселиться в его доме. Эстер, со своей стороны, проявила настойчивость, и я согласился, постаравшись скрыть от них душевное удовлетворение, но выразив однако им всю свою признательность.
Он пошел в свой кабинет работать, и, оставшись наедине с Эстер, я сказал ей, что готов сделать для нее все, что от меня зависит, но, прежде всего, она должна отдать мне свое сердце. Она сказала, что когда я поселюсь в их доме, наступит момент, когда я смогу попросить ее у ее отца. Я заверил, что это случится уже завтра.
Г-н Д. О. сказал нам, вернувшись, что мы услышим завтра большую новость на Бирже. Он сказал, что возьмет сам на свой счет корабль, который считают потерянным, за 300 тысяч флоринов, и допускает, что будут считать его сумасшедшим.
– Я буду сумасшедшим, – добавил он, – если, после того, как я видел чудесные свойства оракула и все то, что произошло, буду еще опасаться. Я заработаю три миллиона, а если проиграю, эта потеря меня не разорит.
Эстер, ослепленная возвращением портфеля, сказала отцу, что он должен поторопиться, и я, со своей стороны, не мог больше отступать. Видя мой грустный вид, г-н Д. О. заверил, что не станет меньше мне другом, если окажется, что оракул обманщик. Я просил его позволить мне допросить оракул еще раз, прежде чем делать столь большую трату, и видел, что они оба тронуты моим беспокойством по поводу благополучия их дома.
Но вот еще один факт для читателей недоверчивых или склонных считать меня человеком ненадежным и опасным. Я сам сформулировал вопрос, составил пирамиду и все остальное, не желая вмешивать в это Эстер. Я был бы рад помешать совершиться этому убийственному поступку и решился ему помешать. Двойственный смысл, который я умел придавать выходящему из-под моего пера, добавил бы обоим смелости, и, осуществляя задуманное, я решил положительно похоронить смысл во множестве цифр, ложащихся на бумагу. Эстер, владевшая алфавитом, перевела записанное быстро в слова и удивила меня, когда прочла мой ответ. Она прочла следующее: «Действуя подобным образом, не следует ничего БОЯТЬСЯ. Ваше раскаяние будет слишком мучительно» Такое не было задумано заранее. Отец и дочь бросились меня обнимать, и г-н Д. О. сказал, что при появлении судна он должен мне десятую часть своей выручки. Удивление помешало мне ему ответить и засвидетельствовать свою признательность, потому что мне казалось, что будет написано «верить», но никак не «бояться». Теперь я больше не мог отступить.
Назавтра я поселился вместе с ними в очаровательной квартире, и послезавтра повел Эстер в концерт, где она закатила мне выговор за то, что Тренти там уже не было. Эта девочка целиком овладела мной, хотя, постоянно избегая моих существенных ласк, заставляла меня томиться.
Четыре или пять дней спустя г-н Д. О. передал мне результат совещания, проведенного им совместно с Пелсом и начальниками шести других финансовых контор относительно моих двадцати миллионов. Они предлагали десять миллионов платежным серебром и семь в бумагах, дающих пять и шесть процентов за вычетом одного процента куртажа[30]. Кроме того, они учитывали двенадцать сотен тысяч флоринов, которые французская компания Индий должна голландской. Я отправил копию этого результата г-ну де Булонь и г-ну д’Аффри, потребовав немедленного ответа. Ответ, который я получил через восемь дней из рук г-на де Куртей, по приказу г-на де Булонь, был таков, что они не хотят такого дисконтирования, и что мне следует вернуться в Париж, если я не могу добиться лучшего результата, и также сказали, что мир вскоре неизбежен. Между тем, кураж г-на Д. О. за несколько дней до прихода этого ответа возрос необычайно. На Бирже было получено достоверное известие, что интересующее нас судно находится на Мадере. За четыре дня до того г-н Д. О. купил его со всем грузом за 300 тысяч флоринов. Какая радость, когда мы увидели его входящим в нашу комнату и сообщающим с видом победителя эту новость! Он сказал, что он застраховал корабль от Мадеры до Текселя за какие-то пустяки. Он сказал, что я могу располагать десятой частью выручки. Но что меня удивило, это его точные слова, которыми он завершил свое сообщение:
– Вы теперь достаточно богаты, чтобы обосноваться у нас, будучи уверены, что будете очень богаты в достаточно скором времени, не делая ничего другого, кроме вашей кабалы. Я стану вашим агентом. Создадим вместе торговый дом, и если вы любите мою дочь, я даю ее вам, если она вас желает.
Радость блестела в глазах Эстер, но в моих она могла увидеть лишь чрезмерное удивление, от которого я онемел и как бы поглупел. После долгого молчания я обратился к анализу своих чувств и заключил, что, хотя я и обожаю Эстер, мне необходимо, прежде чем зафиксировать наши отношения, вернуться в Париж; я твердо сказал, что буду в состоянии решить свою судьбу по моем возвращении в Амстердам. Этот ответ ему понравился, и мы провели остаток дня очень весело. Г-н Д. О. дал на другой день прекрасный обед для своих друзей, которые говорили только о том, смеясь от всей души, как он смог, раньше всех остальных, узнать, что судно на Мадере, хотя никто не мог догадаться, как он сумел это сделать.
Итак, через восемь дней после этой счастливой авантюры он предъявил мне ультиматум в деле о двадцати миллионах, результатом которого должно было стать, что Франция теряет восемь процентов при продаже двадцати миллионов, при условии, что я не смогу предоставить покупателям никакого права на куртаж. Я отправил экспрессом аутентичные копии этого соглашения г-ну д’Аффри, умоляя его отправить их за мой счет генеральному контролеру с моим письмом, в котором грозил, что дело сорвется, если он отложит хоть на один день передачу г-ну д’Аффри полномочий, необходимых ему для утверждения выработанных мной условий сделки. Столь же настойчиво я добивался согласия г-на де Куртей и г-на герцога, заверяя их, что я при этом ничего не получаю, но готов, тем не менее, согласиться на сделку, будучи уверен, что мне возместят мои расходы и не откажут в Версале в полагающемся мне куртаже как посреднику.
Был карнавал, и г-н Д. О. решил устроить бал. Он пригласил всех сколько ни будь значительных людей в городе, мужчин и женщин. Не могу сказать об этом бале ничего иного, кроме того, что он был великолепным, как и ужин после него. Эстер танцевала со мной все контрдансы с необычайной грацией и сверкала убранством из бриллиантов своей матери.
Мы провели весь день вместе, влюбленные и несчастные, потому что воздержание нас угнетало. Эстер проявила щедрость лишь настолько, что разрешила мне украсть несколько ласк, когда я завтракал с ней. Она была щедра только на поцелуи, которые, вместо того, чтобы меня успокаивать, лишь бросали в огонь. Она говорила, как и все порядочные девицы в подобных случаях, что уверена, что я на ней не женюсь, если она позволит мне делать с ней все, что я хочу. Она не думала, что я женат, потому что я слишком уверенно внушал ей, что холост, но не сомневалась, что у меня есть в Париже некая сильная привязанность. Я признавал это, но заверял, что собираюсь полностью освободиться, чтобы связать себя с нею самыми священными узами до самой смерти. Увы! Я заблуждался, потому что она была неотделима от своего отца, которому было еще сорок лет, и я не мог себе представить возможности моего постоянного существования в такой стране как эта.
Десять-двенадцать дней спустя после предъявления ультиматума я получил письмо от г-на де Булонь, в котором он писал, что посол получил все запрашиваемые мной инструкции, чтобы я мог завершить дело, и посол подтвердил это. Он известил меня, что предпринятые мной шаги одобрены, потому что невозможно выручить за королевские бумаги более 18 200 000 фр. в текущей валюте.
Настал мучительный момент прощания, мы не могли сдержать слезы. Эстер возвратила мне сумму, соответствующую 2 тыс. фунтов стерлингов, которые я передал ей в день, когда нашелся портфель, и ее отец, следуя своему решению, дал мне 100 тыс. флоринов в обменных векселях на Туртона и Баура и в Париже на Монмартеля, и квитанцию на 200 тыс. флоринов, которая давала мне право получить их у него по погашении всей суммы. В момент моего отъезда Эстер подарила мне пятьдесят рубашек из самого тонкого полотна и пятьдесят платков из Мазулипатана[31]. Не любовь к Манон Баллетти, а глупая суета, желание фигурять по Парижу заставила меня покинуть Голландию. Пятнадцать месяцев, проведенных в Пьомби, оказалось недостаточно, чтобы излечить болезни моего ума. Судьба – это понятие, лишенное смысла; это мы ее творим, вопреки аксиоме стоиков: volentem ducit, nolontem trahit[32]. Я слишком многое себе прощаю, когда применяю ее к себе.
Поклявшись Эстер, что я увижусь с ней до конца года, я отправился в путь вместе с комиссаром Компании, которая купила бумаги Франции, и прибыл в Гаагу к Боазу, который встретил меня с удивлением, смешанным с восхищением. Он сказал, что я сотворил чудо и что я должен поторопиться ехать в Париж, пока все это не обратилось в шутку, в поток комплиментов. Он сказал мне, что был уверен, что я не смогу проделать то, что сделал, не убедив со всей очевидностью Компанию, что вот-вот будет заключен мир. Я ответил, что я их не убеждал, но всем ясно, что дело идет к миру. Он сказал, что если я могу дать ему положительное и письменное заверение, написанное послом, что дело идет к миру, он подарит мне пятьдесят тысяч флоринов в бриллиантах. Я ответил, что заверение, данное послом, не может быть выше моего, но, несмотря на это, я полагаю его только моральным.
На другой день я покончил все с послом, и комиссар вернулся в Амстердам. Я пошел ужинать к Терезе, которая представила мне своих детей, очень просто одетых. Я сказал ей ехать завтра ожидать меня в Роттердаме, чтобы передать мне своего сына, которого, чтобы избежать вопросов, я не хотел брать с собой в Гаагу.
Я купил у сына Боаза бриллиантовые подвески и много других украшений на сумму 40 тыс. флоринов. Я должен был пообещать вернуться к нему, когда вернусь в Гаагу, но не сдержал своего слова. Тереза в Роттердаме недвусмысленно дала мне понять, что она точно знает, что я заработал в Амстердаме почти миллион, и что судьба ее решится положительно, если она сможет покинуть Голландию и переселиться в Лондон. Она подучила Софи сказать мне, что удача пришла ко мне вследствие молитв, которые она направляла Богу. Все ее речи вызывали у меня смех. Я дал ей сотню дукатов и сказал, что выплачу ей еще сотню, когда она напишет мне из Лондона. Я видел, что эта сумма показалась ей незначительной, но это не заставило меня дать ей больше. Она дождалась момента, когда я садился в карету, чтобы попросить еще сто дукатов, и я сказал ей на ухо, что заплачу ей немедленно тысячу, если она отдаст мне Софи. Немного подумав, она сказала мне, что нет. Я уехал, подарив моей дочери часы. Я прибыл в Париж 10 февраля и снял прекрасное помещение на улице Графини д’Артуа, рядом с улицей Монторгей.
Глава VIII
Лестный прием у моего покровителя. Умопомрачение м-м д’Юрфе. М-м Кс. К.В. и ее семья. М-м де Рюмен.
Во время этого короткого путешествия я убедился, что мой новый приемный сын не обладает столь же прекрасной душой, как его внешность. Главным его качеством, которое внушила ему его мать своим воспитанием, была сдержанность, но необученный ребенок зашел в этом качестве слишком далеко, он соединил его с притворством, с недоверчивостью и с деланной откровенностью. Он не только не говорил того, что знает, но и притворялся, что знает нечто, чего не знал; для создания лучшего впечатления он решил, что должен казаться непроницаемым, а для этого он возымел привычку заставить молчать свое сердце и никогда не говорить ничего такого, что заранее не сформулировал у себя в уме. Он ошибочно полагал в этом благоразумие. Недоступный для чувства дружбы, он оказывался и неспособен заводить друзей.
Предвидя, что м-м д’Юрфе увидит в этом мальчике осуществление своей химерической гипотезы, и чем больше я буду делать тайну из факта его рождения, тем больше ее Гений будет внушать ей разные экстравагантности, я приказал ему ничего не скрывать из того, что его касается, если одна дама, которой я его представлю, проявит к этому любопытство, оказавшись с ним наедине. Он обещал мне слушаться. Он не ожидал, что я прикажу ему быть искренним.
Мой первый визит был к моему покровителю, которого я застал в большой компании; я увидел там посла Венеции, который сделал вид, что со мной незнаком.
– С какого времени в Париже? – поинтересовался министр, пожав мне руку.
– С этого самого. Я только что сошел с почтовой кареты.
– Отправляйтесь в Версаль, вы найдете там герцога де Шуазейль и генерального контролера. Вы сотворили чудеса, отправляйтесь принимать поздравления. Приходите потом повидаться со мной. Скажите г-ну герцогу, что я отправил Вольтеру паспорт от короля, в котором тот присваивает ему дворянство.
В Версаль не едут в полдень, но то был язык министров, когда они находятся в Париже. Версаль был как завершение пути. Я направился к м-м д’Юрфе.
Первое, что она мне сказала, было, что ее Гений сказал ей, что она увидит меня в этот самый день.
– Корнеман, – сказала она, – сказал мне вчера, что то, что вы сделали, невероятно. Я уверена, вы учли двадцать миллионов. Фонды на бирже растут, и мы увидим через неделю оборот по меньшей мере в сто миллионов. Извините, если я осмеливаюсь сделать вам подарок в 2 тысячи. Это мелочь.
Мне не надо было говорить ей, что она ошибается. Она велела сказать швейцару, чтобы никого не принимал, и мы стали беседовать. Я увидел, что она задрожала от радости, когда я спокойным тоном сказал, что привез с собой мальчика двенадцати лет, которого хочу устроить учиться в лучший пансион Парижа.
– Я помещу его, – сказала она, – к Виару, где находятся мои племянники. Как его зовут? Где он? Я знаю, что это за мальчик. Мне не терпится его увидеть. Почему вы не зашли ко мне?
– Я представлю его вам послезавтра, потому что завтра я буду в Версале.
– Говорит ли он по-французски? Пока я не устрою все с его пансионом, надо, чтобы вы поместили его у меня.
– Мы поговорим об этом послезавтра.
Зайдя в свое бюро, где я нашел все в порядке, я отправился в Итальянскую Комедию, где играла Сильвия. Я нашел ее в ложе вместе с дочерью. Она сказала, что знает о том, что я проделал в Голландии очень важные дела, и я видел, что она была удивлена, когда я ответил, что работал для ее дочери. Та при этом покраснела. Сказав им, что приду к ним ужинать, я пошел в амфитеатр. Какой сюрприз! Я увидел в одной из первых лож м-м Кс. К.В. вместе со всем ее семейством. Вот ее история.
М-м Кс. К.В., по происхождению гречанка, была вдовой одного англичанина, сделавшего ее матерью шестерых детей – четырех девочек и двух мальчиков. На смертном одре, не имея сил выдержать слезы своей жены, он перешел в римско-католическую веру, но, поскольку его дети не могли наследовать его капитал в Англии, составлявший 40 тыс. ф. ст., не будучи англиканского вероисповедания, она отправилась в Лондон, где проделала все необходимое. Это было в начале 1758 года.
В 1753 году я был влюблен в ее старшую дочь в Падуе, играя с ней в комедии, и шесть месяцев спустя, в Венеции, м-м Кс. К.В. сочла нужным исключить меня из своего общества. Ее дочь заставила меня страдать от этого афронта с помощью очаровательного письма, которое мне до сих пор дорого; впрочем, влюбившись в М. М. и в К. К., я легко ее забыл. Эта девушка, хотя ей было всего пятнадцать лет, была красотка, в лице которой сочетались шарм и развитый ум, впечатление от которого зачастую сильнее, чем от первого. Камергер короля Прусского, граф Альгароти, давал ей уроки, и множество юных патрициев мечтали о завоевании ее сердца, которое, казалось, было отдано старшему сыну из семьи Меммо из прихода С. Маркуола. Он умер четыре года назад прокуратором Сен-Марк.
Пять лет спустя после этих событий, читатель может себе представить, каково было мое удивление при виде всего этого семейства. Мисс Кс. К.В. меня сразу узнала, она показала меня своей матери и та подозвала меня веером. Я пошел в ее ложу.
Она отвергла прежнее, сказав, что мы больше не в Венеции, что она сердечно мне обрадовалась, и она надеется, что я буду часто бывать у нее в Отеле де Бретань на улице Сен-Ондре дез Ар, где она обитает. Ее дочь сделала мне те же комплименты с гораздо большей выразительностью; она предстала передо мной как чудо, и мне показалось, что моя любовь, после пяти лет сна, проснулась с новой силой, равной тому возросшему очарованию, которое претерпел объект у меня перед глазами.
Они сказали мне, что проведут шесть месяцев в Париже перед возвращением в Венецию; я сказал, что рассчитываю обосноваться здесь, что я сегодня вернулся из Голландии, что должен провести завтрашний день в Версале и что они увидят послезавтра у себя меня, готового оказать им любые услуги, которые от меня зависят.
– Я знаю, – сказала мне мисс Кс. К.В., – что то, что вы сделали в Голландии, должно вас сделать желанным во Франции, и я надеюсь вас видеть; ваше невероятное бегство доставило нам огромное удовольствие, потому что мы вас любим. Мы узнали об обстоятельствах этого бегства из шестистраничного письма, написанного вами г-ну Меммо, которое заставило нас дрожать и смеяться. Что же касается того, что вы сделали в Голландии, мы узнали об этом вчера от г-на де ла Попелиньер.
Этот генеральный откупщик, с которым я познакомился в его доме в Пасси за семь лет до описываемых событий, зашел в ложу. Коротко поздравив меня, он сказал, что если я смог бы устроить подобным образом дело с двадцатью миллионами для компании Индий, он сделал бы меня генеральным откупщиком. Он посоветовал мне натурализоваться во Франции, прежде чем станет известно, что я разбогател по меньшей мере на полмиллиона.
– Не может быть, чтобы вы заработали меньше.
– Это дело меня разорит, месье, если меня лишат права на куртаж.
– Вы правильно делаете, говоря так. Все хотят с вами познакомиться, и Франция вам обязана, потому что вы повысили ее акции.
На ужине у Сильвии моя душа купалась в неге. Со мной обращались, как будто я был членом семьи, и, в свою очередь, я убеждал всех, что хотел бы считать себя таковым. Мне казалось, что моя судьба связана с их влиянием и их постоянной дружбой. Я заставил мать, отца, дочь и двух сыновей принять мои подарки. Самый богатый я предназначил матери, которая передала его дочери. Это были ушные подвески, которые стоили мне шесть тысяч флоринов. Тремя днями позднее я подарил ей ларец, в котором находились два куска превосходного коленкора, два – очень тонкого полотна и гарнитуры из фламандских кружев ручной выработки, называемых английскими. Я дал моему другу Марио, который любил курить, трубку из золота и прекрасную табакерку. Младшему, которого я безумно любил, я подарил часы. Мне еще придется говорить об этом мальчике, качества которого во всем ставили его выше его положения. Был ли я достаточно богат, чтобы делать такие значительные подарки? Нет, и я это знал. Я делал их только потому, что опасался, что таковым и не стану. Если бы я был в этом уверен, я был бы сдержаннее.
Я выехал в Версаль до рассвета. Г-н герцог де Шуазейль встретил меня, как и в первый раз, за письмом. Его причесывали. В этот раз он отложил перо. Коротко меня поприветствовав, он сказал, что если я чувствую, что способен организовать заем в сто миллионов флоринов за четыре процента годовых, он признает за мной выдающиеся достоинства. Я ответил, что мог бы подумать об этом после того, как увижу, каково будет вознаграждение за то, что я сделал.
– Все говорят, что вы получили 200 тысяч флоринов.
– То, что говорят, ничего не значит, по крайней мере, пока это не доказано. Я могу рассчитывать на куртаж.
– Это правда. Договаривайтесь с генеральным контролером.
Г-н де Булонь прервал свою работу, чтобы оказать мне любезный прием, но когда я сказал, что он мне должен 100 тысяч, он улыбнулся.
– Я знаю, – сказал он, – что вы привезли с собой 100 тысяч экю в обменных векселях на ваше имя.
– Это верно, однако то, что я получил, не имеет ничего общего с тем, что я сделал. Это доказано. Я доложил об этом г-ну д’Аффри. У меня есть верный способ увеличить доходы короля на 20 миллионов, так, что плательщики не смогут жаловаться.
– Добейтесь его осуществления, и я обеспечу вам пенсион от самого короля в 100 тысяч фр. и пожалование дворянства, если вы хотите стать французом.
Я прошел в малые апартаменты, где м-м маркиза репетировала балет. Увидев меня, она меня приветствовала и сказала, что я умелый переговорщик, и что эти господа там внизу этого не оценили. Она намекала на то, что я сказал ей в Фонтенбло восемь лет назад. Я ответил, что все блага приходят сверху, и что я надеюсь преуспеть при ее поддержке.
Возвратившись в Париж, я направился в отель де Бурбон, чтобы дать отчет моему покровителю о результатах моего вояжа. Он посоветовал мне сохранять спокойствие и продолжать делать полезные дела, а относительно м-м Кс. К.В., о которой я сказал, что видел ее в Комедии, он сообщил, что ла Попеньер женился на ее старшей дочери.
Новость, которую я узнал, возвратившись домой, была об отъезде моего сына.
– Гранд-дама, – сказала мне хозяйка пансиона, – приехала с визитом к г-ну графу (меня произвели в графы) и увезла его с собой.
Я сделал вид, что это хорошо, и пошел спать. На следующий день утром мой служащий принес мне письмо. Оно было от старого прокурора, дяди моей кумы, жены Гаэтано, которой я помог вырваться из его рук. Он просил меня прийти поговорить с ним во дворец или сказать, где я собираюсь быть днем. Я отправился во дворец.
Он сказал, что его племянница вынуждена была поселиться в монастыре, где она судится со своим мужем, при поддержке советника Парламента, который взял на себя все расходы, но абсолютно необходимо присутствие меня, графа Тирета и слуг, которые присутствовали при инциденте, для того, чтобы засвидетельствовать правду. Я легко исполнил просьбу, и три или четыре месяца спустя все окончилось ложным банкротством, которое проделал Гаэтано и которое вынудило его покинуть Францию. Я скажу в своем месте и в свое время, где я встретил этого несчастного через три года. Что касается его жены, она осталась в Париже, счастливая с советником, своим добрым другом, где, возможно, живет и теперь. Я совершенно потерял ее из виду.
Выйдя из дворца, я направился с визитом к м-м ХХХ, чтобы повидаться с Тирета. Его не было. Она пребывала влюбленная. Я оставил ей свой адрес и пошел в отель де Бретань на той же улице, чтобы сделать свой первый визит м-м Кс. К.В. Эта женщина, которая меня не любила, встретила меня однако очень хорошо. В Париже и в фаворе я показался ей другим. У нее находился старый грек, по имени Зандири, брат метрдотеля г-на де Брагадин, который недавно умер; я выразил ему соболезнование, и он мне не ответил. Но все семейство осудило этого человека за его глупую холодность. Мисс, ее сестры и ее два брата, старшему из которых было четырнадцать лет, наперебой выказывали мне свою радость. Но легкомыслие старшего из мальчиков меня удивило. Он старался почувствовать себя самому себе хозяином, чтобы предаваться самой безудержной распущенности.
Мисс Кс. К.В., которую я уже представил читателю, держала себя непринужденно и обнаруживала ум и культуру, которые проявляла лишь мимоходом, без тени претензии. Было трудно, приблизившись, удержаться от влюбленности в нее, но, как я убедился несколько недель спустя, далекая от всякого кокетства, она не оставляла ни малейшей надежды тем, кто не имел счастья ей понравиться, Не проявляя невежливости, она умела быть холодной, и особенно для тех, кого ее холодность не обезоруживала. В тот час, что я провел наедине с ней, она меня околдовала, я сказал ей об этом, и она была этим очень довольна. Она заняла в моем сердце место Эстер, незанятое уже неделю; но этого бы не случилось, если бы Эстер была в Париже. Чувство, которое я испытывал к дочери Сильвии, было такого рода, что не мешало мне влюбляться в другую. Любовь вольнодумца, чуждая всякого голода, в очень скором времени охлаждается, и женщины знают это, если обладают некоторым опытом. Юная Баллетти была совсем наивна.
Пришел Фарсетти, знатный венецианец, командор мальтийского ордена, литератор, знаток отвлеченных наук, автор довольно неплохих латинских стихов. Все стали им заниматься. М-м Кс. К.В. велела поставить ему куверт и, будучи обязан идти обедать к м-м д’Юрфе, я уклонился от этой чести. Г-н Фарсетти, хорошо знакомый мне по Венеции, глянул на меня лишь мельком. Он лишь усмехнулся похвалам, которые сделала в мой адрес Мисс, чтобы меня ободрить. Она сказала, что я заставил всех венецианцев меня уважать, и что французы хотят видеть меня своим согражданином. Он спросил, много ли дает мне место держателя лотереи.
– Достаточно, – ответил я, – чтобы осчастливить моего конторщика.
У м-м д’Юрфе я застал ее занимающейся моим приемным сыном. Она постаралась извиниться передо мной за этот свой поступок, что я обратил в шутку. Я сказал парнишке, что он должен обращаться с мадам как со своей королевой и держать для нее открытым свое сердце. Она сказала мне, что положила бы его с собой, но что видит, что должна воздержаться от этого удовольствия, по крайней мере, пока он не посулит ей стать в будущем более мудрым. Я счел это возвышенным, и видел, что молодой человек краснеет. Он попросил сказать, в чем он перед ней провинился.
Она сказала мне, что с нами будет обедать Сен-Жермен; она знала, что этот ее адепт меня забавляет. Он приходит, садится за стол, но не для того, чтобы есть, но чтобы, как всегда, говорить. Он рассказывает бесстыдно о вещах невероятных, которым надо делать вид, что веришь, потому что он говорит о них как очевидец или как главный участник; но я не могу сдержаться и не прыснуть от смеха, когда он рассказывает о событии, которое произошло, когда он обедал с отцами Тридентского собора.
У мадам на шее был большой армированный магнит. Она рассчитывала, что рано или поздно он притянет молнию, и что таким путем она попадет на солнце.
– Это неизбежно случится, – возникает снова обманщик, – но только я во всем мире способен придать магниту в тысячу раз большую силу, чем та, что дают ему обыкновенные физики.
Я заметил ему холодно, что ставлю 20 тысяч экю, что он не увеличит силу того, что на шее мадам, и в два раза. Мадам помешала ему согласиться на пари и сказала мне позже тет-а-тет, что я бы проиграл, потому что Сен-Жермен маг. Я ответил, что она права.
Несколько дней спустя этот так называемый маг выехал в Шамбор, королевский замок, где король предоставил ему апартаменты и 100 тысяч фр., чтобы он мог работать совершенно свободно над красками, которые должны были обеспечить процветание всем полотняным фабрикам Франции. Он обманул монарха, показав ему в Трианоне лабораторию, которая того часто развлекала, поскольку он имел несчастье скучать везде, кроме как на охоте; это маркиза познакомила его с адептом, имея в виду сделать из него химика, и затем, когда тот подарил ей воду молодости, она стала верить ему во всем. Эта замечательная вода, принимаемая в указанной им дозе, не обладала свойством омолаживать, поскольку человек, приверженный правде, понимает, что это невозможно, но могла помешать старению, сохраняя персону в прежнем состоянии, in statu quo, несколько веков. Она сказала монарху, что действительно она чувствует, что не стареет.
Этот монарх показал герцогу де Дё-Пон бриллиант чистой воды весом в двенадцать каратов, который он носил на своем пальце и который, как он верил, он сделал сам, посвященный в магистры магии этим обманщиком. Он сказал, что расплавил двадцать четыре карата мелких алмазов, из которых получился один, который затем был огранен на кругу и получился бриллиант в двенадцать карат. Посвященный в науку этого адепта, он дал ему в Шамборе то помещение, которое занимал там знаменитый маршал де Сакс. Я слышал эту историю из уст самого герцога, имея честь ужинать с ним и со шведским графом де Левенхуп, в Меце, в «Харчевне короля Дагобера».
Перед тем, как покинуть м-м д’Юрфе, я известил ее, что юный мальчик сможет быть тем, кто приведет ее к возрождению, но что она все испортит, если не подождет до его совершеннолетия.
Она поместила его в пансион Виара, дав ему всевозможных учителей и имя графа д’Аранда, несмотря на то, что он был рожден в Байрейте, и что его мать никогда не имела дела ни с каким испанцем этого имени. Я пошел повидать его лишь три-четыре месяца спустя после его помещения туда. Я всегда опасался некоего унижения, которое он мог претерпеть по причине этого имени, которое присвоила ему визионерка без моего ведома.
Явился меня повидать Тирета в прекрасном экипаже. Он сказал мне, что дама хочет стать его женой, но он на это никогда не согласится, несмотря на то, что она завещает ему все свое имущество. Он смог бы поехать с ней в Тревизо, оплатить все свои долги и жить там прекрасно. Его судьба помешала ему последовать моему доброму совету.
Решив снять загородный дом, я остановился на Малой Польше[33], пересмотрев несколько других мест. Он был хорошо меблирован, в сотне шагов от заставы Магдалины. Дом находился на небольшом возвышении, вблизи от королевской охоты, за садом герцога де Грамон. Имя, которое дал этому дому владелец, было «Загородная Варшава». Там было два сада, из которых один находился на уровне второго этажа, три господских апартамента, конюшня на двадцать лошадей, ванны, хороший погреб и большая кухня со всеми необходимыми приспособлениями. Хозяин этого дома носил имя «Короля масла» и не подписывался иначе. Сам Луи XV дал ему это имя, когда однажды остановился у него и нашел его масло превосходным. Он сдал мне этот дом за сто луи в год и дал мне превосходную кухарку, которую звали Ла Перл[34], он записал на нее всю ее мебель и посуду, которой мне хватило бы на шесть персон, обязавшись поставить мне столько, сколько мне понадобится, по су за штуку. Он обещал также поставлять мне любые вина, которые я ему закажу, по цене, лучшей, чем в Париже, прямо от поставщика. Все это по наилучшей цене по ту сторону от таможенных барьеров. Он обещал мне также фураж по наилучшей цене для моих лошадей, и все остальное, поскольку все, что ввозится в Париж, должно быть оплачено, а находясь там, я находился за барьером, в провинции.
Менее чем в неделю я обзавелся хорошим кучером, двумя колясками, пятью лошадьми, конюхом и двумя хорошими ливрейными лакеями. М-м д’Юрфэ, которой я дал свой первый обед, была очарована моим домом. Она восприняла все это как сделанное для нее, и я оставил ее в этом мнении. Я оставил ее также во мнении, что маленький д’Аранда принадлежит великому ордену, что он был рожден в результате процедуры, неизвестной в мире, что я только его хранитель, и что он должен умереть, не прекращая, однако, жить. Все это исходило из ее мозга, и все, что я мог поделать, это соглашаться; однако она придерживалась идеи, что она узнает все только через откровения своего Гения, который говорит с ней во сне. Я проводил ее домой и оставил в плену ее заблуждений.
В эти же дни Камилла послала мне выигрышный билет с малой терной, который она приобрела в моем бюро, попросив меня поужинать с ней и принести ей ее деньги. Это была тысяча экю. На этом ужине, где я встретил всех ее красивых подружек и их любовников, меня позвали на бал в Оперу, где, едва придя, я потерял всю свою компанию. Будучи не в маске, я был атакован женщиной в черном домино, которая фальцетом наговорила мне сотню разных вещей, вызвав во мне любопытство узнать, кто это такая. Я был столь заинтригован, что уговорил ее пройти со мной в ложу. Сняв маску, я был удивлен, увидев Мисс Кс. К.В… Она сказала, что пришла на бал с одной из своих сестер, старшим братом и г-ном Фарсетти, и что она ускользнула от них, пройдя в ложу и сменив домино. Она смеялась, представляя себе их беспокойство. Она собиралась найти их лишь в конце бала. Оказавшись наедине с ней и в возможности находиться с ней во все время бала, я стал говорить ей о моем былом чувстве и о силе, с которой оно возобновилось. Она восприняла мои изъявления с самой большой нежностью, не избегала моих объятий, и слабое сопротивление, которое она оказывала всему, что я пытался предпринять, уверило меня, что мое счастье лишь откладывается. Чувство обязало меня не настаивать, и она показала, что ей это нравится.
Я сказал ей, что узнал в Версале о том, что она должна стать женой г-на де ла Попелиньер. Она ответила, что так считают, что ее мать этого хочет и что старый генеральный откупщик льстит себе этой мыслью, но что она на это никогда не согласится.
– Он обещает мне вдовью долю в миллион, – сказала она, – в случае, если я овдовею без детей, и все свое имущество, если я подарю ему одного, но я не хочу быть несчастной с человеком, который мне не нравится, при том, что я не владею своим сердцем. Я люблю человека в Венеции, и моя мать его знает; но она полагает, что тот, кого я люблю, не подходит мне как супруг. Она хотела бы также видеть меня женой г-на Фарсетти, который будет готов отказаться от своего креста командора, но он мне противен.
– Он уже объяснился?
– В ясных выражениях, и знаки неприязни, которые я не прекращаю ему выказывать, его не останавливают. Это грубый визионер, злой, ревнивый, который, слыша, как я говорю вам за столом, что о вас хорошо отзываются, не постыдился сказать моей матери, что она не должна вас принимать.
Я предложил служить ей во всем без исключения, где и как она бы посчитала возможным. Она ответила мне со вздохом, что была бы счастлива, если бы могла воспользоваться во всей полноте моей дружбой; воспылав, я сказал, что у меня 50 тысяч экю к ее услугам, и что я готов рискнуть своей жизнью, чтобы завоевать права на ее сердце. На это объяснение она выразила мне чувства самой нежной благодарности, бросившись в мои объятия и соединив свой рот с моим. Было бы низостью с моей стороны претендовать в этот момент на что-то большее. Она просила меня чаще приходить повидаться, заверив, что мы будем встречаться тет-а-тет; это все, о чем я мог мечтать. Я обещал пообедать с ней завтра. Потом мы разошлись.
Проведя час в зале, везде побывав и порадовавшись, что стал ее близким другом, я направился в «Малую Польшу». На это мне потребовалась только четверть часа. Я жил за городом, и в то же время в четверти часа от всего, что мне нужно было в городе. Мой кучер несся как ветер, лошади были то, что называется бешеные, которых можно было не беречь. Эти лошади, отбракованные из королевских конюшен, были замечательны. Когда мне одну загнали, я заменил ее, заплатив две сотни франков. Одно из главных удовольствий в Париже – это быстрая езда.
Договорившись пообедать с Мисс, я спал совсем немного. Я вышел, одевшись наспех, пересек Тюильери, перешел Пон Рояль и предстал перед мадам Кс. К.В., весь покрытый снегом, который падал в этот день хлопьями. Она встретила меня со смехом, говоря, что ее дочь сказала ей, что на балу она меня заставила поволноваться и что она обедает со мной.
– Сегодня пятница, – сказала она, – и обед будет постный, но у нас превосходная рыба. А пока идите повидать мою дочь, она еще в кровати.
Та писала, сидя в постели, и, завидев меня, отложила перо в сторону. Она сказала, что находится в постели от лени и чтобы освободиться от обязанностей. Она поела бульону, так как, не любя постное, не хотела вставать к столу. Присутствие сестры ее не смущало, она достала из портфеля письмо в стихах, которое я написал ей, когда ее мать указала мне на дверь своего дома. Она перечла мне его вслух, затем растрогалась и уронила несколько слезинок.
– Это фатальное письмо, – сказала мне она, – которое вы назвали «Феникс», определило мою судьбу, и оно, быть может, станет причиной моей смерти.
Я дал ему название «Феникс», потому что, сожалея о моей грустной судьбе, я в нем предсказывал ей поэтически, что она отдаст свое сердце человеку, своими достоинствами в полном смысле подобному Фениксу. Я воспользовался сотней стихов, чтобы описать его качества, как физические, так и моральные, которые действительно представляли его как совершенное существо, достойное обожания. Это был портрет бога.
– Ну что ж! – продолжала нежная Мисс, – я влюбилась в это воображаемое существо и, будучи уверенной, что оно должно существовать, провела полгода в его поисках повсюду, и остановилась лишь, когда вообразила, что нашла его. Мы полюбили друг друга, я отдала ему свое сердце, и мы не разлучались вплоть до моего отъезда из Венеции, в течение четырех месяцев. Мы оставались в Лондоне до конца года, и вот уже шесть недель, как мы здесь. Я получила от него письмо только один раз, но это не по его вине. Я в затруднении и не могу ни получать от него письма, ни писать ему.
Этот рассказ утвердил меня в моих мыслях. Наши самые решающие жизненные поступки зависят от самых легких причин. В моем послании в стихах содержались лишь блестки поэзии, и существо, которое я нарисовал, было совершенней человека, но она поверила, что такое возможно, и влюбилась в него заранее. Когда она поверила, что нашла его, ей было нетрудно обнаружить в нем все те качества, которых она желала, потому что это она сама его ими наделила. Без моего письма ничего бы этого не произошло. Все взаимосвязано, и мы сами оказываемся авторами явлений, в которых замешаны. Все, что происходит с нами из самого важного в мире, лишь должно с нами произойти. Мы только мыслящие атомы, которые следуют туда, куда несет их ветер.
Нас позвали обедать, и мы последовали к исключительному столу с океанской рыбой, присланной г-ном де ла Попелиньер. М-м Кс. К.В., гречанка, с умом крайне суеверным, должна была быть религиозной. Союз Бога с дьяволом неизбежно возникает в женской голове, пустой, слабой, сладострастной и опасливой. Ее священник сказал ей, что, обратив своего мужа, она получит вечное спасение, потому что Господь в Писании ясно указал, animant pro anima[35], для всякого, обратившего еретика. Обратив своего мужа, она обрела уверенность, что ей больше ничего не нужно совершать. Она ела, однако, постное по пятницам, но поступала так из собственного интереса. Она любила постное больше, чем скоромное.
После обеда я вернулся к постели Мисс, которая давала мне отпор до девяти часов, все время при этом подчиняясь моим желаниям. Имея все основания полагать, что ее желания не уступают моим, я не хотел отступать.
Не видя Фарсетти, я предположил разрыв, но, – ничего подобного. Она сказала, что ничто не может заставить этого визионера выйти из дома в пятницу.
Он увидел в своем гороскопе, что в этот день он должен быть убит, и, будучи мудрым, решил стать в этот день недоступным. Над ним смеялись, но он не слушал никаких доводов. Вот уже четыре года, как он умер в своей постели в зрелом возрасте семидесяти лет. Можно из этого заключить, что судьба человека зависит от его хорошего поведения, его осмотрительности и от предосторожностей, принимаемых им, чтобы избежать предвидимых им злоключений. Превосходное рассуждение для всех случаев, кроме тех, когда речь идет о злоключениях, предвещаемых гороскопом, воспринимая предсказания так, как хотят того астрологи, потому что, либо предсказанных злоключений можно избежать, и тогда гороскоп становится пустяком, либо они воспринимаются как судьба, и тогда они неизбежны. Шевалье Фарсетти был, стало быть, дурак, если думал, что что-то доказал. Он бы доказал кое-что нескольким недалеким умам, если бы, выходя каждый день, был бы кем-то убит. Пико де ла Мирандола, который понимал кое-что в астрологии, говорил: Astra influunt non cogunt[36]. Я в этом не сомневаюсь.
Однако, следует ли верить в астрологию, если бы, например, г-н Фарсетти был убит в пятницу? Отнюдь, все же, нет.
Граф д’Эгревиль представил меня графине де Рюмэн, своей сестре, которая, слыша давно разговоры о моем оракуле, хотела со мной познакомиться. Через несколько дней я подружился также и с ее мужем и их юными дочерьми, из которых старшая, по имени Котенфо, стала после женой г-на де Полиньяк. М-м Рюмэн была скорее прекрасна, чем красива. Она внушала к себе любовь нежностью своего характера, своей искренностью, своей преданностью друзьям. Обладая хорошим ростом в пять с половиной футов, она была ходатаем, располагавшим к себе все руководство Парижа. Я познакомился у нее с мадам де Вальбелль, с м-м де Ронсероль, принцессой Гримэ, и другими, которые составляли сливки того, что называют в Париже хорошим обществом. Несмотря на то, что м-м дю Рюмэн не была сведуща в абстрактных науках, она нуждалась в моем оракуле еще больше, чем м-м д’Юрфэ. Она оказалась мне полезна в фатальном происшествии, о котором я рассказываю ниже.
Через день после моего долгого предприятия с Мисс Кс. К.В. мой камердинер сказал мне, что некий молодой человек хочет передать мне письмо лично в руки. Я пригласил его войти и спросил, кто поручил ему передать письмо; он ответил, что я узнаю все, прочитав. Он сказал, что ему приказано ждать ответа. Я вскрыл письмо и прочел следующее:
«В два часа по полуночи мне необходимо спать. То, что мешает природе оказывать мне эту печальную помощь, это груз, отягощающий мне душу; это секрет, от которого я избавлюсь, лишь когда он перестанет быть таковым для вас, в данный момент – моего единственного друга. Я беременна, и мои обстоятельства ввергают меня в отчаяние. Я решилась вам написать, потому что чувствую, что никогда не решусь вам это сказать. Одно слово в ответ».
Любопытство заставило меня написать лишь эти пару слов: «Я приду к вам в одиннадцать часов».
Нет большего несчастья, чем когда несчастный теряет голову. Это доверие, оказываемое в письме, показало мне, что пошатнувшийся рассудок бедной Кс. К.В. нуждается в помощи; и я был очень рад, что она подумала обо мне раньше, чем о ком-то другом, даже если я должен погибнуть вместе с ней. Можно ли думать иначе, когда любишь? Но какая неосторожность – этот поступок! Надо либо говорить лично, либо скрывать. Чувство, которое заставляет несчастного предпочесть письмо слову, может быть только стыдом дурного свойства[37], который, в сущности, есть не что иное как малодушие. Если бы я не влюблен в Мисс, мне было бы легче отказать ей в помощи письмом, чем устно. Но я был влюблен. Она должна была это учитывать, говорил я себе, и эта уверенность заставляла меня пойти навстречу ее горю. Если я смог бы ей помочь, я был уверен в вознаграждении, а это вознаграждение – что есть единственная цель для любого влюбленного мужчины!
Я встретил ее в дверях отеля.
– Вы выходите? Куда вы идете?
– На мессу к августинцам.
– Это какой-то праздник?
– Нет, но моя мать хочет, чтобы я ходила туда каждый день. Дайте мне руку. Мы поговорим в монастыре.
Ее горничная осталась в церкви, и мы туда вошли.
– Вы читали мое письмо?
– Да. Вот оно. Вы сожгите его.
– Не хочу. Вы его сожжете сами. Я беременна четыре месяца, я в этом уверена. Я в отчаянии. Я полагаюсь на вас. Речь о том, чтобы мне сделать аборт.
– Это злодеяние.
– Я знаю, но это не большее злодеяние, чем самоубийство. Приходится выбирать. Либо делать аборт, либо отравиться. У меня есть яд, все готово. Вот вы пришли, мой единственный друг, арбитр моей судьбы. Вы не сердитесь, что я предпочла вас шевалье Фарсетти?
Видя, что я ошеломлен, она останавливается, надвигает капюшон и осушает слезы. Мое сердце кровоточит.
– Оставляя в стороне вопрос о злодействе, дорогая Мисс, абортирование – процедура нам не подвластная. Если средства, используемые для этого, слабы, то эффект также слаб. Если они сильны, они грозят смертью самой беременной женщине. Я никогда не решусь стать вашим палачом; но я вас не покину. Ваше благополучие мне так же дорого, как ваша жизнь. Успокойтесь, и, начиная с этого момента, верьте, что я занимаюсь вашей ситуацией. Будьте уверены, что я вытащу вас из этой ситуации, и что вы не отравитесь. Пока лишь знайте, что едва я прочел ваше письмо, моим первым непроизвольным чувством было то, что в случае такой важности вы предпочли меня всем остальным. Вы не ошиблись. Среди физиков нет никого, кто знал бы эти вопросы лучше, чем я, и в Париже нет другого мужчины, который любил бы вас больше, чем я, и который больше бы старался быть для вас полезен в таком затруднении. Вы начнете завтра, не позднее, принимать снадобья, которые я вам принесу, и вы должны придерживаться самой большой секретности в этом деле, потому что речь идет о том, чтобы нарушить самые суровые законы. Это преступление, которое карается смертью. Вы, может быть, доверились вашей горничной, кому-то из сестер?
– Никому, дорогой друг, даже автору моего несчастья. Я трепещу, когда думаю о том, что скажут, что сделает моя мать, если она узнает, в каком положении я нахожусь, если догадается об этом, глядя на мою талию.
– Ваша талия вне подозрений, потому что она тонка.
– Она делается все менее тонкой, и поэтому нам следует сделать все быстро. Вы найдете мне хирурга, который меня не знает, и отведете меня к нему, когда будут думать, что я на мессе. Я дам пустить себе кровь столько раз, сколько вы скажете.
– Я не пойду на риск. Хирург может нас предать. Я сам пущу вам кровь. Это очень легко.
Я благодарна вам. Мне кажется, вы дарите мне жизнь. Я прошу вас только отвести меня к акушерке, у которой я хочу проконсультироваться. Мы легко можем туда пойти в первую ночь, когда дают бал в Опере, так что никто не заметит, как мы будем выходить из зала.
– Это не нужно, мой ангел. Это неосмотрительный поступок.
– Неважно, в этом огромном городе акушерки есть повсюду, и не может быть, чтобы нас узнали, тем более, мы можем надеть маски. Доставьте мне это удовольствие. Слова акушерки могут оказаться полезны.
У меня не было сил отказать ей в этом, но я договорился, что мы дождемся последнего бала, когда толпа облегчит нам бегство. Я предложил ей, что буду в черном домино и в белой маске по-венециански с нарисованной розой под левым глазом. Увидев меня выходящим, она должна последовать за мной и сесть в тот же фиакр, куда и я. Так и было проделано, но прежде мы еще увиделись с ней. Я пообедал с ней в семье, не обращая внимания на Фарсетти, который также там обедал и который увидел нас возвращающимися с мессы. Мы не перемолвились ни словом, но я его презирал.
Но вот необычайная оплошность, которую я допустил, в которой должен признаться и которую до сих пор себе не прощаю.
Договорившись с Мисс, по ее просьбе, отвести ее к акушерке, я, естественно, решил отвести ее к порядочной женщине, потому что речь шла лишь о том, чтобы проконсультироваться, какой режим должна соблюдать женщина в положении, и получить невинную информацию. Но не тут то было. Я следовал по маленькой улице Сен-Луи, чтобы попасть в Тюильери, и увидел входящего к ней Ла Монтиньи с некоей красивой персоной, которую я не знаю; меня одолевает любопытство, я останавливаюсь, выхожу из фиакра и захожу к ней. Позабавившись немного и думая о Мисс Кс. К.В., я прошу шлюху сказать, где мне найти акушерку, с которой я должен кое о чем проконсультироваться. Она называет мне дом в Марэ, где живет самая опытная, по ее словам, акушерка. Она назвала мне изрядное количество ее подвигов, которые ясно показали, что та негодяйка, но неважно, мне достаточно знать, что я к ней иду не для проведения незаконных операций. Я беру ее адрес, и, поскольку должен прийти к ней ночью, отправляюсь на другой день разглядеть дверь ее дома.
Мисс начала между тем принимать снадобья, которые я ей принес, и которые призваны ослабить и разрушить то, что сотворил Амур, повелитель природы, но, не видя эффекта, ей не терпелось поговорить с акушеркой. Наступает ночь последнего бала и, как мы договорились, она меня узнает, она следует за мной, садится в тот же фиакр и менее чем через четверть часа мы сходим за сто шагов от дома, где обитает злодейка. Мы видим женщину пятидесяти лет, которая встает, обрадованная нашим визитом, предлагая себя к нашим услугам.
Мисс говорит ей, что полагает, что беременна, и что она хотела бы проконсультироваться о средствах скрыть, сколь это возможно, беременность до самого конца. Мерзавка отвечает, смеясь, что легко может сделать ей аборт и что это обойдется ей в пятьдесят луи, половину вперед, чтобы купить необходимые снадобья, и другую половину после того, как будут вполне удачно произведены преждевременные роды.
– Как я полагаюсь на вашу честность, так и вы должны положиться на мою. Дайте мне сразу 25 луи и приходите или пришлите кого-нибудь завтра за снадобьями и инструкцией по их употреблению.
Она задрала без всякого стеснения юбки клиентки, которая с нежностью просила меня не смотреть, и, прощупав ее, опустила подол, сказав, что срок примерно четыре месяца. Она сказала, что если ее снадобья окажутся неэффективны, она назначит нам другие средства, и что в любом случае вернет нам наши деньги, если дело не выйдет.
– Я в этом не сомневаюсь, – ответил я ей, – но каковы, скажите, пожалуйста, те другие средства?
– Я научу вас средству убить плод, который затем должен быть удален.
Я мог бы ответить ей, что невозможно убить ребенка, не ранив смертельно мать, но не хотел вести диалог с мерзавкой. Я сказал ей, что если мадам решит принять ее средства, я приду завтра принести ей деньги, необходимые для их покупки. Я дал ей два луи и мы ушли.
Мисс Кс. К.В. мне сказала, что уверена, что эта женщина мошенница, и что она твердо знает, что нельзя убить плод без риска для матери, и что, словом, она доверяет только мне. Сказав, что ей холодно, она спросила, не найдется ли у нас времени, чтобы пойти погреться у камина в Малой Польше, которую она хотела посмотреть. Эта фантазия меня удивила и мне понравилась. Была очень темная ночь, и она могла рассмотреть домик только изнутри, но я не собирался ей возражать. Я был уверен, что наступил момент моего счастья.
Я сменил фиакр на улице Фероннери, и четверть часа спустя мы были у моей двери. Я звоню привратнику, и Ла Перль открывает дверь, говоря, как я и знал, что никого нет. Я говорю ей разжечь огонь и приготовить нам чего-нибудь поесть под бутылку шампанского. Например, омлет.
– Очень хорошо, омлет, – говорит Мисс, смеясь.
И вот мы у огня, моя любовь у меня в объятиях и, кажется, радуется моим действиям, и говорит мне сдерживаться, лишь когда я уже готов праздновать триумф. Я сдерживаюсь, без возражений, уверенный, что после освежения она не выставит никаких препятствий моей победе. Все обещало мне это, ее вид, ее нежность, ее лицо, сиявшее благодарностью, и ее глаза, нежные и томные. Я опасался, что она может подумать, что я могу требовать услуги в порядке благодарности. Я был достаточно великодушен и хотел только любви.
Вот и пуста бутылка, мы поднимаемся и, наполовину со страстью, наполовину используя нежную силу, я падаю на кровать, держа ее в объятиях, но она противится моим намерениям, сначала сладкими словами, затем вполне серьезными упреками, а затем и сопротивляясь. Все кончено. Сама идея насилия меня возмущает. Я начинаю оправдываться, проходя через все ступени. Я говорю как ласковый любовник, затем как обманутый, затем – как любовник, которым пренебрегли. Я говорю, что я разочарован, и вижу, что она оскорблена. Я становлюсь перед ней на колени, прошу у нее прощения и слышу, как она говорит мне самым грустным тоном, что, не располагая своим сердцем, она страдает больше меня; утопая в слезах, она припадает головой к моей, и наши уста сближаются. Пьеса окончена. Идея возобновить штурм появляется в моей голове, лишь чтобы быть с негодованием отвергнутой. После долгого молчания, в котором мы оба так нуждались, она – чтобы заглушить чувство стыда, ее одолевавшее, я – чтобы дать время моему рассудку успокоить чувство гнева, которое мне казалось вполне справедливым, мы снова надели свои маски и вернулись в Оперу. Дорогой она осмелилась мне сказать, что отрекается от моей дружбы, если я способен отдать ее за такую цену. Я ответил ей, что чувство любви должно отступить перед чувством чести, и что это ее чувство, так же, как и мое, заставляет меня оставаться ее другом даже тогда, когда это нужно лишь для того, чтобы убедить ее, что она неправа, отказывая мне в милостях, которых я отнюдь не недостоин, и что я скорее умру, чем посягну на них в будущем.
Мы были врозь в Опере, где в огромной толпе я потерял ее из виду в течение минуты. Она сказала мне на следующий день, что, несмотря ни на что, она танцевала всю ночь изо всех сил. Она убеждала себя, что воздействие движения окажется для нее тем доктором, который ей нужен.
Я пошел к себе в очень плохом настроении, напрасно стараясь найти резоны для объяснения отказа, которого я никак не мог ожидать. Я пытался счесть поведение Мисс справедливым и разумным, перебирая софизм за софизмом. Здравый смысл доказывал, что я был оскорблен, несмотря на соблюдение всех мыслимых приличий и нравственных предубеждений, соблюдения которых может требовать воспитание в цивилизованном обществе. Я думал о высказывании Популии, которая допускала неверность своему мужу, лишь когда была беременна. Non tolle vectorem, – говорила она, – nisi navi ple (Я не принимаю пассажиров, когда корабль полон – Макробиус: Сатурналии. Я был сердит, убедившись, что я не любим, и чувствовал бы себя униженным, если бы продолжал любить объект, которым не могу больше надеяться обладать. Я заснул, решив отомстить и покинуть ее на произвол судьбы, наплевав на весь героизм, который она находила бы в моем поведении, если бы я поступал иначе. Моя истинная честь приказывала мне никогда не быть обманутым.
Утром я проснулся успокоившимся и, соответственно, влюбленным. Мое последнее решение состояло в том, чтобы продолжать помогать ей изо всех моих сил, показывая безразличие к тому, что она не считала для себя возможным мне соответствовать. Я понимал, как трудно хорошо сыграть эту роль, но набрался смелости ее играть.
Глава IX
Я продолжаю свою интригу с очаровательной м-ль Кс. К.В. Безуспешные попытки аборта. Ароф. Бегство Мадемуазель и ее поступление в монастырь.
Я каждое утро ходил повидаться с ней, и, хотя меня действительно интересовало ее состоянием, она не могла согласиться принять мою помощь в своем затруднительном положении. Не видя больше во мне влюбленного, она не могла не отнести мое отношение к чему-либо иному, чем к сентиментальности. Я видел, что она довольна моей переменой, но ее довольство могло быть лишь видимым. Я знал, что, даже не любя меня, она должна быть задета тем, что я так легко смирился с моим положением. Утром, похвалив меня за то, что я, по-видимому, усмирил свою страсть, она, смеясь, добавила, что моя страсть и мои желания, должно быть, не были достаточно сильны, если я смог менее чем за неделю их укротить. Я ответил ей очень мирным тоном, что обязан своей победой моему самолюбию.
– Я понимаю, – сказал я, – что достоин любви, и, видя, что вы так не считаете, я возмущен. Поймете ли вы действие возмущения?
– Очень хорошо. Оно ведет к пренебрежению тем объектом, который его породил.
– Это слишком сильно. Мое ведет к возвращению к себе и к проектам мщения.
– Какого рода?
– К тому, чтобы заставить вас уважать меня, одновременно доказав, что я могу обойтись без ваших сокровищ. Я привык теперь их видеть без того, чтобы стремиться ими овладеть.
– И думаю, вы решили, что эта ваша месть отвечает моим желаниям; но вы ошибаетесь, потому что неделю назад я уважала вас не меньше, чем сегодня. Лишь на одно мгновение я сочла вас способным меня покинуть в наказание за то, что я отвергла ваш порыв, и я очень рада, что поняла вас.
Затем мы стали говорить об опиате, который я сказал ей принять и для которого она хотела увеличить дозу, потому что не видела эффекта, но я оставил ее высказывание без внимания; я знал, что доза больше, чем пол-гросса, могла ее убить; и тем более я не согласился на третье кровопускание. Ее горничная, которую она посвятила в секрет, привела хирурга – своего возлюбленного, который сделал ей кровопускание. Я сказал Мисс, что она должна быть щедра со своими людьми, и она ответила, что у нее нет денег. Я ей их предложил. Она сказала, что возьмет у меня пятьдесят луи, которые будет мне должна, и что они нужны ей для ее брата Ричарда. Не имея денег при себе, я в тот же день послал их ей с запиской, в которой просил не обращаться с такими проблемами ни к кому, кроме меня. Однако ее брат обратился ко мне с гораздо более важной просьбой.
Он пришел ко мне на следующий день, чтобы поблагодарить меня и просить о помощи в серьезном деле. Он показал мне язву, весьма неприятного вида, которую он получил, посетив одно нехорошее место. Он просил меня поговорить с его матерью, чтобы она его вылечила, жалуясь на г-на Фарсетти, который, отказав ему в четырех луи, не захотел в это дело вмешиваться. Я сделал, что он хотел, но когда его мать узнала, о чем одет речь, она сказала, что будет лучше оставить его таким, каков он есть, что он у нее третий, и она уверена: вылечившись, он пойдет и получит все снова. Я вылечил его за свои деньги, но его мать была права. В четырнадцать лет его распутство было безудержным.
Мисс Кс. К.В., будучи на шестом месяце, была в отчаянии; она не хотела больше сходить с постели и сильно меня огорчала. Не считая меня более влюбленным в нее, она показывала мне свои бедра и живот, чтобы доказать, что ей нельзя больше никому показываться. Я играл для нее роль акушерки, показывая полную индифферентность к ее прелестям и не проявляя ни малейшего признака эмоций, но я больше уже не мог это терпеть. Она говорила о том, чтобы отравиться, тоном, который заставлял меня дрожать. Я был в самом жестоком затруднении, когда судьба пришла мне на помощь очень комическим образом.
Обедая тет-а-тет с м-м д’Юрфэ, я спросил у нее, знает ли она надежное средство для аборта. Она ответила, что Ароф Парацельса – верное средство, однако трудное в изготовлении, и, видя мое любопытство, пошла за манускриптом, который и вручила мне в руки. Речь там шла о том, чтобы изготовить мазь, ингредиентами которой являлись шафран в порошке, мирра и некоторые другие, и связующее на меду. Женщина, желающая опустошить свою матку, должна поместить порцию этого опиата в конец специального цилиндра, продвинуть его в вагину, прикасаясь этой дозой округлого тела, находящегося внутри нее. Цилиндр одновременно должен шевелить канал, касаясь закрытой дверцы маленького домика, где покоится маленький враг, которого хотят заставить выйти. Это действие повторяется три или четыре раза в день, шесть-семь дней подряд, ослабляя таким образом дверцу, так что в конце концов она открывается и плод вываливается наружу.
Посмеявшись над этим рецептом, абсурдность которого бросалась в глаза здравому смыслу, я вернул мадам ее ценный манускрипт и провел два часа, читая Парацельса и все время удивляясь, затем – Бохераве, который рассуждает об этом Арофе с видом умного человека.
Находясь на другой день дома в одиночестве и думая о Мисс Кс. К.В., я решил сообщить ей об этом средстве абортирования, надеясь, что ей, может быть, я понадоблюсь для введения внутрь цилиндра.
В десять часов, застав ее, как обычно, в постели, грустящей, что опиат, который я ей предписал, не оказал никакого эффекта, я заговорил с ней об Арофе Парацельса как о верном топическом средстве, ослабляющем кольцо матки. В этот момент мне в голову пришла идея сказать ей, что Ароф должен быть амальгамирован со спермой, которая не должна терять ни на мгновение своего естественного тепла.
– Надо, – сказал я ей, – чтобы, едва выйдя, оно коснулось кольца. Если повторить операцию три или четыре раза в день, пять-шесть дней подряд, дверца должна открыться и плод должен выйти сам под действием собственной тяжести.
Растолковав ей дело и внушив, что описание действия этого средства, по-видимому, похоже на правду, с физической точки зрения, я сказал, что, поскольку ее возлюбленный отсутствует, ей необходимо будет завести друга, который поселится с ней и кого никто не сможет заподозрить, который послужит ей три или четыре раза в день галантным лекарством. При мысли об этом она не смогла удержаться от смеха. Она серьезно спросила меня, не шутка ли это, и, наконец, перестала сомневаться, когда я предложил ей принести манускрипт, где изложена вся та теория, что я ей рассказал.
Она не стала настаивать, чтобы я его принес, когда я сказал, что манускрипт на латыни; но я увидел, что убедил ее, когда стал рассказывать о чудесах Арофа и о том, что об этом говорит Бохераве.
– Ароф, – сказал я ей, – великое средство, чтобы провоцировать месячные регулы.
– И, – ответила она, – поскольку месячные регулы не могут появиться, когда женщина беременна, Ароф становится средством, чтобы произвести аборт. Сможете ли вы его изготовить?
– Это легко. Это пять ингредиентов, которые берут в виде порошка и размешивают в меду или сливочном масле. Это мазь, которая, когда касается кольца, должна привести его в любовное возбуждение.
– Нужно также, мне кажется, чтобы тот, кто его применяет, любил.
– Разумеется, по крайней мере если это не существо, которое, подобно ослу, не нуждается в любви.
Она оставалась в задумчивости добрую четверть часа. При всем ее уме, наивность ее души не позволяла ей предположить обмана. В свою очередь, удивленный тем, что, выдал ей эту сказку со всеми чертами правды без всякого предварительного замысла, я молчал.
Прервав, наконец, молчание, она сказала мне с грустным видом, что не может и думать использовать это средство, которое, впрочем, кажется ей замечательным и натуральным. Она спросила, много ли времени требует приготовление Арофа, и я ответил, что требуется только два часа, если можно достать английский шафран, который Парацельс предпочитает восточному.
Вошедшая вместе с г-ном Фарсетти ее мать прервала нашу беседу. Она просила меня остаться обедать, и я согласился, когда Мисс сказала, что также придет к столу. Она явилась туда с талией нимфы. Я не мог и подумать, что она беременна, несмотря на то, что она меня в этом убеждала. Г-н Фарсетти занял место рядом с ней, а ее мать – рядом со мной. Мисс, думая об Арофе, вздумала спросить у своего соседа, который слыл великим химиком, знает ли он о нем.
– Думаю, – ответил он, – что знаю о нем больше, чем кто-либо другой.
– Для чего он пригоден?
– Вы задаете мне слишком широкий вопрос.
– Что означает это слово Ароф?
– Это арабское слово. Об этом нужно спросить у Парацельса.
– Оно не арабское, – сказал я ему, – и ни с какого-либо другого языка. Это слово обозначает два: Аро: арома; ф: философорум (Aro: aroma; ph: philosophorum).
– Это Парацельс придал вам такой эрудиции? – возразил желчным тоном Фарсетти.
– Нет, месье, но Бохераве.
– Позвольте посмеяться, потому что Бохераве ничего не говорит об этом; но мне нравятся храбрые умы, которые его цитируют.
– Смейтесь, сколько вам угодно, но это пробный камень. Я никогда не цитирую наугад.
Говоря так, я бросаю на стол свой кошелек, полный луи. Фарсетти неприязненно говорит, что он никогда не держит пари. Мисс, смеясь, говорит, что это верный способ никогда не проигрывать. Я возвращаю кошелек в карман и, как бы по надобности, выхожу и отправляю моего лакея к м-м д’Юрфе принести том Бохераве, в котором я прочел это накануне. Я возвращаюсь к столу и развлекаю всех разными разговорами, пока не возвращается мой лакей, который приносит книгу. Я сразу нахожу место и приглашаю г-на Фарсетти убедиться, что я цитировал правильно. Вместо того, чтобы посмотреть, он встает и уходит. Мадам говорит, что он ушел, разозленный, и что он больше не вернется; Мисс предлагает пари, что он вернется завтра же, и она выигрывает. Этот человек после этого стал моим открытым врагом, и при случае это всегда доказывал.
Мы все отправились в Пасси на концерт, который давала Ла Попелиньер, и остались ужинать. Я встретил там Сильвию и ее дочь, которая на меня дулась; она была права, я не мог видеться с ней каждый день, но я не знал, что мне с этим делать. Человек, который развлекал весь стол и сам ничего не ел, был Сен-Жермен. Все, что он говорил, было фанфаронадой, но все было исполнено благородства и ума. Я за всю мою жизнь не знал более искусного и обольстительного обманщика.
Я провел весь следующий день у себя, чтобы ответить на большое количество вопросов, которые мне направила Эстер, но очень уклончиво на все, касающиеся коммерции. Помимо опасения скомпрометировать мой оракул, я дрожал, сознавая, что, вовлекая ее отца в ошибку, я могу повредить его интересам. Он был самый порядочный из всех миллионеров Голландии. Что касается Эстер, она осталась в моем уме лишь как нежное воспоминание.
Мисс Кс. К.В. полностью занимала меня, и, несмотря на мое кажущееся безразличие, я слишком понимал, что люблю ее и что могу быть счастлив, лишь став ее любовником без всяких оговорок. Но я переживал, сознавая, в каком затруднении я окажусь, когда она не сможет больше прятать свою полноту от семьи. Я раскаивался, что говорил ей об Арофе; видя, что в течение трех дней она со мной не говорила, я решил, что вызвал у нее подозрение, и что уважение, которое она испытывала ко мне, сменилось неприязнью. Это предположение меня унижало; я не находил больше в себе смелости пойти с ней повидаться, и я не знаю, решился ли бы на это, если бы она не написала мне записку, в которой говорила, что у нее нет иного друга, кроме меня, и что она не просит у меня другого знака внимания, кроме того, чтобы приходить к ней каждый день, хотя бы на секунду. Я принес ответ лично, заверив ее, что моя дружба к ней постоянна, и что я ее никогда не покину. Я обрадовался, понадеявшись, что она будет говорить об Арофе, но напрасно. Я, впрочем, решил, что она об этом не думала, и что я не могу более на это рассчитывать. Я спросил у нее, не желает ли она, чтобы я пригласил к себе обедать ее мать вместе со всей семьей, и она ответила, что это доставило бы ей удовольствие.
Этот обед получился очень веселый. Я пригласил Сильвию и ее дочь, итальянского музыканта по имени Магали, которого любила сестра Мисс, и Ла Гарда, музыканта и певца бас-профундо, которого приглашали во все приличные компании. Никогда не видел Мисс более веселой, чем в этот день. Покидая меня к полуночи, она сказала прийти к ней завтра пораньше, потому что у нее есть что сказать мне очень важного.
Не колеблясь, я явился в восемь часов. Она сказала, что находится в отчаянии, так как Ла Попелиньер настаивает на ответе и ее мать ее торопит. Она должна подписывать брачный контракт и портной должен прийти снять с нее мерки, чтобы делать корсеты и всякую одежду. Она говорила, и была права, что невозможно, чтобы портной не заметил, что она беременна. Она готова скорее убить себя, чем выходить замуж, будучи беременной, или открыться своей матери. Я объяснил ей, что любой выход предпочтительней, чем самоубийство, и что в любом случае можно избавиться от Ла Попелиньера, поведав ему о своем состоянии. Он примет свою участь со смехом, будет деликатен и не будет говорить больше о свадьбе.
– И потом, каково будет мое положение?
– Я берусь усмирить вашу мать.
– Вы ее не знаете. Чувство гордости заставит ее меня спрятать, но она заставит меня так страдать, что по сравнению с этим жестокая смерть окажется предпочтительней. Но почему вы не говорите больше об Арофе? Было ли это шуткой?
– Я считаю, что это серьезное средство, но с какой стати вы говорите об этом? Подумайте о деликатности, которая мне мешает. Поведайте о своем состоянии своему возлюбленному в Венеции, и я найду способ передать ему это письмо с надежным человеком в пять или шесть дней. Если он небогат, я дам вам полный кошелек золота, чтобы он мог приехать сюда и вернуть вам честь и жизнь, применив с вами Ароф.
– Проект прекрасный и очень благородный с вашей стороны, но не относится к числу возможных, и вы это поймете, если все узнаете. Но предположим, я решусь применить Ароф с другим, кто не является моим любовником, скажите, как я смогу это проделать. Даже мой любовник, прячась в Париже, не смог бы провести семь или восемь дней со мной в полной свободе, как, мне кажется, необходимо, если следовать точно предписанной методе. Так что, вы видите, невозможно больше и думать об этом средстве.
– Итак, вы решились для спасения своего счастья обратиться к другому человеку?
– Разумеется, будучи уверена, что никто ничего не узнает. Но где этот мужчина? Неужели вы думаете, что я могу отправиться его искать, и что будет легко его найти?
Эти ее слова заставили меня окаменеть, потому что она знала, что я ее любил. Я ясно увидел, что она хочет, чтобы я попросил ее позволить послужить ей своей персоной. Несмотря на свою любовь, я не мог решиться получить отказ, который стал бы жестоким унижением; впрочем, я не считал ее способной так меня оскорбить. Чтобы заставить ее объясниться, я поднялся, собираясь выйти и сказав грустным и чувствительным тоном, что я более несчастен, чем она.
Она остановила меня, спросив, как я могу называть себя более несчастным, чем она, на что я, задетый, ответил: она меня должна достаточно знать, чтобы понять, что таким образом выказывает мне презрение, если, оказавшись в такой вынужденной ситуации, предпочитает мне услуги незнакомца, так что я не собираюсь его искать. Она ответила, что я жесток и несправедлив, и что я не люблю ее, что я хочу воспользоваться ее трудной ситуацией для своего торжества, что она не может это воспринять иначе, чем как мою месть.
Говоря это, она отвернулась, проливая слезы, которые тронули меня, но я бросился перед ней на колени:
– Зная, что я обожаю вас, как вы можете предполагать у меня наличие планов мести и считать столь бесчувственным, когда вы ясно говорите мне, что в отсутствие вашего возлюбленного не знаете, к кому из мужчин обратиться за помощью в вашем деле?
– Разве могу я обратиться к вам после моих отказов?
– Что ж, вы полагаете, что истинный влюбленный может перестать любить из-за отказа, который, может быть, происходит из-за стыдливости? Позвольте вам сказать: в этот счастливый миг я убедился, что вы меня любите, и что вы ошибаетесь, полагая, что я могу вообразить, что вы никогда бы не осчастливили меня, если бы не необходимость, в которой вы оказались.
– Вы абсолютно верно выразили мои чувства, мой милый друг, но остается понять, как мы сможем оказаться вместе со всей необходимой нам свободой.
– Я внимательно это обдумаю, а между тем займусь изготовлением Арофа.
Это изготовление меня не заботило, потому что я заранее решил, что это будет просто мед, но я должен был провести с ней без перерыва несколько ночей, и это было сложно. Я сам предложил этот способ и не мог теперь и подумать отказаться. Одна из сестер спала в ее комнате, и я не мог заставить ее проводить ночи вне их отеля. Случай, как и почти всегда, пришел мне на помощь.
Естественная надобность заставила меня подняться на четвертый этаж, и я встретил там поваренка, который сказал мне не идти в кабинеты, так как там кто-то есть.
– Но ты только что вышел оттуда.
– Это правда, но я только заглянул.
– Ладно, я подожду.
– Пожалуйста, не ждите.
– Ты развлекался с девочкой, я хочу на нее взглянуть.
– Она не выйдет, потому что вы ее знаете. Она заперлась.
Я подхожу к двери и в щель вижу Мадлен, горничную Мисс. Я успокаиваю ее, обещаю молчать и прошу открыть, так как мне невтерпеж. Она отпирает, я даю ей луи, и она убегает. Сделав свое дело, я спускаюсь и встречаю на середине лестницы поваренка, который, смеясь, говорит, что я должен обязать Мадлен отдать ему двенадцать франков. Я обещаю ему луи, если он мне все расскажет, и он сообщает мне, что видится с ней на чердаке, где проводит с ней ночи, но что уже три дня хозяйка, поместив там дичь, запирает чердак на ключ. Я велю провести меня туда и вижу через замочную скважину, что дичь не мешает тому, чтобы поместить там матрас; я даю поваренку луи и ухожу, чтобы обдумать мой проект. Я решил, что Мисс легко смогла бы, договорившись с Мадлен, приходить проводить со мной ночи на чердаке. В тот же день я запасся отмычкой и несколькими фальшивыми ключами, а также приготовил жестяную коробочку с несколькими порциями так называемого Арофа. Я смешал для него немного меда с толченым оленьим рогом.
На другой день утром я явился в отель Бретань, где предварительно имел удовольствие открыть и закрыть чердак, не прибегая к отмычке. Я вошел в комнату Мисс, держа ключ в руке, и в немногих словах сообщил ей мой проект, показав, что Ароф готов. Она говорит, что может выйти из своей комнаты, только проходя через комнату, где спит Мадлен, и нам придется посвятить ее в наш секрет, и что она предоставляет мне заботу убедить ее обычными способами, какими договариваются со слугами. Заботил нас лишь поваренок, который, проведав обо всем окольным путем, мог бы решить нам помешать. По этому поводу я должен был проконсультироваться с Мадлен. Я ушел, пообещав Мисс действовать и сообщить ей обо всем через саму служанку.
Я сказал, выходя, что буду ждать ту у Августинцев, и мы обо всем договоримся, и она туда пришла. Полностью разобравшись во всем деле и пообещав, что ее собственная кровать будет находиться в назначенный час на чердаке, она указала, что мы не сможем обойтись без поваренка, и что наши интересы требуют, чтобы он был посвящен в секрет. Она гарантировала его преданность и сказала, что я должен разрешить ей все ему рассказать. Я дал ей ключ и шесть луи, сказав, что все должно быть готово к завтрашнему дню, и что она должна все согласовать с Мисс. Горничная, имеющая своего любовника, была весьма довольна, получив кое-что, в чем была от нее зависима ее собственная хозяйка.
На следующий день я вижу у себя в Маленькой Польше поваренка; я уже его ожидал. Прежде, чем он начал говорить, я предупредил, что он должен остерегаться любопытства моих слуг и не являться ко мне без особой необходимости. Он обещал мне быть осторожным и не сообщил мне ничего нового: на чердаке все будет в порядке к завтрашнему дню, как и обещала Мадлен, когда вся семья отправится в кровати. Он мне отдал ключ от чердака, сказав, что приготовил себе другой, и, похвалив его за такую предусмотрительность, я дал ему шесть луи, которые возымели большую силу, чем все мои слова.
На следующий день я повидал Мисс лишь на минуту, чтобы известить ее, что она найдет меня на чердаке в десять часов, и точно к этому времени прошел туда, убедившись, что никто меня не заметил ни входящим в отель, ни поднимающимся на чердак. Я был в рединготе. В кармане были коробка с Арофом, надежное огниво и свеча. Кроме матраса я нашел подушки и доброе одеяло, необходимое, потому что было холодно и нужно было провести там несколько часов. В одиннадцать часов легкий шум вызвал у меня сердцебиение, которое всегда бывало у меня добрым предзнаменованием. Я выхожу и вижу перед собой Мисс, говорю несколько слов, чтобы убедиться, что это она. Затем я провожу ее в наше пристанище и закрываю его на засов. Быстро зажигаю свечу, и она тревожится. Она говорит, что свет может нас выдать кому-нибудь, кто окажется поблизости. Я отвечаю, что мы должны рискнуть, потому что в темноте ей невозможно будет приладить мне Ароф как следует. Она соглашается, говоря, что потом мы погасим свечу. Мы быстренько раздеваемся, без тех предварительных действий, которые обычно предшествуют этому событию, когда оно происходит из-за любви. Каждый в своей роли, мы оба исполняем их превосходно. В очень серьезной манере, мы имеем вид хирурга, который готовится к операции, и пациента, который ему подчиняется. Мисс в данном случае оператор. Она берет открытую коробку в правую руку, затем ложится на спину и, раздвинув ляжки и подняв колени, она сгибается и в то же время, при свете свечи, которую я держу в левой руке, помещает маленькую капсулу с Арофом в устье отверстия, откуда средство должно попасть на головку существа и, растворившись, начать действовать. Самое удивительное, что мы не смеемся и не испытываем желания смеяться, настолько мы вошли в свои роли. После полного введения, тихая Мисс гасит свечу, но две минуты спустя должна согласиться, чтобы я снова ее зажег. Дело было сделано, в том, что касается меня, превосходным образом, но она в этом усомнилась. Я услужливо сказал ей, что не прочь повторить процедуру. Вежливый тон реплик заставил нас обоих рассмеяться, и ей не составило труда снова приладить мне средство, увидев часть Ароса, который амальгамация заставила, как и следовало ожидать, частично изменить цвет.
В этот второй раз применение средства продлилось четверть часа, и она заверила меня, что все прошло отлично. Я был в этом уверен. Она показала мне, с видом, который выражал любовь и благодарность, что амальгамация была двойного качества, потому что то, что произошло с ней, было вполне наблюдаемо. Она сказала, что, поскольку дело еще не закончено, нам надо бы поспать.
– Вы видите, – сказал я ей, – что я в этом не нуждаюсь, – и она это признала. Новое приготовление, новая схватка до еще более счастливого конца, которая завершилась довольно долгим сном.
Экономическое соображение, которое мне понравилось, заставило ее меня поберечь. Мы должны были сохранить себя для последующих ночей. Она спустилась в свою комнату, и на рассвете я вышел из отеля, сопровождаемый поваренком, который вывел меня через незнакомую мне дверь.
К полудню я явился с визитом у Мисс. Она говорила со мной разумно и старалась выразить свою благодарность, которая меня на самом деле раздражала.
– Я удивлен, – сказал я, – что вы не сознаете, что ваша благодарность меня унижает и указывает, что вы меня не любите, либо, что если вы меня любите, вы не предполагаете во мне любви, равной вашей.
Она согласилась со мной, и мы оба расслабились, но нам нужно было сохранить себя для ночи. Моя ситуация была странной. Хотя я ее любил, я не мог избежать того, чтобы ее не обманывать. Это была моя маленькая месть для моего самолюбия. Она, в свою очередь, чувствовала себя наказанной за то оскорбление, которое мне нанесла, отклонив мою любовь, поэтому у меня были основания сомневаться в ее любви. Чего я действительно добился от нее за время ночей, впустую проведенных в попытках добиться абортирования, было то, что она обещала мне больше не думать о самоубийстве и во всем, что будет, целиком положиться на меня и следовать моим советам. Она говорила мне несколько раз во время наших ночных коллоквиумов, что она чувствует себя счастливой и не перестанет ею быть, если, тем не менее, Ароф не окажет эффекта; но, несмотря на эту прекрасную мысль, она все время на него надеялась и не прекращала применять его в наших встречах, вплоть до последней ночи наших сражений. Она сказала мне при последнем расставании, что все, что мы проделали, представляется весьма способным породить в ее органе новое образование, которое должно бы внушить организму отвращение, последствием которого будет заставить его выбросить плод, которому он являлся хранилищем. Рассуждение как нельзя более здравое.
Убедившись в том, что нельзя более рассчитывать на аборт, и не имея возможности и дальше откладывать подписание брачного контракта с Попелиньером и избегать портных, она сказала мне, что решилась убежать, и поручила мне подумать о способах. Это стало моей единственной заботой. Решение было принято, но я не хотел ни оказаться уличенным в похищении, ни помочь ей покинуть королевство. При этом мы никогда не думали, ни тот ни другая, о том, чтобы соединить наши судьбы путем женитьбы.
С этой заботой, я пошел однажды на концерт духовной музыки в Тюильери. Давали мотет, сочинение Мондонвиля на слова, написанные аббатом Вуазеноном, полное название которого было: «Евреи на горе Хореб». Было первое исполнение. Собственно, это я дал любезному аббату идею, которую он записал прелестным верлибром. Выходя из своего экипажа в тупике Дофина, я вижу м-м дю Рюмен, в одиночестве выходящую из своего. Она обрадована, что встретила меня. Она говорит, что тоже пришла слушать новинку, что у нее абонированы два места, и я доставлю ей удовольствие, согласившись занять одно. Оценив всю ценность предложения, я соглашаюсь. В Париже не болтают, когда приходят в театр, чтобы послушать музыку, так что мадам не приписала мое молчание грустному настроению, однако она догадалась о нем после концерта по моей физиономии, на которой отпечатались уныние и боль, терзающие мою душу. Она пригласила меня провести часок у нее, чтобы разъяснить ей три-четыре заботивших ее вопроса, и проделать это сейчас, так как она приглашена на ужин в городе.
Все было разъяснено в полчаса, однако очаровательная женщина не могла отказать себе спросить у меня, что со мной.
– Я нахожу вас, – сказала она, – очень необычным; вы явно пребываете в ожидании какого-то большого несчастья; вам настоятельно необходимо дружеское участие. Я не любопытствую о ваших делах, но если я могу вам быть полезна при дворе, скажите, пользуйтесь моим полным кредитом; я готова поставить все, чем располагаю, на вашу карту, даже завтра с утра отправиться в Версаль, если дело срочное; я знакома со всеми министрами. Поделитесь же со мной своими заботами, дорогой друг, и если я не смогу их уладить, сделайте, по крайней мере, так, чтобы я их разделила, вы можете рассчитывать на мою скромность.
Эта маленькая проповедь показалась мне настоящим гласом с небес, внушением моего доброго гения открыться полностью влиятельной женщине, которая заглянула мне в душу и объяснила мне недвусмысленно весь интерес, который она питает ко мне. Посмотрев на нее молча, глазами, полными признательности, я сказал:
– Да, мадам, Я нахожусь в тисках самого жестокого кризиса и, возможно, накануне моей погибели; но объяснение, которого вы меня удостоили, дает мне надежду. Я расскажу вам о моем жестоком положении, сделав вас хранительницей секрета, который честь заставляет считать нерушимым, но, уверенный в вашей скромности, я не побоюсь вам его раскрыть. Если вы окажете мне честь, дав совет, обещаю вам ему последовать, и клянусь, что никто никогда не узнает, что он исходил от вас.
После этого маленького вступления, которое должно было приковать ко мне все ее внимание, я описал ей в деталях все дело, не касаясь ни имени девушки, ни малейшего из обстоятельств, что ставили меня в необходимость думать о ее спасении. Я также не рассказал ей и слишком комичную историю Арофа, но сказал, что давал ей средства, чтобы вызвать аборт.
Проведя с четверть часа в молчании, она встала, сказав, что ей абсолютно необходимо идти к м-м де ла Мар, чтобы поговорить также с епископом де Мон Руж, но она надеется, что будет мне полезна.
– Между тем, – сказала она, – прошу вас прийти ко мне повидаться послезавтра в восемь часов и не предпринимать ничего до нашего разговора. Прощайте.
Она посеяла мне утешение в душу, и я решился делать все, что она мне скажет.
Епископ де Мон Руж, с которым она должна была поговорить о деле, хорошо мне известном, был аббатом Вуазенона, и его называли так вследствие того, что он там часто бывал. Это была территория в окрестностях Парижа, принадлежащая г-ну герцогу де ла Вальер.
На другой день я ничего не сказал Мисс Кс. К.В., ожидая, что смогу сообщить ей добрые вести в ближайшие два-три дня. Я не замедлил явиться на следующий день к м-м дю Рюмен в назначенный час. Швейцар сказал мне, улыбаясь, что я столкнусь там с врачом, но при моем появлении тот удалился. Это был Херреншуан, к которому обращались все хорошенькие женщины Парижа. Такой же, какого изобразил несчастный поэт Пуансине в «Круге» – маленькой одноактной пьесе, имевшей в Париже большой успех.
М-м дю Рюмэн начала с того, что сказала, что решила мое дело, сохранив нерушимо мой секрет.
– Я пошла вчера, – сказала она, – в К… и поведала аббатисе, которая является моей близкой подругой, всю историю. Она примет девушку в своем монастыре и даст ей монахиню, которая послужит ей во всем, в том числе и при родах. Девица явится одна, с письмом, которое я вам дам, и по которому ее впустят. Она будет принята и поселена. К ней не будут допускать ни визитов, ни писем, кроме тех, что выйдут из ее рук, и она должна будет посылать свои ответы только через меня, потому что, вы же понимаете, она не должна иметь никакой другой корреспонденции, кроме как с вами. Также и вы будете ей писать только через меня, с не подписанным адресом. Я должна буду, однако, сказать аббатисе имя девицы, но не скажу ей вашего, и она не будет любопытствовать. Информируйте ее обо всем, и, когда она будет готова, скажите мне, и я дам вам письмо. Ей не надо брать с собой ничего, кроме самого необходимого, никаких бриллиантов, ни ценных украшений. Могу вас также заверить, что аббатиса будет ее время от времени навещать, что она будет относиться с ней по-дружески и приносить приличные книги. Что касается прислуживающей ей монахини, ее не следует посвящать ни в какие секреты. Расскажите ей обо всем этом. Девица после родов пойдет к исповеди перед Пасхой, и аббатиса даст ей свидетельство в очень хорошей форме, с которым у нее не будет никаких трудностей предстать перед матерью, которая будет счастлива ее снова увидеть, и больше не будет никаких вопросов по поводу свадьбы, которую она должна будет выдать за единственную причину своего добровольного бегства.
Излившись в благодарностях и воздав хвалы ее осторожности, я попросил дать мне сразу письмо, поскольку нельзя было терять времени. Вот маленькое письмецо, которое она мне написала:
«Девица, которая передаст вам это письмо, дорогая аббатиса, это та, о которой я вам говорила. Она желает провести три или четыре месяца под вашим покровительством в вашем монастыре, чтобы обрести спокойствие, исполнить обряды и быть уверенной, что, когда она выйдет, у нее не будет больше вопросов относительно замужества, которое она ненавидит, и которое является причиной ее решения удалиться на некоторое время от своей семьи».
Она дала мне его распечатанным, чтобы мадемуазель могла его прочесть. Эта аббатиса была принцессой; в порыве своей благодарности я бросился перед дамой на колени; она мне оказалась еще раз полезной, как я расскажу еще в своем месте.
Выйдя из отеля дю Рюмэн, я направился к отелю Бретань, где Мисс не нашла другого времени, кроме этого, чтобы мне сказать, что она занята на целый день и что она придет на чердак в одиннадцать часов, где у нас будет много времени, чтобы поговорить. Это было замечательно, так как я предвидел, что после этого дня у меня не будет более случая заполучить ее в мои объятия. Я поговорил с Мадлен, которая известила поваренка, и все случилось наилучшим образом.
Я пришел на чердак к десяти и в одиннадцать увидел Мисс; я дал ей прочесть письмо, и, загасив свечу, мы провели ночь как истинные влюбленные, не поднимая вопроса об Арофе.
Я передал ей в точности все инструкции, полученные мной от дамы, и она согласилась с тем, чтобы я скрыл от нее имя этой дамы. Я объяснил, что она должна выйти из отеля в восемь часов со свертком своих вещей, взять фиакр и поехать до площади Мобер, где отошлет этот фиакр. Там она должна взять следующий, до ворот Сен-Антуан, и оттуда должна проследовать на третьем до монастыря, который я ей назвал. Я попросил ее не забыть сжечь все письма, полученные ею от меня, и писать мне так часто, как будет возможно, запечатывая письма, но не надписывая адрес. Я закончил, заставив ее принять от меня двести луи, объяснив, что они могут ей понадобиться, хотя мы и не знаем, зачем. Она плакала, думая о трудностях, которые она мне доставила, но я ее заверил, что у меня много денег и очень мощная протекция. После всех этих переживаний мы расстались. Она обещала мне уехать послезавтра, и я обещал ей прийти в отель спустя день после ее бегства, сделав вид, что я не в курсе, и написать ей обо всем, что будут говорить. Ее отъезд меня беспокоил. Она была умна, но как часто опыт опровергает разум, скорее в дурную сторону, чем в хорошую. Я сидел в фиакре на углу улицы, откуда видел, как она приехала, вышла на аллею, расплатилась и отослала экипаж. Минутой спустя я увидел, как она отошла, с головой, укутанной капюшоном, села в другой экипаж, который уехал. Уверившись, что она выполнит в точности все остальные мои поучения, я отправился по своим делам.
На другой день, это было воскресенье Квазимодо[38], я почувствовал необходимость пойти в отель Бретань. Заходя туда каждый день, я не мог прекратить эти посещения, не возбудив подозрений. Но какое это трудное дело! Нужно было показывать веселость и спокойствие в семье, которая, я уверен, должна была испытывать, смущение и печаль!
Я пришел в час, когда вся семья должна была быть за столом, и, соответственно, направился прямо в залу. Я вхожу, по своему обыкновению, веселый и смеющийся, и сажусь к столу напротив мадам. Я делаю вид, что не замечаю ни ее удивления, ни вспыхнувшего лица. Минуту спустя я спрашиваю у нее, где Мисс; она смотрит на меня и не отвечает.
– Она не больна?
– Я ничего не знаю.
По ее сухому тону я понимаю, что надо быть серьезным, я делаюсь задумчив и остаюсь таким добрую четверть часа, не говоря ни слова. Я нарушаю, наконец, молчание, вставая и спрашивая у нее, не могу ли я чем-нибудь быть полезен. Она благодарит меня весьма холодно. Я выхожу из залы и иду в комнату Мисс, где нахожу Мадлен в одиночестве. Я спрашиваю у нее, подмигивая, где ее хозяйка, и она сразу просит меня сказать ей, если я сам это знаю.
– Она ушла одна?
– Я ничего не знаю, но думают, что вы знаете все. Прошу вас оставить меня.
Притворяясь удивленным, я медленно ухожу и сажусь в свою коляску, весьма довольный, что выпутался из этой неприятности. Я полагаю, что, действуя естественно, я не должен больше показываться у этой дамы, которая должна знать, что я очень мало замешан, и что, виновный или нет, я должен это подтверждать.
Во вторник, очень рано, я вижу, как у моей двери останавливается фиакр, и из него выходят м-м Кс. К.В. вместе с г-ном Фарсетти. Я выхожу к ним, благодарю, что они пришли позавтракать со мной, и прошу присесть перед огнем. Мадам отвечает, что она пришла не завтракать, а поговорить о важном деле. Она садится, и г-н Фарсетти устраивается рядом. Я отвечаю, что я весь к ее услугам.
– Я пришла просить вас вернуть мне дочь, если она находится в вашем распоряжении, или сказать мне, где она, и по любому, я добьюсь своего.
– Мадам, я ничего не знаю, и я удивлен, что вы подозреваете меня в преступлении.
– Я не обвиняю вас в похищении, я не явилась сюда обвинять вас в преступлениях, ни угрожать вам, я прошу вас о проявлении дружеского участия. Помогите мне ее найти, сегодня же; я уверена, что вы все знаете; вы ее единственный друг; она проводила с вами по два-три часа каждый день; невозможно, чтобы она вам не доверила всего. Явите жалость к отчаявшейся матери. Все будет спасено, потому что никто ничего еще не знает. Ее честь не пострадает.
– Я все это понимаю, мадам, но повторяю, что я ничего не знаю.
Она бросается передо мной на колени, утопая в слезах, в то время, как Фарсетти говорит, что она должна постыдиться так унижаться перед человеком моего сорта.
– Объяснитесь передо мной, – говорю я, вставая, – относительно моего сорта.
– Люди уверены, что вы все знаете.
– Те, кто уверен, дураки. Выйдите и подождите меня в коридоре. Вы увидите меня через четверть часа.
Я толкаю его в плечо, и он выходит, говоря мадам следовать за ним, но она остается, чтобы меня успокоить, говоря, что я должен извинить человека влюбленного настолько, что он хотел жениться.
– Я это знаю, но ваша дочь ненавидит его еще больше, чем Генерального фермера.
– Она ошиблась; но речи больше не идет об этой женитьбе. Вы знаете все, потому что вы дали ей пятьдесят луи, без которых она никак не смогла бы уйти.
– Это неправда.
– Это правда. Вот кусок вашего письма.
Она дала мне фрагмент письма, которое я написал Мисс, когда отправил ей пятьдесят луи, чтобы поддержать потребности ее старшего брата. Вот слова, которые можно было прочесть:
«Я надеюсь, что эти несчастные пятьдесят луи смогут вас убедить, что я не пожалею ничего, и самой жизни, чтобы убедить вас в моей любви».
– Хотя я и должен подтвердить, – сказал я ей, – что посылал эту сумму, скажу вам также, что дал их только для того, чтобы она могла оплатить траты вашего старшего сына. Он их получил, и он благодарил меня.
– Мой сын?
– Да, мадам.
– Я полностью возмещу их вам.
Она спускается во двор, где ее дожидается Фарсетти, и приказывает ему подняться, чтобы он услышал от меня самого, что пятьдесят луи, которые я дал, были предназначены для ее сына, но наглец мне говорит, что это неубедительно. Я смеюсь ему в лицо и прошу мадам подтвердить этот факт, заверив ее, что всегда старался убедить ее дочь выйти замуж за Попелиньера.
– Как вы смеете говорить такое, – прервал меня Фарсетти, – в то время как в вашем письме вы говорите ей о вашей любви?
– Я признаю, – отвечаю я, – что люблю ее, и что, стараясь внушить ей мысль выйти за этого рогоносца, я этим подрываю основы. Моя любовь, преступная или нет, была темой разговоров, которые я вел с ней все время, пока был с ней. Если бы она доверила мне, что хотела бы убежать, я бы ее или отговорил, или уехал бы вместе с ней, потому что я был и остаюсь влюблен в нее. Никогда я не дал бы ей денег, если бы она бежала без меня.
– Мой дорогой Казанова, – говорит мадам, – я хотела бы верить, что вы невиновны, если вы хотите объединиться со мной, чтобы ее разыскать.
– Я готов, мадам, и предлагаю сегодня же начать поиски.
– Когда вы что-нибудь узнаете, дайте мне знать.
В соответствии с этим обещанием, я не видел препятствий, чтобы пойти на следующий день переговорить с г-ном Шабан, начальником полиции, чтобы просить провести расследование по поводу бегства этой девушки. Я просто посчитал, что этот демарш с моей стороны послужит тому, чтобы лучше меня прикрыть. Этот человек, вполне обладавший умом, присущим этой профессии, и хорошо ко мне относившийся с тех пор, как Сильвия познакомила меня с ним у себя пять или шесть лет назад, рассмеялся, когда понял, по какому поводу я прошу провести расследование. Он спросил меня, действительно ли я считаю нужным, чтобы было раскрыто место, где находится англичанка. Со своей стороны, мне нетрудно было понять, что он готов ткнуть меня в него носом. Я перестал в этом сомневаться, когда, выходя от него, столкнулся с г-ном Фарсетти.
На следующий день я направился отчитаться о моем бесполезном демарше перед м-м Кс. К.В. Она ответила мне, что была более счастлива, чем я, в своих изысканиях, и что если я хочу пойти вместе с ней в тот дом, где находится ее дочь, она уверена, что я уговорю ее вернуться домой. Я ответил с безмятежным видом, что готов сопровождать ее всюду. Поймав меня на слове, она поднялась, взяла свою накидку, и, дав мне карточку, сказала приказать моему кучеру следовать по указанному в ней адресу.
Тяжелый момент для меня! Сердце забилось, угрожая выскочить из груди. Я ожидал увидеть адрес монастыря, где находилась Мисс. Не знаю, как бы я это проделал, но, разумеется, я бы туда не поехал.
Душа моя вернулась на свое место, когда я прочел название той самой аллеи на площади Обер.
Я отдал приказ кучеру, мы вышли на аллее, и я выдал сатисфакцию этой бедной матери, сопровождая ее со всей возможной вежливостью по всем окрестным апартаментам, и, в конце концов, по всем этажам. По окончании этого странного безуспешного обыска я увидел ее огорченной, но удовлетворенной, и с видом, просящим у меня извинения. Она даже знала фиакр, на котором ее дочь приехала на эту аллею. Она сказала мне, что поваренок отеля говорил, что два раза был у меня, принося письма, и что Мадлен говорила только, что была уверена, что я влюблен в Мисс, как и она в меня.
Отвезя м-м Кс. К.В. к ней домой, я направился к графине дю Рюмэн, чтобы дать ей отчет и подробно написать обо всем юной затворнице.
Три или четыре дня спустя м-м дю Рюмэн передала мне первое из ее писем, в котором она писала мне о спокойствии, которым наслаждается ее душа, и о благодарности, которой она проникнута за все, что я для нее сделал. Она воздала хвалы аббатисе и монашенке и назвала книги, которые ей передали, в соответствии с ее вкусом. Она платила шесть франков в день и дала четыре луи монашенке, пообещав ей платить так каждый месяц. Ее стесняло лишь то, что аббатиса просила ее не выходить из своей комнаты.
Но что доставило мне еще большее удовольствие, это письмо, которое аббатиса написала графине. Она воздала самые высокие похвалы прекрасной страдалице, ее нежности, ее уму и благородству ее манер. Она заверила, что заходит навестить ее каждый день. Удовольствие м-м дю Рюмэн меня очаровало. Я дал ей почитать письмо, которое написала мне Мисс, и видел, что она еще более довольна.
Единственно недовольными были м-м Кс. К.В., Фарсетти и старый Генеральный фермер, о приключениях которого рассказывали в светских кругах, в Пале Рояль и во всех кафе. Обо мне говорили тоже, но я это игнорировал.
Что касается ла Попелиньера, он настолько хорошо воспринял свою роль, что сделал из нее сюжет одноактной пьесы, которую сам написал и которую поставил в своем маленьком театре в Пасси. Таков был характер этого человека. Его гербом был петух, со словами Fovet et Favet[39]. Эмблема толерантности, которую, однако, он проявил слабо в знаменитом приключении на дороге.
Три месяца спустя после исчезновения англичанки, как ее называли, он отправил одного из своих клевретов в Бордо, где заключил по доверенности брак с очень красивой девицей, дочерью городского головы. Она подарила ему, по прошествии двух лет, мальчика, который родился через шесть месяцев после его смерти. Бесчестный бродяга, наследник этого богатея, обвинил вдову в адюльтере и заставил объявить новорожденного бастардом, к позору парламента, вынесшего такое решение, вопреки законам, божественным и человеческим, всей знати и всем чувствительным людям Франции, которые говорили о вопиющей несправедливости такого решения. Скандал был всеобщий, и невинная вдова ла Попелиньер не смела больше появляться после невероятного проигрыша процесса, который был возобновлен слушанием в том же самом парламенте, который в другой раз объявил легитимным ребенка, родившегося одиннадцать месяцев спустя после смерти своего отца, то-есть мужа вдовы.
Восемь-десять дней спустя после бегства Мисс я окончательно прекратил визиты к ее матери: дурной прием, оказываемый мне ею, принудил меня к этому.
Глава X
Новые инциденты. Ж.-Ж.Руссо. Я организую коммерческое предприятие. Кастель-Бажак. Против меня возбуждают судебный процесс. Г-н де Сартин.
До конца месяца никто не говорил больше об этом деле, и я полагал его оконченным, но я ошибался. В ожидании я развлекался, и удовольствие, которое мне доставляли большие траты, не позволяло мне думать о будущем. Аббат де Бернис, у которого я проводил время раз в неделю, сказал мне однажды, что генеральный контролер все время интересовался у него о моих делах, и я напрасно им пренебрегаю. Он посоветовал мне забыть о своих претензиях и рассказать ему о способах увеличения доходов государства, о которых я ему говорил. Придавая большое значение советам этого человека, которому я был обязан своей судьбой, я пришел к тому и, полный доверия к его порядочности, изложил свой проект. Он касался нового закона, который должен был принять парламент, в силу которого все наследники, названные в завещании, не относящемся к наследованию от отца к детям, должны были отдавать в пользу короля доход от первого года. Также и все дарения, производимые через нотариуса inter vivos (при жизни), должны были подлежать тому же закону, что не должно было расстраивать приобретателей, потому что они могли представить себе, что завещатель мог умереть годом позже. Министр сказал, что мой проект не заключает в себе никаких трудностей; он положил его в свой секретный портфель и заверил, что меня ждет блестящее будущее. Неделю спустя он был отправлен в отставку, и когда я представлялся его преемнику, г-ну Силуэт, тот сказал холодно, что меня известят, когда у него возникнут вопросы по поводу издания этого закона. Этот закон появился во Франции два года спустя, и надо мной смеялись, когда я говорил, что могу претендовать на его авторство.
Некоторое время спустя умер папа и преемником его избрали венецианца Реццонико, который произвел в кардиналы моего покровителя де Бернис, которого король отправил в ссылку в Суассон, через два дня после того, как дал ему кардинальскую шапку, итак, я оказался без покровителя, но достаточно богат, чтобы не ощущать этого несчастья. Этот выдающийся аббат, оказавшийся на вершине славы, разрушил то, что построил кардинал Ришелье, чтобы добиться, совместно с принцем Кауниц, превращения старинной взаимной ненависти домов Бурбонов и Австрийского в счастливый альянс, избавивший Италию от бедствий войны, театром которой она была при всех конфликтах, возникавших между этими двумя домами, что ставило его заслуженно в первые ряды среди кардиналов папы, который, будучи епископом Падуи, знал о его высоких заслугах; этот благородный аббат, умерший в прошлом году в Риме, особенно высоко оцененный Пием VI, был отставлен от двора за то, что сказал королю, который соизволил спросить его мнения, что не думает, что принц де Субиз – самый пригодный человек для того, чтобы командовать его армиями. Когда ла Помпадур значила в государстве, как сам король, она смогла его низвергнуть. Неблагодарность короля всем не нравилась, но это выразилось лишь в куплетах. Странная нация, которая нечувствительна ко всем несчастьям, в то время как стихи, которые читают или поют, заставляют ее смеяться. В мое время помещали в Бастилию авторов куплетов и эпиграмм, которые высмеивали правительство и министров, но это не мешало остроумцам продолжать веселить общество, иначе слово клуб, с его сатирическими шутками, не приобрело бы такую известность. Человек, я забыл его имя, присвоил себе в то время следующие стихи, которые принадлежали на самом деле Кребийону-сыну, и предпочел лучше сесть в Бастилию, чем отказаться от авторства. Этот самый Кребийон сказал г-ну герцогу де Шуазейль, что это он написал эти стихи, но допускает, что заключенный создал их тоже. Это bon mot (словцо) автора Софы вызвало смех, и ему ничего не было.
Grand Dieu! Tout a changé de face. Jupin opine du bonnet Le Roi. Vénus au conseil a pris place.. La Pompadour Plutus est devenu coquet M. de Boulogne Mercure endosse la cuirasse. … Le Mar. de Richelieu Et Mars a le petit collet Leduc deClermont, abbé de St-Germain-des-Prés.[40]Прославленный кардинал де Бернис провел десять лет в своем изгнании procul negotiis[41] не очень счастливо, как я узнал от него самого пятнадцать лет спустя в Риме. Считается, что быть министром лучше, чем быть королем; но, caeteris paribus[42], полагаю, что ничего нет глупее этой сентенции, если, как должно, вглядеться в себя самого. Это значит поставить вопрос, что предпочтительнее – независимость или зависимость. Кардинал не был снова призван ко двору, потому что не было случая, чтобы Луи XV возвратил прощенного министра; но по смерти Риццонико кардинал должен был явиться на конклав и остался на всю оставшуюся жизнь в Риме в качестве министра Франции.
В те дни м-м д’Юрфе возымела желание познакомиться с Ж.-Ж.Руссо, и мы вместе отправились к нему с визитом в Монморанси, взяв с собой ноты, которые тот копировал превосходным образом. Ему платили за это двойную, по сравнению с другими, цену, но он давал гарантию, что у него не найдут ни одной ошибки. Он с этого жил.
Мы встретили человека, здраво рассуждавшего, поведения простого и скромного, который ни в чем не выделялся, ни своим поведением, ни умом. Мы не нашли в нем и того, что называют обаятельным человеком. Он показался нам слегка невежливым, и немногого не хватило, чтобы он не показался м-м д’Юрфе невеждой. Мы увидели женщину, с которой до того говорили. Она едва на нас взглянула. Мы вернулись в Париж, посмеиваясь над странностями этого философа. Но вот точное описание визита, который ему нанес принц де Конти, отец принца, которого сейчас зовут графом де ла Марш.
Этот любезный принц явился в Монморанси в одиночку, специально, чтобы провести приятный день в разговорах с философом, который был уже знаменит. Он нашел его в парке, он подошел к нему и сказал, что пришел с ним пообедать и провести весь день, говоря при этом вполне непринужденно.
– Ваше высочество получит неважный обед; я скажу, чтобы поставили еще один прибор.
Он идет, он возвращается и, проведя два-три часа в прогулках с принцем, ведет его в залу, где они должны были обедать. Принц, видя на столе три куверта, спрашивает:
– Кто это тот третий, с кем вы хотите, чтобы я обедал? Я надеялся, что мы пообедаем тет-а-тет.
– Этот третий, монсеньор, это другой я сам. Это существо, которое не есть ни моя жена, ни любовница, ни служанка, ни моя мать, ни моя дочь; и она – все это вместе.
– Я понимаю, дорогой друг, но, придя сюда единственно чтобы пообедать с вами вдвоем, предпочитаю оставить вас обедать с вашим всем. Прощайте.
Таковы глупости, которые совершают философы, когда, желая отличиться, выделяются странностью. Эта женщина была м-ль Ле-Вассер, которую он прославил своим именем, замаскировав его в анаграмме, в одном из писем.
В эти дни я присутствовал на провале французской комедии, название которой было «Дочь Аристида», автором которой была м-м Графиньи. Эта достойная женщина умерла от горя спустя пять дней после падения своей пьесы. Я видел горе аббата де Вуазенона; это он уговорил ее представить свою пьесу публике и, быть может, и сам над ней поработал, как он это делал в «Перуанских письмах» и в «Гении». Мать папы Реццонико в те же дни умерла от радости, видя, что ее сын стал папой. Горе и радость убивают больше женщин, чем мужчин. Это показывает, что женщины более чувствительны, чем мы, но и более слабы.
Когда мой названный сын был, по мнению м-м д’Юрфэ, действительно хорошо устроен в пансионе Виар, она, к моему удивлению, настояла, чтобы я вместе с ней посетил его. Естественно, я был этим удивлен.
Принц не мог бы быть лучше поселен, лучше обихожен, лучше принят и пользовался большим уважением во всем доме. Она дала ему учителей всякого рода и маленькую дрессированную лошадь, чтобы он обучался на манеже. Его называли граф д’Аранда. Мадемуазель шестнадцати-восемнадцати лет, очень хорошенькая, собственная дочь Виара, хозяина пансиона, не отходила от него и с очень довольным видом представлялась как гувернантка г-на графа. Она заверила м-м д’Юрфэ, что исключительно хорошо о нем заботится, что к его пробуждению она приносит ему завтрак в постель, потом его одевает и не отходит от него, пока он не ложится обратно в постель. М-м д’Юрфэ приветствовала все эти знаки внимания к нему и заверила ее в своей благодарности. Мальчуган не уставал говорить мне, что я составил его счастье. Я предположил, что надо вернуться туда одному, чтобы прозондировать положение и узнать, как обстоит дело с красивой девушкой.
Возвратившись домой, я сказал мадам, что мне все нравится, за исключением имени д’Аранда, которое может породить неприятные истории. Она мне ответила, что малыш достаточно много наговорил, чтобы можно было увериться, что он действительно имеет право носить это имя. У меня есть, – сказала мне она, – в моем секретере печать с гербом этого дома; малыш, когда ее увидел, схватил печать, спросив у меня, какими авантюрами я заимела этот герб. Я ответила ему, что получила его от самого графа д’Аранда, заставив того сказать, как он может доказать, что он из этой фамилии; но он заставил меня молчать, сказав, что его рождение окутано тайной, которую он поклялся никому не раскрывать.
Любопытствуя узнать источник обмана, на который я не считал способным юного плута, я в одиночку пришел повидать его через неделю. Я нашел его вместе с Виаром, который, наблюдая видимую покорность, с которой он говорил со мной, должен был предположить, что он принадлежит мне. Воздав неумеренные похвалы талантам юного графа, сказал, что он превосходно играет на поперечной флейте, что он танцует и очень ловко владеет оружием, что он очень хорошо сидит на лошади и что никто не рисует лучше его буквы алфавита. Он показал мне далее заточенные им перья в одну, две, три, пять и до одиннадцати точек и предложил проэкзаменовать его в науке геральдики, науке столь необходимой для сеньора, которую никто не знает лучше него.
Малыш затем оттарабанил мне описание своих гербов в терминах гербовой науки, едва не заставив меня рассмеяться, потому что я не понял почти ничего; но он доставил мне истинное удовольствие, написав свой адрес от руки различными перьями, которые одним своим прикосновением проводили прямые линии и дуги, разделенные точками. Я сказал Виару, что все это прекрасно, и он, очень довольный, оставил меня наедине с малышом.
– Могу ли я узнать, – сказал ему я, – что за причуда заставила вас взять имя д’Аранда?
– Это глупость, но, пожалуйста, оставьте его мне, поскольку оно здесь нужно, чтобы меня уважали.
– Это выдумка, которую я не могу допустить, потому что она может иметь неприятные последствия, способные нас всех скомпрометировать. Это проделка, дорогой мой друг, на которую я не считал вас способным, легкомысленный каприз, который может вылиться в преступление, которое я не знаю, каким образом смогу исправить, спасая вашу честь, после всего того, что вы наговорили м-м д’Юрфэ.
Я окончил свой выговор, только увидев его слезы и услышав просьбу о прощении. Он сказал, что предпочитает испытать унижение быть отправленным к матери, чем пережить стыд признания м-м д’Юрфэ, что он ее обманул, и вынужденный отказ в пансионе от имени, которое он себе дал. Он внушил мне жалость. Я действительно не мог исправить положение иначе, чем отправив его жить на пятьдесят лье от Парижа под незнакомым именем.
– Скажите мне, – сказал я ему, – но с наиболее полной правдой, какова природа нежности хорошенькой девицы, которая столь много внимания уделяет вам.
– Полагаю, дорогой папа, что тут как раз случай проявить ту самую сдержанность, которую вы мне рекомендовали, как и мать.
– Отлично! Этим замечанием вы мне все и сказали; но нет вопроса о сдержанности, когда речь идет об исповеди.
– Ладно! Малышка Виар меня любит и дала мне знаки, которые не позволяют мне в этом сомневаться.
– А вы?
– А я, я тоже люблю; и, разумеется, я не могу быть виноват в том, что разделяю ее любовь, она такая красивая! И ее нежность и ее ласки таковы, что я не могу им противиться, не будучи из мрамора или в высшей степени неблагодарным. Я сказал вам правду.
При этом признании, которое меня покоробило, молодой человек побагровел. Дело слишком меня интересовало, чтобы я мог отнестись к нему с легкостью. Вид очаровательной юной Виар, ласковой, влюбленной, в объятиях парнишки, тоже пылающего, предстал перед моим воображением, чтобы вымолить о прощении, и для нее нетрудно было бы его получить. Мне следовало заставить его продолжить свое повествование, чтобы знать, не воспоследуют ли упреки за те любезности, которые, по моему мнению, должны были произойти от столь миленькой девочки.
Приняв вид доброго дядюшки, в котором не проскальзывало и тени неодобрения, я сказал:
– Стало быть, вы стали муженьком очаровательной девушки?
– Она говорит мне это каждое утро и каждый вечер, и, к тому же, я наслаждаюсь радостью, которую доставляю ей, называя ее моей маленькой женушкой.
– И вы не опасаетесь остаться в дураках?
– Это в руках бога.
– Вы пребываете в объятиях друг друга такими, какими вас создал бог?
– Да, когда она приходит укладывать меня в кровать, но она остается не более чем на час.
– Захотели бы вы, чтобы она оставалась на подольше?
– По правде, нет, потому что, позанимавшись любовью, я не могу удержаться от сна.
– Полагаю, Виар ваша первая любовница в этой прекрасной области любовной неги.
– Ох! Что до этого, будьте уверены.
– А если она забеременеет?
– Она меня заверила, что это невозможно, и когда она сказала мне, почему, она меня убедила; но через год-два, я, так же как и она, понимаю, что это несчастье может случиться.
– Полагаете ли вы, что до вас у нее был другой любовник?
– О! Относительно этого, я уверен, что нет.
Весь этот диалог привел к тому, что невольно сделал меня влюбленным в его юную любовницу. Я оставил его, спросив предварительно, в котором часу она приносит ему завтрак. Я не мог ни ненавидеть, ни ставить преграды взаимной нежности этих двух юных сердец; но мне казалось, что наименьшая компенсация, которой они были должны моей терпимости, была позволить мне хоть один раз быть свидетелем их любовных занятий.
Богемский князь, из семьи Клари, который был рекомендован мне бароном де Бавуа и с которым я проводил почти все время, оказался в эти дни настолько переполнен ядовитой заразой, которую мы в Италии называем французским злом, что ему потребовался перерыв на шесть недель. Я отвел его к хирургу Фэйе, использовав пятьдесят луи, которые одолжил ему, оказавшемуся тогда без денег по причине, как он говорил, неаккуратности его кассира, обитавшего в Тёплице, где князь был принцем-наследником. Это было ошибкой. Этот Клари был прекрасный человек, который лгал с вечера до утра, но дружба, что я к нему испытывал, не оставляла ничего иного, как его радовать. Он лгал каждый раз, когда говорил, и не по замыслу, а вследствие неодолимого свойства своей натуры. Нет человека несчастней лгуна, особенно если он рожден джентльменом, и он может им быть только вопреки рассудку, потому что понимает, что, зная, каков он, его можно только презирать. Его пренебрежение рассудком состоит в том, что он воображает, что его не понимают, и в том, что, поскольку те вещи, что он изрекает, должны восприниматься как правда, следует, что они не лишены правдоподобия. Он не знает, что, несмотря на то, что они правдоподобны, они не носят характера правды, что поражает и бросается в глаза любому, кто не лишен разума. Лгун, однако, полагает, что стоит значительно выше тех, кто только и знает, что говорить правду, и кто бы этого не делал, если бы обладал волшебной способностью придумывать. Таков был этот несчастный граф Клари, о котором я буду еще говорить, и который плохо кончил. Он сильно хромал, но это происходило от бедра, он так хорошо держался, когда ходил, что я, не зная об этом, заметил этот дефект, очень простительный, только спустя три месяца после того, как с ним познакомился. Я увидел его хромающим, когда он ходил по своей комнате в тот момент, когда думал, что он один; я спросил у него, когда он повернулся, не поранился ли он накануне, и он ответил, что да, покраснев до ушей. Во всяком случае, я не мог обвинить его во лжи. Эта прямая походка была его выдумкой, стоившей ему очень больших усилий, даже на прогулках, и когда он танцевал, он утопал в поту. Будучи молод и красив, он не хотел, чтобы могли сказать, что у него есть этот дефект. Он любил в азартной игре исправить свою фортуну, но лишь в дурной компании, потому что в хорошей он не имел достаточно смелости защититься в случае возникновения спора, и к тому же не владел в достаточной мере хорошим тоном, чтобы в нем участвовать.
Образ жизни, который я вел, сделал знаменитой Маленькую Польшу. Говорили о хороших застольях, которые там устраивались. Я откармливал пулярок рисом в темной комнате; они делались белыми, как снег, и исключительного вкуса. Я добавлял к превосходству французской кухни все, что было наиболее соблазнительного из лакомств в кухнях остальной Европы. Макароны в соусе сугилло, рисовый пилав, ризотто ин каньони и олья подрида заставляли о себе говорить. Я подбирал избранные компании на тонкие ужины, где мои приглашенные гости видели, что мое собственное удовольствие зависит от того, какое удовольствие я доставляю им. Изысканные и галантные дамы приходили утром прогуляться в моих садах в компании юных несмышленышей, не смевших и слова молвить, которых я делал вид, что не замечаю; я подавал им свежие яйца и отборное масло, что прибывало из знаменитого Вамбра. После чего – в изобилии мараскин из Зары, лучше которого не найдешь. Я часто предоставлял в пользование свой дом матадору, который приходил ужинать с женщиной выше всякого подозрения. Мой дом становился тогда недоступной святыней для меня самого. Знали однако, что я все замечаю, но дама была уверена, что, где бы я ее ни встретил, я сделаю вид, что с ней незнаком.
Очарованный этой жизнью и испытывая необходимость в 100 тыс. луи ренты для ее ведения, я часто задумывался над тем, чтобы сделать ее прочной. Человек со своим проектом, с которым я познакомился у Кальзабижи, показался послан мне небесами, чтобы сделать мои доходы даже сверх моих желаний. Он говорил мне о баснословных прибылях шелковых мануфактур и о тех, что сможет извлечь человек, обладающий средствами и имеющий смелость учредить фабрику по производству цветных шелковых тканей, подобных тем, что есть в Пекине. Он показал мне, что, имея превосходный шелк, тонкие колеры и наших рисовальщиков, лучших, чем во всей Азии, можно безмерно разбогатеть. Он убедил меня, что если установить цены за шелковые ткани в треть от тех, что платят за поступающие из Китая, и при этом более красивые, чем те, вся Европа предпочтет их, и при этом все же, несмотря на низкую цену, предприниматель получит сто на сто. Он закончил, заинтересовав меня тем, что сказал, что у него самого есть рисовальщик и художник, и что он готов показать мне несколько образцов – плодов его таланта. Я предложил ему прийти обедать ко мне и принести свои образцы на следующий день, и мы поговорим об этом деле, когда я их увижу. Он пришел, я все увидел и был удивлен. Те, что он мне представил, были разрисованы и раскрашены способами, секрет которых у него был, и к тому же обладали сопротивляемостью к дождю. Красота рисунков в золотых и серебряных листьях превосходила ту, которой любуются на тканях, привезенных из Китая, которые продаются по очень высокой цене в Париже и повсюду. Я счел все это очень несложным делом: после того, как рисунок будет наложен на ткань, рабочие, которых я найму и буду оплачивать поденно, должны будут только окрашивать ее, так, как их научат, и выдавать столько штук ткани, сколько я захочу, в зависимости от числа этих рабочих.
Идея стать хозяином мануфактуры мне понравилась. Я поздравлял себя с тем, что стану богачом и принесу при этом пользу для государства. Я, однако, решил не делать ничего без того, чтобы предварительно вполне ясно все понять, четко изучить все выгоды и затраты, и нанять или договориться с надежными людьми, в которых я буду вполне уверен, после чего моя роль будет сводиться только к тому, чтобы принимать отчет и следить, чтобы каждый исполнял свои обязанности.
Я пригласил этого человека пожить у меня семь-восемь дней. Я хотел, чтобы он рисовал и красил под моим присмотром ткани всех расцветок. Он проделал все это, с большой скоростью, и представил мне все, что он сделал, и сказал, что во всем, что касается консистенции красок, я могу подвергнуть куски, что он разрисовал, всем испытаниям. Я носил эти образцы в своих карманах пять-шесть дней, и видел, что все мои добрые знакомые очарованы их красотой и моим проектом. Я решил учредить мануфактуру и с этой целью проконсультировался с моим человеком, который там должен был стать директором.
Решив арендовать дом в пределах замка Темпль, я представился г-ну принцу де Конти, который, поприветствовав мое предприятие, обещал мне свою протекцию и все льготы, которые я могу пожелать. В доме, который я выбрал, и аренда которого стоила бы мне не более тысячи экю в год, у меня был большой зал, в котором должны были работать все мои рабочие, каждый по своей специальности. Я предназначил другую большую комнату под магазин и несколько других помещений на всех этажах, чтобы поселить там основных служащих и поместиться самому, когда мне придет в голову эта мысль.
Я разделил свое предприятие на тридцать акций номиналом по одному су, из которых пять предложил моему художнику и рисовальщику, который должен был быть там директором, сохранив для меня остальные двадцать пять, чтобы распределить их между пайщиками, которые поделят пропорционально и расходы. Я дал одну акцию врачу, который обязался обеспечить охрану магазина и поселялся в здании со всем семейством, и я нанял за свой счет четырех лакеев, двух служанок и портье. Я должен был также дать одну акцию бухгалтеру, который обеспечивал наличие двух клерков и поселялся также в здании. Я проделал все это менее чем в три недели, загрузив работой несколько столяров для изготовления шкафов магазина и двадцати станков в большом зале. Я поручил директору найти двадцать девушек для раскрашивания, которым я должен буду платить по субботам; и закупил в магазин две-три сотни кусков прочной тафты, турского полотна и камелота – белого, желтого, зеленого – чтобы рисовать на нем рисунки, выбор которых оставил за собой. Я платил всем звонкой монетой.
При грубом подсчете, проделанном вместе с моим директором, полагая начало продаж только на конец года, мне нужно было 100 тысяч су. В любом случае, я смог бы продать товар на 20 тыс. дешевле, но я надеялся, что мне никогда не понадобится распродавать, потому что я рассчитывал на ренту в 200 тысяч.
Я прекрасно видел, что это предприятие меня разорит, если продажи не получатся; но как бы я мог предположить такую беду, видя красоту моих тканей и слыша, как все мне говорят, что я не должен их продавать по столь низкой цене? Я потратил менее чем за месяц, чтобы подготовить этот дом, около 60 тыс. луи, и надо было платить в неделю 1200 луи. М-м д’Юрфэ смеялась, потому что полагала, что я все это делаю, чтобы пускать пыль в глаза любопытных и чтобы обеспечить себе инкогнито. Что мне больше всего нравилось, и что должно было при этом заставить меня трепетать, было зрелище двадцати девушек в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, все приличного вида и больше половины из них сравнительно хорошенькие, внимательно воспринимавшие инструкции художника в своей новой работе. Самые дорогие из них мне стоили только двадцать четыре су в день, и все они имели репутацию умных, отобраны женой директора, которая была женщиной набожной, от которой я выслушивал это заверение с весьма большим удовольствием, уверенный в ее снисходительности в случае, если мне придет в голову воспользоваться какой-нибудь из них. Но Манон Баллетти дрожала, когда видела меня обладателем этого сераля. Она всерьез дулась на меня, хотя и знала, что вечером все они отправлялись ужинать и спать по домам. Но вот какое дело обрушилось на меня, грозя нарушить мой покой.
Вот уже три месяца, как Мисс Кс. К.В. находилась в монастыре и она приближалась к финалу; мы переписывались два раза в неделю, и с этой стороны я жил вполне спокойно. Поскольку г-н де ла Попелиньер женился, Мисс, по выходе из монастыря, должна была возвратиться к себе, и никто больше не говорил об этом деле.
Однажды, пообедав у м-м д’Юрфэ, я пошел прогуляться в Тюильери. На главной аллее я вижу женщину в возрасте, в сопровождении мужчины со шпагой, обернутой в черное, который при виде меня останавливается и что-то ей говорит. Все это происходит спокойно, я продолжаю прогулку, но на следующем кругу я вижу ее снова, затем, поравнявшись со мной, она останавливается и всматривается в меня, и я вспоминаю, что видел мужчину, прогуливающегося с ней, в игорном доме, носящего гасконское имя Кастель-Бажак. При своем третьем кругу я узнаю в женщине ту, у которой я был вместе с Мисс, чтобы проконсультироваться по поводу ее беременности. Я догадываюсь, что она меня узнала, и, не думая больше об этом, выхожу из сада, чтобы идти прочь.
Через день, в одиннадцать часов, в момент, когда я садился в свою коляску, я вижу человека со скверной физиономией, который вручает мне бумагу и говорит, чтобы я прочел. Видя каракули, я прошу его прочесть самому, и слышу, что после обеда в такой-то день мне приказывается предстать перед комиссаром, чтобы ответить на жалобу, которую выдвигает против меня акушерка такая-то. После чего он уходит.
Не имея возможности догадаться, на что может жаловаться эта потаскуха, и будучи уверен, что она не сможет доказать, что я ее знаю, я иду к знакомому прокурору и формально поручаю ему меня представлять. Я его заверяю, что не знаю и никогда не был знаком в Париже ни с какой акушеркой. Этот прокурор идет к комиссару и приносит мне на следующий день копию жалобы.
Она жаловалась, что я был у нее в такую-то ночь вместе с дамой на пятом месяце беременности, оба в домино, что означает, что мы вышли с бала в Опере, и что я попросил у нее средства для производства аборта, держа в правой руке пистолет, а в левой – сверток с пятьюдесятью луи, и предложил выбирать. Страх заставил ее ответить, что у нее нет необходимых готовых зелий, но что они у нее будут в следующую ночь, и что после этого я ушел, пообещав вернуться. Думая, что я не обману, она попросила на следующее утро г-на де Кастель-Бажак спрятаться в комнате, соседней с той, где она меня принимала, для гарантии от насилия, но больше меня не видела. Она не замедлила бы принести жалобу, если бы меня знала. Прошедшим днем она встретила меня в Тюильери, и г-н де Кастель-Бажак, который меня знает, назвал ей мое имя и место жительства, и она не замедлила на меня донести, и что она заявляет, что я должен быть осужден по всей строгости закона. Таково удовлетворение, которого требует ее оскорбленная честь. Кастель-Бажак был назван как свидетель.
Мой прокурор сказал мне, что это клевета, не имеющая ни капли убедительности, и что, следовательно, это мне надо наказать, согласно закону, бессовестную акушерку, которая предъявляет мне этот иск. Он сказал, что я должен отнести дело криминальному лейтенанту и уполномочить его сделать все, что он сочтет необходимым. Четыре дня спустя он пришел мне сказать, что этот чиновник хочет со мной поговорить частным порядком, у себя, в три часа после обеда.
Я нашел очень любезного человека. Это был г-н де Сартин, которого два года назад король возвысил, назначив лейтенантом полиции. Первым делом для него следовало поручение, которое он принимал, вторым – комиссия, которая не покупалась. Он предложил мне сесть рядом с ним.
– Месье, – сказал он, – я просил вас прийти ко мне ради нашей взаимной выгоды, потому что наши интересы нераздельны. В уголовном процессе, который вам вчиняется, вам следует очиститься передо мной от обвинения, если вы не виновны; но прежде вы должны выявить наиболее ясным образом свою невиновность. Я готов вам помочь, абстрагируясь от качеств вашего судьи; но вы должны понять, что противная сторона может быть признана виновной в клевете, только если будет изобличена. Я хотел бы получить от вас внесудебную информацию. Ваше дело становится сложным в высшей степени. Оно таково, что, несмотря на вашу невиновность, вы можете оказаться вынуждены искать некоторых оговорок, связанных с вопросами чести. Ваши противники не станут уважать вашу деликатность и они вас прижмут, так, что вы будете вынуждены либо подвергнуться осуждению, если вы не расскажете всего, либо пренебречь тем, что вы можете счесть делом чести, чтобы доказать вашу невиновность. Я скажу вам по секрету, тет-а-тет. Знайте, что в некоторых пределах я часто предпочитаю защитить честь, в ущерб строгим и точным правилам криминальной юстиции. Заплатите мне той же монетой; доверьтесь мне; скажите мне все; осветите для меня все с возможной ясностью и положитесь на мою дружбу. Я ничем не рискую, если вы невиновны, потому что положение вашего друга не может никогда помешать мне быть честным судьей; но если вы виновны, мне вас жаль. Я заверяю вас, что буду справедлив.
Сказав ему все, что мне подсказывало чувство в ответ на его благородный демарш, я заверил его, что, не будучи в положении, когда честь может принудить меня к умолчаниям, я не имею ничего сказать ему внесудебным образом. Акушерка, которая меня обвиняет и мне незнакома, не кто иной как негодяйка, которая, в доле с мерзавцем хочет выманить у меня деньги.
– Я хочу этому верить, – сказал он, – но если это негодяйка, послушайте, каким образом помогает ей случай сделать для вас трудным и долгим доказательство вашей невиновности. Вот уже три месяца, как убежала м-ль Кс. К.В. Вы являетесь ее близким другом. Неизвестно, где она. Вас подозревают, платят с самого ее исчезновения шпионам, которые следуют за вами по пятам. Акушерка представила мне вчера обвинительную речь, составленную адвокатом Воверсеном, в которой предполагается, что беременная девица, которую вы к ней приводили, – это та самая мадемуазель, которая исчезла. Акушерка говорит, что вы оба были в черных домино, и подтверждается, что вы были оба на балу в черных домино в ту же ночь, когда, как говорит акушерка, вы были у нее. Это всего лишь полу-доказательства, но они заставляют вас дрожать.
– Почему я должен дрожать?
– Потому что подставной платный свидетель заявит, что видел вас обоих выходящими с бала и садящимися в фиакр, и сам фиакр, подкупленный деньгами, может показать, что отвез вас к акушерке. Итак, я должен буду начать с того, чтобы объявить вас взятым под стражу, чтобы заставить вас назвать персону, которую вы отвели к акушерке. Вас обвинят в том, что был сделан аборт, и, по прошествии трех месяцев, ее объявят мертвой.
– Я окажусь повинен в смерти, абсолютно невиновный, и это вы меня приговорите. Мне вас жаль.
– Вы правы, пожалейте меня, но не думайте, что приговорить мне вас будет легко. Я даже уверен, что никогда не приговорю вас, невинного; но вы будете долго томиться в тюрьме, абсолютно невиновным. Итак, вы видите, что это дело стало за двадцать четыре часа очень дурным и может стать ужасным за неделю. Что меня заинтересовало в отношении вас, это обвинение со стороны акушерки, которое вызывает у меня смех, но остальное в этом деле серьезно. Я вижу правдоподобность похищения, я вижу любовь и честь, которые настоятельно диктуют вам необходимость сдержанности. Я решил с вами поговорить. Скажите мне все, и я уберегу вас от всех неприятностей, которые вы должны ожидать, пусть и невинный. Скажите мне все, и будьте уверены, что честь девицы не пострадает. Но если, к несчастью, вы виновны в преступлении, в котором вас обвиняют, советую вам принять меры, которые не мне вам предлагать. Уверяю вас, что в течение трех-четырех дней я заставлю вас давать показания в канцелярии, где вы увидите меня только в качестве судьи.
Окаменев от этого рассуждения, которое продемонстрировало мне всю опасность, в которой я нахожусь, и показало с наибольшей очевидностью, что я должен предложить что-то серьезное этому достойному человеку, я сказал ему грустно, что, будучи абсолютно невиновным, я, в моем случае, вынужден опереться прежде всего на его благожелательность относительно чести Мисс Кс. К.В., репутация которой, без чьей бы то ни было вины, вследствие этого нелепого обвинения может пострадать.
– Я знаю, – сказал я ему, – где она, и могу вас заверить, что она никогда бы не покинула свою мать, если бы та не захотела заставить ее выйти замуж за генерального фермера.
– Но он женился, так что она возвращается к матери, и вы спасены, по крайней мере, если акушерка не настаивает и не уверяет, что вы привели ее делать аборт.
– Да нет же, месье! Нет никакого аборта; однако другие соображения мешают ей вернуться в лоно семьи. Я не могу вам сказать больше, без ее согласия, которое постараюсь получить. Я смогу тогда дать вам все разъяснения, которые угодно получить вашей душе. Окажите мне честь выслушать меня здесь еще раз послезавтра.
– Я вас услышал; я с удовольствием выслушаю вас и буду вам благодарен, а также поздравлю вас. Прощайте.
Видя себя на краю пропасти, я решился лучше покинуть королевство, чем выдать секрет моей дорогой несчастной. Я охотно бы пригасил дело с помощью денег, если бы у меня было время. Было очевидно, что Фарсетти стал главным агентом, и что он никогда не прекратит преследовать меня и оплачивать шпионов, которые следят за мной повсюду. Это он настроил меня против адвоката Воверсена. Я увидел, что должен обо всем рассказать г-же дю Рюмен.
Глава XI
Меня допрашивают. Я даю триста луи секретарю суда. Акушерка и Кастель-Бажак заключены под стражу. Мадемуазель рожает мальчика и заставляет свою мать возместить мне убытки. Мой процесс уходит в небытие. Мадемуазель отбывает в Брюссель и направляется, вместе со своей матерью, в Венецию, где становится гранд-дамой. Мои работницы. М-м Баррель. Я похищен, заперт и вернулся на свободу. Я отправляюсь в Голландию. L’Esprtt Гельвеция. Пикколомини.
Я отправился к ней на следующий день рано утром. Случай был безотлагательный, я ее разбудил и рассказал обо всем подробно. Она сказала, что не следует увиливать, нужно обо всем поставить в известность криминального лейтенанта, и она сама пойдет с ним поговорить. Она написала предварительно, что придет говорить с ним о важном деле в три часа после обеда, и он ответил, что ждет ее. Она пришла, информировала его обо всем, сказала, что мадемуазель собирается рожать, и что после родов она вернется к своей матери, не рассказывая ей, что была беременна. Мадам заверила меня, что мне нечего больше опасаться, но поскольку процесс продолжается, я буду вызван в суд на послезавтра. Она посоветовала мне встретиться с секретарем суда и найти какой-нибудь предлог, чтобы дать ему денег.
Я был вызван и предстал перед судом. Я увидел г-на де Сартина sedentem pro tribunali[43]. В конце он объявил, что должен перенести заседание на более поздний срок. Он заявил, что я не должен покидать Парижа ни жениться в период отсрочки, потому что во время любого уголовного процесса действует запрет на любые гражданские акты. Во время допроса я показал, что пошел на тот бал, о котором говорится в процессе, в черном домино, но все остальное отрицаю. Относительно Мисс Кс. К.В. я сказал, что ни я, ни кто-либо из ее семьи никогда не думали, что она беременна.
Опасаясь, чтобы мне, как иностранцу, Воверсен не назначил содержание под стражей, заявив, что я могу бежать, я воспользовался этим предлогом, чтобы посетить секретаря суда и оставить ему, без квитанции, триста луи в качестве залога для покрытия судебных издержек, если суд решит, что это я должен их оплатить. Он посоветовал мне потребовать возложить эти издержки на акушерку, что я и поручил моему прокурору, но вот что случилось четыре дня спустя.
В то время, как я прогуливался по улице Темпль, ко мне подошел савояр и передал записку. Прочтя ее, я увидел, что некий человек, находящийся в аллее в пятидесяти шагах от меня, хочет со мной поговорить. Я останавливаю свою коляску, следующую за мной, и направляюсь в эту аллею.
Мое удивление было велико, когда я увидел Кастель-Бажака. Он мне сразу сказал, что ему надо сказать мне лишь несколько слов, и хорошо бы, если бы нас никто не видел.
– Я хочу предложить вам, – сказал он, – надежный способ покончить с процессом, который должен вас беспокоить и стоить вам много денег. Акушерка уверена, что это вы были у нее с беременной женщиной, и она обеспокоена тем, что станет причиной вашего заключения. Дайте ей сотню луи, и она скажет секретарю суда, что ошиблась. Вы заплатите эту сумму только после. Пойдемте со мной поговорить с адвокатом Воверсеном, и он вас убедит. Я знаю, где он сейчас. Пойдемте. Следуйте за мной издали.
Очарованный той легкостью, с которой мошенники открылись, и интересуясь их возможностями, я последовал за этим человеком на третий этаж дома на улице Урс, где нашел адвоката Воверсена. Увидев меня, он сразу перешел к делу. Он сказал, что акушерка придет ко мне со свидетелем, чтобы подтвердить мне в лицо, что я был у нее вместе с беременной женщиной, но что она меня не узнает. Этого поступка будет достаточно, по его мнению, чтобы полицейский лейтенант приостановил все процессуальные действия, и чтобы обеспечить мне возможность выиграть процесс против матери мадемуазель. Сочтя, что это хорошо придумано, я сказал, что буду до полудня у себя в доме в Темпль все эти дни. Он сказал, что акушерке нужны сто луи, и я ей их пообещал, после того, как она заявит секретарю суда о своем отказе; он ответил, что она полагается на мое слово, но что я должен сразу отдать четверть этой суммы, причитающуюся ему за расходы и в качестве гонорара. Я заявил, что готов их ему уплатить, если он даст мне квитанцию, и по этому поводу мы имели долгую дискуссию; но, наконец, он мне дал ее, в самых общих выражениях, и я отсчитал ему двадцать пять луи. Он сказал, что по большому секрету даст мне советы, как сорвать все действия матери Кс. К.В., несмотря на то, что она является его клиенткой, потому что считает меня невиновным. Я принял все это к сведению и направился к себе, описав все случившееся и отправив записку г-ну де Сартину.
Три дня спустя мне объявили о женщине в сопровождении мужчины; она хотела поговорить со мной. Я выхожу, спрашиваю, чего она желает, и она отвечает, что хочет переговорить с г-ном Казанова.
– Это я.
– Я обманулась.
Мужчина, бывший с ней, изображает улыбку, и они уходят. В тот же день м-м дю Рюмэн получает письмо от аббатисы, в котором та сообщает ей новость, что ее подопечная очень счастливо разродилась прекрасным малышом, которого она отправила туда, где о нем вполне позаботятся. Она написала, что роженица покинет монастырь только через шесть недель, чтобы отправиться к своей матери, имея сертификат, гарантирующий ее от всех возможных неприятностей.
Два или три дня спустя акушерка была взята под стражу и заключена в камеру. Кастель-Бажак был отправлен в Бисетр, а Воверсен был вычеркнут из списка адвокатов. Процессуальные действия против меня со стороны м-м Кс. К.В. продолжались вплоть до появления ее дочери, но не активно Мисс Кс. К.В. вернулась в отель де Бретань к концу августа, представ перед своей матерью с сертификатом от аббатисы, в котором говорилось, что она содержалась в монастыре четыре месяца, в течение которых она никогда никуда не выходила и не принимала никаких визитов. Она возвратилась домой, когда уже не было опасения, что ее заставят выйти замуж за Попелиньера. Она заставила мать лично пойти к полицейскому лейтенанту и отнести ему этот сертификат, прекратив, таким образом, все свои действия против меня. Он посоветовал ей хранить в будущем по этому делу строгое молчание и дать мне некое удовлетворение, которого я был вправе потребовать, что привело бы впоследствии к некоторому ущербу для чести ее дочери.
Ее дочь, хотя и не опасаясь этого, заставила ее принести мне общее извинение в письменной форме, которое я зарегистрировал в канцелярии суда, и которое позволило мне прекратить процесс во всех формах. Я больше не ходил к ней, чтобы не встретиться с Фарсетти, который взялся препроводить Мисс в Брюссель, гордость не позволяла ей показываться в Париже, где ее история не обошла никого. Она оставалась в Брюсселе с Фарсетти и Магдаленой до момента, когда ее мать вместе со всей семьей не воссоединилась с ней и не препроводила ее в Венецию, где три года спустя она заделалась гранд-дамой. Я увиделся с ней пятнадцать лет спустя, вдовой и сравнительно счастливой, благодаря своим личным качествам, своему уму и своим социальным добродетелям, но никогда больше не имел с ней ни малейшей связи. Через четыре года после этого периода, читатель узнает, где и при каких обстоятельствах я встретил Кастель-Бажака. К концу того же 1759 года, перед моим отъездом в Голландию, я потратил еще денег, чтобы выпустить из тюрьмы акушерку.
Жизнь, которую я вел, была жизнью счастливого и глупого человека, каковым я, в сущности, не был. Большие расходы, что я нес, заставляли меня ожидать неприятностей. Моя мануфактура требовала, чтобы я был в состоянии ее содержать, даже, если сбыт не удавался по причине войны. У меня в магазине находилось четыре сотни штук рисованных тканей, и не видно было, что их можно будет продать до того, как заключат мир, и если этот столь желанный мир не наступал, я должен был поставить точку. Я написал Эстер, приглашая ее отца предоставить мне половину от моих фондов, направить ко мне своего служащего и взяться за дело пополам со мной. Г-н Д.О. ответил мне, что если я хочу переправить мануфактуру в Голландию, он оплатит все расходы отдаст мне половину прибылей. Я любил Париж, и я на это не согласился.
Я тратил много на содержание моего дома в Маленькой Польше, но расходы, которые подтачивали мое состояние, и о которых никто не знал, были гораздо больше. Я проявлял интерес ко всем моим работницам, среди которых находил много достойных, и, поскольку не имел терпения находить подешевле, оплачивал дорого свое любопытство. Пример первой послужил всем основанием, чтобы требовать дом и мебель, как только они замечали, что внушают мне желание. Мой каприз часто длился не более трех дней, и каждая новая замена мне казалась достойнее предыдущей. Ту первую я больше не видел, но продолжал ее содержать. М-м д’Юрфэ, считая, что я веду роскошный образ жизни, не мешала мне; я делал ее счастливой, сопровождая моими оракулами ее магические операции. Манон Баллетти приводила меня в отчаяние своей ревностью и своими справедливыми упреками. Она не понимала, как я могу тянуть с женитьбой на ней, если правда, что я ее люблю; она говорила, что я ее обманываю. Ее мать умерла в эти дни от истощения на руках у них и у меня. За десять минут до того, как испустить дух, она передала мне свою дочь. Я обещал ей от всей души, что сделаю ее своей женой; но судьба, как говорится, этому воспротивилась. Я оставался три дня с этой семьей, разделяя ее боль.
Тяжелая болезнь в эти дни свела в могилу любовницу моего друга Тирета. За четыре дня до своей смерти она отпустила его, чтобы думать только о своей душе, подарив ему ценное кольцо и двести луи. Тирета, попросив у нее прощения, сложил свой багаж и прибыл с ним ко мне в Малую Польшу, вместе с грустной вестью. Я поселил его в Темпле и четыре недели спустя, одобрив его намерение идти искать удачи в Индии, дал ему рекомендательное письмо к г-ну Д.О. в Амстердам. Тот поместил его менее чем через две недели в качестве писаря на судно Компании Индий, направляющееся в Батавию. Он должен был стать богатым, если придерживался хорошего поведения; он канул в неизвестности; он должен был заботиться сам о себе и испытать большие трудности. Я узнал от одного из его родственников в 1788 году, что он в Бенгалии и что достаточно богат, но не имеет возможности, обратив в деньги свои капиталы, возвратиться на родину и жить там счастливо. Не знаю, что с ним стало.
В начале ноября офицер хозяйства двора герцога д’Эльбёф приехал на мою мануфактуру со своей дочерью, чтобы купить одежду на день ее бракосочетания. Очаровательное лицо этой девушки меня ослепило. Она выбрала отрез замечательного сатина, и я видел радость ее души и удовлетворение, когда она заметила, что ее отец доволен ценой; но я не мог устоять перед огорчением, которое причинила мне ее грусть, когда она услышала от служащего, что отец должен купить всю штуку. В моем магазине существовало правило – купить можно было только целый кусок. Я должен был удалиться в свой кабинет, чтобы устоять от искушения сделать исключение из этого правила, и ничего бы не случилось, если бы дочь не попросила директора отвести ее туда, где я был. Она вошла с глазами, полными слез, говоря мне напрямик, что я богат и что я могу сам купить весь кусок, уступив ей те метры, что ей необходимы для платья. Я видел, что ее отец с извиняющимся видом хочет просить меня извинить дерзость его дочери, поступок которой показывает, что она еще дитя. Я сказал, что ценю искренность, и приказал, чтобы ему отрезали столько, сколько нужно на платье. Она перестала меня уговаривать и подошла поцеловать, в то время как отец, найдя это забавным, принялся хохотать. Заплатив, сколько стоит ткань, он пригласил меня на свадьбу.
– Я выдаю ее замуж в воскресенье, – сказал он; будет ужин, танцы, и вы окажете мне честь. Меня зовут Жильбер; я являюсь контролером у г-на герцога д’Эльбёф, улица Сен-Никэз.
Я дал ему слово прийти.
Я пришел туда, но не мог ни есть, ни танцевать. Очаровательная Жильбер держала меня как бы в экстазе все время, которое я провел в этой компании, где, впрочем, никак не мог попасть в нужный тон. Это была толпа офицеров разных знатных домов со своими женами и дочерьми, я никого не знал, никто не знал меня; я выглядел глупо. В таких собраниях тот, кто обладает большим умом, часто выглядит наиболее глупо. Каждый говорил свое слово новобрачной, она всем отвечала, и все смеялись, когда не было ничего не слышно. Молодожен, худой и грустный, радовался новобрачной, что она веселила всю компанию. Этот мужчина, далекий от того, чтобы вызывать во мне ревность, вызывал сочувствие; мне было очевидно, что он женится, чтобы улучшить свое положение; он внушил мне мысль порасспросить молодую, и она дала мне для этого случай, сев около меня после контрданса. Она поблагодарила меня за то, что я для нее сделал, дав возможность изготовить прекрасное платье, которое вызывает всеобщие комплименты.
– Но я уверен, что вам не терпится его снять, так как я понимаю любовь.
– Забавно, что все упорно считают меня влюбленной, хотя и не прошло восьми дней, как мне представили этого г-на Барет, о существовании которого я и не подозревала.
– И почему вас поженили столь поспешно?
– Потому что мой отец делает все поспешно.
– Ваш муж, без сомнения, богат?
– Нет, но он сможет таким стать. Мы открываем послезавтра лавку шелковых чулок на углу улиц Сен-Оноре и Прувер. Я надеюсь, что вы будете покупать свои чулки у нас.
– Будьте уверены, и я предлагаю даже обновлять их, когда мне придется заснуть у дверей вашей лавки. Она издала смешок, позвала мужа, пересказала ему, и он ответил, поблагодарив меня, что это его осчастливит. Он заверил, что у него никогда не будет хлопчатых чулок.
Во вторник, на рассвете, я дождался открытия лавки на улице Прувер и вошел в нее. Служанка спросила, чего я хочу, сказав, чтобы я пришел позже, потому что хозяева еще спят.
– Я подожду здесь. Принесите мне кофе.
– Я не такая дура, чтобы оставить вас одного в моей лавке.
Она была права.
Наконец спускается Барет, ворчунья его не называет, он велит ей пойти сказать жене, что я здесь, и развертывает передо мной пакеты, показывая жилеты, перчатки, панталоны, пока не спускается его жена, свежая как роза, белее самой ослепительной белизны, умоляя меня простить ее неглиже и благодаря за то, что сдержал слово.
М-м Барет была среднего роста, в возрасте семнадцати лет и, не будучи совершенной красавицей, обладала всем самым милым, что мог вообразить и изобразить Рафаэль, что гораздо сильнее, чем красота, способно воспламенить сердце, для которого любовь – преобладающее чувство. Ее глаза, ее смех, ее рот, всегда полуоткрытый, внимание, с которым она слушала, ее искрящаяся нежность, ее кипучая живость, тот минимум претензии, что она демонстрировала своим очарованием, казалось бы, не понимая его силы, повергали меня в восторг перед этим шедевром природы, владельцем которого случай или ничтожная выгода сделали бедного человека, которого я там наблюдал, тщедушного, хрупкого, все свое внимание уделяющего скорее своим чулкам, чем данным ему сокровищам Гименея.
Навыбирав чулок и жилетов на сумму свыше 25 луи и нарадовавшись на то удовольствие, что я видел на лице хорошенькой продавщицы, я сказал служанке, что дам ей шесть франков, если она принесет мне пакет в Малую Польшу. Я ушел, полный любви, но без всяких идей, потому что в первоначальном периоде брака мне виделось слишком много препятствий.
В следующее воскресенье сам Барет лично приносит мне мой пакет. Я даю ему шесть франков, с просьбой передать их его служанке; он отвечает, что не постыдится сохранить их для нее. Я оставляю его позавтракать свежими яйцами и маслом, спросив, почему он не пришел вместе с женой; он ответил, что она просила об этом, но он на это не осмелился, из опасения, что это доставит мне хлопоты. Я заверил его, что она мне доставит удовольствие, потому что я нахожу ее очаровательной.
– Вы слишком добры.
Проезжая мимо ее лавки в своей коляске, которая неслась как ветер, я послал ей воздушный поцелуй, не думая остановиться, потому что мне не нужны были чулки, и мне не хотелось смешиваться с фатами, которых я ежедневно видел у ее прилавка. В Пале-Рояль и в Тюильери говорили об этой новой хорошенькой торговке, и мне было занятно слышать, как о ней говорили, что она держит себя не слишком скромно и мужу следует ожидать обманов.
Восемь-десять дней спустя, увидев меня едущим со стороны Пон-Нёф, она помахала мне рукой. Я потянул за шнурок, и она попросила меня сойти… Ее муж сказал, после множества извинений, что хотел бы, чтобы я первым увидел новые панталоны многих расцветок, которые он только что получил. В то время в Париже на них была большая мода. Ни один светский человек не мог выйти утром не в таких панталонах. Было очень здорово видеть молодого человека одетым по моде, но при этом панталоны не должны были быть ни слишком длинными, ни слишком короткими, ни слишком широкими, ни в обтяжку. Я сказал ему прислать мне срочно три-четыре пары, и что я готов уплатить ему вперед. Он заверил, что я могу видеть все размеры, и он приглашает меня зайти и примерить, попросив свою жену мне помочь.
Момент был серьезный. Я захожу, она следует за мной, я прошу у нее извинения, что должен разуться, и она отвечает, что чувствует себя моим камердинером и охотно исполнит эти обязанности. Я соглашаюсь, без лишней скромности, быстро сняв ботинки и уступая ее давлению, когда она хочет спустить вниз мои штаны; Я вынужден отвернуться от нее из чувства приличия, оставшись в кальсонах. Она сама проделывает всю работу по надеванию мне панталон и замене их, когда они оказываются мне не впору, все время соблюдая приличия, в то время как я стараюсь их соблюсти с начала и до конца приятной процедуры. Она находит, что четыре пары мне подходят прекрасно, и я не смею возразить. Выдав ей шестнадцать луи, которые она запросила, я говорю, что был бы счастлив, если бы она взяла на себя труд отнести мне их, когда ей будет удобно. Она спешит спуститься, чтобы посоветоваться с мужем и сказать ему, что она хорошо поторговала. Увидев меня, он сказал, что принесет мои панталоны в следующее воскресенье, вместе со своей женушкой; я говорю, что он доставит мне удовольствие, и еще лучше, если он останется со мной обедать. Он отвечает, что, поскольку у него неотложное дело в два часа, он может обещать это только при условии, что я позволю ему уйти, заверив, что он вернется в пять часов за женой. Я ответил, что он волен поступить, как желает, поскольку мне надо будет уйти только в шесть. Так мы и договорились, к моему большому удовлетворению.
В воскресенье пара меня не обманула. Я сразу велел закрыть дверь и, стремясь к тому, что должно случиться после обеда, велел подавать в полдень. Превосходный стол и добрые вина порадовали супругов, и муж предложил своей жене возвратиться домой в одиночку, если, случайно, он припозднится вернуться за ней.
– В этом случае, – сказал я, – я отвезу ее домой сам, прокатив предварительно по бульварам.
Так и решили, что я привезу ее домой в сумерки, и он уехал, очень довольный, найдя у моего дома фиакр, который, как я ему сказал, оплачен на весь день. И вот я остаюсь наедине с этой куколкой, уверенный, что располагаю ею вплоть до вечера.
Едва он ушел, я сделал комплимент его жене по поводу доброты мужа, который ей достался.
– С человеком такого характера вы должны быть счастливы.
– Счастлива – это легко сказать; но чтобы быть такой, надо это чувствовать и наслаждаться спокойствием души. Мой муж настолько деликатного здоровья, что я должна обращаться с ним как с больным, и нести расходы, которые заставляют нас соблюдать очень суровую экономию. Мы пришли пешком, чтобы сберечь двадцать четыре су. Заработков от нашего дела, которых было бы достаточно, если бы мы не несли такие расходы, нам не хватает. Наших продаж недостаточно.
– Но у вас много постоянных покупателей; каждый раз, как я прохожу мимо, я вижу вашу лавку полной народа.
– Это не покупатели, а бездельники, дурные шутники, распутники, что досаждают мне своими пошлостями. У них нет ни су, и мы должны все время за ними приглядывать, опасаясь, что нас обокрадут. Если бы мы захотели продавать им в кредит, у нас не осталось бы ничего в нашей лавке. Для того, чтобы мне от них защититься, мне следует быть суровой, но мне это дается с трудом. Они неутомимы. Когда мой муж в лавке, я ухожу, но чаще всего его нет. Кроме того, нехватка денег ведет к тому, что у нас нет продаж, и мы должны платить каждую субботу нашим работникам. Мы будем вынуждены их уволить, потому что у нас есть векселя, срок платежа по которым истек. Мы должны уплатить в субботу 600 франков, а у нас только 200.
– Я удивлен вашими переживаниями в первые дни вашего брака. Ваш отец должен был все знать, и вы, несомненно, должны были принести мужу приданое.
– Мое приданое составляет 6000, из них 4000 получены деньгами. Муж использовал их, чтобы открыть лавку и оплатить расходы. У нас есть в товарах в три раза больше, чем мы должны, но когда нет продаж, капитал мертв.
– То, что вы мне сказали, огорчает, и если не наступит мир, я предвижу, что ваши беды будут нарастать и ваши нужды, может быть, стонут еще больше.
– Да, поскольку, когда мой муж почувствует себя лучше, может статься, что мы заведем детей.
– Как! Здоровье вашего мужа не позволяет ему исполнять супружеский долг?
– Разумеется, но я об этом не беспокоюсь.
– Это меня поражает. Мне кажется, что мужчина около вас не может быть больным, по крайней мере, если он не при смерти.
– Он не при смерти, но он не подает признаков жизни.
Эта острота заставила меня рассмеяться и поблагодарить ее объятиями, которые становились все нежнее, в то время, как она, нежная как овечка, не оказывала им никакого сопротивления. Я ободрил ее, сказав, что смогу помочь с векселем, который она должна оплатить в субботу, и отвел ее в будуар, где ничто не помешало нам прийти к полюбовному соглашению.
Она очаровала меня снисходительностью, с которой не ставила никаких препятствий ни моим ласкам, ни моему любопытству, но поразила меня, когда приняла вид, отличный от того, который должен стать предвестником великого наслаждения.
– Как могу я воспринимать, – воскликнул я, – этот отказ в момент, когда полагаю, что вижу в ваших глазах, что вы разделяете мои желания?
– Мои глаза вас не обманывают; но что скажет мой муж, если он найдет меня отличной от того, какой я была вчера?
Она видит мое удивление и побуждает меня увериться в сказанном.
– Могу ли я, – говорит она, – распорядиться плодом, который принадлежит Гименею, до того, как он хотя бы раз насладится им?
– Нет, мой ангел, нет, я тебя жалею, и я тебя обожаю, приди в мои объятия и ничего не бойся. Плод будем уважать, но это невероятно.
Мы провели три часа, предаваясь сотне тонких причуд, направленных на то, чтобы сделать наше пламя еще более пылким. Торжественное обещание принадлежать целиком мне, как только она будет с состоянии внушить Барету, что он обрел свое здоровье, – вот все, чего я мог пожелать. Совершив прогулку по бульварам, я проводил ее до дверей ее дома, вложив ей в руку сверток с двадцатью пятью луи.
Влюбленный в нее, как ни в одну другую женщину, как мне казалось, я прогуливался перед ее лавкой по три-четыре раза в день, вынуждая моего кучера заявлять, что частые развороты изматывают лошадей. Я любил эти воздушные поцелуи и внимание, с которым она подстерегала издалека мой проезд. Мы договорились, что она подаст мне сигнал войти, только когда ее муж окажется в состоянии сделать нас счастливыми и ничего не опасаться. Этот судьбоносный день не замедлил случиться. По данному ею знаку я остановился. Она сказала, стоя на стремянке, чтобы я ждал ее в дверях церкви Сен-Жермен л’Оксеруа. Любопытствуя о том, что она мне скажет, я пришел, и четверть часа спустя увидел ее, прикрытую капюшоном; она села в мою коляску и, сказав, что ей надо сделать несколько покупок, попросила отвезти ее во Дворец торговли. У меня были дела, но amare et sapere vix deo conceditur[44]. Я приказал кучеру отвезти меня на площадь Дофина. Там находилась моя биржа, но моя любовь требовала удовлетворения.
Во Дворце торговли она заходила во все лавки, куда ее приглашали хорошенькие хозяйки, называя принцессой. Мог ли я сопротивляться? Приходилось смотреть все украшения, побрякушки, подгонки, которые делали нам наскоро, со сладкими словами: «Взгляните на это, моя милая принцесса, взгляните сюда. Ах! Как хорошо это смотрится! Это для полу-богини! Можете заплатить послезавтра!» Барет смотрела на меня, говоря, что следует признать, что это было бы очень мило, если бы не было слишком дорого, и, добровольный простак, я должен был убеждать ее, что если ей что-то нравится, оно не может быть слишком дорого. Однако, пока она выбирала перчатки и митенки, вот, к чему привела меня роковая судьба и чему я подивился четыре года спустя. Цепь случайных обстоятельств не прерывается никогда.
Слева от себя я замечаю девочку двенадцати-тринадцати лет, с очень интересным лицом, стоящую вместе со старой некрасивой женщиной, отвергающей пару сережек со стразами, которые девочка держит в руках, любуясь их красотой; она кажется грустной оттого, что не может их купить. Я слышу, как она говорит старухе, что эти сережки сделают ее счастливой. Старуха вырывает их из ее рук и собирается уйти. Продавщица говорит малышке, что отдаст ей их по самой низкой цене, и та отвечает, что это неважно. Выходя из лавки, она делает глубокий реверанс моей принцессе Барет, которая, называя малышку юной королевой, говорит ей, что она красива как ангел, и целует ее. Она спрашивает у старухи, кто она, и та отвечает, что это м-ль де Буленвилье, ее племянница.
– И вы столь жестоки, – говорю я этой старой тетке, – что отказываете такой красивой племяннице в этих сережках, которые составят ее счастье? Не позволите ли мне подарить ей их?
Говоря так, я кладу сережки в руки девочки, которая, покраснев как огонь, смотрит на свою тетю. Та говорит ей нежным тоном взять их и поцеловать меня. Торговка говорит мне, что сережки стоят всего три луи, и вот дело становится комическим, потому что тетка в гневе говорит ей, что та может их отдать и за два. Торговка возражает, что называла ей цену три луи. Старуха, которая была права и не могла стерпеть, что наглая торговка так в открытую воспользовалась моей вежливостью, говорит малышке положить сережки обратно, и все бы ничего, но она все портит, говоря мне, что если я хочу подарить три луи ее племяннице, она пойдет и купит сережки, вдвое красивей этих, в другой лавке. Мне это безразлично, я кладу, не без улыбки, три луи перед девочкой, которая держит еще в руке и сережки, но торговка берет деньги, говоря, что дело сделано, что сережки принадлежат мадемуазель, а деньги – ей. Тетя называет ее плутовкой, торговка ту – сводницей, прохожие останавливаются, и, предвидя неприятности, я вежливо выпроваживаю тетю и племянницу, которая, обрадованная тем, что получила прекрасные сережки, не обращает внимания на то, что мне пришлось отдать за них на луи больше. Мы вернемся к этой девочке в свое время и в своем месте.
Я проводил к дверям церкви Барет, заставившую меня выкинуть таким образом двадцать луи, о которых ее бедный муж должен будет пожалеть больше, чем я. Дорогой она сказала, что сможет провести в Малой Польше пять-шесть дней, и что это сам муж попросит меня об этой любезности.
– Когда?
– Не позже чем завтра. Приходите купить несколько пар чулок, у меня будет мигрень, и мой муж с вами поговорит.
Я прихожу и, не вид ее, спрашиваю, где она. Он отвечает, что она в постели, больна, и ей необходимо поехать в деревню на несколько дней, подышать свежим воздухом. Я предлагаю ему апартаменты в Малой Польше, и он счастлив.
Я пойду спрошу ее согласия, – говорю я, – а пока упакуйте мне дюжину пар чулок.
Я поднимаюсь, застаю ее в постели, смеющуюся, несмотря на заявленную мигрень. Я говорю ей, что дело сделано, и что она узнает об этом через минуту. Поднимается ее муж с моими чулками и говорит, что я был настолько добр, что поместил ее на несколько дней у себя; она изъявляет благодарность, она уверена, что восстановит здоровье, подышав свежим воздухом, и я заранее прошу у нее прощения, если мои дела помешают мне составлять ей компанию, но что ей ничто не помешает, и что ее муж сможет приходить каждый день ужинать вместе с нами и уезжать по утрам, так рано, как ему вздумается. После многих благодарностей Барет заключает, что пригласит свою сестру на все время, пока она остается у меня. Я уехал, сказав, что я распоряжусь в тот же день, и их обслужат сразу, как они приедут, буду ли я дома или нет. Через день, придя к себе в полночь, я узнаю от своей кухарки, что супруги, хорошо поужинав, легли спать. Я сообщил ей, что я обедаю и ужинаю каждый день, и что меня нет дома ни для кого.
На следующий день, при моем пробуждении, я узнал, что Барет уехал на рассвете, что он сказал, что вернется только к ужину, и что его жена еще спит… Я направляюсь сделать ей первый визит и, сто раз поздравив друг друга с тем, что мы полностью свободны в обладании один другим, мы позавтракали, потом я запер дверь, и мы предались Амуру.
Удивленный, что нашел ее такой же, как последний раз, когда она была в моих объятиях, я сказал ей, что надеялся,… но она не дала вне закончить мое замечание. Она сказала, что ее муж полагает, что сделал то, что он не сделал, и что мы должны это дело довести до конца, так, чтобы не было сомнений в будущем. Пришлось действительно сделать ему эту важную услугу. Амур, таким образом, стал посланником в этом первом жертвоприношении, которое Баррет принесла Гименею, и я никогда не видел более окровавленного жертвенника. Я отметил в юном создании самое большое удовлетворение, происходящее от ощущения своей храбрости и уверенности в подлинности страсти, что она породила в моей душе. Я поклялся ей сотню раз в вечном постоянстве, и она наполнила меня радостью, заверив, что испытывает то же самое, и сверх того. Мы сходили с постели только, чтобы совершить свой туалет, и мы обедали, счастливые, друг напротив друга, уверенные, что желания наши возобновятся для того, чтобы пригасить их новыми наслаждениями.
– Как же ты добилась, – спросил я ее на десерт, – полная огня Венеры, как я теперь вижу, сохраниться от уз Гименея вплоть до семнадцати лет?
– Я никогда не любила, вот и все. Меня любили, но добивались напрасно. Мой отец, должно быть, полагал иначе, когда я попросила, месяц назад, выдать меня замуж поскорее.
– Почему же ты так торопилась?
– Потому что я знала, что герцог д’Эльбёф по своем возвращении из деревни заставит меня стать женой человека, которого я ненавижу, и который добивается меня изо всех сил.
– Кто же этот человек, что внушает тебе такой ужас?
– Это один из его любовников. Подлая бесчестная свинья. Монстр! Он спит со своим хозяином, который, в возрасте восьмидесяти четырех лет, желает быть женщиной и может жить только с подобным супругом.
– Красив ли он?
– Все так говорят, но я нахожу его ужасным.
Очаровательная Барет провела у меня восемь дней, таких же счастливых, как и первый. Я мало видел женщин таких же красивых, как она, и никогда – таких белокожих. Ее маленькие груди, такой же живот, округлые бедра, высящиеся по бокам, образуя дуги, которые завершались наверху ляжками, которых не мог бы вычертить ни один геометр, предоставляли моим ненасытным глазам красоты, которым никакой философ не смог бы дать определение. Я не переставал ею любоваться, пока невозможность удовлетворить желания, которые она мне внушала, не делала меня несчастным. Фриз алтаря, где мое пламя вздымалось до небес, был образован лишь маленькими кудрями самого тонкого золота, светлее которого невозможно было вообразить. Напрасно мои пальцы их трогали, чтобы растрепать, локоны сопротивлялись, сохраняя свою форму. Барет участвовала в моем упоении и моих порывах с самым глубоким спокойствием, погружаясь в царство Венеры, только когда чувствовала все то, что составляло ее очаровательную особенность в этом порыве. Тогда она становилась как мертвая, и проявляла свои чувства, лишь чтобы заверить меня, что жива. Два или три дня спустя после моего прихода к ней я дал ей два платежных билета Мезьер по 5 тыс. фр. каждый. Ее муж оказался свободен от задолженностей и остался в состоянии продолжать свою деятельность, сохранив работников, и ждать окончания войны. В начале ноября я продал десять акций моей фабрики сьёрру Гарнье с улицы Мейл за 60 тыс. фр., передав ему третью часть окрашенных тканей, что находились в моем магазине, и приняв от него контролера, оплачиваемого на паях. Через три дня после подписания этого контракта я получил деньги, но врач, стороживший магазин, опустошил его и скрылся; кража необъяснимая, особенно без согласия с художником. Чтобы сделать этот удар более для меня чувствительным, Гарнье предъявил мне иск на 50 тыс. фр. Я ответил, что ничего ему не должен, потому что его контролер уже был назначен; несчастье, таким образом, должно было распределиться пропорционально на всех пайщиков. Мне посоветовали судиться. Гарнье начал с того, что объявил контракт ничтожным, вчинив мне обвинение в мошенничестве. Гарантии от врача больше не существовало. Она была от торговца, который только что обанкротился. Гарнье наложил секвестр на все, что было в здании мануфактуры, и у «короля масла» – моих лошадей и мои коляски, что были в Малой Польше. При таких неприятностях я уволил моих рабочих и всех слуг, что у меня были на моей мануфактуре. Один только художник оставался в доме, не имея возможности ни на что жаловаться, потому что должен был получать свою долю платежей с продажи тканей. Мой прокурор был человек порядочный, но мой адвокат, который заверял меня все время, что мой процесс беспроигрышный, оказался двуличным. В течение процесса Гарнье направил мне бессовестный акт, предписывающий мне платить, который я передал адвокату; тот заверил меня, что подаст в тот же день апелляцию, и ничего не сделал, присвоив все средства, что я потратил, чтобы вернуть свое имущество. Мне вчинили два других иска и, не предупредив, объявили арест с доставкой в суд. Меня арестовали в восемь часов утра, на улице Сен-Дени, в моем собственном экипаже, начальник сбиров уселся рядом со мной, а другой сбир, сев с кучером, заставил везти меня в Форт Епископа.
Когда я туда приехал, секретарь суда сказал, что, заплатив 50 тыс. су или заручившись поручительством, я могу вернуться домой, но, не имея ни нужной суммы, ни готового поручителя, я остался в тюрьме. Когда я сказал секретарю, что у меня нет ни гроша, он ответил, что так говорят очень часто, но этому трудно поверить. Я попросил в комнату, куда меня поместили, все необходимое для письма, и известил моих адвоката и прокурора, а затем всех моих друзей, начиная с м-м д’Юрфэ и кончая моим братом, который только что женился. Прокурор пришел сразу, но адвокат только отписался, заверив, что подал апелляцию, и что мой арест совершенно незаконен, я смогу заставить дорого заплатить за это противную сторону, потерпев, однако, несколько дней и предоставив ему возможность действовать. Манон Баллетти отправила мне через своего брата свои серьги, м-м де Рюмэн направила ко мне своего адвоката, известного своей честностью, написав, что если мне нужны 500 луи, она сможет отправить их мне завтра; мой брат мне не ответил. М-м д’Юрфэ мне написала, что ждет меня к обеду. Я решил, что она сошла с ума. К одиннадцати часам моя комната наполнилась народом. Барет, который узнал о моем заточении, пришел в слезах, предлагая мне свою лавку. Сказали, что прибыла некая дама в фиакре, и, не видя ее появления, я спросил, почему ее не пускают подняться. Мне ответили, что она уехала, переговорив с секретарем. По описанию, которое мне дали, я догадался, что это была м-м д’Юрфэ.
Я был очень недоволен, оказавшись там, потому что это должно было меня дискредитировать по всему Парижу, не говоря о том, что дискомфорт тюрьмы меня привел в отчаяние. Имея в кармане 30 тысяч и безделушек на 60 тысяч, я мог бы внести залог и сразу выйти, но не мог на это решиться, вопреки адвокату м-м дю Рюмэн, который хотел убедить меня выйти каким угодно образом. Мне нужно было, согласно его утверждению, внести лишь половину суммы, которую депонируют в канцелярии до решения об апелляции, которое, он гарантировал, будет благоприятным.
В тот момент, когда мы обсуждали материалы, консьерж тюрьмы пришел сказать, что я свободен и что дама меня ждет в дверях в своем экипаже. Я отправил Ледюка – так звали моего камердинера, чтобы узнать, кто эта дама, и когда я узнал, что это м-м д’Юрфэ, я раскланялся со всем народом. Это было в полдень. Я провел там четыре часа, очень неприятных.
М-м д’Юрфэ приняла меня в своей берлине с большим достоинством. Президент «бархатная шапочка»[45], бывший вместе с ней, попросил у меня прощения за свою нацию и свою страну, где иностранцы часто подвергаются подобным неприятностям. Я поблагодарил мадам в немногих словах, сказав, что с удовольствием вижу, что стал ее должником, но что это Гарнье выиграет от ее благородного великодушия. Она ответила с улыбкой, что он им так легко не воспользуется, и что мы поговорим об этом за обедом. Она посоветовала мне сразу пойти прогуляться по Пале-Рояль и Тюильери, чтобы убедить публику, что слухи о моем аресте ошибочны. Я последовал ее совету, сказав, что она увидит меня в два часа.
Покрасовавшись на двух больших променадах, где, я видел, делая вид, что не обращают внимания, все те, кто меня знает, были удивлены при виде меня, я отправился возвращать серьги моей дорогой Манон, которая при моем появлении издала громкий крик. Поблагодарив ее и заверив все семейство, что я был арестован в результате предательства, за которое заставлю дорого заплатить тех, кто его замыслил, я оставил ее, пообещав с ней поужинать, и отправился обедать с м-м д’Юрфэ, которая сразу меня рассмешила, поклявшись, что ее Гений известил ее, что я специально дал себя арестовать, чтобы заставить о себе говорить, из соображений, известных только мне. Она сказала мне, что, узнав у секретаря канцелярии Форта Епископа, о чем идет речь, она вернулась к себе, чтобы взять свидетельства о ввозных пошлинах, которые она получала в Отель-де-Виль, которые покрывали сумму в 100 тыс. фр., и которые она депонировала, но что Гарнье ей еще поплатится, в случае, если я не буду в состоянии добиться удовлетворения.
Она сказала, что я должен начать с того, чтобы атаковать криминального адвоката, поскольку очевидно, что тот не зафиксировал мою апелляцию. Я покинул ее, заверив, что в скором времени она получит обратно свой залог.
Показавшись в фойе двух театров, я отправился ужинать с Манон Баллетти, которая была обрадована случаем доказать мне свою привязанность. Я наполнил ее радостью, когда сказал, что бросаю свою мануфактуру, потому что думала, что мои работницы были причиной того, что я не мог решиться жениться на ней.
Я провел весь следующий день у м-м д’Юрфэ. Я чувствовал все, что я ей должен, но она этого не ощущала; ей наоборот казалось, что она никогда не сможет в достаточной мере выразить мне свою благодарность за оракулы, которые внушили ей уверенность, что она никогда не станет делать ошибок. Несмотря на весь свой ум, она их делала. С огорчением должен признать, что не мог ее разубедить, и со стыдом, – когда думаю, что я ее обманывал, и что без этого обмана она не испытывала бы ко мне того уважения, которое питала.
Мое тюремное заключение, хотя и на несколько часов, отвратило меня от Парижа и внушило мне непреодолимую ненависть к любым судебным процессам, которую я сохранил до сих пор. Я оказался втянут в два процесса, один – против Гарнье, другой – против адвоката. Печаль снедала мне душу каждый раз, когда я должен был ходатайствовать в суде, тратить мои деньги на адвокатов и терять время, которое, казалось мне, стоило тратить лишь на удовольствия. В этой тягостной ситуации я понял необходимость добиться для себя солидного положения, чтобы наслаждаться прочным миром. Я решил бросить все, предпринять снова путешествие в Голландию, поправить свое финансовое положение и, возвратившись в Париж, разместить в пожизненную ренту на два лица все средства, что я смогу собрать. Два лица должны были быть мое и моей жены, и этой женой должна была стать Манон Баллетти. Я сообщил ей мой проект, и ей не терпелось увидеть его в исполнении.
Я начал с того, что отказался от своего дома в Малой Польше, который должен был оставаться в моем распоряжении только до конца года, и извлек 80 тыс. фр. из Эколь Милитэр, которые служили залогом за бюро, которое было у меня на улице Сен-Дени. Таким образом, я отказался от своей странной должности держателя лотереи. Я подарил свое бюро моему служащему, который женился, и таким образом помог ему стать на ноги. Поручителем за него стал, как всегда, друг его жены, но бедный человек умер два года спустя.
Не желая впутывать м-м д’Юрфэ в тяготы процесса против Гарнье, я направился в Версаль, чтобы просить аббата де Лавиль, моего большого друга, стать посредником в соглашении. Этот аббат, осознав свою вину, взялся за дело и написал мне несколько дней спустя, чтобы я пошел поговорить с Гарнье лично, заверив, что я найду его расположенным прислушаться к голосу разума. Тот был в Руэле, и я направился туда. Это был дом для отдыха в четырех лье от Парижа, который стоил ему 400 тыс. фр. Этот человек, который был поваром г-на д’Аржансон, разбогател на поставках продовольствия в предпоследнюю войну. Он жил в роскоши, но, имея, к своему огорчению, возраст семьдесят лет и все еще любя женщин, не ощущал себя счастливым. Я нашел его с тремя юными девицами, сестрами, красивыми и хорошей фамилии, как я узнал впоследствии. Они были бедны, и он их содержал. За столом я увидел в них тон благородный и простой, в отличие от их унизительного состояния, которое в чувствительных сестрах порождала бедность. Нужда заставляла их кокетничать с этим старым развратным мальчиком, с которым они, должно быть, должны были терпеть неприятные тет-а-тет. После обеда он заснул, предоставив мне заботу развлекать девиц, и к его пробуждению мы достигли полного согласия в нашем общении.
Когда он уразумел, что я уезжаю, чтобы, быть может, никогда больше не возвращаться в Париж, и что он не может мне помешать, он увидел, что маркиза д’Юрфе замотает его по судам до такой степени, что дело будет тянуться столько, сколько она хочет, и, быть может, она выиграет процесс. Мне пришлось переночевать у него. На утро, в качестве своего последнего слова, он ответил, что хочет 25 тысяч франков, или будет судиться до смерти. Я ответил, что он получит сумму у нотариуса м-м д’Юрфе после того, как освободит залог у секретаря Форта Епископа.
М-м д’Юрфе согласилась, что я довел дело с Гарнье до благоприятного исхода, только когда я сказал ей, что существует запрет мне покидать Париж, прежде чем я не урегулирую все дела таким образом, что не получится положения, что я уехал, чтобы не платить долги.
Я отправился взять отпуск у г-на герцога де Шуазейль, который сказал, что напишет г-ну д’Афири, чтобы тот содействовал мне во всех моих предприятиях, если я смогу устроить заем под 5 %, либо от Генеральных Штатов, либо у частных компаний. Он сказал, что я могу заверить всех, что к зиме будет заключен мир, и что я также должен быть уверен, что он никому не позволит ущемлять меня в моих правах по моем возвращении во Францию. Он говорил мне много другого, и он знал, что мир не установится; однако у меня не было никакого проекта по этому поводу, и я был обижен тем, что передал г-ну де Булонь мой проект по поводу завещаний, по которому новый контролер Силует притворился, что не находит ему применения.
Я продал своих лошадей, коляски и всю мебель и вернул залог моему брату, который залез в долги с портным, но был уверен, что в скором времени будет в состоянии оплатить свои долги, имея в заделе несколько неоконченных полотен, которых те, что их заказали, ждали с нетерпением.
Я оставил Манон в слезах, но был уверен, что сделаю ее счастливой по моем возвращении в Париж.
Я уехал, имея 100 тыс. фр. в обменных векселях и столько же в драгоценностях, один, в своей почтовой коляске с Ледюком на козлах, который любил мчаться во весь опор. Это был испанец, восемнадцати лет, которого я любил за то, что никто не умел причесывать лучше него. Швейцарец-лакей ехал верхом на лошади, служа мне курьером. Это было первого декабря 1759 года. Я взял с собой в коляску l'Esprit Гельвеция, который до той поры у меня не было времени прочесть. Прочитав, я еще больше удивился тому шуму, который был поднят парламентом, который его осудил и сделал все возможное, чтобы навредить автору, очень приятному человеку, в котором было намного больше ума, чем в его книге. Я не нашел ничего нового ни в историческом разделе, относительно национальных нравов, где нашел лишь сказки, ни в области рассуждений применительно к морали. Это были вещи говоренные и переговоренные, и Блез Паскаль сказал намного больше, хотя и с большей осторожностью. Если Гельвеций хочет обосноваться во Франции, ему придется от этого отречься. Он предпочтет сладкую жизнь, которую он там ведет, чести и своей собственной системе, то есть своему собственному уму. Его жена, с душой, гораздо более высокой, чем у мужа, склонилась к тому, чтобы распродать все, что у них было, и обосноваться в Голландии, чем подчиняться позорной палинодии[46]; но муж счел своим долгом все предпочесть изгнанию. Он бы, возможно, последовал совету своей жены, если бы смог додуматься, что его отречение превратит его книгу в буффонаду. Но сколько сильных умов не ожидали, что он станет сам себе противоречить, чтобы опровергнуть свою систему. Как же так? Потому что человек во всем, что он делает, всегда раб своего собственного интереса, откуда следует, что всякое чувство благодарности – редкость, и никакое действие не может быть сочтено ни достойным, ни недостойным! Жалкая система!
Можно было бы показать Гельвецию, что положение, согласно которому во всем, что мы делаем, главной движущей силой является наша собственная выгода, и с ней мы сообразуем все остальное, – это ошибка. Гельвеций отметает, таким образом, добродетель, и это странно. Он сам был весьма порядочен. Возможно ли, что он не осознавал себя человеком благородным? Было бы забавно, если бы то, что заставляло его публиковать свой труд, было бы чувством порядочности. Прав ли он был в таком случае, выставляя себя в неприглядном свете, чтобы избежать греха гордыни? Скромность хороша лишь когда она естественна; если она наигранная или выставляется напоказ из соображений воспитания, она – лишь лицемерие. Я не знал человека большей натуральной скромности, чем знаменитый Даламбер.
Я остановился на два дня в Брюсселе, остановившись случайно в «Императрице», где находились мисс Кс. К.В. и Фарсетти. Я сделал вид, что этого не знаю, и объехал Мордик стороной. В Гааге я поселился в «Принце Оранском». Хозяин убедил меня есть за общим столом, когда рассказал, что за персоны там столуются. Он сказал, что это старшие офицеры ганноверской армии, английские дамы и принц Пикколомини с супругой. Я решил спуститься туда к ужину.
Незнакомый для всех, и храня молчание, я самым внимательным образом изучал лицо, манеры и наряд предполагаемой итальянской принцессы, довольно красивой, и еще внимательней – ее мужа, который мне показался знакомым. За столом я узнал, что знаменитый С.-Жермен поселился в той же гостинице.
Когда я уже собрался ложиться спать, появился вдруг принц Пикколомини, который вошел в мою комнату и обнял меня, как старый знакомый.
– Единственный взгляд, который вы бросили на меня, показал мне, что вы меня сразу узнали. Я тоже сразу вас узнал, несмотря на шестнадцать лет, что протекли с нашей последней встречи в Виченце. Завтра можете всем сказать, что мы узнали друг друга; что я не принц, а граф Пикколомини, и вот мой паспорт от короля Неаполя, который прошу вас прочесть.
Он не дал мне сказать ни слова, и я не мог его прервать. Я читаю паспорт и вижу: Руджиеро ди Рокко, граф Пикколомини. Тут я вспоминаю Рокко Руджиери, который на самом деле был оружейным мастером в городе Винченца, смотрю на него и узнаю. Я поздравляю его с тем, что он больше этим не занимается. Он отвечает, что, поскольку его отец, еще живой, не давал ему, на что жить, он, чтобы не умереть с голоду, занялся этим ремеслом, пренебрегая своим именем и знатностью рода. После смерти отца он отправился вступить во владение своим имуществом и женился в Риме на прекрасной даме, которую я видел. Он закончил, пригласив меня прийти после обеда в его комнату, где я найду прекрасную компанию и банк фараон, который он держит сам. Он сказал мне без обиняков, что если я хочу, он возьмет меня в долю в половину. И мне это будет выгодно. Я пообещал нанести ему визит.
Сделав визит к еврею Боаз и вежливо уклонившись от предложенного им для меня жилища, я направился приветствовать графа д’Аффри, который после смерти м-м принцессы Оранской, правительницы Нидерландов, исполнял обязанности посла. Он встретил меня очень хорошо, сказав, что если я вернулся туда, надеясь исполнить какое-то дело в пользу Франции, я напрасно теряю время. Он сказал, что операция генерального контролера Силуэт настолько дискредитировала нацию, что ожидают всеобщего банкротства. Это его приводит в отчаяние. Поговаривают, что платежи отложены только на год, но что это неважно. Все в отчаянии.
Пожаловавшись мне подобным образом, он спросил, знаю ли я некоего графа де С.-Жермен, недавно прибывшего в Гаагу, которого он никогда не видел, и который хвалится, что имеет поручение от короля получить заем на сто миллионов.
– Когда ко мне приходят, – сказал он, – чтобы получить информацию об этом человеке, я вынужден отвечать, что я его не знаю, потому что боюсь быть скомпрометированным. Вы понимаете, что мой ответ может лишь ослабить его позиции, но это его оплошность. Почему он не принес мне письма от герцога де Шуазейль или от маркизы? Я полагаю, что этот человек обманщик, но через восемь-десять дней у меня будут сведения.
Я сказал ему все, что известно об этом человеке, странном и необычном, и он был поражен, узнав, что король выделил ему апартаменты в Шамборе, но когда я сказал, что у него есть секрет изготовления алмазов, он рассмеялся и сказал мне, что теперь не сомневается, что тот может получить заем в сто миллионов. Он пригласил меня обедать назавтра.
Едва вернувшись в гостиницу, я велел доложить о себе графу де С.-Жермен, у которого в прихожей находились два гайдука. Он встретил меня, сказав, что я его опередил.
– Я понимаю, что вы прибыли сюда, чтобы проделать кое-что для нашего двора; но вам это будет трудно, поскольку Биржа скандализована операцией, которую проделал только что этот безумец де Силуэт. Это однако не помешает мне добыть сто миллионов; я дал об этом слово Луи XV, которого могу называть моим другом, и в три-четыре недели мое дело будет выполнено.
– Г-н д’Аффри вам поможет.
– Мне он не нужен. Я даже не стану с ним видеться, потому что он может попытаться мне помочь.
– Вы, полагаю, направляетесь ко двору, и герцог де Брунсвик может оказаться вам полезен.
– Мне нечего с ним делать. Я не нуждаюсь в знакомстве с ним. Мне надо направиться в Амстердам. Мне достаточно моих возможностей. Я люблю короля Франции, потому что во всем королевстве нет более благородного человека, чем он.
– Приходите обедать у табльдота, там, внизу, там вы найдете людей вполне комильфо.
– Вы знаете, что я не ем; и к тому же, я не выхожу к столу, где могу встретить незнакомцев.
– Итак, прощайте, господин граф, мы увидимся еще в Амстердаме.
Сноски
1
2 ноября – прим. перев.
(обратно)2
ни кожи ни рожи
(обратно)3
король Баварии – прим. перев.
(обратно)4
Помпадур – прим. перев.
(обратно)5
греч. – бог молчания – прим. перев.
(обратно)6
правило ограничения рисков – прим. перев.
(обратно)7
терн, кадерна, квин – термины из «Генуэзского лото», определяющие количества единовременных ставок – прим. перев.
(обратно)8
учреждение, ведающее развлечениями – прим. перев.
(обратно)9
экипаж – двуколка прим. прев.
(обратно)10
городская закладная касса
(обратно)11
азартная игра
(обратно)12
в азартных игоах – выигрыш сразу всех карт – прим. перев.
(обратно)13
карточная игра
(обратно)14
Горе побежденным (из Тита Ливия)
(обратно)15
К…не желает сложностей
(обратно)16
то же, что Философский Камень – прим. перев.
(обратно)17
другими словами – Панацея – прим. перев.
(обратно)18
то же, что и криптография
(обратно)19
легендарная нимфа Эгерия давала советы царю Нуме Помпилию – прим. перев.
(обратно)20
на языке алхимиков – шесть малоценных металлов
(обратно)21
французский каббалист еврейского происхождения – прим. перев.
(обратно)22
сплав золота с серебром
(обратно)23
превращение в божество – прим. перев.
(обратно)24
Ханука – прим. перев.
(обратно)25
голл. монета – прим. перев.
(обратно)26
Вот, наконец, явилась ты, несчастная!
(обратно)27
крестец-? – прим. перев.
(обратно)28
голл. монета
(обратно)29
что-то вроде танцзала – прим. перев.
(обратно)30
за посредничество – пр. перев.
(обратно)31
Бирма – прим. перев.
(обратно)32
Согласного фортуна вдет, несогласного тащит. – Из Сенеки
(обратно)33
загородный район Парижа – прим. перев.
(обратно)34
Жемчужина
(обратно)35
душа за душу – книга Левит
(обратно)36
Звезды влияют, но не заставляют (то же Кеплер: Astra inclinant, non nécessitant)
(обратно)37
malus pudor – дурная стыдливость – Гораций
(обратно)38
Фомино воскресенье – прим. перев.
(обратно)39
Ценим и благорасположен
(обратно)40
Великий боже! Все поменялось. Юпитерчик соглашается с чужим мнением, Венера занимает место в Совете, Плутус стал кокеткой, Меркурий облачается в кирасу, А Марс – в рясу. (обратно)41
Вдали от дел – Гораций, Эпистолы
(обратно)42
При прочих равных – Гораций, Эпистолы
(обратно)43
в качестве судьи
(обратно)44
быть влюбленным и мудрым – это значит примириться с богом
(обратно)45
один из восьми президентов парламента по разным делам
(обратно)46
отказу от своих убеждений
(обратно)
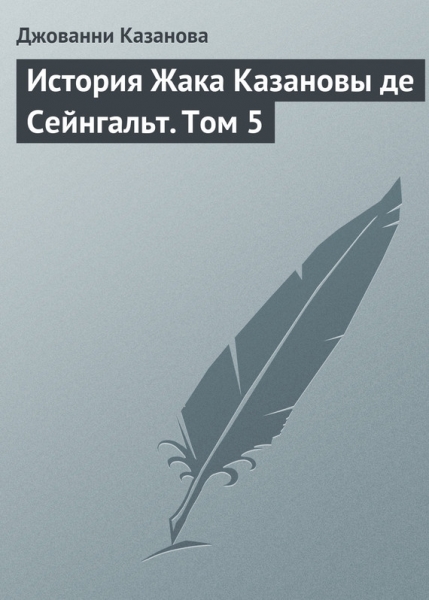

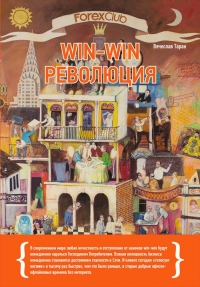




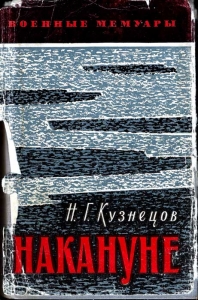

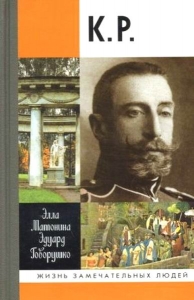

Комментарии к книге «История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 5», Джакомо Казанова
Всего 0 комментариев