Василий Ливанов Мой отец – Борис Ливанов
© ООО «ТД Алгоритм», 2015
Предисловие
Ливанов родился в 1904 году в Москве в семье актера. Театральное окружение, частые посещения спектаклей не могли не сказаться на его детских склонностях и интересах, которые с годами становились все осознаннее и определеннее.
Учась еще в реальном училище, он часто бывал на спектаклях, участвовал в школьных постановках. Видя это, родители мечтали только об одном: чтобы их сын, если уж и ему суждено стать актером, был бы артистом Художественного театра.
Великая Октябрьская социалистическая революция и годы гражданской войны не могли пройти мимо даже такого молодого поколения, к которому принадлежал Ливанов. Отошли в прошлое и его детские театральные увлечения, на смену им явилось горячее стремление принять непосредственное участие в тех событиях, которые происходили в стране. Шестнадцатилетним юношей вместе с двумя своими товарищами Ливанов отправился на фронт. Но добровольцев во время их пути в действующую армию обогнал приказ о демобилизации несовершеннолетних, и всех троих отправили домой, в Москву.
На обратном пути Ливанову удалось увидеть один красноармейский спектакль, который произвел на него сильное впечатление. Шла пьеса Писемского. Спектакль горячо принимался зрительным залом, и, видя это, Ливанов убеждался, что искусство необходимо народу не только в мирное время, но и в грозные годы войны. Поэтому домой он возвращался с твердым намерением стать актером.
Вернувшись в Москву и продолжая занятия в трудовой школе, Ливанов следит за всеми театральными событиями. Каждый вечер он бывает в театре, на симфоническом концерте или художественной выставке, посещает обсуждения спектаклей и диспуты об искусстве. Очень часто он не соглашается с выступающими и спорящими, по-иному иногда представляются ему и сцены из виденных постановок. И дома, давая выход своей фантазии и изобретательности, он по ночам рисует эскизы декораций и костюмов, увлеченно клеит макеты.
Сначала Ливанов поступает в школу театра бывш. Корша. Учащиеся этой школы имели возможность свободно посещать спектакли театра Корша, и Ливанов старался не упускать возможности видеть лучших мастеров этого театра. Там играли тогда такие актеры, как: Радин, Петровский, Климов, Шатрова, Топорков. Но спектакли в целом часто оставляли молодежь неудовлетворенной. Ливанова гораздо больше привлекал к себе Художественный театр, глубокое искусство его прославленных мастеров. Он по многу раз подряд смотрит лучшие спектакли МХАТ и мечтает стать артистом этого театра. Поэтому когда открылась Четвертая студия МХАТ, Ливанов, не задумываясь, пошел сдавать экзамены.
Занятия в студии увлекали Ливанова, и, как человек достигший поставленной перед собой цели, он отдавал им все свои силы, всю свою любовь к театру.
Четвертая студия возникла и начала свою работу во время заграничных гастролей Художественного театра 1922–1924 годов, поэтому такого непосредственного руководства, такой непосредственной опеки со стороны ведущих мастеров МХАТ, которые имели, например, Первая и Вторая студии, у нее не было.
Правда, на просмотрах спектаклей студии обычно бывал Вл. И. Немирович-Данченко. Он внимательно присматривался к молодым актерам – наиболее способных решено было взять в Художественный театр.
Из книги Е. Ивановой «Борис Николаевич Ливанов», 1955 г.
Борис Николаевич Ливанов О создателях Московского художественного театра
Константин Сергеевич и Владимир Иванович
Наша обязанность – помочь молодым, не знавшим ни Константина Сергеевича, ни Владимира Ивановича, отчетливее представить себе их внутренний и внешний облик, их характеры, их жизнь, их спектакли, на которых мы воспитывались и которые являются гордостью национального русского искусства.
Взыскательная требовательность к себе и святое отношение к театру, понимание его высокого назначения – этому нас учили Станиславский и Немирович-Данченко. Взыскательность, вечная неудовлетворенность собой не делают жизнь очень веселой, потому что успехи не становятся окончательными, а огорчения – мучительно длительны. Но и огорчения, к счастью для художника, обогащают его знаниями, открывают новые пути и возможности в искусстве. Мы должны передать последующим поколениям эту взыскательность, эту веру в русский театр, ибо, если в артисте, режиссере не живет с годами возрастающая требовательность к себе и к искусству, он приходит к успокоенности, к консерватизму, к ремесленной технике, или к увлечению формой, к поискам внешней занимательности…
Я начал работать на театре в годы гражданской войны. Сначала ученик А. П. Петровского, затем актер бывшей Четвертой студии МХАТ, где я работал под руководством Н. В. Демидова, посещая одновременно и театральную школу при МХАТ, которой руководил тот же Н. В. Демидов. И, наконец, работа в составе коллектива МХАТ.
Выбрать иную, не театральную профессию мне было бы трудно. Я вырос в актерской семье. Сызмальства любимым занятием была игра в театр. Моя мать, гуляя со мной, часто проходила мимо Художественного театра и, показывая на него, говорила:
– Если станешь артистом, то обязательно таким, чтобы приняли в «художественники».
Правда, я мечтал стать еще и моряком – уж очень нравилась мне морская форма. Позже это желание сбылось: на сцене и в кино я был моряком буквально во всех чинах – от матроса до командующего флотом. И был польщен, когда, «дослужившись» до звания фельдмаршала, получил награду – офицерский кортик.
В МХАТ я пришел после театральной школы в 1924 году. Пришел, гордый тем, что меня приглашают сразу на роль Чацкого. Когда меня принимали, К. С. Станиславский был за границей. После его возвращения вновь принятых представляли ему. Подошла моя очередь. Константин Сергеевич посмотрел и сказал:
– Вы очень красивый молодой человек.
Я промолчал, но в душе был с ним, конечно, абсолютно согласен. Станиславский усмехнулся и продолжал:
– Знаете что? Подождите с «Горе от ума». У вас получится не Чацкий, а этакий герой-любовник в роли Чацкого. Сыграйте сперва что-нибудь острохарактерное.
Не будь этого разговора, артиста из меня бы не вышло. Нет ничего пошлее, когда актер рассчитывает в основном на свои внешние данные. Да и само понятие «характерность» включает в себя отнюдь не умение приклеивать нос из гуммоза. Характерность – это, прежде всего глубокое проникновение в душевный мир персонажа и органическое воплощение его индивидуальных качеств во внешнем облике.
Я начал сценическую жизнь в Художественном театре в то время, как я уже сказал, когда труппа во главе со Станиславским находилась в Америке. Экзаменовался не в экзаменационную пору, а отдельно, сначала группой актеров и режиссеров, оставшихся в Москве, а позже, по их аттестации – Немировичем-Данченко.
Никогда не забуду своей первой встречи с Владимиром Ивановичем. Нет надобности говорить, как я волновался. Было это в помещении Художественного театра, в репетиционном зале Комической оперы (К-О., как его называли).
В ожидании Владимира Ивановича я стоял один минут двадцать, пытаясь успокоиться, и отчетливо представлял себе свое жалкое положение. Ведь сколько Владимир Иванович видел на своем веку таких актеров, каким я только хотел быть, да и то лишь в своих далеких мечтах.
Помню, его секретарь, Ольга Сергеевна Бокшанская, сообщила мне, что Владимир Иванович выехал из дому. В эту минуту я совершенно неожиданно обнаружил, что очень хочу, чтобы он и вовсе не приезжал: я ощутил, что окончательно растратил свои силы на волнение. Единственная надежда, думал я, может быть, поддержат физические данные… А в общем, ай-ай-ай…
В эту минуту раскрылась дверь. Вошел Владимир Иванович. Поздоровался. Крепко пожал мне руку. Помолчал. Подумал. И сказал, что как раз именно сейчас занимается пополнением труппы Художественного театра, по крайней мере, на будущие сорок лет его деятельности, что театру нужны молодые актеры, но такие, которые рядом с прославленными артистами могли бы принять участие в жизни театра. И если он убедится, что я являю именно такой случай, он подумает о ролях для меня, помечтает о них вместе со мной. Как же мне стало весело после такого вступления!
Мне было девятнадцать лет. И меня, скажу по секрету, звал в свой театр Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Он говорил: «Я вас и пробовать не буду, приходите ко мне прямо на репетицию в театр Революции, и будем играть центральные роли». Но душа моя рвалась в Художественный театр. И это немного придавало мне силы. Но состояние мое все же было растерянным, и, стараясь успокоиться, я стал рассматривать задумавшегося и даже, как бы, не замечавшего моего присутствия Владимира Ивановича.
Мужественная, крепкая фигура, с хорошо посаженной головой, сильной грудью, прямой спиной. Великолепный серый костюм, отличная серая рубашка, красиво подстриженная борода. И такой покой, такая величественная простота, и такая серьезность, которые покоряли сразу же. В нем не было никакой театральной эффектности, псевдоимпозантности, никакой заботы о «художественном облике». Ничего такого, что привычно характеризует внешность театрального деятеля, выдающегося режиссера…
Владимир Иванович выглядел так, как мог бы выглядеть доктор, профессор, министр, философ, ученый. Я задумался. И вдруг почувствовал на себе взгляд Владимира Ивановича. Действительно, серые пристальные глаза с несколько тяжелыми веками были устремлены на меня. От неловкости я перевел взгляд на галстук Владимира Ивановича. Галстук черный, в нем заколота красивая булавка.
– Вы смотрите на мой галстук. Я ношу его в знак траура по моему другу Южину.
И Владимир Иванович прошелся по комнате, как бы отдыхая в одиночестве. В этот момент я ощутил ясно, что меня здесь нет. Но это не было пренебрежением ко мне. Мне показалось, что это, скорее, вызвано заботой о том, чтобы я сумел обрести спокойствие.
Владимир Иванович начал меня расспрашивать, где и в какой семье я родился, кто мой отец, в каких театрах я бывал, какие спектакли мне нравятся, каких артистов Художественного театра я люблю, в какой степени я вообще люблю искусство, в какой степени знаю что-либо об искусстве и об искусстве Художественного театра в частности.
Я не ожидал, что буду экзаменоваться в этом смысле, и боюсь, что неудачно отвечал. Мне было что рассказать, но я пытался быть лаконичным и, вероятно, вследствие этого был сумбурным.
– Ну вот, пока как будто бы и все, – сказал Владимир Иванович и сел в кресло. Он поднял свою маленькую крепкую ручку, приложил ее к бороде и опять ушел от меня в свои мысли. Я был убежден, что думал он не обо мне. А он все думал. Расправил усы, поправил бородку и, снова задержав в ней свою руку (потом-то мы все хорошо знали этот его привычный жест), сказал, вернее, сделал короткое «ха». И еще раз «ха», которое было не громче первого, но от которого у меня упало сердце. «Что же это? – подумал я. – Может быть, впечатление обо мне сложилось такое, что не надо и экзамена?»
Пауза. Владимир Иванович погрузился в раздумье.
– У меня, – произнес он, наконец, – мало времени, но я должен сегодня посмотреть вас. Говорят, вы приготовили роль Чацкого. Может быть, покажете что-нибудь?
– Как показать? – испугался я. – У меня нет партнера.
– Это неважно. Мне не очень хотелось бы, чтобы вы читали монологи. Попробуйте поиграть с воображаемыми партнерами, – сказал Владимир Иванович деловито и энергично.
Вот положение-то!
– Так, может быть, начнем с первого акта, с появления Чацкого: «Чуть свет, уж на ногах…», – процитировал Владимир Иванович.
– А я могу двигаться?
– Как хотите, – сказал он спокойно и медленно. – Хотите – двигайтесь, хотите – садитесь. Ведите себя так, чтобы обрести хорошее самочувствие.
Помню хорошо, что я отошел в конец большого зала, но как вбежал уже Чацким, абсолютно не помню. Помню, что бросался на колени перед воображаемой Софьей, читал монолог Чацкого, каким-то образом общался с Софьей, Лизой, бормотал слова за Фамусова, потом опять пытался быть Чацким и снова Фамусовым.
Владимир Иванович меня не останавливал. Я понимал это как знак продолжать. Остановиться же самому у меня просто не хватало храбрости.
Помню, что, сказав «Как хороша…», я отошел в сторону и стал смотреть в окно. Больше у меня ни на что не хватило сил.
Наступила длительная тишина. «Ха», – раздалось вдруг. Я вздрогнул. «Ха». Обернулся и увидел Владимира Ивановича, облокотившегося на крышку рояля в элегантной, но дружеской позе. На строгом лице его я умудрился прочесть доброжелательную заинтересованность.
– Ну, теперь давайте из второго акта…
Я незаметно для себя сказал: «Пожалуйста» – и стал играть второй акт (роль я знал хорошо и давно мечтал о ней). Потом в МХАТе, спустя много лет, я играл Чацкого, но об этом позже…
Когда я закончил второй акт, Владимир Иванович стал рассказывать мне, каких он видел Чацких, перечисляя фамилии артистов – тех, кто играл в МХАТе, и тех, кто мне был известен лишь по истории русского театра, доверительно, при этом, спрашивая мое впечатление от Чацких, которых я мог видеть.
В строгих глазах Владимира Ивановича я читал добрый интерес ко мне. Но это не означало, что он расплывался в улыбке и что я ему понравился. Видно было лишь, что он находится перед решением трудной задачи, которая была гораздо шире, чем мой экзамен. Он осуществлял творческий план, и мой экзамен был маленькой частичкой этого большого плана. Его серьезность меня обязывала.
Владимир Иванович продолжал думать в моем присутствии, как если бы меня не было, и вдруг стал рассказывать о том, что сейчас в театре будут ставить «Горе от ума», и его мечта – сочетать в этом спектакле знаменитых актеров старшего поколения с молодыми, новыми. Его очень устроило бы, продолжал он, если Чацким будет новый молодой актер. После этого Владимир Иванович стал фантазировать о моем пути в Художественном театре. Назвал ряд ролей, которые, с его точки зрения, я мог бы играть. Да простят меня за нескромность – репертуар был солидный. И если бы я сыграл за всю свою жизнь половину того, что Владимир Иванович перечислил за полминуты, я был бы счастлив. Но…
Я не сообразил в ту минуту, что это означало решение моей судьбы…
– Я слышал о том, что вы хорошо рисуете. Нет ли у вас с собой рисунков? И говорят еще, что вы мечтаете стать режиссером…
Надо сказать, что я и по сию пору люблю решать пьесы, которые, может быть, никогда не поставлю, и думать о ролях, которые я никогда не сыграю. В деятельности такого рода у меня, прямо скажу, солидный опыт. Есть роли, сделанные до такой степени, что они могли бы совершенствоваться уже в общении со зрителем. Но не обо мне сейчас речь. К тому же, думаю, в нашем театре, к сожалению, я не единственный…
Я принес с собой папку. Там были эскизы костюмов и декораций к некоторым спектаклям, рисунки и планы постановок некоторых пьес. Владимир Иванович надел пенсне и очень серьезно все рассмотрел. Я был поражен вниманием Владимира Ивановича. Я давал пояснения к рисункам, а он слушал меня так, как будто пьесы эти я уже ставлю в Художественном театре, как будто они пойдут в моих декорациях и он, Владимир Иванович, является моим руководителем. Мечта – не жизнь!
Самочувствие мое менялось. Мне казалось, что я уже не экзаменующийся, а режиссер. Не поступающий, а уже деятель любимого мною театра. Но я почувствовал сразу, что дело не во мне, а в огромной, серьезной любви Владимира Ивановича к театру.
Воспоминания об этой любви потом, в минуты отчаяния, в трудные годы раздумий, огорчений и сомнений, являлись и являются по сей день могучей поддержкой, единственным моим утешением.
Я бы сказал так: отношение Константина Сергеевича и Владимира Ивановича к искусству, к людям искусства, ответственность артиста и руководителя перед театром, перед собой, перед обществом, перед своим временем до сих пор являются для нас всех высоким примером.
Но вернемся к тому памятному для меня дню.
Скоро приедет Константин Сергеевич. Я ему вас покажу, – сказал Владимир Иванович, чем поверг меня в радость и в отчаяние. – Труппа сейчас в Америке, но здесь моя музыкальная студия. А вы не поете?
Я сказал:
– Нет.
– Это неправда, – возразил Владимир Иванович, – и по вашему голосу, мне кажется, вы должны петь.
– Так, для себя, – сдался я.
– Ну, так и напойте что-нибудь.
К моему огорчению, я так и не могу вспомнить, что я пел. Но что я пел – это, несомненно. Видимо, я ничего не исполнил целиком. Эксперимент был чрезвычайно кратким.
– Ну, вот видите, я не ошибся, – сказал Владимир Иванович. И наступила пауза. Большая пауза.
Впоследствии мы, актеры Художественного театра, хорошо знали эти паузы, когда Владимир Иванович будто забывал, что он проводит репетицию, настолько эти паузы были длительны. Затем раздавалось его «ха», и репетиция продолжалась.
– Послушайте-ка, Борис Николаевич – так, кажется, вас зовут? У меня мелькнула одна мысль… В музыкальном театре я ставлю «Лисистрату»… Так вот, может быть, пока не вернулась драматическая труппа из Америки, будете участвовать в этом спектакле? Да-да, мне кажется, вы могли бы быть неплохим Кинезием. У вас и данные подходящие.
Это для меня уж было полной неожиданностью. Я опешил и даже не нашелся, что сказать. Если я еще и готовился к пути драматического актера, то петь, да еще в музыкальном спектакле, никак не предполагал. Но Владимир Иванович и не интересовался моей реакцией.
– Вы будете извещены о встрече со мной и Ольгой Владимировной Баклановой, исполнительницей роли Лисистраты. До свидания. – Владимир Иванович снова крепко пожал мне руку и вышел.
И тут я ощутил радость: может быть, в этот момент, на этом месте начинается моя жизнь в Художественном театре, жизнь артиста?..
Константин Сергеевич и Владимир Иванович…
Очень разные, полярные индивидуальности, объединившиеся для свершения одного подвига. Подвиг-то совершили они! Значит, в какой-то степени, эти два гиганта были друг другу нужны в своей разности, сложности, несочетаемости. При всей разности объединяли их одинаково ответственное и высокое понимание роли театра, вера в необходимость соответствовать передовым идеям своего времени. И еще – одинаковое понимание всех компонентов театра: драматургии, актерского мастерства, режиссуры.
Трудно найти «материнство» и «отцовство» в их искусстве. Оно принадлежит им обоим.
Станиславский велик тем, что он, как никто до него, высоко поднял значение искусства театра в жизни человека.
Мне довелось встречаться с людьми старшего поколения, с убеленными сединами представителями самых разнообразных профессий, которые при упоминании имени Константина Сергеевича становились сразу необычайно серьезными и говорили: «Я воспитанник Художественного театра. Если бы не Художественный театр, я никогда не достиг бы в своей области того, что удалось мне достичь».
Константин Сергеевич был неутомимым, исполненным неослабевающего энтузиазма искателем истины в искусстве. Он боролся с рутиной театра, с ремесленным театром, с актером-ремесленником. Он сумел указать актерам путь к наиболее полному и глубокому раскрытию их творческих индивидуальностей. Великий наследник реалистической школы русского театра, он учил создавать образ человека во всей его многогранности. Он указал актеру, как бесконечно обогащать этот образ, чтобы время не обращало его в ничего и никому не говорящий штамп, в памятную только по первому спектаклю актерскую удачу. Вот почему, в исполнении старейших мастеров Художественного театра созданные много лет назад сценические образы, не только не утеряли своей первозданной прелести, но с каждым годом становятся все прекраснее и прекраснее.
Станиславский был гневным борцом с актерским каботинством, с дурными, скверными наклонностями, живущими в каждом человеке, особенно в актере, по традиции привычном к дурным примерам. Но и не было такого друга и защитника актера, как Станиславский. Он требовал от всех руководителей, как художественных, так и административных, полного подчинения жизни театра интересам актера, то есть создания таких условий и такой атмосферы, которые устранили бы все мешающее его творческому самочувствию.
Прошедший в начале своей деятельности путь режиссера-диктатора, Константин Сергеевич в последние годы жизни мечтал о таком театре, в котором актер займет место, исключительное по своему творческому значению. «Актеры, – говорил он, – должны быть настолько выразительны, что никакой мизансцены, заранее предусмотренной режиссером, не должно существовать. Обстоятельства, мысли и характер действия образа сами подскажут актеру сценическое поведение, то есть и мизансцену».
Константин Сергеевич много работал над проблемой внешности спектакля, призванной только помочь выражению мысли, идеи автора. Он считал, что натуралистические декорации, отвлекая внимание своим мелочным правдоподобием, снижают возможность раскрытия главного в жизни человека. А условные, отвлеченные декорации вызывали у него улыбку. Глядя на них, он говорил: «Я не верю. Каким же должен быть человек при этих декорациях? Нужно, очевидно, подумать о создании особой психики у выдуманного человека среди этой выдуманной обстановки. Выразительность и движение людей, которых мы знаем, окажутся здесь чужими, чуждыми – здесь не будет целого». Константин Сергеевич считал, что главное назначение декораций – это создание такого фона, такой атмосферы, которые помогали бы раскрытию внутреннего смысла сцен, пьесы, спектакля. Не примитивного изучения «системы» требовал Станиславский от своих учеников, а преломления его учения в конкретной актерской индивидуальности. Он учил: «Не успокаивайтесь на достигнутых результатах. Ищите, ищите и ищите! Без взволнованности нет искусства. Если артист не взволнован большой мыслью, если драматург не написал своего произведения ради большой мысли, если художник не работает ради воплощения большой мысли, если эта мысль не захватила целиком, – не может быть искусства. Зритель уйдет равнодушным, так как не будет в этом спектакле того, что заставит волноваться, долго размышлять, жить виденным».
Никогда не забуду, как и прославленные актеры и мы, тогда молодые, направлялись на репетицию к Константину Сергеевичу в Леонтьевский переулок. Из театра, где собирались, мы выходили группой, разговаривая друг с другом. Но по Леонтьевскому мы уже шли на большом расстоянии один от другого. Затем очень медленно, шаг за шагом поднимались по деревянной лестнице в первую переднюю дома Станиславского. Мы словно боялись расплескать то, что должны были принести Константину Сергеевичу.
Мы работали над спектаклем «Мертвые души». Я готовил роль Ноздрева. Однажды за кулисами на доске объявлений появилось сообщение, что репетиция состоится на квартире Станиславского. В назначенное время я стоял в знаменитой передней, описанной теперь во многих мемуарах, и, волнуясь, ждал. Вскоре ко мне вышла медицинская сестра.
– Как вы себя чувствуете, Борис Николаевич? – спросила она меня.
В это время Константин Сергеевич был нездоров, очень ослабел, и врачи боялись, как бы визитеры не занесли инфекции.
Вообще-то ничего, – говорю я. – Если только насморк немножко, не очень, правда, но все-таки.
– Одну секундочку, я пойду, посоветуюсь с врачом.
К Станиславскому меня не пустили. И я собрался домой, честно говоря, немножко обрадовавшись, что мне не предстоит такая экзекуция: я считал себя не очень подготовленным к репетиции.
Спускаюсь по знаменитой также лестнице со скрипящими деревянными ступенями, вдруг сверху окликают меня:
– Борис Николаевич! Борис Николаевич! Вас к телефону.
– Кто меня спрашивает? – недоумеваю.
– Константин Сергеевич.
Я мгновенно взлетел по лестнице.
– Константин Сергеевич!
– Здравствуйте, голубчик, как ваше здоровье?
– Да насморк у меня, Константин Сергеевич, – говорю я, извиняясь.
– Гм, гм, плохо, очень плохо, надо беречься, нельзя же пропускать репетицию… А может быть, мы с вами будем репетировать по телефону?
Я понял – деваться некуда, придется репетировать. Знаками прошу гардеробщика помочь мне снять пальто.
– Голубчик, мы начнем с первой сцены, с прихода Ноздрева к губернатору в гости, первая встреча ваша с Чичиковым.
– Слушаю вас, Константин Сергеевич, сейчас.
– Только вы, ради бога, не спешите, подготовьтесь, и тогда, когда будете готовы, начните.
Надо представить себе эту тягостную тишину в телефонной трубке и необходимость мне, Ливанову, превратиться вдруг по телефону в Ноздрева.
Я начал. Проговорил все чичиковские слова. Кончил сцену. В трубке молчание. Спросить же Константина Сергеевича не хватало смелости. Мне казалось, прошел час, прежде чем я услышал:
– Гм, гм… Ну, как вы сами считаете, что у вас получилось, что не получилось? Какие ошибки вы сделали?
– Я, Константин Сергеевич, недостаточно ощущал Чичикова, партнера-то передо мной нет.
– Говорите с мнимым партнером, увидьте и почувствуйте. Пусть ваша артистичность вам подскажет действие с конкретным лицом, а не вообще. Я понимаю, что это очень трудно: обстановка, телефон, но все– таки. Давайте еще раз все сначала.
Я повернул голову и увидел позади себя в дверях артистов оперного театра, которые тоже были вызваны на репетицию. Все смотрели, затаив дыхание, как идет репетиция по телефону и как я выхожу из положения.
Репетировали мы час.
Нельзя забыть внешний облик Станиславского. Он сам был великим произведением искусства. Казалось, что гигантский мастер-ваятель Микеланджело создал этого исполина искусства. Он сам был выражением, символом прекрасного – с его гордо посаженной великолепной головой, с чудесно обрамляющими ее белоснежными волосами, с кристальными голубовато-серыми глазами и с улыбкой, подобной которой я не встречал ни у кого и никогда.
Закинув ногу за ногу, он садился в кресло или на диван. Мы все – и стар, и млад, – испытывали большое волнение, ждали, когда Константин Сергеевич пригласит всех начать репетицию.
– Ну-с, начнем.
Как менялось в течение репетиции его лицо! Это целая симфония, гамма сложных, отраженных впечатлений… Он как будто принимает непосредственное участие во всем, что перед ним происходит, подмечая все тонкости актерской работы. Он впивается глазами в актера, помогает ему взглядом, улыбкой, выражением лица.
Мы так боялись огорчить его, что любой из нас волновался не только за себя, но и за каждого исполнителя. Можно было прочитать по лицу Константина Сергеевича, когда ему нравилось то, что мы делали, и когда ему не нравилось. И если ему нравилось, он сначала чуть-чуть улыбался; если нравилось больше, то смеялся – и как смеялся! Это было так обаятельно и неожиданно, так щедро и широко – и так заразительно! Пенсне слетало с переносицы, он искал его, похлопывая руками по пиджаку, по брюкам, по дивану и, наконец, найдя, водружал на место под сень густых, белоснежных бровей…
Нет больше Леонтьевского переулка со Станиславским, а есть улица Станиславского без Константина Сергеевича. Туда, на Леонтьевский, можно было прийти, увидеть его, рассказать о своих муках и трудностях, получить заслуженный «разнос» или одобрение, или то и другое вместе.
Однажды Константин Сергеевич сказал: «Когда я умру, я хочу, чтобы мою урну поставили в театре и чтобы артисты приходили в эту комнату подумать об искусстве и проверить себя». Лучшим памятником Станиславскому будет наше стремление работать так, чтобы иметь право сказать: «Эту работу мог бы одобрить сам Константин Сергеевич!»
Все говорят о системе Станиславского. Она знаменита на весь мир. И никто не знает системы Немировича-Данченко. Ее как бы и нет. А Владимиру Ивановичу не было надобности ее писать. Он знал – у Константина Сергеевича это отлично получается.
Но мы все хорошо помним тонкие и точные методологические определения Владимира Ивановича: мужественная простота, психофизическое самочувствие, максимализм.
Владимир Иванович не играл на сцене. Это всем известно. Но мало кто знает, что он был блистательным актером. То, что он подсказывал актерам, было всегда удивительно точно, прозрачно ясно, поражало верным, единственно верным умением раскрыть жизнь героя в заданной автором ситуации, с единственным пониманием стиля авторского письма.
А как он работал над женскими ролями! Об этом можно много рассказывать, но, пожалуй, это лучше сделали бы сами актрисы, обязанные ему созданием блистательных образов – К. Еланская, А. Тарасова, О. Андровская, А. Степанова…
Несмотря на то, что много существует суждений о режиссерском показе, сомнений в нужности его и полезности, никто из нас не забудет, как показывали на репетициях Константин Сергеевич и Владимир Иванович.
Владимир Иванович вставал. Шурша крахмалом манжет, дотрагивался рукой до усов, расправлял бороду… Останавливался в раздумье… И вдруг мы, актеры, с замиранием сердца видели, как на наших глазах он превращался в героиню с таким точным постижением тайн женского характера, женской психологии, что присутствовавшие получали истинно художественное наслаждение.
Владимир Иванович, приходя на репетицию, всегда приносил с собой ощущение торжественности, праздничности. Он входил в репетиционный зал, как хирург на операцию, строгий и собранный. И мы, артисты, на эти репетиции шли как на большое испытание и на большой праздник. В присутствии Константина Сергеевича и Владимира Ивановича все были собраны, парадны – и внутренне и внешне. Да, каждая репетиция была торжественным актом.
Нахождение верхнего психофизического самочувствия при выходе героя на сцену помогает и сегодня нам, актерам, обретать состояние, нужное для жизни образа. Каково, например, психофизическое состояние Чацкого, когда он появляется перед Софьей: устал он с дороги – это одно, возбужден или раздражен – это другое и т. д.
Вместе с Константином Сергеевичем Владимир Иванович явился создателем и второго плана, сыгравшего такую колоссальную, еще по-настоящему недооцененную роль в развитии русского и мирового театра. Вторым планом Владимир Иванович владел блистательно и умел в совершенстве его выражать, всегда точно определяя жанр и стиль авторского письма. А Чехов разве был бы возможен без второго плана? Весь чеховский театр – это богатство и жизнь второго плана.
А присущие Художественному театру всем известные определения – сквозное действие, зерно, сверхзадача спектакля? Это все принадлежит Художественном театру, и порой очень трудно разграничить, что в этом искусстве от Константина Сергеевича и что от Владимира Ивановича.
Станиславский и Немирович-Данченко были большими поклонниками Малого театра. Станиславский, как известно, был учеником Г. Н. Федотовой и даже принимал участие в спектаклях Дома Щепкина. Немирович-Данченко тоже был другом Малого театра и его драматургом.
И, тем не менее, страстно желая, чтобы его пьесы игрались, он не пошел служить в Малый театр, где их ставили, а начал вместе со Станиславским организовывать свой театр. И был так требователен к репертуару, что никогда даже и не предлагал Художественному театру своих пьес.
Это произошло потому, что и Константин Сергеевич и Владимир Иванович видели необходимость обновления искусства, создания театра новых идей, новой драматургии, а, следовательно, и новых средств выразительности. Так постепенно кристаллизовалось творческое, теоретическое обоснование деятельности МХАТ.
Основная мысль, которая всегда волновала и Станиславского и Немировича-Данченко – это создание народного театра, который так назвать тогда не было возможности и который поэтому именовался общедоступным.
Примечательна была работа Владимира Ивановича над «Блокадой» Всеволода Иванова. Эта постановка, как мне кажется, осталась не оцененной по заслугам.
Я хорошо помню спектакль и всех его исполнителей: Кудрявцева (Николку), Качалова (комиссара Оладьина), Баталова (матроса Рубцова) и… чуть было не назвал сгоряча и свою фамилию. Да, по правде говоря, пресса отмечала и созданный мною образ командира Красной Армии, человека полного сил и богатого верой в революцию, хотя, собственно, в пьесе «образа» почти не было. Это поставлено было так, что оказалось возможным сыграть образ… Владимир Иванович как-то с одобрением отметил, что роль у меня переросла текст. Но он сам учил этому!
Владимир Иванович относился к драматургам требовательно и очень чутко. Он видел в их творениях больше, чем они сами все вместе взятые, и умел талантливо объяснять свое видение. Владимир Иванович читал пьесу глазами зрелого, умного, тонкого художника, драматурга, режиссера, не довольствуясь тем, чтобы строить свои отдельные режиссерские «соображения» на авторскую тему, как это иногда бывает даже и сейчас. Он стремился раскрывать в жизни образа внутренние силы, нервы, душевную энергию.
Однажды Владимир Иванович сказал: «Я, пожалуй, единственный театральный деятель, который помнит стольких драматургов, начиная, к примеру, с Островского и кончая молодыми советскими драматургами».
Действительно, с кем только он не встречался! Островский, Сухово-Кобылин, Блок, Чехов, Горький, Корнейчук, Катаев, Вс. Иванов, Олеша, Леонов, Погодин (не говоря уже о западных авторах). Пожалуй, нет и не могло быть такого драматурга, который, встретясь с Владимиром Ивановичем, не запомнил бы на всю жизнь его помощи, не проникся бы к нему чувством глубокого уважения и благодарности.
Я не знаю другого режиссера, столь скрупулезно охраняющего ремарку, каждый знак препинания в произведении драматурга, а не только точность его замысла. Не могу не вспомнить и некоторые курьезы, также говорящие о взыскательности моего учителя, о его мучительно пытливом отношении к тексту, к возможностям, в нем заложенным.
Это было как раз во время работы над «Блокадой». Владимир Иванович долго задумывался, что означает фраза: «Матрос клеш, Кронштадт даешь». Все гадал, не скрывается ли за ней что-то такое, что может обогатить характеристику образа. И когда мы его убедили, что это просто поговорка, он вздохнул с облегчением.
Он был нетерпим к «отсебятине» на сцене. Не переносил небрежного отношения к слову, считал это оскорблением и для автора и для театра. Отношение его к слову было похоже на отношение дирижера к музыкальному знаку в нотах. Терпеть не мог всевозможные предлоги и союзы, которые, якобы, облегчают жизнь актера на сцене, а в действительности загрязняют текст. Он становился гневным, покрывался пятнами из-за каждого лишнего междометия или прибавленного от себя слова. Подозрительность его в этих случаях была невероятной. Не прерывая репетиции, он подзывал суфлера, надевал очки и долго внимательно всматривался в текст. «Да, позвольте, тут нет «и», где вы его взяли?» Репетиция останавливалась, и начиналась лекция о недостойном отношении к автору.
Оберегая неприкосновенность текста, Владимир Иванович вместе с тем помогал авторам быть скупыми в словах. Не писать того, что можно сыграть или пронести во «втором плане». Все это шло на пользу авторам, делало драматургические образы сложнее и богаче.
Помню и такие случаи, когда Владимир Иванович вместе с драматургом принимал найденное актером удачное слово, а иногда и целую сцену, если она полностью ложилась в канву произведения. Тогда Владимир Иванович мог сделать свое выразительное «ха» и утвердить находку.
Так, например, Москвин, играя Епиходова, добился того, что несколько его, Москвина, фраз были приняты и Владимиром Ивановичем, и Чеховым, и сейчас существуют в каноническом тексте пьесы.
Второй план, пауза, понимание Владимиром Ивановичем ее выразительных возможностей поистине достойны специального изучения, например, паузы в «Кремлевских курантах».
Я был свидетелем того, как строил Владимир Иванович сцену в кабинете Ленина. Эта сцена и по сей день является украшением спектакля, образцом тончайшего режиссерского мастерства. Умение без единого слова выявить движение ленинской мысли, создать атмосферу живых человеческих раздумий – я бы назвал это драматургией паузы – ах, какое это величайшее, так редко встречающееся теперь умение!
К сожалению, мы теперь слишком часто встречаемся с так называемой «динамикой», которая никакого отношения к театральной динамике не имеет, ибо темп – не ритм, а ритм – не темп! Эта торопливая «динамика» заключается в проскакивании через самые важные акценты, через запятые, которые обязательны в театральном искусстве. В классической пьесе эта «динамика» ведет к недооценке смысла, языка и художественного своеобразия произведения, в современной пьесе – рождает однообразную кинематографичность стиля.
Для Владимира Ивановича не могло быть вообще хорошо поставленного спектакля или вообще хорошо сыгранной роли. Он мог удивляться, даже сердиться, не понимая, почему хвалят спектакль или актера в нем, если это никакого отношения ни к жанру пьесы, ни к ее языку, ни к выражению ее стиля не имеет.
В «Блокаде» декорационное решение спектакля было таково, что не только не рассеивало внимание, а, наоборот, концентрировало его на главном (художник И. Рабинович). А как часты теперь спектакли, где актеры играют в заданных режиссером, претендующих на лапидарность декорациях, которые могут быть успешно использованы для украшения магазина (если хотите, даже ювелирного). Я всегда жалею бедных актеров, которым по выходе на сцену ничто вокруг не может помочь найти верное ощущение жизни.
Владимир Иванович искал в «Блокаде» возможность просто и сильно раскрыть высокий смысл революционных событий, их высшую цель. «Блокада» имела принципиальное значение в творчестве театра, как один из интереснейших шагов на пути к овладению революционной темой в жанре трагедии. Приемов сценического поведения, ставших уже привычными при воплощении драматургии Чехова и даже Горького, здесь было явно недостаточно. Владимир Иванович требовал нового осмысления современности и соответственно с этим новых средств выразительности.
Однажды Владимир Иванович объявляет нам, что Художественный театр должен ставить «Любовь Яровую».
Мы были крайне смущены. «Любовь Яровая» К. Тренева – один из лучших спектаклей Малого театра на революционную тему, в котором точно выразились характер и стиль треневской драматургии. В Малом театре это было народное представление, и все образы были сделаны в соответствии с этим решением. В. Пашенная, А. Сашин-Никольский, С. Кузнецов, Н. Костромской, Е. Гоголева – все были блистательны. Даже затрудняюсь назвать кого-нибудь, кто играл плохо. Положительно никто. Когда же в списке исполнителей я прочел свою фамилию, да еще на роль Шванди, то, естественно, и совсем перепугался. Предстояло состязаться с самим С. Кузнецовым, отлично игравшим Швандю. Да разве это мыслимо!
На первой беседе Немирович-Данченко, великолепно проанализировав пьесу, сказал, что годы сделали ее иной, что бывает только с подлинно художественными произведениями. Ведь плохая пьеса умирает, а хорошая остается хорошей и вызывает новый интерес к ней и новые возможности ее прочтения. Не желая наносить ущерб достоинствам произведения, его жанровым и стилистическим особенностям, Владимир Иванович намеревался углубить общее идейно-политическое звучание и пересмотреть характеристики действующих лиц, сделать их значительнее, сильнее, ярче. Он прекрасно понимал, что трактовки характеров, сделанные Малым театром, в годы, когда за пьесу взялся МХАТ, не могли вызвать к себе прежнего интереса. Новое время предъявило к произведению новые требования.
Вера в необходимость глубоко современного осмысления драматургии явилась вообще основным кредо Владимира Ивановича.
В пьесе же, которая уже шла, и к тому же с триумфальным успехом, Владимир Иванович искал то, что было можно в ней раскрыть именно с помощью искусства Художественного театра.
Владимира Ивановича привлекла в первую очередь тема борьбы народа за революцию, которой он, народ, отдает свои силы. Он шел не от жанра к характерам, а, наоборот, характеры людей определяли и жанр. Неграмотный матрос Швандя интуитивно, силою природного таланта постигает смысл великих преобразований и, определив свой жизненный путь, считает себя счастливым человеком. Идея, в возможно короткий срок осуществить поворот в истории страны и, более того, революцию в масштабе мировом (меньший масштаб Швандю не устраивает!), становится целью его жизни.
Мне хотелось, чтобы Швандя в нашем спектакле был таким же наивным, как и у С. Кузнецова, и чтобы в его способности построить коммунизм в мировом масштабе не сомневался бы ни один из сидящих в зале. Это совпадало с замыслом Владимира Ивановича, который хотел сумбурное представление Шванди о революционных категориях заменить осознанным пониманием классовых противоречий.
Исходя из такого понимания роли, Владимир Иванович в процессе работы счел необходимым ввести в спектакль сцену ареста Шванди. К. Тренев написал ее специально для Художественного театра.
Было бы грубой ошибкой, говорил нам Владимир Иванович, играть Яровую, устремляя все внимание на ее стопроцентный большевизм, только скользнув по другим элементам роли; делать упор на ее революционный пафос, не уделяя огромного внимания, огромного нервного запаса на разрушенную громадную любовь. Сквозное действие всей лирической интриги пьесы – именно в освобождении Любови Яровой от всего личного, еще мешающего. В результате этого самоосвобождения и выявляется стопроцентный накал настоящей революционерки. Недаром последняя фраза Любови Яровой, а вместе с тем заключительные реплики в тексте Тренева таковы:
КОШКИН. Спасибо, я всегда считал вас верным товарищем.
ЯРОВАЯ. Нет, я только с нынешнего дня верный товарищ.
Романтическая прелесть пьесы, пояснял Владимир Иванович, заключается в том, как эта замечательная женщина, какую только можно себе представить в современности, способная ощутить в себе огромную любовь, так выстрадав ее, заражается огромной ненавистью к прежде дорогому человеку на почве политической розни.
Словом, Владимир Иванович не пошел по проложенному уже пути, а постарался расширить и углубить рамки жанра пьесы.
Мы играли «Любовь Яровую» в Париже, в театре «Шанз д’Элизе». Спектакль горячо был принят зрителем. Критикой холоднее. Помню вечер премьеры. Огромное количество машин. Полиция – рота солдат в полном снаряжении, что называется, в боевой готовности. Они всюду: в партере, на ярусах, по всему театру. Это было политическое событие, почти скандал.
Галантный пожарный в кулисах – нарядный, в штанах небесно-голубого цвета, в лакированных ботинках и в каскетке. Увидев меня, махину с выгоревшим чубом, в бескозырке, в рваных с бахромой брюках-клеш, перепоясанного пулеметной лентой, с громадным маузером на ремне и с красным бантом на бушлате, а главное, со спокойным сознанием своей красоты и силы, написанным на курносой физиономии, этот пожарный счел за лучшее «дунуть» от меня прочь, чем насмешил всех.
Распахнувшийся занавес принес нам запахи всевозможных духов, и всякой другой косметики и… настороженно враждебное внимание огромного зала, наполненного отнюдь не одними нашими друзьями. К концу спектакля победа была за нами!
Как я уже говорил, мне шел двадцатый год, когда Владимир Иванович принял меня в труппу и предложил тогда же сыграть Чацкого. (И это в театре, где главные роли играли «боги», которым я молился с детских лет!) В том спектакле я не участвовал, а играл эту роль значительно позже, в сезон сорокалетия Художественного театра.
В. И. Качалов репетировал Фамусова и, прямо скажу, не только не помогал мне, а необычайно меня смущал: ведь он сам был замечательным Чацким. На одной из репетиций, когда Фамусов-Качалов обратился ко мне, Чацкому, со словами: «Вы, нынешние, ну-тка!» – это звучало настолько к месту, что мы не могли удержаться от смеха. Смеялись все, и Владимир Иванович в том числе.
Я весь наполнен идеями и чувством современности. И не может быть, говорил Владимир Иванович, приступая к постановке «Горя от ума», чтобы это не отразилось на моем восприятии текста Грибоедова. Свободно, без всякой наносной предвзятости подойти сегодня к классическому тексту, – в этом заключается трудность и удовлетворение.
В те времена Чацкого рассматривали в традициях мольеровского Альцеста, минуя то обстоятельство, что в его характере было немало черт, свойственных самому Грибоедову. В последующие годы, в связи с опубликованием материалов, прояснивших сущность декабризма, многие ранее зашифрованные для нас мысли автора перестали быть загадкой. Тогда же Владимир Иванович ко многому в пьесе шел интуитивно. Он задался целью сделать так, чтобы смысл каждого образа в отдельности засверкал бы в своей первозданности, а не отдавал бы, пусть даже и красивым по форме, резонерством.
Как сделать, чтобы любовь Чацкого к Софье волновала? Чтобы звучала настоящая человеческая речь, а не холодные монологи, которые от буквы до буквы знает ученик средней школы и которые в зрелом возрасте ему успевают осточертеть настолько, что он уже не вкладывает в них никакого живого содержания.
Владимир Иванович относился с пристальным вниманием к Чацкому как к носителю революционных идей. Одновременно огромное значение он придавал любовной драме Чацкого, никогда не отказываясь от «миллиона терзаний» Гончарова. Он искал в душе Чацкого ту меру личной обиды, которая дает ему право сделать своими, наполненными живой горячей болью, монологи, которые знают все сидящие в зале.
Удивительно гармонично сочеталась у Владимира Ивановича любовь к красоте подлинного искусства с ненавистью ко всякому повтору, штампу, пусть даже и блистательному.
Владимир Иванович ставил задачу – дать новую жизнь произведению, которое изглодано временем, бутафорией, ложной патетикой и блистательными исполнителями так, что живого уголка не найдешь. Все изъезжено вдоль и поперек!
Дать новую жизнь пьесе, избежав при этом нарочитого и предвзятого осовременивания, ложной модернизации, протаскивания своих субъективистских идеек. Ведь Грибоедов писал свои стихи, как он сам говорил, кровью сердца. И вот этой-то «крови сердца» очень мало порой остается во многих постановках «Горя от ума».
Чтобы ставить эту пьесу или играть в ней, надо самому зажечься теми самыми гражданскими, патриотическими чувствами, которые заставили Грибоедова отправить своего героя странствовать, чтобы затем, вернувшись в Россию, он полюбил ее со страстной, утроенной силой. Без этого нельзя произнести ни единого слова.
Он очень заинтересовался, когда однажды, после монолога Чацкого «Летел, спешил…», я попытался сделать большую паузу.
– Ха, откуда это? – спросил Владимир Иванович и тотчас же открыл книгу.
– У Грибоедова в этом месте есть ремарка – минутное молчание…
– Да, но как сделать, чтобы не остановить спектакль? Минута молчания у автора и сценическая минутная пауза не равнозначны.
И Владимир Иванович с увлечением стал тратить репетиционное время на решение этой задачи. Таков он был.
И еще одна подробность. Перед монологом Чацкого «Дождусь ее и вымолю признанья» Владимир Иванович задумался. «Пожалуй, пусть дворовые моют здесь окна», – сказал он. Каюсь, я тогда не понял, зачем мыть окна, хотя бы и перед балом? Этого же нет у Грибоедова. Они будут только мешать мне. Впоследствии же я не мог без восхищения и благодарности вспоминать эту выдумку, в которой сказались проницательный ум Владимира Ивановича, его заботы об актере. Пауза была мне органически необходима, чтобы подготовить себя к встрече с Софьей.
Итак, в доме Фамусова мыли окна. Я ждал Софью, а она не появлялась. Владимир Иванович хотел, чтобы Чацкий в этот момент был внутренне деятелен: мечтал рассеять подозренья, отдохнуть душой, поверить тому, что чувства не могут так быстро угасать… Эта сцена не только по форме, но и по сути своей поэтична и активна, как и весь Чацкий.
Владимир Иванович очень любил эту сцену.
Теперь ни для кого не секрет, что лучшей школы, чем та, что создана Станиславским и Немировичем-Данченко, не существует.
Как понимать эту школу? Как однажды утвержденный канон? Как навечно заданную рецептуру? Конечно же, нет. Во-первых, рецептура эта подчинена органике тайн природы, сигналам психофизических действий, умению пользоваться нервной трофикой[1] артиста. Ко всему этому не надо забывать еще одно слагаемое – талант, к сожалению, трудно находимое, но обязательное для всякого искусства и, тем более, для театрального.
Разве не удивителен чудесный факт второго варианта постановки «Трех сестер», единственного по целостности замысла и красоте его воплощения.
В первый раз спектакль был поставлен в 1901 году. «Три сестры» звучали в то время как современная пьеса. Ставя спектакль в конце 1940-х годов, Немирович-Данченко в своем вступительном слове поразил всех умением прочитать произведение заново. «За эти тридцать пять лет жизнь не только совершенно переменилась, но и наполнила нас самих как художников новым содержанием, направила нас по пути, с которого нужно и можно по-иному, свежо взглянуть на Чехова, заново почувствовать Чехова и попробовать донести его до зрителей… Вот когда мы впервые играли Чехова, мы все, в сущности говоря, были «чеховскими»; мы Чехова в себе носили, мы жили, дышали с ним одними и теми же волнениями, заботой, думами, поэтому довольно легко было найти ту особую атмосферу, которая составляет главную прелесть чеховского спектакля. Многое приходило само собой и, само собой разумеется. Теперь же, вновь обращаясь к Чехову, нам во многом приходится опираться только на наше искусство… Наша задача простая и, так сказать, художественно честная. Мы должны отнестись к этой пьесе как к новой, со всей свежестью нашего художественного подхода к произведению».
В «Трех сестрах» очень памятна для меня роль штабс-капитана Соленого. Я только что вернулся из больницы, как вдруг получил пьесу с рекомендацией Владимира Ивановича прочитать ее и сказать, какая роль меня в ней интересует. Будучи еще не совсем здоровым и очень неуверенным в своих силах, я испугался и сообщил Владимиру Ивановичу через секретаря, что не вижу в этой пьесе для себя места. Владимиру Ивановичу это не показалось достаточно убедительным. И, о ужас, я прочитал на доске с распределением ролей свою фамилию в роли… Соленого.
Огорчению моему не было предела. Тем более, что я, прочитав пьесу, так и не понял, а что же это такое – Соленый?
Естественно, что работалось мне нелегко. Должен сознаться – я капризничал. Владимир Иванович это видел, но сделал вид, что не замечает.
Так, долгое время я пребывал в роскошном самочувствии провалившегося и обиженного Владимиром Ивановичем артиста. И вдруг однажды увидел, что у всех уже что-то получается, а у меня совсем ничего и не начиналось. Когда меня спрашивали, кого же я, в конце концов, играю, кто такой Соленый, каково его значение в пьесе, я пытался рассказывать, но получалось явно неубедительно.
Крайняя скудность словесного материала при очень длительном пребывании Соленого на сцене сделали для меня репетиции мучительными.
Попробую-ка, решил я однажды, наполнить свое пустое время мыслями и чувствами, которые обуревают этого Соленого (черт бы его побрал). Пофантазирую на тему: чем живет Соленый, в чем смысл его пребывания на сцене. И я стал потихоньку, только лишь для себя прицеливаться к роли. Никаких собеседований с Владимиром Ивановичем, никаких договоренностей у меня с ним не было – он продолжал не обращать на меня внимания.
На одной из репетиций Владимир Иванович делал артистам замечания, а я с интересом его слушал. И, считая себя совершенно свободным, как от одобрений, так и от замечаний, чуточку воображал себя Соленым.
Меня уже занимало, о чем думает Соленый, когда он молчит. Какие горькие мысли возникают в безмерной пустыне его души: мысли о несчастной судьбе неудачника – офицера, бретера, дуэлянта. Не мнимого, как Тузенбах, а настоящего военного.
– А, Ливанов, очень интересно… – Вдруг, как бы мимоходом, заметил Владимир Иванович.
«Смотри, пожалуйста», – удивился я про себя. И с этой минуты пошло…
Владимир Иванович, увидев мое стремление начать постижение образа, стал обращать и на меня внимание, заниматься мной.
Хотя роль Соленого немногословна, но это очень сложный и, я бы сказал, загадочно-трудный образ. Соленый очень внимательно рассматривает всех присутствующих, дает им очень точную и верную оценку, а вот когда приходится говорить о них, он не может высказаться искренне, скрывается от людей, так как придуманный им образ загадочного штабс-капитана Соленого не дает ему быть самим собой.
Мой Соленый стеснялся самого себя, своих чувств и боялся – вдруг его кто-либо разгадает. Один-единственный раз в жизни он дал себе чудовищное право быть искренним, и это привело его к дуэли.
Задача создать вот такой не простой человеческий характер меня, как художника, очень увлекла. Образ становился большим, мучительно моим. И, по сей день, я считаю его таковым.
Произносил ли я какие-то слова, находясь на сцене, или молчал – это уже не имело значения. Роль моего штабс-капитана Соленого для меня была богата переживаниями, мыслями, монологами почти при отсутствии слов. Позже, на спектакле, я всегда не только радовался, что люди обращали внимание на моего Соленого, но и уже заботился о том, чтобы найти меру яркости и скромности, ту меру тактичности, которая позволяла, находясь на втором плане, не отвлекать внимание зрителей на себя.
Однажды в процессе работы Владимир Иванович сказал:
– Борис Николаевич, я хочу, чтобы вы нарисовали мне Соленого. Набросайте, как вы себе представляете его внешность.
Я взял лист бумаги и тут же за режиссерским столом пером нарисовал Соленого. Владимир Иванович долго рассматривал рисунок, а потом сказал:
– Ага, теперь понимаю. Тогда правильно…
Дело в том, что моя «ливановская» внешность тревожила Владимира Ивановича, так как была дополнительным компонентом, мешающим зрителю правильно воспринять характер Соленого.
Когда во время пробы гримов я предстал перед Владимиром Ивановичем, он был обрадован тем, что я преодолел и эту трудность.
К концу репетиционного периода у меня, по-моему, в роли не было такого места, где можно было бы просунуть иголку между мной – Ливановым – и моим героем. И это в той роли, работа над которой началась с ожидания провала, с полной моей бездеятельности. (А сейчас я даже с некоторым недоверием отношусь к ролям, которые у меня сразу получаются!)
В чем же тайна?
Видимо, в стройном, блистательном видении режиссером всего спектакля, в поистине музыкальном ощущении его целостности. Это позволило и мне увидеть свое место в таком ансамбле.
Мы, актеры, часто ревновали Владимира Ивановича к Музыкальному театру, которому он отдавал, по нашему мнению, слишком много времени. Владимир Иванович, посмеиваясь, любил говорить, что Художественный театр – его жена, а Музыкальный театр – его возлюбленная. И это увлечение сказалось, вероятно, и в его работе с нами, в желании уточнять значение музыкальности в решении драматического спектакля.
В смысле музыкальности звучания третий акт «Трех сестер» является непревзойденным тому примером.
В пьесе Чехова нет сцены прощания Соленого с домом. Есть уход его на дуэль. И это все. Но тогда это уже не мой Соленый, потому что трагичность положения Соленого в том и состояла, что он понимал безысходность своей участи. Если даже и убьет он Тузенбаха, Ирина все равно любить его не будет. И даже если Тузенбах убьет его, то и тогда она даже никогда о нем не вспомнит. Но, выдуманный самим Соленым, штабс-капитан Соленый не мог не убить Тузенбаха. Так родилась моя сцена прощания с домом. Родилось, как последний итог, прощальное видение Соленым своей неудачливости.
К тому же мой Соленый не мог даже представить себе, что будет убит (он же бретер, заядлый дуэлянт). И, прощаясь с домом, он мысленно просил прощения за все… Сняв фуражку, стоял Соленый, склонив голову, и смотрел на дом Прозоровых, хороший дом, в котором мог найти свое место даже такой трудный человек, как он. Снова надевал фуражку, оправлял форму и уходил на дуэль. Большая мимическая сцена…
Самое интересное, что Владимир Иванович ни одного слова мне по поводу этой, мною придуманной, сцены не говорил. Ни одобрения, ни отрицания – ничего.
И вдруг, перед одним из генеральных прогонов я извещен, что Владимир Иванович снимает мое прощание с домом.
Я был страшно расстроен, так как не мог себе представить Соленого без этого финала, но не имел права, просто не допускал возможности настаивать на своем.
Перед выходом на сцену (это была публичная репетиция), я дал себе приказ – не прощаться с домом. И, о ужас, уйдя со сцены, я понял, что случилось непоправимо ужасное. Я не выполнил указание Владимира Ивановича!
Я поледенел!
Помню, как мы выходили раскланиваться перед зрителем под долго не смолкающие аплодисменты.
Потом я прошел за кулисы, закрылся у себя и только из-за двери слышал, как Владимир Иванович, проходя по артистическим уборным, благодарил артистов. А я стоял, держась за ручку двери – в шинели, в фуражке, в образе несчастного Соленого-Ливанова.
Я слышал шумные разговоры в коридоре, восторги, поздравления в адрес Владимира Ивановича и в адрес артистов. Вокруг царили праздничный шум и оживление, которое бывает, когда в театре настоящая творческая победа.
А я, ложка дегтя в бочке меда, все стоял за дверями своей уборной.
И вдруг – стук в мою дверь. Я, отступив на шаг, приготовился к худшему.
Вошел Владимир Иванович. Оживленное лицо, бодрая фигура, чуть заметная улыбка. И после небольшой паузы слова:
– Правильно сделали, что не отменили ваш уход. Я ошибся.
Я не мог ничего ему ответить. Но это было мгновение полного моего счастья.
– Да, да. Вот и Москвин сказал, что это замечательно.
Теперь, когда прошло уже столько лет после премьеры, я вспоминаю этот удивительный случай: режиссер, заявив, что должен умереть в актере, сказал не пустые слова. Как я ему за это благодарен. У кого бы сейчас хватило духу на такое: категорически отменить большую, выразительной силы сцену у артиста и потом сказать: «Я ошибся».
О, это, как сказано у Островского, «дорогого стоит»!
Вот каков был Владимир Иванович.
В моей памяти и по сей день неизгладимо живет один образ. Я вижу дом Прозоровых в прозрачности печальных листьев. И на фоне декораций, созданных замечательным художником В. В. Дмитриевым, вижу фигуру Владимира Ивановича, выходящего вместе с артистами на поклон. Вижу его крепкую, сильную спину, которая защищала, защищает и впредь будет защищать нас, когда мы этого достойны.
Мне посчастливилось быть участником и последней работы Владимира Ивановича над «Гамлетом» Шекспира.
Владимир Иванович отлично понимал, что Шекспир и Художественный театр – соединение чрезвычайно трудное. Он говорил, что Шекспир витиеват, многословен. Что «елизаветинский» театр устарел; он толкает режиссера и актеров на ту шекспировскую театральность, которой Владимир Иванович никогда не был увлечен сам и которую не принимал в творчестве других театров. Вместе с тем он отдавал должное достоинствам Шекспира, поэтичности его языка. Но как сделать его не театральным, а живым? Образы – поэтическими и конкретными? И затем, как сделать понятным и близким современникам глубокий философский смысл Гамлета, то, ради чего написана пьеса и ради чего ей нет забвенья?
Я был участником этих поисков.
Когда я приступил к роли Гамлета, Владимир Иванович сказал мне: «Я видел Гамлетов больше, чем вы воробьев. Не интересуйтесь тем, что это человек великого таланта, могучего интеллекта, исключительной судьбы. Забудьте обо всем этом. Относитесь к Гамлету, как к конкретной живой человеческой личности, не больше. Обо всем прочем наше дело думать».
И он думал об этом «прочем». Удивительно глубокое и острое ощущение современности не покидало Владимира Ивановича в работе над «Гамлетом». Возникала атмосфера жизненной достоверности при всей глубине философского анализа.
Вот один из примеров. Владимир Иванович блистательно разделил монолог Гамлета: сначала его встреча с королем, затем слова, обращенные к матери, которая «башмаков еще не износила». Разговор с Марцелло. Поворот сцены – и Гамлет, возвратившись к себе, заканчивает монолог в одиночестве. При таком строении монолога, осязаемее становились мысли Гамлета, чувства, переполняющие его душу.
Многое можно было бы рассказать об этой удивительной работе Владимира Ивановича над шекспировской трагедией. Сам Владимир Иванович говорил о ней, как о своей лебединой песне.
Так оно и случилось. Но песня эта, увы, не прозвучала. Ни Владимир Иванович, ни его замечательный друг и режиссер Василий Григорьевич Сахновский, ни другой его верный друг Василий Васильевич Глебов, помощник режиссера, не дожили до дня спектакля.
В последние месяцы жизни Владимир Иванович вдруг вызывал к себе на дом Сахновского и художника Дмитриева и занимался с ними в неурочные часы макетом почти готового спектакля «Гамлет». Часто звонил в Комитет по делам искусств М. Б. Храпченко[2], определяя дату выпуска спектакля.
В. И. Немирович-Данченко был полон энергии, хотя мы улавливали, что лицо его было несколько бледнее, чем обычно. И вдруг весь театр всполошился рассказом о печальном посещении Владимиром Ивановичем Большого театра. А на другой день нам сказали, что Владимир Иванович в больнице. И еще через день мы узнали подробности.
Владимир Иванович вечером, как часто бывало, поехал в Большой театр, бодро вышел из машины и… оступившись, упал. Заметив, что прохожие это видели, Владимир Иванович сейчас же ловко поднялся и быстро вбежал в вестибюль Большого театра, а потом – по ступенькам довольно высокой лестницы, ведущей в директорскую ложу. Просидел, как всегда, акт и уехал. А потом – больница.
Все театральные деятели Москвы, друзья и ученики его напряженно следили за здоровьем Владимира Ивановича. Старались узнать все, малейшую подробность.
Рассказывали еще, что после этого последнего посещения Большого театра Владимир Иванович сказал своему случайному молодому собеседнику: «Какой вы счастливец! У вас впереди целая жизнь!»
«Гамлет» не увидел света рампы. Всякий поймет, что стоило театру пережить это. Я же, так мечтавший об этой роли, не сыграл ее, и теперь никогда уже не сыграю. Но репетиции не прошли для меня бесследно. Они оставили глубокий след в моей душе, в моей эмоциональной памяти.
Мне всегда казалось, что Константин Сергеевич и Владимир Иванович относились к молодым артистам с интересом, который (да простят мне мои товарищи это сравнение) может быть равен интересу охотника к щенку, с которым предстоит впоследствии охотиться. Тревога за каждого из нас, молодых, напоминала именно заботу охотника о щенке: поднимутся у него ушки или не поднимутся? И не слишком ли задран у него хвост?
До конца дней Владимир Иванович относился к нам по-отечески, считая нас членами своей многочисленной семьи. Не могу не вспомнить, как однажды Владимир Иванович, поздравляя Василия Ивановича Качалова с днем рождения, спросил, сколько ему исполнилось лет. Василий Иванович сказал – 65. Владимир Иванович долго думал и сказал: «Ха… Мальчишка!»
Мы, ныне старшее поколение Художественного театра, глубоко благодарны Константину Сергеевичу и Владимиру Ивановичу за требовательность к себе, которую они воспитали в нас.
И если у нас бывают промахи, все должны быть готовы, засучив рукава, начинать все сызнова, не щадя ни себя, ни своих сил. Да и вообще, я думаю, в искусстве, как на велосипеде: либо едешь, либо падаешь – стоять нельзя.
А как радостно было видеть Станиславского и Немировича-Данченко вместе! Помню, как-то во время репетиции, которую вел Константин Сергеевич, в репетиционный зал вошел Владимир Иванович. Константин Сергеевич и не заметил его. Он в это время, держа руки за спиной, что-то увлеченно объяснял актерам.
Владимир Иванович подошел к нему сзади, взял своими ручками огромные руки Константина Сергеевича и крепко пожал их. Константин Сергеевич быстро обернулся к нему, улыбаясь так, как мог улыбаться только Константин Сергеевич – широко, своей знаменитой белоснежной улыбкой… И мы, все присутствующие, понимали, какие мы счастливцы – мы ученики двух гениев.
…Вспоминается еще. Впервые в Москве Константин Сергеевич играет князя Ивана Шуйского в «Царе Федоре Иоанновиче», роль, которую он сыграл лишь на гастролях МХАТ в Америке. После генеральной репетиции Владимир Иванович идет к нему за кулисы. Константин Сергеевич, волнуясь, стоит около дверей своей артистической уборной.
Надо представить себе внешность Константина Сергеевича: и без того гиганта, а в роли Шуйского – с огромной бородой, необыкновенно к нему идущей, с большим мечом в руках… Образ масштаба микеланджеловского Моисея. И он-то, склонившись к элегантному, спокойно молчащему Владимиру Ивановичу, ждет покорно своей участи. Таков был непререкаемый художественный авторитет Немировича-Данченко для всех и для Станиславского тоже.
Константин Сергеевич, когда он вел репетицию и, когда на сцене происходило что-то поистине смешное, начинал так смеяться, что трудно было продолжать репетировать. А у Владимира Ивановича только лишь одно-единственное коротенькое «ха», равное гомерическому смеху Константина Сергеевича. «Ха». Небольшая пауза. И затем, в тишине зала одно его спокойное, медленное слово: «Смешно».
Иногда на репетиции Владимир Иванович начинал рассказывать о чем-то, казалось бы, совсем не имевшем отношения к ходу репетиции. Вдруг вспомнит, как сидел он с Александром Николаевичем Островским (шутка ли!) на заседании по поводу создания будущего национального общедоступного театра. И как во время дебатов о репертуаре Островский встал и сказал: «Что вы беспокоитесь, одного Островского вам хватит на сто лет».
Пауза. «Ха». И опять: «Ха. Продолжаем…»
Владимир Иванович понимал юмор, ценил его, считал, что остроумие есть высший дар: «Остроумие, это же проявление острого ума!» Но говорил он об этом всегда строго, серьезно и даже драматично… И смешное тоже рассказывал серьезно, сопровождая рассказ своим неизменным «ха».
Да, он любил бывать в Большом театре. Приедет, посидит один акт в директорской ложе, поразмышляет под музыку и уедет.
Помню, как однажды он рассказал нам, что был накануне вечером в Большом театре на «Пламени Парижа». Сидел рядом с ним человек пожилой, милый, по виду колхозник, восторженно воспринимал все, что происходило на сцене и удивлялся: оперный театр, а не поют… «Почему это, – обратился он за разъяснением к Владимиру Ивановичу, – ведь театр оперный!» Владимир Иванович объяснил ему, что балет – особый жанр, в котором петь не обязательно. А в это самое время как раз запели: в балете «Пламя Парижа» пели «Марсельезу». Человек тот заглянул в лицо Владимира Ивановича, укоризненно покачал головой и произнес: «А ты, видать, вроде меня, первый раз в театре-то». «Ха», – заключил Владимир Иванович.
Василий Иванович и Леонид Миронович
Есть разные художники. Одни несут в своем искусстве восхищение смыслом жизни, поют гимн ее красоте. В музыке – это Моцарт. Другие, показывая жизнь, как бы подают руку на борьбу. Для них жизнь – борьба. В музыке – это Бетховен.
Среди актерских индивидуальностей Художественного театра четко и ярко обозначались оба эти направления, различные, но не взаимоисключающие В. И. Качалов и Л. М. Леонидов. И тот и другой обладали несравненными природными данными, определившими своеобразие искусства каждого из них. И хотя было нечто, роднившее и объединявшее их – красота и высота интеллекта, они производили разное впечатление, подобно тому, как по-разному воспринимаются Моцарт и Бетховен.
Несомненно, и до Художественного театра в России любили и высоко ценили труд актера. Но в ту пору, когда белая чайка впервые появилась на театральном занавесе, возникло новое отношение к этому труду, к творчеству театра. И Василий Иванович принадлежит к числу тех людей, которым мы обязаны новым пониманием значения артистического труда.
Качалов – умнейший артист. Я думаю, что в мировом искусстве драматического театра таких немного. Все, что делал Качалов, всегда было изумительно умно, необыкновенно благородно. Во всем его творчестве было то, что можно назвать качаловским.
Вся качаловская природа величественна и классична. Его артистический аппарат совершенен. Василия Ивановича было отовсюду видно, отовсюду слышно. Следить за малейшим его движением доставляло безмерную радость. Голос? Я таких голосов у других людей не слыхал.
При этом он замечательно умел по-своему выражать ту главную мысль, которая всегда заключена в настоящем художественном произведении.
«Ничего подобного я не написал. Это гораздо больше, чем я написал. Я об этом и не мечтал. Я думал, что это «никакая роль», что я не сумел, что у меня ничего не вышло». Эти слова сказаны Горьким об исполнении Качаловым роли Барона в пьесе «На дне». Мало актеров, которые слышали такую хвалу от автора, да еще от такого великого, каким был Горький.
Качалов – тонко мыслящий художник, философ, гражданин.
Я видел, как работал Василий Иванович. На репетиции он обязательно приносил то, над чем работал дома. Он любил работать в одиночестве. А потом проверял найденное среди близких друзей и дальше, на репетициях.
Хорошо помню работу Качалова над ролью чтеца «от автора» в спектакле «Воскресенье».
Самое страшное, чего боялся Василий Иванович, это, что он, чтец, будет чужеродным элементом в спектакле, где все интересы зрителей прикованы, главным образом, к действию на сцене. И Качалов сумел силой своей творческой личности, своего искусства заставить зрителя искать именно в нем, в Качалове, раскрытия глубочайшего смысла толстовского шедевра.
Василий Иванович искал внутреннюю действенную активность образа «от автора». Он много думал о костюме, гриме чтеца, о месте его на сцене. И, в конце концов, добился идеального.
В синей тужурке без особого грима с карандашом в руке (единственный аксессуар его громаднейшей роли), Качалов нашел какой-то особенный артистический такт, позволивший ему проходить в двух шагах, а то и менее, мимо загримированных, одетых и действующих в это время актеров, ни на миг не нарушая гармонии спектакля.
Таков был Василий Иванович в театре, в спектакле.
А Качалов в концертах, читающий стихи или выступающий с симфоническим оркестром? Это был все тот же Качалов, который и здесь относился с таким же глубоким уважением к внимательно слушающей его аудитории, всегда ожидавшей от него чего-то нового, необыкновенного.
Мне кажется, что сила творчества Качалова была заложена в его глубоком сознании своего долга художника и гражданина. И зритель это чувствовал.
Как и в театре, Василий Иванович с эстрады всегда нес в своем исполнении большое содержание, огромное богатство мысли.
Вспоминается Ленинград, освобожденный от блокады. В эти дни группа артистов МХАТ была в героическом городе. Качалов выступал по нескольку раз в день в самых различных аудиториях города-героя, где он учился и где начинал свою артистическую деятельность.
Он играл сцены из Шекспира, читал Гоголя, стихи Блока, Маяковского, Тихонова. Играл и читал так, что мы, его товарищи, аплодировали ему вместе со зрителями. Казалось, его мастерство, зрелое и точное, вдруг по-новому блеснуло – так вдохновил артиста героический подвиг ленинградцев.
В Художественном театре все по-особому любили Василия Ивановича. В день спектакля он всегда очень рано приходил в театр. Большинство участников спектакля, зная, что Василий Иванович сегодня играет, прежде чем начать гримироваться, считало своим долгом, хотя бы на несколько минут, заглянуть к нему.
В его артистической уборной было очень уютно. По стенам развешано множество фотографий его друзей: артистов, поэтов, художников, театральных портных, которые его одевали.
Василий Иванович отдыхает, покуривая папиросу, как бы заново рассматривает заходящих к нему товарищей. Добродушная, доброжелательная улыбка не сходит с его лица. Все сообщают ему свои новости, а он рассказывает разные уморительные истории, комическим персонажем которых иногда является и он сам.
Будучи свободным, он иногда любил прийти на спектакль, посмотреть один акт из ложи. В антракте зайдет к актерам поделиться своими впечатлениями и обязательно найдет, за что одобрить.
Можно было бы многое рассказать об исключительно внимательном и чутком отношении Качалова ко всем молодым артистам театра.
У себя дома Качалов отдавал много времени своей любимой поэзии. Василий Иванович всегда готовил что-то новое. И вечером, сидя за столом, он обязательно устраивал генеральную репетицию новых работ, читая своим близким подготовленные им новые и новые стихи.
Образы, созданные Василием Ивановичем, останутся в нашей памяти навсегда, их удел – бессмертие, их место – в пантеоне русского искусства. Творчество Качалова как бы олицетворяет в себе все лучшие черты Художественного театра: его высокую идейность, общественный, гражданский пафос, тонкую интеллектуальность, совершенство мастерства. На протяжении всей своей сценической деятельности Качалов неизменно оставался верен миссии передового русского актера. Вступив в советский театр уже прославленным сложившимся мастером, он с великолепным подъемом отдавался служению нашему социалистическому обществу, и никогда раньше не было его искусство таким мужественным, строгим, таким классически прекрасным, каким оно стало в послеоктябрьские годы.
Его душа была широко открыта жизни. Мы никогда не забудем его глаза, наполненные слезами, когда он смотрел на разрушения, причиненные Ленинграду фашистскими варварами, мы никогда не забудем, каким мощным вдохновением вскипал он, выступая перед мужественными защитниками города Ленина. Это были незабываемые минуты: его талант, вдохновленный благородным патриотическим восторгом, сверкал как никогда!..
Он обладал великолепным аналитическим даром. С изумительной чуткостью умел он проникать в самые глубины творческого замысла поэта или драматурга, в совершенстве чувствовал тончайшие особенности их литературной манеры. Даже исполняя произведения писателей-современников, близких друг другу по мироощущению, по тематике, он всегда умел подмечать и выразительно оттенять то, что составляло их неповторимое творческое своеобразие.
Но что бы ни играл он, его исполнение всегда было пронизано острым ощущением современности. В любой своей роли он стремился выразить идейные потребности своего времени, своих современников. Театр никогда не был для него ограничен узкоэстетическими успехами, сцена была для него, как завещал Гоголь, кафедрой, с которой он пламенно провозглашал лучшие, благороднейшие мысли великих писателей…
Качалов сделал так много для русской сцены, что было бы невозможно даже просто перечислить здесь его роли. В каждой из них он был новатором, в каждой из них он открывал новые пути последующим поколениям актеров. И всякий раз, когда и мы, и наши потомки будут впредь обращаться к образам горьковского Барона, чеховского Тузенбаха, Гамлета, Глумова, Чацкого, Дон Жуана, мы будем внимательно и благодарно изучать сделанное Качаловым.
Одним из первых среди старшего поколения актеров Художественного театра обратился Василий Иванович к образам нашей современности. Ему принадлежит честь создания образа партизанского вожака Вершинина в спектакле «Бронепоезд 14–69», которым открывается список советских спектаклей Художественного театра. В этой роли, такой неожиданной для всех, кто знал Качалова прежде, великий артист создал подлинно народный характер, выразил всю устремленность к социалистическому будущему, всю ненависть к врагам Родины, которая жила в широких народных массах. В этой роли Качалов был прост, человечен, искренен, мягок. И монументален! Его искусство всегда было прекрасно именно сочетанием естественной простоты с поэтической обобщенностью. Он умел улавливать тончайшие переходы в психологической жизни своих героев и никогда не разменивался на мелочи, давая в каждой роли строгие и крупные обобщения. Так было и в спектакле «Блокада» Всеволода Иванова, где Качалов создал – опять-таки первый на сцене Художественного театра – героический образ большевистского комиссара.
Огромную роль сыграл он в пропаганде советской поэзии. Он любил стихи и знал их так много, что не раз изумлял самих поэтов своей феноменальной осведомленностью. Он мог читать стихи всегда, и казалось, что в мировой поэзии не было поэта, которого бы он не знал. Рассказывают, что незадолго перед смертью его посетила группа врачей. Чтобы точнее узнать состояние его здоровья, они попросили артиста продемонстрировать им состояние его голоса. И, тяжело больной, он начал читать им стихи. Он читал почти час, и врачи стояли около его постели и плакали – так потрясло их это зрелище великого таланта, несокрушимого в своем вдохновении и все же обреченного на смерть.
Он был весь воплощение жизни, весь устремлен в будущее… С какой надеждой торопил он завтрашний день советского театра, в прекрасном будущем которого он был непоколебимо уверен, с какой верой всматривался он в лица молодежи, которая всегда платила ему за его дивный дар такой горячей и нежной любовью!
Я слышу дивную музыку его голоса, произносящего бессмертные пушкинские строки:
…И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть…Он очень любил эти стихи, ибо они выражали сущность его оптимистического и мужественного мировосприятия. Он был воинствующий художник, он жил и умер как великий патриот, как артист, весь свой талант, все свое вдохновение отдавший своему народу.
Память о нем бессмертна…
Могучий – это определение, пожалуй, наиболее точно соответствует художественному и человеческому облику Леонида Мироновича Леонидова. Его деятельность в театре вызывает своей силой и яркостью удивление, радость, восторг. Если бы я не видел Леонидова на сцене, я никогда не понял бы, что такое – «мочаловское» в театральном искусстве. И когда я смотрел игру Леонидова, я думал, что легендарный темперамент и яркость Мочалова давались ему такой же дорогой ценой, как и Леонидову.
Путь Леонидова в искусстве был труднее, мучительнее обычных проторенных путей артистов. Он был великий актер. Но не было в его актерской судьбе благополучия. И оттого, что неосуществленными остались многие его замыслы, и, главное, оттого, что прожить с образом и в образе так, как умел Леонидов, было невероятно мучительно и трудно. Он слишком широко и глубоко вбирал в себя жизнь образа, весь, без остатка, отдавался ей. Именно это подчас очень мучило его и привело однажды к тому, что он возненавидел сцену. Для Леонидова не было праздником выйти на сцену, ибо его состояние перед спектаклем походило на казнь, так он волновался за свою психотехнику, подчинится ли она ему. Причем для Леонидова не было разницы между премьерой и рядовым спектаклем. А условного искусства для него не существовало. То, что Станиславский называл искусством представления, Леонидов не понимал и не принимал.
Человек большой совести, так часто недовольный собой, неимоверно требовательный к себе, Леонидов не терпел никакого преувеличения, наигрыша, позы. Он ненавидел театральщину. Но он любил театр – театр, в котором мысль и страсть, свободные от всего внешнего, очищенные от всевозможной бутафорской фальши, живые, острые, трепещущие представали перед зрителем во всей своей человеческой простоте и значительности и потрясали его. Именно такому театру служил Леонидов. Он для меня и по сей день остается недосягаемым примером полноты органической жизни актера на сцене. Это был неповторимый инструмент. И когда ничто не мешало ему звучать в полную силу, происходило то, что называется великим искусством.
Прекрасно помню репетиции «Отелло» с Леонидовым в заглавной роли. Некоторые из них навсегда останутся в моей памяти, как самое сильное впечатление от артистического творчества. В моменты особого подъема голос Леонидова приобретал львиную силу, способность какого-то внутреннего клокотания, от которого сжималось сердце.
Но я помню и тот час, когда Леонид Миронович вышел на сцену и впервые увидел великолепные декорации Головина. Мне, стоящему рядом, как электрический ток, передался его испуг. Кругом все восхищались декорациями, а он был подавлен их пышностью и великолепием. Тогда он еще не был в костюме. Когда же его загримировали и надели на него изумительный костюм работы того же Головина, артист еще больше растерялся – сколько ненужных для его искусства кисточек было в этом костюме!
И вот премьера. Я не мог усидеть в своей уборной и бродил по коридору, беспрестанно зевая от волнения. Вдруг я услышал голос Леонида Мироновича:
– Борис! Что вы зеваете? Мне даже завидно. Я сейчас приду к вам в уборную.
«О ужас! – подумал я. – Леонид Миронович принял мои зевки за равнодушие и спокойствие».
Он пришел, сел, и я увидел его лицо в гриме. Оно показалось мне чрезмерно черным. Грим нивелировал прекрасную скульптурную выразительность его лица. Блестящее одеяние, казалось, сковывало его движения. Как это все было досадно неверно! Но я не мог ему этого сказать. Так мы и сидели – две молчаливые, нахохлившиеся фигуры в маленькой уборной…
Последний звонок. Пора. Стоим за кулисами, ожидая выхода: впереди – Леонидов, за ним – все мы, остальные участники спектакля. Помощник режиссера Сергей Петрович Успенский приглашает:
– Пожалуйста, на сцену…
Я так волнуюсь, что боюсь посмотреть в лицо Леониду Мироновичу. Наконец, слышим его голос, предельно точно. Леонидов очень любил и учил нас, молодых, доносить мысль четко и ясно, чтобы она была понятна зрителю, чтобы ничем не была раздроблена, не приукрашена ничем.
Начинается сцена в сенате.
Что дочь увез у старика я – правда, Не выдумка и то, что я на ней женился…Легко, свободно преодолевает Леонидов подступы к своему знаменитому монологу. Наконец, идет и сам монолог. Такой настоящей красотой большого чувства, такой покоряющей гордостью за человеческое счастье дышит каждое слово, произнесенное Отелло-Леонидовым! Чувствую, что спазмы сжимают грудь, клубок подкатывается к горлу.
И вдруг замешательство: Леонидов остановился, а монолог еще не кончен. Пауза? Нет. Что же случилось? Лихорадочно ищу причину. Мурашки бегут по телу. Взгляд падает случайно на кресло, возле которого он стоит, и я вижу, что одна из кисточек его костюма зацепилась за какое-то замысловатое украшение этого кресла. И сразу вспомнилась тревога, охватившая Леонида Мироновича, когда он увидел впервые всю эту роскошь декораций и костюмов. Какое обидное, мучительное препятствие! А Леонидов молчит, молчит… Он уже не понимает, что случилось. Еще какое-то мгновение – и он окончательно выбьется из роли. Подбегаю к креслу, пытаюсь вытащить эту великолепную, эту ничтожную кисточку. Руки дрожат, ничего не получается. Мелькает мысль: оборвать! Но я же могу дернуть за костюм… Решаюсь. Обрываю! Удачно…
Леонидов поднимает руки, продолжает монолог. Вот и конец его:
Она меня за муки полюбила, А я ее за состраданье к ним Вот вся волшба, что я здесь применил. Она идет сюда. Пусть подтвердит.Лицо Отелло-Леонидова светится счастьем от сознания своего права на эту выстраданную, завоеванную, нерушимую любовь…
Пауза, если и была замечена, то прощена.
Были в спектакле моменты, когда Леонидов потрясал. Никогда не забуду сцену «Козлы и обезьяны»! Леонидов сыграл ее так, что Иван Михайлович Москвин прибежал к нему в уборную, обнимал, целовал, благодарил. А с какой исполинской силой прерывал Отелло-Леонидов шум и драку в бурной сцене опьянения Кассио. До сих пор звучит у меня в ушах окончание его гневной реплики: «…и в кар-рауле!!!»
Но в целом, облаченный в пышный головинский костюм, окруженный красочными головинскими декорациями, Леонидов не вернулся в спектакле к тому великому, трагическому образу, который он создал на репетициях в простом пиджаке.
Примерно то же самое произошло с Леонидовым несколько ранее в «Пугачевщине». Я хорошо помню репетиции этого спектакля. Они были «леонидовскими» в полном смысле этого слова. Но в спектакле лишнее количество цветовых пятен противоречило каким-то самым важным для Леонидова законам театра, мешало темпераменту артиста проявиться во всю свою мощь, не давало Леонидову стать тем Пугачевым, каким он был на репетициях. Много было и других случаев, когда мы, актеры, буквально дрожали за судьбу спектакля, опасаясь, что появится какая-нибудь «кисточка» и помещает ему, не даст потрясти зрителей той силой, которую мы-то очень хорошо знали. Был, например, случай на одном из спектаклей «Отелло», когда Леонидов, стоя на сцене в красивом зале сената, долго смотрел на декорацию, на костюмы сенаторов и дожа и вдруг – как вывод! – стал пятиться назад, еще, еще и уже откуда-то из-за камина начал свой монолог.
Когда я думаю о Леонидове, меня неотступно преследует одна мысль: как могло случиться, что Леонидов стал играть Отелло в Художественном театре так поздно, когда он уже нес на своих плечах слишком большой груз всяческих огорчений и разочарований. И горестно от сознания, что Леонид Миронович сыграл так мало трагических ролей в сопоставлении с тем, чего от него ждали в этом репертуаре его современники. Трагическая участь трагического артиста…
Я думаю, что если бы «Отелло» (не хочу и не имею права никого обвинять) был поставлен в Художественном театре лет на пятнадцать раньше, если бы Константин Сергеевич Станиславский писал свой план не вдали от исполнителя заглавной роли, то иной была бы судьба спектакля и созданного в нем Леонидовым образа. И уж, конечно, Константин Сергеевич не допустил бы появления ни одной «кисточки», ибо он так же ненавидел их, если они хоть в малейшей степени могли помешать актеру.
При одном взгляде на Леонидова чувствовалось, что этот человек живет чем-то очень значительным. Такой же значительностью были проникнуты и созданные им образы. Он любил взять в роли главное. Он намечал для себя в образе одно большое, всепоглощающее чувство и шел к нему и от него.
В Дмитрии Карамазове таким стержнем была любовь к Грушеньке и сознание своей невиновности. Мне выпало счастье увидеть Леонида Мироновича в этой роли в самом начале моей работы в театре. С тех пор и по сей день у меня не было более сильных впечатлений от искусства, я имею в виду все виды искусства. Высокий, стремительный, весь сжигаемый, испепеляемый каким-то внутренним огнем – таким стоит передо мной Дмитрий-Леонидов. А глаза! Какие глаза! Фотографии не могут передать и десятой доли той силы мысли, какую они излучали. Причем не только тогда, когда он произносил вслух ту или иную мысль, но и когда он молча думал о том, что не виновен в смерти отца.
– Борис, вы знаете, я вообще не люблю играть, – говорил мне как-то Леонид Миронович. – Черт его знает, не понимаю, что главное. И понимаю и не понимаю. А вот Дмитрий… Разбудите меня ночью – выйду: «В крови отца моего не повинен…» И могу играть.
Сколько бы раз не приходилось видеть эту потрясающую сцену «В Мокром», нельзя было смотреть ее и даже вспоминать о ней без слез.
Плюшкин Леонидова был тяжел, страшен, даже могуч – в такую степень возводил артист страсть стяжательства. Это был Плюшкин не из поэмы, а из трагедии.
В «Страхе» я ни одной минуты не сомневался в том, что передо мной настоящий профессор. Здесь у Леонидова главным «зерном» всей роли была убежденность в верности своей идеи. Это был русский ученый, хорошо знающий свое место в науке, очень уверенный в себе. Он всеми силами (леонидовскими силами!) отстаивал свои интересы. И если уж Бородин-Леонидов чего-нибудь не принимал, то это было сто Бородиных, а не один, – такова была сила противодействия. Когда же леонидовский Бородин видел и понимал свою ошибку, он был очень мужественным. У Певцова, великолепного, блистательного исполнителя этой роли, здесь как бы наступало второе рождение. У Леонидова проявлялись жесткость и сила. Он оставался тем же Бородиным, но все у него становилось на свои места. Леонид Миронович очень любил эту роль, очень гордился ею. Станиславский, которому мы показывали «Страх» у него дома, перед выпуском спектакля, был в восторге от Леонидова, хвалил его, благодарил.
Константин Сергеевич любил и ценил в искусстве все то, что несет в себе большую правду – правду, рожденную взыскательным и строгим отбором жизненных явлений, крупностью понимания и простотой выражения человеческих чувств. Именно за такую крупность понимания, простоту выражения и силу чувств ценил и любил Станиславский Леонида Мироновича Леонидова.
В свою очередь, Леонидов боготворил Константина Сергеевича. Он считал Станиславского своим великим учителем и был одним из самых верных, самых последовательных и самых честных пропагандистов его «системы». Как никто другой, понимал Леонидов истинный смысл и назначение «системы». С присущей ему честностью и резкой прямотой он писал:
«Свет искусства, принесенный Станиславским, будет освещать творческий путь настоящих артистов. Спекулянты, торгующие системой Станиславского, не заслонят ее величия и правды… Надо ее чувствовать, с этим надо родиться. Я не верю, что может научиться играть по «системе» человек, не имеющий для этого задатков»[3].
Ту же мысль Леонидов выразил в своей знаменитой фразе, заменившей ему однажды целую лекцию об искусстве актера:
– Для того, чтобы быть актером, нужно иметь одно: талант.
Будучи художественным руководителем Государственного института театрального искусства, Леонид Миронович стремился «не замудрить» «систему», чего, кстати, так боялся и сам Станиславский. Большая человеческая мудрость, громадный творческий опыт подсказывали Леонидову, что «система» не всегда может помочь. Сам он никогда не полагался в своей актерской практике только на метод как таковой.
Леонид Миронович всегда настораживался, если где-то в его творчество проникал «сальеризм». Алгеброй поверять гармонию он не счел возможным. Это было ему противопоказано.
Когда МХАТ готовил пушкинского «Скупого рыцаря» (Леонидов должен был играть роль Барона), пригласили для занятий с актерами по чтению стихов С. В. Шервинского, крупного знатока в этой области. Леонидов был очень внимателен на занятиях, терпеливо все записывал, при разборе стихов все размечал в своей тетрадке. Потом мы читали свои роли, и Шервинский останавливал нас и поправлял. Дошла очередь до Леонида Мироновича. Шервинский остановил и его, сделал ему какие-то замечания. Леонидов выслушал, поблагодарил, а потом неожиданно:
– Извините, я больше сюда не приду.
И ушел.
Нет, не ложное самолюбие, не уязвленная гордость двигали им! Он был бесконечно далек от этого. Но он не любил разнимать искусство на части, и, при всей своей необыкновенной требовательности к себе, боялся излишних анализов, которые могли спугнуть его актерскую интуицию, боялся мудрствовать лукаво и не терпел искусственности, ящиков, по которым все можно было разложить. У него существовали свои яркие представления о законах выразительности театра, о смысле деятельности актера. И он никогда не поступался ими, был верен им до конца.
Неотъемлемое качество Леонидова – гражданственность. Без этого качества просто невозможно представить себе человеческий и художнический облик Леонида Мироновича. Высокий гражданский пафос пронизывал все его страстные публицистические выступления, устные и печатные, всю его творческую работу актера, режиссера, педагога. Отсюда шло его непременное требование к себе, к товарищам, к своим ученикам – отчетливо понимать, какова главная задача роли, пьесы, всего театра, всего искусства родной страны в каждый данный момент, сегодня.
Облик Леонидова будет неполон и односторонен, если не вспомнить Леонида Мироновича смеющимся, жизнерадостным, любящим шутку, острое слово. Никогда не забуду одного заседания Художественного совета нашего театра. Я случайно сидел рядом с ним. Слушая докладчика, я по привычке набрасывал на листке бумаги его портрет. И вдруг над самым ухом (а доклад был очень серьезный) раздалось:
– Ох-о-хо-хо! У-ух-у-ху-ху!
Это смеялся Леонид Миронович: он заглянул через мое плечо и увидел рисунок. После этого случая он частенько даже подзадоривал меня:
– Борис, нарисуйте вот этого!
Вспоминается разговор Леонидова с Немировичем-Данченко, о котором рассказывал сам Леонид Миронович. Владимир Иванович, разбирая однажды недостатки какого-то спектакля, сказал Леонидову: «Ну, а об этом мы поговорим с вами уже на том свете.» На что Леонидов ответил:
– Нет уж, на том свете оставьте меня в покое…
Любил Леонид Миронович рассказывать о том, как его приглашали сниматься в кино. Ему позвонили по телефону, и говорят: «Мы хотим, чтобы вы снимались в такой-то картине, чтобы вы играли такую-то роль, чтобы вы делали то-то и т. д.» Леонидов слушал, молчал и, когда его, наконец, спросили: «Ну, так как, Леонид Миронович?» – он в свою очередь ответил вопросом: «Я все жду, когда вы меня спросите, хочу ли я…»
Когда мы репетировали «Страх», Леонидов все время беспокоился, что у меня в роли недостает национальной характерности.
– Борис, ведь Кимбаев – казах, а у вас он русский. Не пора ли подумать и об этом?
Леонид Миронович не знал, что я усиленно работал именно в этом направлении, даже специально занимался дома с казахом. А я нарочно никому ничего не говорил, не будучи уверен в том, что и как у меня получится. Потом на одной из репетиций, уже в гриме, я вынес все наработанное на сцену. И вдруг я слышу из зала:
– Жулик!
– Что, кто?
– Вы!
Это Леонид Миронович радовался тому, что я обманул его, что роль у меня идет хорошо. И не было для меня одобрения большего, чем этот ласковый, шутливый возглас…
Формально Леонидов не был моим учителем. Но я, вероятно, как и многие мои товарищи, считаю себя его учеником. Своим могучим, неповторимым искусством он преподал мне незабываемые уроки. Всем своим творчеством он дал мне возможность ощутить и понять великий смысл и назначение театра. За это я буду благодарен ему всегда.
Ах, какое это великое свойство таланта – быть достойным задач своего времени! Какие же могут быть разговоры об умирании школы Художественного театра!
У театра могут быть удачи и неудачи, ошибки последователей. Наконец, недостаток талантов, которым хватило бы сил запечатлеть эпоху. Но никак нельзя заподозрить какого-либо несовершенства в самом методе.
Не все, что создается сейчас в нашем театре, можно считать удачным. Отнюдь не все. Но должно ли это означать, что мы разочаровались в Станиславском? В Немировиче-Данченко? В Художественном театре? Мы можем разочароваться лишь в себе самих, но не в Художественном театре. И уж тем более не в великом искусстве и заветах его создателей!
1943–1963 годы
Е. К. Ливанова Встречи, друзья, годы…
Учился Борис Николаевич в Москве, в реальном училище на Садово-Кудринской. Рядом на Новинском бульваре жил Шаляпин. Он часто прогуливался возле своего дома. Еще издали, сняв фуражку и держа ее по форме, Борис Николаевич громко говорил:
– Здравствуйте, Федор Иванович!
– Здравствуйте, мальчик, – отвечал всегда Шаляпин.
В 1929 году Ирина Федоровна Шаляпина привезла из Парижа фотографию: «Борису Ливанову на память – от Ф. Шаляпина».
Ирина Ливанова Большой путь на Байконур
Шестнадцати лет, завысив за счет высокого роста свой возраст, Б. Н. Ливанов вступил в ряды Красной Армии. По просьбе редакции об этом этапе жизни артиста рассказали его друзья и бывшие командиры, воины-ветераны генерал-полковник Н. П. Дагаев и полковник А. Н. Стриженов, отец известных артистов Олега и Глеба Стриженовых.
А. Н. Стриженов: Как-то мой Олег снимался вместе с Василием Ливановым. Я спрашиваю: «Это Бориса сын?» Василий говорит: «Разрешите вас познакомить с отцом». А что нас знакомить, когда мы друг друга знаем с 1920 года, с Тургайских степей, где я командовал дивизией особого назначения, брошенной на борьбу с Колчаком и Дутовым. Борис принимал участие в ночном рейде против банды Ибрагим-Бека. Шли они на конях и на верблюдах. Утром стали своих подсчитывать: вернулись только те, кто был на конях. Погиб и замечательный кавалерист Степан Звяга, я бы сказал, второй Чапаев, из казаков. Борис привел его коня. Седло было окровавлено[4]…
Валентин Катаев Боря Ливанов
Впервые я увидел его в Художественном театре в двадцатых годах.
Двадцатые годы. Неповторимое время нашего перехода от юности к зрелости. Об этом удивительном времени можно было бы исписать тонны бумаги. Но необъятное не обнимешь.
Начало второго или третьего акта. Идет занавес с белой чайкой. На авансцене длинный, по-провинциальному обильный праздничный стол. То ли именины, то ли еще что-то. По-видимому, ожидаются гости, но пока еще сцена пуста. Лишь один молодой человек, высокий, могучего сложения, с малообещающим плотоядным лицом и развязными манерами уездного хама (первый гость), ходит вокруг стола, пристально разглядывая закуски и бутылки.
Он не произносит ни одного слова. Мимическая сцена длится минут пять. Пять минут сценического времени – это целая вечность.
Подобные паузы обычно потом входят в историю театра как легенда. В то время, например, ходила легенда о знаменитой паузе Топоркова в Театре Корша, не помню уж в какой пьесе, когда он повсюду искал свалившееся с носа пенсне, а оно болталось на шнурке.
Эта пауза считалась рекордом. Ливанов побил этот рекорд, «перекрыв» Топоркова на одну минуту.
Зрительный зал внимательно следит за действиями молодого актера, в то время почти еще неизвестного. Никто не кашляет. Затаили дыхание.
Больше того: чопорная публика Художественного театра против своей воли как бы вовлечена в игру. А игра состоит в том, что, оказавшись наедине с накрытым столом, молодой человек, не стесняясь, сует нос в закуски, трогает пальцами студень, любуется поросенком, переворачивает его и так и сяк, передвигает тарелки, сует в рот куски пирога, чавкает, мурлыкает от наслаждения и, обходя со всех сторон стол, в конце концов, разрушает всю его архитектуру, превращает в беспорядочную кучу еды и посуды, словом, ведет себя свинья-свиньей. При этом сохраняет обаятельную улыбку и детское простодушие, как бы даже не подозревает, что он совершает непристойность.
Отличный образец сценического самочувствия, которое Станиславский называл публичным одиночеством.
Вся эта мимическая сцена заканчивалась шумными аплодисментами, что во время акта случалось тогда не так-то часто, особенно в Художественном театре.
Небольшой эпизод, сыгранный молодым Ливановым, был единственным живым местом в скучной пьесе, где роли исполняли почти все звезды из мхатовских актеров старшего поколения во главе с Москвиным.
Молодой Ливанов переиграл всех.
Наша дружба началась с моей «Квадратуры круга» – маленькой комедии-шутки, которую с благословения Станиславского поставил на своей Малой сцене Художественный театр для того, чтобы дать работу молодежи: Яншину, Грибову, Бендиной, Титовой, Титушину и, конечно, Ливанову.
Режиссером-постановщиком был столь же молодой, полный чувства внутреннего юмора Горчаков, а руководителем постановки Немирович-Данченко.
Репетировали почти целый год, я часто бывал на репетициях, сошелся со всеми актерами, занятыми в спектакле, в особенности же с Ливановым, который с той незабвенной поры стал для меня на всю жизнь просто Борей.
Мы были молоды, быстро подружились, перешли на «ты». Ничто так не сближает людей, как театр, его особая закулисная, репетиционная атмосфера, в особенности же успех спектакля. Успех «нашего» спектакля превзошел все ожидания. С тех пор и уже на всю жизнь Боря Ливанов стал «моим актером», а я стал «его автором», хотя, в дальнейшем, пути наши в понимании театрального искусства разошлись.
Но, все равно, дружба осталась.
Ливанов был красавец высокого роста, почти атлетического сложения, темноволосый, с черными, не очень большими глазами, озорной улыбкой, размашистыми движениями, выразительной мимикой. Широкая натура, что называется «парень – душа нараспашку», однако с оттенком некоего европеизма.
Он был постоянно одержим какой-нибудь самой невероятной идеей. Одно время, например, он высказывал ту мысль, что государство должно устанавливать размер заработной платы каждому человеку, в особенности актеру, в зависимости от его роста, веса и аппетита: маленькому поменьше, большому побольше.
Я думаю, эта идея поселилась в голове Ливанова вследствие его громадного аппетита, резко расходящегося с небольшим жалованьем начинающего актера.
Аппетит у него был громадный. Рассказывали, что однажды в гостях он один съел целого гуся и попросил добавки. Но это, конечно, один из театральных анекдотов.
Он всегда находился в состоянии творческих поисков, творческой неуспокоенности. Он вынашивал идею создания некоего совершенно нового театра, где бы на ярко освещенной, совершенно пустой сцене, на зеркально начищенном паркете наклонной площадки действовали бы без всяких аксессуаров актеры – без грима, но в специальных легких шелковых одеждах вроде японских халатов.
Он делился со мной своими идеями, облапив меня за плечи и пылко дыша мне прямо в лицо, причем глаза его тревожно и вопросительно блестели.
– Да? Не правда ли, это будет здорово! Ты со мной согласен?
Иногда, если наша встреча происходила на улице, и нам мешали прохожие, он загонял меня куда-нибудь в подворотню, в подъезд или даже нетерпеливо запихивал в телефонную будку, запирал неподатливую дверцу, и там, в полумраке, навалившись на меня, как медведь, продолжал развивать свою идею.
Казалось, из его глаз выскакивают искры статического электричества.
Он обладал даром карикатуриста, и его шаржи на знакомых актеров приводили в восхищение даже профессионалов.
В «Квадратуре круга» он играл роль Емельяна Черноземного – доморощенного молодого поэта так называемой «есенинской школы», что тогда называлось «упадничеством».
Подобных есенинских эпигонов, приехавших из деревни в Москву за славой, в то время развелось великое множество, такой тип я и вставил в свой водевиль.
Режиссура спектакля во главе с Немировичем-Данченко представляла себе Емельяна Черноземного неким есениноподобным типом, кудрявым золотоволосым парнем, голубоглазым, с розовыми херувимскими щечками, в косоворотке, чуть ли не в лаптях.
Ливанов усердно репетировал, но не выражал никакого мнения относительно внешности своего персонажа, предложенной ему режиссурой.
Незадолго до генеральной репетиции он даже надел кудрявый парик, нарумянил щеки и подвел глаза синей краской для того, чтобы они со сцены выглядели голубыми.
По общему мнению, репетировал он весьма пристойно, и роль должна была у него получиться, если не блестяще, то, во всяком случае, вполне на уровне Художественного театра.
Все шло хорошо. Но вот настала генеральная репетиция с публикой, с «папами и мамами».
И тут произошло нечто небывалое, совершенно невероятное в истории Художественного театра. Ливанов вышел на сцену в неожиданно новом образе. Вместо кудрявого парика, на его голове торчала щетка жестких волос, особенно высоких спереди, над лбом; нос был длинный, извилистый; на щеках веснушки; вместо рязанской косоворотки на его могучее тело был натянут модный по тогдашним временам пуловер с ромбовидным рисунком, доморощенное изделие Мосшвеи, купленное, по-видимому, Ливановым за свой счет. Выпяченная грудь…
Словом, совсем не то, что было утверждено режиссурой.
Увидев Ливанова-Емельяна Черноземного в таком виде, Немирович-Данченко, принимавший спектакль, побагровел от ярости, нервно погладил свою элегантно подстриженную бородку с изнанки, то есть от горла к ее вздернутой периферии, издал зловещий звук – нечто среднее между мычанием и стоном, – и мы все, сидевшие рядом с ним, поняли, что за свое самоуправство Ливанов немедленно же после спектакля будет с позором изгнан из прославленного театра.
Однако ничего не подозревающая публика встретила выход Емельяна Черноземнова веселым смехом, а когда он стал произносить свой текст, то смех усилился.
Образ, созданный Ливановым, был настолько близок к весьма распространенному в то время типу молодых поэтов-графоманов (комический гибрид эпигонов Есенина и Маяковского, с некоторым внешним сходством с молодежным самородком Иваном Приблудным), что зрительный зал пришел в полный восторг, и роль Емельяна Черноземного, гротескно поданная Ливановым, вопреки всем строгим традициям Художественного театра, прошла, как говорится, «на ура», первым номером.
Успех Ливанова был так очевиден и так велик, что мудрый дипломат Немирович-Данченко сделал вид, что ничего криминального не заметил, отечески похвалил за кулисами Ливанова, утвердил его самостоятельный грим и костюм, причем дал понять, что, в сущности, этот образ таким и был задуман им самим.
Впоследствии Ливанов редко прибегал к столь острому гротеску, почти клоунаде. Он органически вписывался в строго реалистический стиль Художественного театра, и его молодой, сильный талант ширился и углублялся с каждой новой ролью, в которую он все же всегда вносил нечто свое, особое, остроливановское.
Сейчас имя Ливанова так ярко блестит в созвездии великих мхатовцев старшего, среднего и молодого поколения, что об этом нет необходимости здесь упоминать: и так все ясно. То, что Ливанов ушел от нас навсегда, не меняет дела. Он был, есть и будет до тех пор, пока существует МХАТ.
Здесь же мне хочется вспомнить лишь молодого, начинающего Ливанова.
Кстати, вспоминается такой случай.
Однажды в Кисловодске, в то время, когда ставилась «Квадратура», я встретился с отдыхающим там Станиславским, и мы разговорились о дальнейшей судьбе Художественного театра.
В то время как, впрочем, и всегда, всю свою жизнь, Константин Сергеевич много думал о дальнейшем творческом пути своего театра и о тех молодых актерах, которым предстояло прийти на смену знаменитым мхатовским старикам.
Между прочим, характеризуя молодых актеров, занятых в моем водевиле, Станиславский вдруг остановился посредине аллеи кисловодского парка и сказал:
– А вы знаете, как это ни покажется вам странным, но ваш друг Боря Ливанов со временем займет в нашем театре место Качалова. Я это предсказываю!
При этом Константин Сергеевич посмотрел на меня сверху вниз сквозь пенсне с резко-черными ободками своими милыми, проницательно прищуренными глазами.
Тогда, признаюсь, мне это показалось невероятным. Но Станиславский оказался прав.
Ливанов очень любил Качалова, был с ним в близкой дружбе, и в честь Качалова впоследствии назвал своего сына Василием.
Помню Ливанова во многих ролях, но почему-то мне особенно видится он в роли Кассио в шекспировском «Отелло»: молодой, красивый, стройный, благородный, веселый, простодушный воин-офицер, скандалист, с обнаженным мечом в руке, в боевом шлеме, озорно сдвинутом немножко набекрень.
В. В. Шверубович Молодой друг Качалова
В 1926 году в крошечной квартире Качаловых появился новый гость, очень застенчивый и тихий юноша, недавно принятый в труппу МХАТа, актер Борис Ливанов. Привел его к себе Василий Иванович потому, что начались репетиции гамсуновской пьесы «У врат царства», где Ливанов получил в очередь с Виктором Станицыным роль Бондезена. Василию Ивановичу Борис очень понравился в Шаховском и вообще производил на него приятное впечатление по закулисным встречам.
Василий Иванович совсем особое значение придавал юмору, а Ливанов обладал им в самом приятном Василию Ивановичу качестве – и в пассивном, то есть был (и, главное, не боялся быть) смешным, и в активном, то есть умел умно и остро смешить. В те времена он был еще очень скромен и застенчив, но и сквозь эту завесу робости прорывалась мгновенная реакция, чувствовалась такая острая наблюдательность, что его ярлыков, его прозвищ и кличек начинали опасаться, потому что они мгновенно распространялись по труппе и прилипали к людям цепко и надолго.
Квартира Качаловых была в бывшей дворницкой, помещавшейся во втором этаже небольшого домика в глубине двора Художественного театра. Она состояла из трех крошечных комнаток, в которых жили Василий Иванович, Нина Николаевна, две сестры Василия Ивановича, и почти постоянно ночевала не имевшая мало-мальски благоустроенного жилья О. И. Пыжова. Жили, вот уж поистине, «в тесноте, да не в обиде». Небольшая столовая была ежевечерне (вернее сказать, еженощно, так как засиживались до двух-трех часов) полна – здесь постоянно бывали Судаков, Баталов, Еланская, Андровская, Сахновский, П. А. Марков, здесь часто бывали А. Я. Таиров, А. Г. Коонен, поэт Анатолий Мариенгоф с А. Б. Никритиной, Н. Р. Эрдман, скульптор С. Д. Лебедева. Бывали Борис Пильняк, А. Н. Толстой и Вс. И. Иванов. Несколько раз был Есенин.
Собирались после спектаклей, часов в одиннадцать, и сидели до двух-трех, было почти всегда очень шумно, но не шумно-весело, а скорее шумно-яростно от споров. Ливанов не принимал в этих спорах участия, очевидно не считая себя достаточно авторитетным для этого, не ощущал себя на уровне спорящих, а может быть, ему интереснее, даже нужнее было оставаться в стороне и накапливать наблюдения. Делал он это с напряженным вниманием, как бы изучая каждого, вслушиваясь и всматриваясь в спорящих, улавливая в них характерное, юмор, злость. Мне кажется, что тема спора его интересовала меньше, чем выражение лица спорящего, его жесты, интонации. Оставаясь наедине с Василием Ивановичем или в кругу самых близких людей, Борис талантливо «разоблачал» вчерашних гостей, имитировал не только их внешние данные, но и их лексику, их словесные штампы, сорт и качество их темперамента. Василий Иванович очень любил узнавать изображаемых сам, а Ливанов гордился, когда по одному жесту, по одной интонации узнавался объект его наблюдений. Постепенно он становился смелее, но гораздо раньше, чем принимать участие в спорах и, как впоследствии, «держать площадку», он стал, как Василий Иванович его определял, «царем реплик», то есть обрел искусство вовремя (а иногда для кого-то и очень не вовремя) подкинуть фразочку, а то и просто междометие, коренным образом меняющее смысл речи «предыдущего оратора», придающее ей неожиданную двусмысленность или вносящее в спор юмор. Иногда на него обижались, но чаще оценивали его реплики по достоинству и смеялись.
Как я уже сказал, работа над ролью Бондезена была поводом появления Ливанова в качаловском доме, эта же роль оказалась и первой совместной творческой работой, сдружившей их и придавшей их дружбе творческий характер. В этой работе родилась их взаимная заинтересованность, вера друг в друга, и главное, во вкус и верное понимание, в художественное чутье друг друга.
Василий Иванович очень любил «Врата». Любил и старый спектакль, когда его Элиной была Мария Петровна Лилина, которую он исключительно высоко ценил как актрису и партнера, но особенно он полюбил это произведение, когда сам переделал пьесу, переписал заново, изменив ее идейную направленность. Предыдущими Бондезенами (В. В. Лужский, Н. О. Массалитинов) Василий Иванович не был доволен. Ему казалось, что не следует слишком примитивно понимать этот образ. Если видеть в нем просто хлыща, пошляка, дешевого дамского угодника – это снижает образ Элины, образ очень дорогой для Василия Ивановича. Ему хотелось, чтобы Бондезен был таким же молодым и увлеченным страстью, как Элина, чтобы он не был холодным соблазнителем и развратителем, а сам вспыхнул и загорелся тем же «весенним пламенем», которое так свойственно гамсуновским героям и которым горит Элина. Автор заставляет ее надеть красное платье – символ этого пламени. Василию Ивановичу хотелось, чтобы такое же «красное платье» чувствовалось и на Бондезене. Чтобы в их романе был не пошлый флирт, а вспышка юной любви. Пусть эта любовь возникла у Элины из стремления возбудить ревность Карено, но она возникла, возникла настоящая, такая, как нужно было, чтобы оправдать, облагородить ее образ и этим оправдать любовь к ней Карено, не компрометировать его любовь к пустой и легкомысленной бабенке.
Режиссура стремилась к тому, чтобы их любовь была красивой, и этого добиться было нетрудно – так красивы были они оба, так молоды, пластичны и грациозны.
Работа над «Вратами» очень сблизила Ливанова с качаловской семьей. Василий Иванович и Нина Николаевна очень ценили умение Бориса понять чужую мысль и, главное, не только и не просто понять, но сделать своей. Ценили его гибкость, свойственное ему уже тогда богатство красок на его актерской палитре, обилие приспособлений и, главное, тонкий и острый ум. Когда осенью 1928 года Качаловы переехали в новую квартиру, Ливанов был уже абсолютно своим в семье. Без него не решался ни один вопрос обживания нового жилья – он вместе с Василием Ивановичем развешивал картины и портреты, решал с Ниной Николаевной, как расставить мебель, и т. д. Во все это он вносил столько фантазии и юмора, что смех стал обязательным элементом атмосферы дома. Вначале с его участием составлялись списки гостей, а потом он уже сам решал все вопросы приглашения людей, он приводил то одного, то другого нового человека и многие из них делались своими и становились постоянными гостями дома. Он как-то привел поэта Приблудного Ивана, который ходил не реже двух-трех раз в неделю, все написанное им за эти годы было впервые прочитано у Качаловых. Потом уже, вместе с Приблудным они привели его приятеля, молодого певца Р., с огромной мощности голосом – баритоном. Василию Ивановичу очень нравилось пение Р., но тот постоянно кокетничал, страдал, что приходится петь без аккомпанемента. Решили приобрести инструмент. Для рояля в квартире не было места, а пианино было трудно купить, да еще учитывая категорическое требование Нины Николаевны, чтобы оно было не черное – она считала, что ничего более некрасивого в обстановке квартиры, чем черное пианино, нельзя придумать. Начались поиски. Поскольку этим заняться было поручено мне, а я очень мало понимаю в музыке, я позвал на помощь молодого пианиста, ученика консерватории и моего большого друга Ефима Садовникова. Тот любезно согласился, хотя задание приобрести музыкальный инструмент не по звуку, а по масти, «как лошадь», было ему глубоко отвратительно. После недели поисков пианино светло-коричневого цвета было куплено, перевезено и настроено. Борис и Иван организовали музыкальный вечер Р. Были приглашены Г. Г. Шпет, И. М. Москвин и мхатовская пианистка М. Н. Коренева в качестве аккомпаниаторши. Певец наш встал к инструменту, пианистка сыграла первые такты аккомпанемента и раздались первые звуки его голоса; Мне, человеку, лишенному слуха, все казалось нормальным. Р. пел уверенно и очень громко (главное!), но по выражению спины Марии Николаевны, по тому, как ее голова ушла в плечи, с какой беспомощной тоской она вскидывала в его сторону глаза – было понятно, что с его пением что-то не то… Иван Михайлович испустил какой-то тяжелый вздох и перекорежился, как от тухлого яйца. Оказалось, что певец наш невероятно фальшивит, пока он пел без аккомпанемента, этого не было заметно, а с появлением чистой и точной музыки обнаружилась вся его немузыкальность.
Музыкальные вечера, во всяком случае, с участием Р., прекратились. Борис, чувствовавший свою ответственность за весь этот эксперимент, начал усиленные поиски какого-то другого музыкального номера – ведь нельзя же было допустить, считал он, чтобы пианино «рыжей масти» застаивалось зря. Кончилось тем, что постоянным гостем стал Владимир Синицын, который тоже входил в состав «Врат» (он репетировал в них Иервена) и вызывал большую симпатию у Василия Ивановича. Приглашен он был в первый раз, чтобы поиграть свои импровизации, которые где-то слышал Борис и непременно захотел, чтобы их услышали и в качаловской семье. Как музыкант Синицын не очень прошел, да и сам он здесь быстро забросил музыку, почувствовав, что это не та сфера, в которой он может найти резонанс, и не та почва, в какую он здесь может пустить корни. С Ливановым в это время их связывала, если и не очень глубокая дружба, то, во всяком случае, крепкое приятельство. Рассказы Бориса о Володе Синицыне, в которых он немного романтизировал этого действительно необычного человека, вызывали у нас огромный интерес к нему. Актером он был исключительно одаренным. В Художественном театре он был совсем недавно и ничего еще в те времена не сыграл, все было в самом ближайшем будущем: и Яго, и Мозгляков в «Дядюшкином сне», и Тибул в «Трех толстяках». Пока он только репетировал Иервена и Мозглякова. В прошлом у него была его работа в «Романтическом театре», что он там сыграл – я не знаю, и вообще, о своем актерском прошлом он мало и неохотно говорил, видимо, не любил его. Азартно и горячо, со вкусом он рассказывал о том, как в Казани с татарской любительской труппой играл «Гамлета» на татарском языке. Читал и даже играл куски оттуда, восхищаясь мелодией звучания «Быть или не быть» по-татарски. По этому поводу возникли споры и, в виде доводов, как это часто бывает у актеров, пробы и показы. Василий Иванович всерьез играл некоторые сцены, но больше показывал, как бы он сыграл в разные периоды своей актерской жизни. И, конечно, копировал, вернее, фантазировал на тему, как бы сыграл тот или иной актер. Играл и под Константина Сергеевича, и под Владимира Ивановича (как бы он показывал актеру), и под Южина, и под Юрьева, и под Певцова, и… под Ливанова. Бориса он копировал, не называя его. Ливанов не узнал себя, а когда Володя узнал и похвалил Василия Ивановича, сказав, что похоже и тонко схвачено, – обиделся страшно, ушел, а на другой день пришел и, превратив вчерашнюю свою обиду в шутку, попросил внимания и проиграл сцену Гамлета с актерами и с Гильденстерном и Розенкранцем. «С недавних пор утратил я свою веселость…». Играл всерьез, и оба актера его Гамлета очень хвалили. Василий Иванович, всегда утверждавший, что ни один актер (и он сам тоже) не может положительно оценить свою роль в чужих устах, на этот раз очень серьезно одобрил Ливанова, сравнив его (в его пользу) с Мишей Чеховым, которого в этой роли он не принимал абсолютно. Мне кажется, что мечта сыграть Гамлета уже с тех пор не покидала Бориса. Как жаль, что она так и не осуществилась.
Интересными, по-настоящему творческими, были эти полуночные сидения. Юмор и взаимные розыгрыши были, пожалуй, основами их, но было и серьезное, даже строгое в том, как трое друзей-актеров судили и разбирали друг друга, особенно, конечно, Ливанова, ведь он был самым юным, самым становящимся из них, и его больше всего «трепали». И тогда он оказывался уже достаточно умен, чтобы терпеть это «трепание» и пользоваться им для своего становления. Не обходилось, конечно, и без обид. Случалось, что он срывался с места и с глубоким ироническим поклоном, «покорнейше благодарю», убегал, но на другой день находил форму, по большей части юмористическую, примирения и возвращения «в семью». Меньше всего он терпел от Василия Ивановича, который даже и для критики, иногда достаточно острой, находил необижающие формы. Да и Борис был готов больше терпеть от него, чем от других. Очень много размолвок случалось у него с Ниной Николаевной. Свойственную ей резкость суждений, часто не смягченную, как у Василия Ивановича, боязнью нанести укол молодому самолюбию, Ливанов встречал энергичным отпором. Завязывался ожесточенный спор, кончавшийся чаще, чем это было приятно Василию Ивановичу, да и самим спорщикам, обменом обидными колкостями. Определение, данное в ранние годы Ливанову – «восемь пудов неорганизованного мяса», тоже первоначально принадлежало Нине Николаевне, хотя в анналах МХАТ его приписывают Константину Сергеевичу, который только использовал его с преамбулой «Что я могу поделать…». Это не мешало Константину Сергеевичу нежно любить юного Ливанова, верить ему и в него. Нина Николаевна тоже очень верила в Бориса и, хотя очень многого не принимала в нем, часто возмущаясь и негодуя, любила его. Его ежедневные приходы к нам, его юмор она принимала полностью, его умение привести Василия Ивановича в хорошее настроение очень ценила, и, если Ливанов почему-либо не приходил к их актерскому позднему ужину, она даже волновалась, может быть, не столько отсутствием его, сколько тревогой за то, что на Василия Ивановича может напасть часто посещавшая его в те годы неврастеническая тоска, от которой Борис как никто умел его избавить.
Более прочному внедрению в нашу семью Владимира Синицына и, отчасти, более прочной дружбе его с Ливановым помешала одна нелепая история, виновником которой был я. Придя с выездного спектакля домой во втором часу ночи, я застал Василия Ивановича, Ливанова и Синицына за коньячком. Они уже доканчивали бутылку. Я стал их уговаривать прекратить это дело (на другой день был утренний спектакль). Василий Иванович показал пустую рюмку, он, мол, не пьет, а только угощает друзей. И тут я заметил, что Володя подвигает, думая, что незаметно, свою полную рюмку Василию Ивановичу. Это меня обозлило, и я довольно резко предложил им обоим немедленно уходить, чтобы Василий Иванович мог спокойно лечь спать. Ливанов послушался и ушел, а Синицын и Василий Иванович возражали:
«Хорошо сидим, а ты все портишь» и т. п. Я совсем рассвирепел и, схватив Володю за плечи, вытолкал его на лестницу и кинул туда его пальто и шапку. Василий Иванович страшно рассердился, что я отравляю ему радость общения с друзьями, что вообще порчу ему жизнь. Начался очень неприятный разговор, в котором приняла участие и Нина Николаевна, которую мы разбудили, так как говорили повышенным тоном. Я разделся, собираясь ложиться, когда раздался звонок. Я открыл дверь, готовясь к решительному объяснению с упорным гостем, но звонил наш швейцар – он сообщил, что вышедший от нас недавно человек сначала долго ходил по этажам, а потом прыгнул в шахту, приготовленную для установки лифта, и сейчас лежит в самом низу шахты без сознания. Я бросился вниз, а Нина Николаевна начала звонить нашему соседу и приятелю доктору Савельеву, чтобы попросить его помочь пострадавшему. Я с помощью швейцара вытащил Володю из шахты и положил его на нижней площадке. Мать умоляла меня надеть на себя что-нибудь (стояли сильные морозы, на лестнице было очень холодно). Я послушался, поднялся на наш третий этаж, надел пальто. В это время вышел и Савельев, мы пошли вниз, но нас остановил растерянный швейцар сообщением: «А они встали, надели шляпу и ушли на улицу». Савельев сказал, что «у пьяного свой бог», и пошел спать. Но мы с Ниной Николаевной не могли успокоиться и поверить, что человек, упавший с высоты трех с лишним этажей, может благополучно дойти до дома, нам казалось, что он сделал несколько шагов и упал, лежит где-нибудь и замерзает. Мы до восьми часов ходили по всем окрестным дворам, искали между поленницами дров, сложенных на пустыре против церкви, а в восемь позвонили домой к Синицыну, и нам ответил раздраженный голос соседки, что он пришел часа в три и теперь, конечно, спит. По требованию отца, который только утром узнал о нашей ночной тревоге (звонка швейцара он не слышал), я пошел просить у Синицына извинения. Он меня довольно сухо извинил, но с тех пор мы совсем раздружились, он у нас бывать перестал.
Кончился 1928 год, очень урожайный для Ливанова – в середине прошедшего сезона он сыграл Аполлоса в «Унтиловске», роль, которой завоевал сердце Константина Сергеевича, оценившего юмор и беспощадность его к себе, то, что он не был кокетом, не стремился к обаянию. Для Константина Сергеевича это имело очень большое значение. А в начале сезона была поставлена «Квадратура круга», в которой Борис сыграл Емельяна Черноземного. Черноземного Василий Иванович оценил очень. И не только оценил, но и несколько раз заставлял Ливанова повторять разные места из роли и работал с ним над отдельными репликами и положениями. У них выработался свой особый способ, прием совместной работы над ролью. Тот же прием они использовали и дальше, в работе над «Блокадой», в которой были заняты оба; в «Отелло» – для Кассио, и для «Толстяков», где Василий Иванович помогал Борису, и для «Воскресенья», когда Василий Иванович читал ему куски своего огромного текста и с большим вниманием слушал его замечания.
Думаю, что в создании всех этих образов их совместная работа имела немалое значение. Началась эта работа с Бондезена, где Василий Иванович упорно добивался от Ливанова облагораживания образа, продолжалась пока шел спектакль «У врат царства» (но об этом я уже писал), развернулась в беседах о Черноземном. Прием этот заключался в том, что они вместе фантазировали, пробуя бесконечные варианты интонаций, жестов, поворотов, пластических изменений поз…
Уже сыгранная и апробированная публикой, руководством и товарищами, роль обогащалась новыми приемами и приспособлениями, я бы рискнул сказать «трюками», если бы этим грубым и порочным термином можно было определить вполне органичный, оправданный мыслью, правдивостью чувства прием игры. Такое фантазирование доставляло им, помимо всего прочего, огромную радость. Они так «принимали» друг друга, так весело хохотали друг над другом и сами над собой, что Нина Николаевна, через стенку слыша их, начинала смеяться сама, а я, слыша ее смех, спрашивал ее: «Что, разыгрались наши?» А сестры Василия Ивановича, жившие по другую сторону от его кабинета, слыша этот разгул веселого творчества, крестились и благословляли Ливанова, за ту радость, которую он дает Василию Ивановичу.
Не помню, при каких обстоятельствах Борис сломал ногу. Его привезли из больницы, где оказали ему первую помощь, прямо в качаловский дом. Несколько недель он пролежал в столовой на диване и за это время настолько глубоко и прочно врос в семью, что представить себе дом без Ливанова стало немыслимо. Я жил и работал в те годы в Ленинграде, но бывал иногда в Москве. Сначала ездил туда часто, стремился при первой возможности повидать своих, но потом стал бывать реже. Причиной этому была ревность. Я чувствовал, что Борис с каждым годом, с каждым месяцем и днем вытесняет меня из семьи. Я отчетливо ощущал, что Василию Ивановичу и приятнее и, главное, интереснее, бывать с Ливановым, чем со мной. Он охотнее читал ему, я бы даже сказал, – готовил с ним свой концертный репертуар. Иногда обижался и сердился на него за слишком уж критические отзывы; юмористические и иронические наблюдения и характеристики Бориса вызывали у него протесты и стремление ограничить своего молодого и иногда слишком уж развязного критика. «Ограничивая», он вставлял встречные обвинения, приводя примеры актерских ошибок Бориса, случаи его плохого поведения, бестактностей. Тот обижался, возникали ссоры, они дулись друг на друга. Ливанов пытался искать сочувствия у Нины Николаевны, у сестер Василия Ивановича, но не находил его. Встречал, наоборот, обвинения, что избаловался, стал забывать о возрастной и всякой другой разнице между ним и Василием Ивановичем. Часто обижался за это и на них, но длились эти ссоры и обиды с Василием Ивановичем недолго, они взаимно тянулись друг к другу, нуждались друг в друге. И нуждались всячески – и творчески, и лирически, и юмористически. Творчески – потому, что помогали один другому, лирически – потому, что оба тянулись к хорошей мужской дружбе, да и к тому же дружбе товарищей по профессии и единомышленников, юмористически – потому, что оба любили и умели смешить и смеяться.
У Ливанова начались репетиции Кассио. Он очень много советовался с Василием Ивановичем, показывая ему куски из роли, рассказывая о репетициях, о замечаниях режиссуры, спорил с ней: в театре он тогда был еще робок и осторожен и всю «дискуссию» с режиссурой проводил в кабинете Василия Ивановича. Они оба были немного оппозиционно настроены к этой постановке. Дело в том, что Василий Иванович сам мечтал об участии в этом спектакле. Предполагалось, что он будет играть Яго, но Леонидов говорил, что ему даже больше хочется играть Яго, чем Отелло, тогда Василий Иванович готов был взяться за Отелло. Все это повисло в воздухе, на роль Яго назначен Владимир Синицын (который сыграл ее совершенно изумительно), и о планах и мечтах Василия Ивановича было забыто напрочь, но какая-то травма в душе у него осталась. А Ливанов, всегда трудно работавший с режиссурой, был очень недоволен тоном, каким с ним разговаривал И. Я. Судаков. У него было свое представление об образе Кассио, представление, укрепившееся у него отчасти в результате общения и советов Василия Ивановича, и от этого образа ему не хотелось отказываться. Борис был тогда очень красив (каким он почти и до конца оставался), но немного тучен и тяжел, и он не хотел, в данном случае, бороться со своей внешностью, не принимал эскиз костюма, сделанный А. Я. Головиным, представлявшим себе Кассио традиционным героем-любовником. По самоощущению Ливанова Кассио – здоровенный, грубоватый солдат, которого тянет совсем не к таким дамам, как Дездемона, а к веселым и распутным девкам, как Бианка, он любит выпить и пожрать и, если и сопротивляется уговорам выпить, то только боясь нарушить дисциплину и воинский долг, ведь он на Кипре при исполнении служебных обязанностей.
Не могу сейчас, да и тогда не мог понять – кто победил в этом споре, вероятнее, все решилось тем, как и что в Борисе принял Константин Сергеевич, но играл Ливанов очень хорошо. Не нужно было особой хитрости Яго, чтобы возбудить в любом муже ревность к такому Кассио.
Василий Иванович ходил с ним на примерку костюмов, которые не нравились Борису, и успокоил его вполне. В этом вопросе Ливанов Василию Ивановичу верил абсолютно. Хотя пришли они домой недовольные друг другом – Василий Иванович упорно приставал к Борису с критикой его походки, и даже не столько походки, сколько его пластики ног. «Штатские у тебя, стрюцкие ноги. Ставишь их как-то по-бабьи. Надо каждый день мазурку танцевать, шпорами звенеть, когда шаркаешь, а то фигура – здоровенного мужика, а ноги пожилой дамы». Ливанов очень обиделся и нарисовал карикатуру на Василия Ивановича в ботиках и с прогнутыми коленями, как всегда талантливо и зло – очень видна была старческость походки. Василий Иванович обиделся, в свою очередь, долго пытался нарисовать Бориса сидящим на стуле, с тупо, как у старушки, вяжущей чулок, поставленными ногами, но ничего не вышло – в этом плане он не мог соперничать с ним. Это все было, конечно, временным и проходящим. Дружба была тогда между ними крепкой. Главное, что через несколько дней Ливанов пришел к Василию Ивановичу в гусарских сапогах (Курачев из «На всякого мудреца…») со шпорами, и они подолгу занимались походкой, шарканьем: как садиться, как закладывать ногу за ногу, как держать ноги под креслом, как ставить ноги поэффектнее, для флирта, как – в мужском обществе, перед начальством, распекая подчиненных, и т. д. Ливанов потом говорил, что ему это было чрезвычайно полезно.
Василий Иванович в этом сезоне упорно и увлеченно работал над «Воскресеньем». Перед ним стояла совсем новая задача. Это не была роль, в которой актер стремится к перевоплощению, ищет характерность, в чем ему помогают внешние и внутренние детали поведения. Тут надо было, оставаясь собой, воплощать в себе чувства и мысли, чуть ли не всех персонажей и, в то же время, проявлять к ним отношение автора.
Работал он обычно ночью, после ужина, когда друзья расходились по домам, а домашние ложились спать. Не знаю, по какому поводу (а может быть, создав этот повод как предлог) Борис остался ночевать, и Василий Иванович, думая, что он уже уснул, начал потихоньку, наполовину про себя, пробовать читать то одно, то другое место из своей «роли». Ливанов не выдержал, перестал притворяться спящим и заговорил. Василий Иванович хотел было угомонить его, и перестал работать, но критические замечания, сомнения Бориса заинтересовали его, и они проработали вместе всю ночь. После этого Василий Иванович начал пробовать перед ним то одно, то другое место текста. Это вызвало насмешки и Нины Николаевны и других близких – «для Васи нет большего авторитета, чем этот мальчик». «Ну, Вася всегда оригинален в своих поисках режиссера. Судаков его раздражает, Владимир Иванович – смущает и мешает, а Ливанову он верит».
Но Василий Иванович искал в Ливанове не режиссера[5], а хорошего, интеллигентного слушателя, с хорошим вкусом и, главное, хорошо понимавшего его вкус, чувствовавшего задачу, которую он сам перед собой ставил, и потому способного помочь ему в «снятии покровов», в убирании того, что мешало ему добиться выявления, воплощения им задуманного.
Это был трудный год для Ливанова, он играл Кассио, репетировал Генерала в «Трех толстяках» Олеши и пробовал себя в качестве театрального художника в пьесе «Наша молодость», которую ставила Нина Николаевна. Мысль привлечь его в художники возникла у Ю. К. Олеши, которого Ливанов же ввел в качаловский дом. Ю. К. очень ценил Бориса как карикатуриста, он жалел, что его пьесу «Три толстяка» оформляет и даже ставит не он, а Б. Эрдман и Н. Горчаков, работа которых ему, видимо, не нравилась. Нина Николаевна попробовала полушутя предложить Владимиру Ивановичу Ливанова, который был ее помощником и сорежиссером, в качестве художника-оформителя в спектакль «Наша молодость», и тот очень охотно согласился. Он тоже слышал, что Борис хорошо рисует, кое-какие из его карикатур видел и сумел их оценить. Вообще, он верил в него как в художника, принимал его юмор, ощущал его широкую одаренность, его талантливость во всем, что тот делал.
Ливанов начал работу над макетом. Пьеса была сложная, с множеством картин, требовалось разработать систему быстрых смен их, а сцена маленькая[6] и никак не механизированная. Нина Николаевна с большим трудом уговорила И. Я. Гремиславского взять шефство над работой Ливанова. Главная помеха заключалась в том, что помощник Гремиславского – И. И. Гудков, заведующий осветительной частью, был отъявленным врагом всякого новаторства и сумел настроить против смелых и современных решений и замыслов Ливанова работников мастерских, где изготовлялось оформление, а потом и сцены, где оно монтировалось. Только решительное вмешательство Гремиславского помогло в этой, очень тяжелой для Бориса борьбе. Но Гремиславский был занят постройкой оформления для «Толстяков» и не мог много времени отдавать «Нашей молодости», так что Ливанову, а с ним и Нине Николаевне, приходилось туго. Зато они в этой работе, несмотря на ряд столкновений и ссор, очень сдружились, Борис еще глубже врос в качаловскую семью.
Оформление было, по тем временам, смелое для МХАТа, Ливанов решил его реалистично, с элементами иллюзорности (тайга, вагон внутри и снаружи), но без привычного и единственно понятного мастерам МХАТа натурализма в изображении природы. Много споров и возражений вызвали фанерные некрашеные стволы деревьев. Их обязательно хотели прописать, отфактурить, приделать к ним ветки и сучья, а Борис настоял на их обнаженной условности и, действительно, на сцене в нужном освещении они давали ощущение тайги вообще. В них можно было сколько угодно двигаться, и у зрителей не могло создаться впечатления движения на одном месте, в одном и том же участке леса, такое впечатление создалось бы, если бы деревья были разными и «индивидуальными». Подъем на глазах у зрителя совершенно настоящей передней стенки вагона тоже оказался отважным новшеством. Препятствия были преодолены, и на Малой сцене МХАТ появился хороший спектакль.
Это был первый опыт Ливанова – театрального художника, опыт очень удачный и, если Борис не стал сценографом-профессионалом (хоть ряд спектаклей им и был оформлен), то в режиссерской работе решение внешней формы спектакля, почти всегда, исходило от него.
Одновременно с работой над постановкой «Нашей молодости» Ливанов как актер, был занят в спектакле «Три толстяка». Он совсем не принимал режиссерской работы Н. М. Горчакова и. решение внешней формы Б. Р. Эрдмана. Дома (у Качаловых) он очень много и карикатурно рассказывал о репетициях, в особенности Горчакова, пересказывал его беседы с Олешей, композитором Оранским, Эрдманом и с Изралевским – зав. музыкальной частью МХАТа. Его Ливанов изображал особенно талантливо. Когда я читаю в «Театральном романе» Михаила Булгакова его пародию на Изралевского, выведенного под фамилией Романуса, то слышу и вижу ливановское исполнение. Одна – пародия в литературе, другая – в актерском изображении, но совпадают совершенно точно. Очевидно, так же точно у актера и у писателя совпадало восприятие этого человека. Хотя вполне возможно и другое – что Булгаков писал «Театральный роман», уже посмотрев имитации Ливанова. Ведь очень похож в романе и Н. А. Подгорный (Герасим Николаевич) на его ливановское изображение, причем, не только в актерских имитациях, но и в рисованных карикатурах.
Ливанов рисовал и раньше, но к этому времени он крепче и увереннее овладел мастерством рисунка: линии стали смелее и определеннее, появилась пластика – фигуры приобрели выпуклость и трехмерность, появился цвет, служивший ему для выявления и подчеркивания характерных, по большей части, смешных черт объектов его «разоблачений». Уточнилась и утончилась его наблюдательность, его умение ухватить самое типичное, что острее всего выявляло во внешности человека внутренние качества. Кроме того, Ливанов стал взрослее и мудрее как человек, стал глубже видеть и тоньше понимать людей и, что тоже имело значение, стал отважнее, меньше боялся обидеть людей, ведь за эти два сезона он занял крепкое положение одного из основных актеров труппы, он был на уверенном пути к тому, чтобы стать одним из ведущих актеров ее. Так чего и кого ему было бояться? Да, надо сказать, что лучшие, умнейшие деятели театра были достаточно умны, чтобы не обижаться, а если и обижались и огорчались, очень иногда жестокими их «разоблачениями», то умели этого не показать.
В театре шли репетиции «Толстяков», дома эти репетиции переживались и перерабатывались и в плане юмористических рассказов о них, и в поисках образа. Василий Иванович с Ливановым часами фантазировали и изощрялись в выдумках, ища характерность генерала. Он у них был то полным рамоликом, то, наоборот, молодящимся бодрячком, то у него был радикулит, то геморрой, то он терял вставную челюсть и ловил ее в воздухе, а, начатую с челюстью фразу, продолжал без нее, а доканчивал – поймав и вставив. Он был то близорук, то дальнозорок, менялись у него дефекты речи – он побывал и заикой, и шепелявым, и картавым, говорил и с немецким, и с французским, и с белорусским акцентом. То он говорил «как Димка» (я страдал тогда от скороговорки-пулеметности речи), то – как Максимов (сторож при актерских уборных МХАТ). У него возникали мозоли, и он хромал от них, дергалась и с трудом возвращалась в нормальное положение нога… Как-то ночью у него обнаружился тик – дергались брови, рот, вся голова, он подмигивал, гримасничал – это было завершением поисков. Они так разрезвились на тиках, так рассмешили друг друга, что перебудили весь дом. Нина Николаевна пристыдила Василия Ивановича за то, что он, вместо настоящей, серьезной помощи молодому актеру, развращает его. Не обогащает его, подсказывая ему приемы работы над ролью, а оснащает его провинциальнейшими штампами и дешевыми актерскими фортелями и трюками. Оба они, и старый и молодой, были смущены, но без боя не сдались. Борис утверждал, что эти поиски очень обогащают его фантазию, что благодаря им работа над ролью перестала быть ему скучной, что эти постоянные пробы помогли ему почувствовать рельефность образа, воспринять его во всех трех измерениях. Может быть, даже, наверное, для этой роли ничего на вооружение он и не возьмет, ничего полностью не использует, но, вообще, арсенал его внешних приемов обогащается очень, ведь каждый такой, пусть карикатурный, внешний трюк влечет за собой изменение самочувствия, то есть внутреннего состояния, а это ему бесконечно важно.
Весной 1931 года Ливанов был введен в «Женитьбу Фигаро» на роль графа Альмавивы. Конечно, консультации с Василием Ивановичем продолжались и по поводу этой роли, опять приставал к нему Василий Иванович с походкой, с динамикой и пластикой ног… Но это все было проходным, без серьезного и глубокого увлечения с обеих сторон. Дело в том, что Василий Иванович не любил этого спектакля вообще. И если он что признавал безоговорочно, то это как раз Ю. А. Завадского в роли графа, в преимущество замены его Ливановым он не верил. Говорить об этом Борису он, конечно, не стал.
Ливанов с очень большим трудом, с помощью Нины Николаевны, которая возмущалась пассивным отношением Василия Ивановича к своему театру, уговорил его пойти на спектакль. Пошел он в очень мрачном настроении. Во-первых, опоздал на первый акт и увидел Ливанова только с половины второго акта, с прихода графа в спальню, во-вторых, Ф. Н. Михальский чуть ли не насильно усадил его в восьмой ряд партера, то есть на самые видные места, а он хотел незаметно постоять где-нибудь в глубине зала, чтобы не быть потом обязанным высказываться…
После спектакля Борис пришел к нашим. Я случайно был в Москве в этот день и с большим любопытством ждал рецензии Василия Ивановича. Спектакль с Ливановым я еще, конечно, не видел, но, почему-то, относился к его исполнению роли графа скептически. Очень трудно было вообразить себе его вместо Завадского, который был для меня единственным графом. Да и вечный юмор товарищей на счет Ливанова – «такой, понимаешь, здоровила…» – навязываемого ему «образа».
Ливанов с нетерпением, с каким-то жалобным и трогательным волнением ждал отзыва Василия Ивановича, а тот не спешил почему-то. Очевидно, хотел найти точные слова и подходящую интонацию. И вот, после первой рюмки, когда Нина Николаевна, увидев муки молодого актера, сказала: «ну же, Вася, скажи, как?» – он, сняв очки и отставив тарелку, произнес довольно длинную (что ему было абсолютно не свойственно) речь. Видно было, что он ее продумал глубоко серьезно. Я, конечно, не помню его, в каких он высказывал свое впечатление, да и общая мысль мне запомнилась не с одного того разговора. То, что я помню, это уже синтез всех хороших отзывов о Борисе и в тот вечер, и многих других разговоров о нем Василия Ивановича с разными людьми.
Василий Иванович оценил Ливанова в этой роли главным образом за то, что он выявил способность создать, как он говорил, родить человека… Его граф – это не показ, не рассказ об образе, не демонстрация тех или иных качеств и свойств его, это живой, трехмерный, обладающий конкретной биографией человек. Как бы ни сложилась актерская судьба Ливанова, то, что он создал в этом спектакле, навсегда останется в его творческом активе и должно бы (хотя это, к сожалению, невозможно) остаться в истории Художественного театра.
Качалов считал, что эта роль Ливанова не по мастерству, не по значению в театральном искусстве, а по своей сущности, по качеству, по чистоте принципа своего создания может быть приравнена к Штокману Константина Сергеевича… Он не хотел сказать, что Борис создал произведение, равное гениальному творению Константина Сергеевича, но что он, как Константин Сергеевич, сотворил здесь человека… Он высоко оценил наблюдательность Бориса, его способность видеть людей, видеть не поверхностно и примитивно, а глубоко и тонко, и увиденное перерабатывать и строить из него образ. Говорил, что нельзя, недостаточно творить из себя только, легко создавать роль только исходя из «я в предлагаемых обстоятельствах». Вот почему эта роль – самая большая удача не только Бориса, не только этого спектакля, но всего последнего времени во МХАТе. Это доказательство возможности, способности Художественного театра творить в искусстве, созидать настоящие, стоящие истории МХАТа произведения…
Ливанов слушал его, то бледнея, то краснея от волнения, и кончил тем, что разревелся, как мальчишка и бросился целовать руки Василию Ивановичу. Потом, конечно, выпили, и Василий Иванович начал критиковать исполнителей спектакля, причем досталось, конечно, и имениннику. При всем том, как ни высоко оценил его Василий Иванович, он нашел в нем много недостатков, о которых говорил резко и, если бы не общая интонация, обидно. Но Ливанов не обижался, на этот раз он с открытым сердцем, с полной готовностью воспринимал критику, хотя вообще это ему совсем не было свойственно.
Надо признаться, что он, как и огромное большинство актеров, не любил критики. Очень неохотно ее выслушивал и терял веру в критикующего, если отрицательное мнение не совпадало с его собственным восприятием себя.
Но в этот раз он готов был выслушивать самые горькие истины – очень уж он был удовлетворен основным, насыщен счастьем признания его удачи и успеха.
Большое значение в этой удаче Василий Иванович приписал высоко им ценимому таланту Ливанова-карикатуриста. Умение увидеть характерные черты внешности человека, черты, передающие многое из его внутренней сущности, помогло ему построить образ графа так, что тот ожил.
Приближался 35-летний юбилей театра. Праздновать его не собирались – только что широко и шумно отметили 30-летие, но совсем упустить такой повод повеселиться и попировать не хотелось, да и настроение к осени 1933 года было хорошее: очень хорошо, в смысле материальном, закончили сезон 1932/33 года – целый месяц играли в Ленинграде, причем поездка была, как тогда говорили, «коммерческой», все хорошо заработали и летом хорошо отдохнули. Решили в юбилейные дни организовать капустник и банкет.
Очень просили Ливанова взять на себя организацию капустника, но он отказался. Взамен своего участия в нем как режиссера и актера он решил выступить в нем в роли художника. Художники наших мастерских охотно пошли ему навстречу. Взяли старый задник размером 12x7 метров, слегка его загрунтовали, и Борис написал на нем гигантскую карикатуру.
Это было чудо театральной графики. Во всю площадь зеркала сцены МХАТа был изображен «Олимп» Художественного театра, на огромном, «двуспальном» троне в центре композиции восседали «супруги» – Константин Сергеевич в виде жены и Владимир Иванович в виде мужа. Константин Сергеевич был в сильно декольтированном платье, обработанном в стиле занавеса Художественного театра, в пенсне и со своей самой обаятельной улыбкой во весь рот. Владимир Иванович – в своем официальном костюме с булавкой, в галстуке и с платочком, кокетливо торчащим из кармана пиджака. Ливанов не побоялся подчеркнуть их разницу в росте: Владимир Иванович сидел на высоких подушках, опираясь ногами на табуретку… Над ними брачные венки держал А. Л. Вишневский. Первоначально он был изображен обнаженным амуром, но потом Ливанов пожалел его и одел в тужурку. С двух сторон их охраняли две секретарши: возле Константина Сергеевича – Рипсимэ Таманцева с трезубцем, а возле Владимира Ивановича – Ольга Бокшанская с секирой. Слева от Константина Сергеевича сидели В. И. Качалов с папиросой, О. Л. Книппер-Чехова в горностае и с чайкой на груди и отвернувшийся от всех со свирепым лицом Л. М. Леонидов. Справа от Владимира Ивановича – И. М. Москвин, М. П. Лилина и М. М. Тарханов. Все эти шесть стариков были изображены удивительно похоже: о позе, о выражении лица каждого можно было бы рассказывать без конца – это был тонкий и умный юмористический отчет об их настроении и отношении к своему театру.
Когда вся труппа собралась в зрительном зале и был сыгран марш из «Синей птицы», выключен весь свет, раскрыт занавес с чайкой и освещен ливановский занавес (нам удалось подготовить этот эффект в полной тайне), раздался рев смеха и гром аплодисментов. Смех усиливался с каждой минутой – публика постепенно оценивала всю гениальность этого произведения.
Потом было много и обид, и огорчений, обе секретарши, например, чуть ли не целый год не здоровались с Ливановым, да и Владимир Иванович, никак этого не демонстрируя, долго сердился на него…
Но это было самым талантливым номером юбилея, и я счастлив, что мы сфотографировали занавес, пока он не осыпался.
В. О. Топорков Репетиции «Мертвых душ» Гоголя
На роль Ноздрева вводился Б. Н. Ливанов… Роль вполне в его данных и, очевидно, ему нравилась. Не удовольствовавшись текстом инсценировки, он добавил в свою роль много нового из того, что было в разных местах поэмы Гоголя, вставил целый монолог о том, как весело было на ярмарке и как он кутил с офицерами, все время вспоминая некоего поручика Кувшинникова, с которым, он уверен, Чичиков бы подружился[7]. Эту сцену и показывали Станиславскому. Ливанов, в общем, играл ее неплохо, но, все же, это было ниже его возможностей. В его исполнении не хватало еще подлинного внутреннего веселья, ноздревской заразительности, все шло больше по линии внешнего изображения. Монолог очень трудный, требующий высоких актерских качеств и техники.
– Ну что ж, голубчик… все это верно… более или менее, но немножко не то, не то рассказываете, не видите. Расскажите, что вы там, на ярмарке, с офицерами разделывали?
Ливанов, человек, как я уже сказал, с большой фантазией, высказал целый ворох вариантов того, что могло происходить в пьяном офицерском обществе того времени. Но Станиславский слушал его несколько рассеянно, как бы что-то соображая, и, наконец, сказал:
– Ну, это все чепуха, детская забава. Разве это офицеры? Какие-то институтки. А вот представьте себе, что эта компания…
И тут он нам насказал такого, что мы сначала просто рты разинули от удивления и долго не могли опомниться. Затем на нас напал безудержный смех, который с трудом удавалось подавлять, чтобы слушать дальнейшее повествование Станиславского. А он был в ударе. Картину за картиной, все ярче и красочней рисовал он нам весь разгул, все безобразие офицерского поведения на ярмарке, а когда уже в подробностях поведал о том, что делал именно поручик Кувшинников и чем он произвел такое впечатление на Ноздрева, мы сползли со своих стульев на пол. И как могли возникнуть такие образы в мыслях столь скромного и целомудренного человека, каким был Станиславский, непонятно. Это придавало особую остроту его рассказам.
Когда мы, несколько успокоившись, начали повторять сцену, монолог у Ливанова зазвучал совсем по-иному. Глаза его горели, искрились. Перед его внутренним взором проходили яркие изображения Станиславского, он их ощущал очень живо. Весь свой темперамент он вкладывал в поиски разнообразия красок для передачи Чичикову своего великолепного впечатления от офицерского кутежа, а, когда доходил до упоминания о поручике Кувшинникове и в его воображении всплывал образ, только что нарисованный Станиславским, он едва мог произнести слово «поручик», а уже на слове «Кувшинников» его схватил такой спазм смеха, что избавиться от него он мог, только дав выход своим чувствам и вволю нахохотавшись. Этот его смех был живым, человеческим смехом, захватившим все его существо. Это был предельно заразительный ноздревский смех. Это был Гоголь.
Вообще репетиция была веселой и радостной. Константин Сергеевич был в хорошем настроении, чему немало способствовал Ливанов, очень остроумный человек, всегда перемежающий работу и беседу веселыми шутками. Так и здесь, когда мы удачно закончили свою сцену, Константин Сергеевич обратился к нему со словами:
– Ну что ж, голубчик, вот теперь это просто замечательно… это шедевр…
– Ну да, – ответил Ливанов, – но ведь второй раз так не сыграешь…
– Ни в коем случае.
– Вот в том-то и дело. Вы говорите – шедевр, а что в нем толку? Если б, скажем, живописец, он бы уже сразу его и продал, а у нас все это «фу-фу».
Константин Сергеевич долго искренне смеялся и, отпуская Ливанова, успокаивал его уверениями, что в нашем искусстве есть свои преимущества, но Ливанов, продолжая свою шутку, только безнадежно отмахивался и продолжал сокрушаться по поводу зря погибшего шедевра.
Из книги В. О. Топоркова «К. С. Станиславский на репетиции. Воспоминания»
М. М. Тарханов О творчестве Ливанова
Основной чертой послереволюционного поколения русских актеров является четко выраженная индивидуальная окраска их дарований (я имею в виду наиболее талантливых представителей). Но, все же, не так-то просто мерить их привычной меркой, определять их амплуа, как этого, может быть, хотелось бы иным теоретикам театра. Мне вообще не совсем понятно стремление многих критиков раз и навсегда очертить точные границы дарования каждого актера. Дело вовсе не в том, чтобы разложить каждое художественное явление на основные элементы, наклеить соответствующие ярлычки и расставить по полочкам. Жизнь гораздо сложнее, чем это кажется некоторым критикам. Дарование каждого большого актера не укладывается в традиционные рамки амплуа. Как бы вы ни пытались «заколотить его в бутылку», всегда сохраняется какой-то неразложимый остаток, не поддающийся точной регистрации.
Обозревая мысленно густую и яркую толпу передовых талантливых актеров, завоевавших себе прочное место на советской сцене за последние 20 лет, я должен, желая остаться справедливым, сказать, что одним из самых ярких и многообещающих актерских дарований является Борис Ливанов. Что заставляет меня так думать? А то, что как бы хорошо или как бы посредственно, иной раз, ни играл Ливанов, у меня, как у зрителя, всегда остается впечатление, что актер раскрыл себя в данном образе далеко не целиком. У Ливанова очень много скрытых актерских возможностей, внешних и внутренних, угадываемых, однако, мною, зрителем и актером.
Ливанов не только актер «нутра». Это – вдумчивый, требовательный к себе художник. Поражает необыкновенная глубина и темпераментность создаваемых им образов. Работая над ролью Бондезена или над ролью Кудряша, над причудливым образом Ноздрева, или над острой, как талантливый плакат, но живой и эмоциональной фигурой Шванди, Ливанов никогда не впадает в штамп.
Актерский глаз его чрезвычайно зорок. Он следит за всей внутренней жизнью героя, а не только за его внешними чертами. Я пристально наблюдаю за Ливановым. Меня восхищает его горячий, напористый, кипучий темперамент. На репетициях бывает, что он пытается овладеть основной характеристикой образа с налету, с первого же раза. Часто это удается актеру. Тогда весь оставшийся период работы над ролью посвящается доделкам и отшлифовке деталей.
Но иногда Ливанов, уже набросав контуры образа очень экспрессивными и резкими чертами – мы все тогда любуемся им на репетициях, – вскоре охладевает к собственному эскизу и начинает все сызнова, пробуя порою диаметрально противоположные «подходы». Так он работал над ролью Шванди. Несомненно, Ливанов подчас излишне увлекается внешними деталями, но, конечно, не это является основным методом его творчества.
В Ливанове, рядом с актером, уживается живописец, наделенный острой наблюдательностью и колористическим темпераментом. Он чувствует вкус к картинности, к живописной четкости и выразительности образа. Но нельзя объяснить эту любовь к пластической ясности непобедимым пристрастием к исключительно внешней форме и внешней характеристике. Д. Тальников в своей статье «Призвание актера» выразил ряд весьма спорных суждений об актерской природе Ливанова[8]. Это обидно потому, что т. Тальников – опытный критик и должен бы судить об актере с большей глубиной и обоснованностью. Безусловно, сценическая наружность актера порой обманчива, но критик не должен увлекаться случайными наблюдениями. Я бы сказал, что на деталях останавливаются критики, не желающие искать обобщений. Сила Ливанова в роли Бондезена не во внешней деталировке образа, а в предельно острой передаче его психологической сущности. Ливанов играет в этой роли отнюдь не любовника, а пошляка, удачливое ничтожество, антитезу Ивара Карено. Понять это следовало не по одной детали. Дело вовсе не в том, что Ливанов, целуясь с Элиной, скашивает глаз в сторону: не идет ли муж. Идея «пошляка» воплощена Ливановым с необычайным внутренним тактом на протяжении всего спектакля. Это очень трудная задача – играть с необходимым тактом роль нахала, пошляка, глупца…
Пошляка иной формации, иной психологической структуры изобразил Ливанов в роли Ноздрева. Положение Ливанова было здесь тем более трудным, что ему приходилось дублировать такого крупного мастера сцены, как И. М. Москвин. Москвин принадлежит к актерам, забирающим всегда «в глубину». Казалось, он исчерпал все возможности, имеющиеся в роли. Однако Ливанов не повторил Москвина, а создал самостоятельный рисунок образа, замечательный по остроте, выразительности и психологической правде. Он захватывает зрителя своей свежестью, сочной живописностью, юмором и убедительностью.
Ничего не любя, на сцене ничего и создать нельзя. «Амплитуда» ливановского репертуара кое-кому кажется иногда идущей от излишества актерского темперамента. Но это не так. За кажущейся разбросанностью Ливанова таится всегда настороженная, интенсивная внутренняя сосредоточенность. В Ливанове живет какой-то неуемный актерский «дьявол», не знающий успокоения. Он пробует многое и разнообразное потому, что он вечно ищет. Источники его актерской фантазии кажутся мне неиссякаемыми.
Ливанов знает, конечно, и поражения. Их не знают только бесталанные счастливчики и бондезены. На сцене от победы к победе идет только тот, кто не страшится поражений. Возможно, что Кудряш является неудачей Ливанова. Но тогда нужно сказать, что вся постановка «Грозы» была неудачным экспериментом в жизни Художественного театра. Я сам играл роль Дикого десятки раз, но никогда не играл так плохо, как в этой постановке. Надо честно признаться, что пьеса была трактована режиссером неверно. Общая атмосфера сказалась, конечно, и на игре Ливанова. Очень может быть, что Ливанов играет в «Грозе» не подлинного героя Островского. Но это не означает искажения или обеднения образа.
Ливанов любит юмор. Даже сатира его (Ноздрев, Бондезен, частично Риппафрата) незлобна. Она пронизана мягким юмором. Ливанов смеется, но не издевается над своими героями, и это ничуть не ослабляет силы созданных им образов.
Законно и уместно спросить: а может ли этот артист когда-нибудь вызвать слезы у зрителя? Теоретики тут сразу же заговорят о непреложных законах актерских амплуа. Я не верю в эту театральную метафизику. Я никак не могу сказать про Ливанова, что знаю его актерские возможности до предела. Думаю, что он и сам их еще не знает.
Театр, который его воспитал, не должен навсегда замкнуть его в рамки «характерного амплуа», как бы широки они ни были. Ливанов неподражаемо изобретательный и бесконечно темпераментный артист. Его темперамент требует выхода в самых неожиданных направлениях. Я отнюдь не буду удивлен, если когда-нибудь зрительный зал будет потрясен волнением и заплачет над судьбой Чацкого или Ромео, и эти слезы исторгнет у зрителя «характерный актер» Ливанов. Театру надо рискнуть. Актерский материал в данном случае вполне оправдывает такой риск.
Ливанов не из тех актеров, которые блещут «внешней культурностью». Но на самом деле круг его внутренних интересов необычайно широк. Он очень талантливый живописец, карикатурист, театральный художник. Он проявил себя необычайно острым, тонким и беспощадным мастером шаржа. Ему поручено оформление «Ревизора» в Малом театре[9]. Я считаю, что он призван воскресить славные традиции живописной театральной реалистической декорации. Ливанов много читает и пишет. Статья Ливанова о его покойном учителе Певцове обнаруживает в авторе значительную способность к обобщениям и критическому анализу.
Я любуюсь сочной и темпераментной игрой Ливанова в «Любови Яровой», «Мертвых душах», «У врат царства» и в других спектаклях. Но будущее актера Ливанова безусловно ярче, чем нынешние суждения о нем. Я верю в него, в еще не осуществленные огромные возможности этого замечательного русского актера октябрьского поколения.
«Советское искусство», 1 декабря 1937 года
С. М. Эйзенштейн Рождение актера
Это не актер Ливанов родился. Так можно было бы писать о юном дебютанте… А Ливанова, народного артиста, орденоносца (и не раз) знают по театру, знают по экрану, любят давно…
И все же это – рождение актера. И рождение большее, чем, если бы родился еще один новый писатель и представитель этой славной в нашем театре профессии. Большее это потому, что родился новый тип актера. А может быть, возродился? Тип потерянный. Утраченный. Забытый и обойденный. Настоящий, долгожданный тип подлинного романтического актера. Актера пламенного и захватывающего. Актера, влюбляющего в себя, увлекающего и отдающегося зрителю. Актера, несущего мысль неотрывной от пламени страсти.
Эпоха конца прошлого и начала настоящего века.
Эпоха разговорных пьес. Пьес о неврастениках. О склоненных и надломленных. О толкующих и рассуждающих. Об отвешивающих чувства и отмеривающих страсть… Да, да, уже нет праздника, единственного и неповторимого праздника театра того актера, который способен ежевечерне сжигать себя на подмостках с тем, чтобы, возрождаясь из этого пламени, вечер за вечером, снова и снова гореть перед зрителем. Гореть огнем чистого темперамента, огнем подлинного чувства, а не условного переживания. Гореть той одержимостью, при которой зрителю внезапно становится жутко и страшно этой обнаженной одержимости чувств, ибо не знаешь, куда этот разлив огня может метнуть ее носителя, ее одарителя.
О таком актере мы мечтаем с первых дней революции. Ибо только такой актер, актер, способный вырвать из груди своей сердце и, в безграничной щедрости чувств, бросить его восторженному зрителю, лишь такой актер способен до конца излить священный пафос нашей революционной действительности.
В рождении такого актера мы видели преодоление последнего оплота традиций театра прошлого, победоносно опрокинутых театром будущего, театром нашей эпохи.
Когда-то романтик Новалис прекрасно сказал: «Хороший актер есть действительно орудие и пластики и поэзии».
Этого мы давно уже не видали на сцене. И вдруг 24 февраля – и эту дату надо запомнить – мы увидели это в спектакле «Горе от ума» в МХАТе. Мы увидели на сцене, как из странно неуверенной фигуры, не везде твердой в рисунке, иногда по-юношески захлебывающейся, обгоняющей самое себя, безнадежно проглатывающей конец целого акта (третьего), внезапно, в последнем монологе хлынуло подлинно упоительное пламя подлинных чувств. Таких, и такого диапазона, что зритель просто остолбенел. Спохватившись, он, зритель, постарался утвердиться в, на мгновенье утерянном, чувстве собственного достоинства: вспомнив свои права, он властно потребовал двадцать три раза перед уставшей публикой подниматься занавес – ради потрясшего актера, актера, которого будет в этой роли любить вся Москва, которым будут бредить, по которому будут терять голову.
По подлинно романтическому актеру.
Я не застал плеяды пламенных старцев великой традиции русского театра.
Но из всего, что мне приходилось видеть, я ни разу не был так взволнован и потрясен фактом и стилем актерской игры, как тем, что я видел в этот памятный вечер в Ливанове-Чацком.
Родился актер – новый тип романтического актера. С ним уже нельзя не считаться. Это – факт истории театра. Это замечательный и знаменательный факт. Это – следующий, новый этап театра, выход традиции МХАТа на новый путь, на новую фазу развития. И надо изумляться удивительной способности этого творческого организма, который на сорок первом году жизни способен внезапно расцвести новым ростком!
Ростком, способным чудом одного вечера взять под сомнение устоявшуюся традицию четырех десятилетий практики и, не сметая ее, начертать перед ней неслыханный путь дальнейшего роста и оплодотворения.
Ибо то, что мы знаем по спектаклям МХАТа, например, «Враги», и то, что творит на сцене Ливанов, это – разные страницы, разные даты, разные тома истории театра.
Я думаю, что мы себе еще не до конца отдаем отчет в том, что случилось. А надо ухватить это явление. Осмыслить. Понять и… сделать выводы о дальнейших путях.
Ибо не случаен восторг зрительного зала.
В его радостях и криках звучало приветствие надвигающейся смене, установившемуся театральному канону – новому театральному стилю.
Этот вечер надо записать и запомнить.
Его почти подчеркнутую будничность, несмотря на выходной день. Его внешнюю бесцветность. Случайный состав публики. Неведомый и незнакомый зритель. Незваный и не специально приглашенный. Полное отсутствие в воздухе того «чего-то особенного», того «электричества», которым любят постфактум поминать вечера чрезвычайных событий.
Обыкновенный скромный вечер не совсем уверенного ввода «второго состава». С сомнениями дирекции и руководства: «Почти на провал?». С волнением играющих. Неосвоенностью. С Чацким, впервые вышедшим на публику, Софьей и Молчалиным – тоже.
«Не ждем ничего исключительного» – безучастным мазком расписано на лицах зрительного зала…
И – восторженное «не ждали», взрывающееся овацией после последнего монолога Чацкого. Незабываемого.
Почти символично, что он ведет монолог без традиционного «романтического плаща». Плащ истинного романтизма вьется вокруг его фигуры, мчащей огненные фразы грибоедовского обличения в зрительный зал, полный тех, кто навек порешил со всеми мерзостями былого, и ведет беспощадную борьбу с пережитками грибоедовских личин на светлом празднике нашей советской действительности. Здесь, в слиянии тонкого мастерства режиссеров и великолепного дарования артиста, совершен шаг вперед и поставлен новый стандарт театрального стиля. Надо присматриваться и вслушиваться.
Что может быть радостней?
И, конечно, мы были не совсем правы вначале: вместе с новым типом актера родился, конечно, в новом качестве и Ливанов.
Таким мы его не знавали.
Эта дата – поворотная дата и в биографии одного из чудеснейших актеров нашей поры, первого романтического актера великой эпохи социалистической революции – Бориса Ливанова!
Под новым пламенным дыханием актера тронулся лед на путях нового движения театра. Не дискуссии показали путь. Не вычисления и расчеты. И не гадания. Талант актера, помноженный на талант режиссера, произвел этот сдвиг (я пишу «сдвиг», но про себя думаю – переворот!). Дальнейшему движению театра широко раскрыты двери.
Шире дорогу – новый актер идет. Шире дорогу – новый актер пришел.
Идите и смотрите!
С. М. Эйзенштейн. Собрание сочинений. Т. 3. Печатается по первому экземпляру машинописи, подаренному автором Ливанову
Андрей Юренев Ливанов на экране
Ливанов сам рассказывал, что артистическая его жизнь началась в кино. Еще мальчишкой он, вместе со своим отцом Н. А. Извольским, снимался у одного из первых русских кинопродюсеров – Дранкова. Снимался, получал гонорар, покупал мороженое и болел ангиной, – так он это вспоминал. Но, говоря серьезно, Ливанов действительно всегда был киноартистом. Он сотрудничал и с классиками кинорежиссуры – с Эйзенштейном, Пудовкиным, Довженко, и с молодыми, начинающими постановщиками. Еще в 1933 году, находясь лишь на подступах к главным своим экранным свершениям, Ливанов говорил, что свою работу в кино считает не менее важной для себя, чем работу в театре.
Артист, как говорят, по воле божьей, щедро одаренный всеми качествами, всеми признаками артистизма. Высокий рост, богатырские плечи, гордая посадка головы, тонкое интеллектуальное лицо. Глаза, живо и непосредственно выражавшие смену чувств, оттенки настроений, течение мысли. Широкий уверенный шаг. Движения раскованные, отчетливые, властные. Что может более подходить для работы перед аппаратом, для жизни на экране? Ведь эта мощная, повелительная фигура заметна на самых общих планах, в самых перегруженных массовых сценах. Ведь это лицо, эти глаза будто специально созданы для передачи самых тонких, психологических нюансов на самых крупных, придвинутых к зрителю планах. Все это привлекало к Ливанову еще в пору кинематографической немоты. А когда экран зазвучал, стал слышен гибкий и звучный органный голос Ливанова. А когда экран приобрел цвет и стал широким, расширились и возможности Ливанова для создания масштабных эпических образов.
Когда кинопредприятие «Русь» приобрело новейшее заграничное оборудование, было решено создать постановочный боевик в русском народном стиле. Сказка «Морозко» давала большие возможности. Как всегда в кино, были собраны представители многих направлений и школ. Деда Мороза, например, играл популярный акробат и клоун Виталий Лазаренко. Но и мхатовцев было немало: артисты К. Еланская, В. Топорков, художник В. Симов, гример Н. Сорокин. Были и близкие по методу артисты – В. Массалитинова, Г. Громова. Ливанов, игравший красавца-жениха, оказался в своей, знакомой среде[10]. После этой роли ветеран русского дореволюционного кино, актер и режиссер В. Р. Гардин немедленно пригласил Ливанова на главную роль Дмитрия Гая в своем новом фильме «Четыре и пять». Затем судьба бросила молодого артиста в полярно противоположную стихию. Лидер левого, экспериментального, новаторского кино С. М. Эйзенштейн пригласил его сыграть министра временного правительства Терещенко в своей киноэпопее «Октябрь».
Интересно, что лучшие немые роли – роли отрицательные, построенные на контрасте привлекательной внешности и внутренних пороков. Это, конечно, требовало мастерства.
Звуковое кино началось для Ливанова ролью атамана Анненкова в фильме режиссера Н. Берсенева о гражданской войне – «Анненковщина». К сожалению, картина не сохранилась, так что свежих впечатлений об игре Бориса Николаевича вынести нельзя, но, опираясь на критические статьи тех лет, можно смело судить о том, что переход от немого экрана к слову принес Ливанову новые возможности. Если бы у ливановского Анненкова, и страшного, и значительного, в фильме был, что называется, «достойный противник» – столь же выразительная фигура положительного героя, то, несомненно, картина стала бы событием. Такая фигура появилась, но в другом фильме – в «Чапаеве», который вскоре вышел на экран и, совпадая с «Анненковщиной» по теме и материалу, оттеснил эту картину.
Успех «Дубровского» вывел Ливанова в число самых популярных, самых чтимых советских киноартистов. Но артист настойчиво мечтает о сегодняшнем герое, о своем современнике. Он хочет выразить то новое, что видит в людях вокруг себя, ощущает возможности для подлинного воплощения характера человека, живущего и работающего рядом с ним. Ливанов стосковался по сложному образу, по возможности выявить себя во всей глубине и разносторонности своих ощущений, результатом чего была бы вершина искусства – простота.
Роль коммуниста Бочарова в «Депутате Балтики» А. Зархи и И. Хейфица явилась продолжением, вернее, развитием и обогащением романтических тенденций актера. Она поражала своей непохожестью на многие уже сложившиеся стереотипы образов большевиков. Все, начиная от внешнего облика, удивляло оригинальной индивидуальностью и, вместе с тем, типичностью. Профессорские очки и ватник, прекрасные манеры и наган в кармане, трубка во рту и окладистая деревенская борода – таковы внешние приметы, которыми Ливанов характеризует своего героя. Идейные основы образа строятся на выдающемся уме, силе воли, искренней сердечности и доброте, беспощадности к врагам и дисциплинированности большевика. Ливанову удалось добиться очень интересного сочетания внутреннего напряжения и внешнего покоя, сдержанности.
Фильм «Минин и Пожарский» вышел в 1939 году, почти одновременно с двумя великолепными театральными победами Б. Н. Ливанова – Чацким и Соленым. Этот фильм В. Пудовкина вошел в золотую серию историко-патриотических картин, призванных отвечать тревожным и благородным чувствам советских людей в обстановке приближающейся войны.
Героико-патриотическую тему Ливанов продолжил ролью капитана Руднева в фильме Эйсымонта «Крейсер «Варяг». Сдержанный, скромный, замкнутый в себе Руднев чем-то напоминает Кутузова в Филях, давно принявшего решение, но ждущего, что скажут его подчиненные.
Мастерство того или иного артиста порою лучше оценить не по исполнению главной роли, где в распоряжении его обширный материал, метраж, пространство, в котором можно свободно располагать акценты и оттенки роли, а по ролям эпизодического характера. Зная это, Борис Николаевич не отказывался и от малых ролей, если находил в них возможности создания крупного характера. Надо признать, что не было эпизода, сыгранного им, который бы не запомнился, не откладывался в памяти как соответственный тому или иному фильму и при воспоминании о фильме неизбежно вспоминался и персонаж, созданный Ливановым: таковы были его Николай I, Потемкин, таким же стал генерал Мамонтов в фильме Л. Лукова «Олеко Дундич». Исполнение этой небольшой роли усложнялось еще и тем, что режиссер, очевидно, ставил перед собой задачу высмеять противников Дундича и показать серьезное противоборство. Упорно преодолевая это поверхностное стремление режиссера, но не искажая замысла фильма в целом, Ливанов создает сложный образ, сочетающий в себе силу, напор, самодовольство полководца с ничтожностью, прямолинейностью, растерянностью заведомо обреченного контрреволюционера.
Фильм-спектакль «Мертвые души» был снят режиссером Л. Траубергом на основе прекрасной инсценировки Михаила Булгакова, поставленной в 1932 году К. С. Станиславским и В. Г. Сахновским на сцене МХАТ. Фильм замечателен тем, что сохранил для потомков блистательное исполнение корифеями русской сцены грандиозных гоголевских персонажей. И, конечно же, одним из самых запоминающихся и ярких был ливановский Ноздрев. С первого появления на экране он буквально ошарашивает зрителя каскадом трюков, находок, фиоритурами и пассажами всех пластических и голосовых приспособлений.
Громоподобный хрипловатый голос, выпученные плотоядные глаза, быстрые и цепкие, но несвежие руки шулера, мягкая, но уверенная поступь кавалериста и охотника, простодушие кутилы и наглость скандалиста – черты, подсказанные Гоголем, были воплощены Ливановым с удивительной живостью и силой. Его исполнению присущи, казалось бы, несовместимые качества: театральный, яркий посыл и кинематографическая достоверность, доподлинность, жизненность персонажа. Резкие сценические штрихи, элементы пластики и жеста удачно соседствуют с крупноплановой паузой, где следишь за ходом мысли, а уследить не можешь, так как мысли-то у Ноздрева и нет. Некое животное, чувственное отношение Ноздрева ко всему окружающему, его похотливое жизнелюбие – стали тем основным тоном, которым с прекрасной свободой и юмором оперировал артист. Он сумел полно и выразительно передать авторское брезгливое отношение к Ноздреву, а также свое, соавторское негодование по отношению к нему.
Работа в «Слепом музыканте» была для Бориса Ливанова тем более необычна и значительна, что его партнером в роли слепого музыканта Петрика выступал его сын, Василий. Легко представить себе волнение двух актеров – отца и сына, в работе над этим кинофильмом, ведь на суд зрителей представлялся не один из них, а актерская династия. Следует отметить, что оба Ливановы продемонстрировали не только поразительную способность владения актерской техникой (один – играя слепого, другой в роли изувеченного старика), но каждый, по-своему, сумел представить воистину ливановское глубинное прикосновение в образ, оперирование тончайшими человеческими чувствами и переживаниями. И эта артистическая преемственность особенно радовала и впечатляла.
Как в нескольких словах обрисовать образ Ливанова, его прекрасную жизнь, его неповторимый вклад в искусство? Прежде всего, приходят слова: красота, талант, темперамент, правда.
Ирина Кузнецова Некоторые итоги
Кто же все-таки Ливанов: романтический актер, как называл его Эйзенштейн, трагический, как написали о нем недавно, характерный, каким считают артиста очень многие? Скажешь – романтический, а он возьми да и сыграй графа Альмавиву. И никакой романтики – яркая комедия характеров. Трагический! А куда прикажете деть Ноздрева, Швандю, Кудряша, Риппафрату? Характерный, – а Кассио, Чацкий!
Но, все же, на этом определении придется задержаться. Задержаться хотя бы потому, что с «характерности» начались победы Ливанова, которые если и не обернулись целиком против того, к чему он шел, то все же воздвигли некое подобие барьера, отгородившего его от целого ряда привлекательных, обязательных для него ролей.
В МХАТе любили и любят говорить о традициях и гордиться ими. И, одновременно, могут не замечать такого очевиднейшего факта, что из молодого пополнения, пришедшего в труппу в 1924 году, внимание Станиславского привлек именно Ливанов. Привлек как художник, с которым можно было начать работу по формированию в нем того типа «характерного актера», о котором мечтал великий режиссер. Причина этого была, вероятно, не только в том, что Станиславский увидел артиста, самой природой предназначенного на амплуа героя, но подметил в нем еще одну важнейшую черту, она-то и могла уберечь его от опасности взять от многообразного определения «характерный актер» – однозначно понятую характерность. Эта была та же самая черта, которая на «Горе от ума» увлекла Эйзенштейна, – творческая щедрость. Если бы ее не было, прогнозы многих критиков могли бы стать справедливым суждением о границах, доступных таланту Ливанова. Но такое качество смещает все; художническая щедрость, черпающая силы в самовоспламеняющемся вдохновении, почти не знает границ, во всяком случае, творческих. Поэтому – творческих. Поэтому Ливанов блестяще играет комедию, хотя дарование его меньше всего, казалось бы, соприкасается со сферой комического. Но вглядитесь в его комедийных героев!
…Вот изысканный граф Альмавива. На его лице аристократизм и… благородная скука – при виде графини. Неплохо бы развлечь себя – хотя бы ревностью. И, выполняя это, ливановский граф в нарядном охотничьем костюме врывается в спальню жены, сжимая в руках ружье: ему передали записку, в которой недвусмысленно говорится, что Розине назначили свидание.
Как гончая, идущая по следу, бросился он добывать доказательства. В будуаре треск. Было похоже, что целая бригада такелажников передвигает там нечто тяжелое. Наконец, граф появляется в дверях, обмахивая платком вспотевшее лицо. «Никого». Но что за интонация! Откуда пришла она к ливановскому Альмавиве? Оказывается, его граф убийственно разочарован: «Как было бы хорошо хоть кого-нибудь найти в женином будуаре!» – говорит весь его вид.
…А вот огромный, весь какой-то лохматый, как нестриженый пудель, врывается в губернаторский дом Ноздрев. Белая фуражка с красным околышем чудом держится на курчавой гриве волос. Полосатый архалук распахнут. Его полы разлетаются вокруг могучей фигуры, ни минуты не стоящей на месте. Человек один, а шума от него, будто сюда ввалилась, по крайней мере, рота новобранцев. Вдруг хохочущие, цепкие глаза шулера и безобразника уткнулись в новое лицо. Ноги Ноздрева почти на рысях понесли его навстречу Чичикову. Тиская беднягу в медвежьих объятиях, дружески хлопая его по плечу и изливая всю свою нежность в самых нелепейших словах, которые только ему могли прийти на ум, Ноздрев, упрятав голову петербургского гостя куда-то себе под мышку, изумленно-радостно осведомился у собравшихся: «Кто это?»
Вы думаете, этому Ноздреву очень нужны деньги за «души, которые умерли»? Ему важно немедленно совершить какой-нибудь обмен, розыгрыш. Он – жажда действия, а деньги? Черт с ними! Удастся облапошить Чичикова – великолепно, нет – тоже великолепно!
Или у Ноздрева дома. Похоже, что по комнате с ободранными стенами, посредине которой стояли малярные леса, носилась бочка, начиненная динамитом. Не взрывалась она только потому, что все время отыскивалась «отдушина» – то в виде шашек, то пары собак с «бочковатостью и комковатостью», то охотничьего рога, то Порфирия, то зайцев, которых на поляне такая пропасть, что ловить их можно прямо за задние лапы, – и в руках Ноздрева оказывается нога Чичикова, слишком близко подошедшего к окошку…
Становясь на вечер то Альмавивой, то Ноздревым, то Бондезеном, то Риппафратой, то Кудряшом, то Швандей, Ливанов подошел к Чацкому. Странный путь, не правда ли? И далеко не каждому под силу. Но так вел Ливанова Станиславский. По его мнению, именно эта последовательность давала актеру возможность освоить подобную роль, освоить с полной мерой психологической правды и целенаправленного темперамента. Но артисту не повезло: он тяжело заболел. Премьеру играл В. И. Качалов. Ливанову опять предстояло самое трудное: ведь еще Т. Сальвини сказал, что убедить публику легко, переубедить – очень трудно. Ливанову нужно было переубеждать.
…Давайте войдем во мхатовский зал воскресным февральским вечером 1940 года. Сейчас медленно разойдется серый занавес… Мороз расписал узорами стекло широкого полукруглого окна. Розоватый свет утра позолотил купол церкви – только его и видно из этой комнаты на втором этаже.
«К вам Александр Андреич Чацкий…», – доложил старый лакей, и сразу же послышались быстрые шаги: «Чуть свет – уж на ногах. И я у ваших ног!»
Высокий юноша в фиолетовой венгерке склонился к руке Софьи. И тут же глянул на нее снизу вверх восторженно и весело. Радостное нетерпение слышалось в его интонациях, в причудливой смене настроения, сообщающего словам то оттенок веселой иронии, то горячего признания.
Остроты этого Чацкого несли не только сарказм, но отчаянно-веселое вдохновение; его афоризмы рождались в искрометности и живости ума; его монологи… Впрочем, этот Чацкий совсем не собирался читать монологи. Он просто жил каждым словом собеседника, слышал его, как-то относился к нему. И когда ему уже становилось невтерпеж от банально-нелепой болтовни Фамусова, рычанья Скалозуба, Чацкий обрывал их короткой острой фразой, но потом не мог уж сдержать себя, свое бунтующее возмущение, и… Фраза за фразой возникали монологи второго, третьего актов.
За четыре действия комедии этот Чацкий возмужал. Горькая разочарованность в Софье как бы перелилась в твердость духа. Хотя не так просто было стоять ему в тени колонны в вестибюле фамусовского дома и слышать слова Софьи, обращенные к Молчалину. До сих пор звучит в памяти вопль, вырвавшийся из самой глубины души, полный оскорбления, боли и смущения (действительно, не так уж красиво подслушивать): «Он здесь, притворщица!». Короткая пауза как бы закрепляла ощущение некоторой неловкости за свое поведение, которое сразу же смывалось ураганом слов, сравнений, насмешливых рекомендаций, сарказма, обвинений, обрушивавшихся на Софью. Интонации – самые разнообразные, в зависимости от того, насколько владеет собой Чацкий. Но при всем том, Ливанов ни разу не перешел границу внешней учтивости. И это привносило в его последний монолог жесткость окончательного решения:
Прочь из Москвы, Сюда я больше не ездок!Молодая Россия в блеске ее ума, темперамента, благородства, душевной чистоты и, конечно, влюбленности, влюбленности в идеал, воплотилась в облике красивого, мужественного человека, меньше всего думающего о своих способностях, доблестях и достоинстве, но прежде всего о своем предназначении как сына отечества.
Однако главное, может быть, решающее в ливановской трактовке было в том, что и любовь, и остроумие, и гражданственность, и насмешка, и одушевление – все бурлило и кипело, вспененное огромной динамической силой чувства. И эту лаву, со всей щедростью артистического темперамента «опрокинутую» в зрительный зал, как луч прожектора, освещала чисто грибоедовская яркость мысли. Не случайно же писал Эйзенштейн: «Я не застал плеяды пламенных старцев великой традиции русского театра. Но из всего того, что мне приходилось видеть, я ни разу не был так потрясен… как тем, что я видел в этот памятный вечер в Ливанове-Чацком…».
Но… Театр рассудил иначе: не считая постановку «Горе от ума» в целом своим большим достижением, он быстро снял грибоедовскую комедию с репертуара.
Так на время захлебнулась в Ливанове огромная сила романтического таланта, умно и тонко воспитанного Станиславским.
Конечно, родившись, она не могла исчезнуть вовсе.
Как ни парадоксально, но именно в Соленом, в этом нелепо-застенчивом штабс-капитане, в котором тоскливая грубость соединялась с угловатой нежностью, вспыхивали отсветы романтического огня, полыхавшего в ливановском Чацком. И последняя, самая яркая искра, разгорелась тогда, когда, повернувшись спиной к залу, не спуская глаз с Прозоровского дома, Соленый профессиональным жестом военного обнажил голову, словно стоял у. открытой могилы, на секунду уткнулся лицом в серый ворс шинели, выпрямился, подтянулся и своим обычным, каким-то отрывисто-барабанным шагом пошел по аллее в глубь сцены – на дуэль с Тузенбахом…
Новые оттенки в ощущении самой природы романтического образа возникли в исполнении Ливановым роли генерала Огнева в пьесе А. Корнейчука «Фронт». Шел ноябрь 1942 года. Спектакль говорил с залом, одетым в защитный цвет. Еще не носили погон, а на гимнастерках было больше узких ленточек – знака ранений, чем орденов.
Генерал Огнев казался немногословным, сурово-сдержанным, словно опаленным не только боями, в которых истекали кровью его дивизии, но и тем жаром, которым полыхала земля, захваченная врагом.
Порой представлялось, что Огневу нестерпимо тяжело именно от сознания, что он – генерал, военный, ничего не может изменить, что его армия вынуждена отступать. К конфликту Огнева с командующим фронтом Горловым Ливанов добавлял еще один – постоянный вопрос, обращенный Огневым к себе: что именно не предусмотрел он, командарм? Ведь он тоже за что-то в ответе. Если не перед Ставкой, так перед самим собой, перед отцом, которого не смог спасти от расстрела, опоздал.
Сцену эту Ливанов играл так сдержанно, тихо, почти вполголоса, что было страшно: вдруг услышишь, как стонут ручки кресла, стиснутые пальцами Огнева. Человеку времени на стоны не отпущено. Война, и он – солдат. Не важно, что генерал. Все равно – солдат.
А несколько месяцев спустя, когда МХАТ уже выпустил второй спектакль военных лет – «Кремлевские куранты», в котором Ливанов показал своего Рыбакова, начала заполняться новая глава его актерской биографии – «Гамлет». На эту роль назначил его Немирович-Данченко. Десять-пятнадцать лет спустя мы увидели в «Гамлете» Пола Скофилда, узнали принца датского таким, каким представлял его себе Н. Охлопков, потом М. Астангов. Ливанов был бы совсем другим.
Я встречалась с «Гамлетом» пять раз в неделю в течение полутора лет, в 1943–1944 годах. На моих глазах сцена постепенно приобретала «жилой» вид, хотя в Эльсиноре было не очень уютно. Серая кольчуга стен, уходящих ввысь, создавала ощущение холода. Только в комнате Офелии с огромным витражным окном разноцветные «зайчики» прыгали по полу.
Но однажды огромный пурпурный занавес отгородил один из пустынных залов Эльсинора от уходящей вверх лестницы. На сцене стало теплее и… тревожнее. Посредине партера остановился Ливанов. Чуть склонив голову к плечу, он внимательно всматривался в серые стены, в громадный, слегка колышущийся полог, кровавым заревом «растекшийся» по ступеням. Казалось, он пристально изучает дом, в котором живет. И вдруг Ливанов вздрогнул. На сцену вышел король Клавдий. На нем был роскошный плащ. Сквозь золото парчи вился алый узор. Было похоже, что этот узор «накапал» на королевское одеяние с красного занавеса, падающего вниз… Улика преступления была почти налицо.
Сцены репетировались не подряд. Поэтому со стороны трудно было сразу ухватить основной тон роли. Первым ярким откровением о Гамлете стал монолог после ухода актеров.
Внимательно вслушиваясь в слова, неторопливо, внешне будто даже почти медлительно следуя за своей мыслью, словно видя ее и боясь утерять, Гамлет разговаривал сам с собой, пытаясь прояснить истину.
«Что он Гекубе? Что ему Гекубе? А он рыдает».
Удивление, полувосклицание, полувопрос были в этих словах, сменившихся естественным человеческим интересом по поводу того:
«Что бы он натворил, будь у него такой же повод к мести, как у меня?»
Вопрос был легкий, и Гамлет почти улыбнулся его легкости:
«…Он сцену б утопил в слезах».
Но ему уже мысленно передалось воодушевление актера, и, не успев еще мысленно осознать, что именно говорит, он на одном дыхании закончил строку. «В его изображении виновный бы прочел свой приговор», – выброшенная вперед рука заклеймила невидимого убийцу. И вдруг Гамлет застыл в этой позе, словно захваченный врасплох. Широко раскрытые глаза смотрели растерянно.
«А я», – чуть слышно прошептали губы, и, будто пригвожденный ударом, откинулся на спинку скамьи:
«Тупой и жалкий выродок, – нарочито медленно, почти по слогам, выговаривал он слова безжалостного обвинения себе. – И ни о себе не заикнусь, ни пальцем не ударю для короля, чью жизнь и власть смели так подло».
Гамлет вскочил негодующий и властный, чтобы презрительно спросить себя.
«Что ж, я трус?» – Он оглядел высокие стены Эльсинора, будто ждал, что многократное эхо швырнет обратно ему в лицо это слово…
Человек, который может так спросить, неспособен быть ни слабым, ни вялым, ни пассивным. Не может он быть и слишком юным. Чтобы так относиться к себе, нужны и мужество и зрелость мысли.
Но что было совершенно новым для актера в методе выявления характера, так это то, что Ливанов произносил монолог, размышляя над каждой фразой. Его Гамлет не просто убеждает в чем-то себя, нарочито подбирая оскорбительные выражения, чтобы ими пробудить свою волю, заставить действовать, хотя было и это; нет, он, прежде всего, пытается уяснить себе свершившееся и увериться, что отец не умер, а именно убит, что Призрак сказал правду и требует от него не злодеяния, а возмездия.
Пристальный интерес к миру и к людям тревожил Гамлета. Если хотите, он всякий раз пытался докопаться до причины.
Более всего интересовало Ливанова в этой шекспировской роли – что такое жизнь и что такое смерть, что есть убийство и что – возмездие, и каков должен быть человек, если он хочет быть им в полном смысле слова. При всем этом Гамлет был менее всего рационален. Наоборот, он был весь порыв, горячность, темперамент. Но под ударами судьбы все отошло на третий план, вперед выдвинулась задача – разобраться…
Человек вышел на сцену, чтобы понять смысл происшедшего и свою собственную человеческую ценность.
Ото дня ко дню многое становилось яснее в замысле шекспировской трагедии. Кое-что прорывалось, словно неожиданное, под напором ливановского темперамента, почти на одном дыхании – так было со сценой «У королевы». И совсем непонятно, откуда это взялось, словно Гамлета репетировал и не Ливанов вовсе: «засурдиненно» звучал монолог «Быть или не быть» – никакого видимого отчаяния, никакого взрыва, все предельно сосредоточенно.
Этот Гамлет жил, видимо, несколько в более раннюю эпоху, когда платье сохраняло удлиненную линию. На нем была черная рубаха ниже колен, перехваченная широким кожаным ремнем. Высокие суконные ботинки застегивались на металлические пряжки. Черный плащ, почти до пола, то отбрасывался назад, то закрывал всю его большую фигуру, резко очерчивая широкий разворот плеч…
До конца представить себе Гамлета нам мешало отсутствие грима.
И так же, как раздвинуло серую кольчугу стен алое полотнище занавеса, внеся в Эльсинор ощущение растущей тревоги, еще большую силу приобрел ливановский Гамлет, обретя свое собственное лицо. Это была одна из последних репетиций…
Светло-каштановые волосы слегка курчавились на затылке. Высокий чистый лоб. Прямой нос. Только губы юношески припухлые. Мы уже где-то видели такое лицо: молодое, решительное, спокойно-внимательное. Да ведь это микеланджеловский Давид! Так вот каким будет Гамлет… Романтик по темпераменту, философ по глубине проникновения в характеры и причины, движущие поступками людей, боец по силе и страсти утверждения высшей справедливости.
Но… Этого Гамлета никто не увидел. Спектакль, доведенный почти до финала, был законсервирован… К Чацкому прибавился Гамлет. Но жизнь образа продолжалась. Не находя исхода, образ давал удивительные побеги.
Первым был Астров.
Ливанов не хотел играть эту роль и боялся ее. Боялся повторить Станиславского. Когда-то, много лет назад, тогда еще юный артист увидел его в «Дяде Ване». И хотя с той поры прошло немало лет, цепкая актерская память сохраняла все детали исполнения. Но просьба Б. Добронравова, – изумительного дяди Вани – заставила Ливанова согласиться. Месяц прошел в единоборстве с воспоминаниями. Не с материалом Чехова, а именно с воспоминаниями о когда-то виденном. Ливанов нервничал. В довершение всего для него подгонялся костюм Константина Сергеевича, с жилетки которого так и не была смыта надпись химическим карандашом, удостоверяющая, что именно в этой паре играл сам Станиславский. На генеральную Ливанов вышел «убитый» костюмом. А между тем в самом артисте прорастала новая роль. Он стал Астровым не на первых спектаклях. Но уже одно то, что именно в этот период он познакомился со Спасокукоцким, говорило, что артист на верном пути. Ведь замечательный русский хирург начинал земским врачом, в глуши, почти без медикаментов и персонала. Он был один за всех. Но Астров старше Спасокукоцкого. Значит, тому человеку, который послужил для Чехова прототипом, было еще тягостнее.
Ливанову было бы легче, если б он взял что-то от нашего современника, каким был Спасокукоцкий, что-то от поэтичного Астрова-Станиславского. Но в том-то и дело, что Ливанов неспособен идти дорогой, которую до него проложил другой. К тому же он иначе чувствовал характер. Здесь и произошло расхождение с критикой. Театральные рецензенты не приняли его Астрова. Правда, они удовлетворились первыми спектаклями, как всегда, не считая важным для объективной оценки тот факт, что актерская работа над ролью продолжалась.
Что же было основным в его трактовке?
Прежде всего, понимание человеком того, что он опустился. Вспомните, как произносит ливановский Астров хотя бы одну фразу из второго акта: «Да, понемногу становлюсь пошляком», – интонация жесточайшая. Это не бравада и не жалоба, это трезвая констатация печального и даже омерзительного факта. Не дяде Ване, а себе открыл он это наблюдение над жизнью своей, мыслями, ощущениями. И не любит он Елену Андреевну, хотя женщина эта его манит, будоражит кровь, и за это Астров ей даже благодарен: все какое-то разнообразие, развлечение.
Многие, собственно говоря, все, писавшие о «Дяде Ване», не приняли Ливанова в третьем акте, в сцене объяснения Астрова и Елены Андреевны. Написано по этому поводу было много, но главное сводилось к тому, что Ливанов здесь чувствен, груб, прямолинеен – нет в нем поэзии, порыва чистой любви.
Да, Ливанов не поэтизирует Астрова. Текст роли говорит с ним иным языком. И слышит он в нем не романтическую возвышенность, а желание хотя бы таким путем стряхнуть с души замшелость, которая начинает его угнетать.
Критика говорила, что это не Чехов. Позвольте, но разве Гуров сразу полюбил свою «даму с собачкой»?
И, может быть, как раз все несчастье Астрова в том, что понял он, что любит, когда стоял перед Еленой, одетой в дорожное платье, и прощался с ней навсегда. На секунду зазвенело в голосе счастье от сознания, что еще способен быть влюбленным, зазвенело… И оборвалось, потому что положение его безнадежно.
Трудно определить, чье горе сильнее – Войницкого или Астрова.
Уж очень они разные. Даже в красоте своей не одинаковы. Дядя Ваня (Б. Добронравов) интеллигентен, тактичен, и голубые глаза его лучатся светом доброты. Астров – грубее, прямее и на все и всех смотрит умным, ироничным взглядом. В нем даже скверности человеческой немало, но именно человеческой, а не пошлой или банальной. Ведь жизнь уездная, которую Астров Ливанова знает. А не уверен, что сие благо – нужно ли спасать человека, продлевая его тусклую, нищую жизнь?
Так в образ ливановского Астрова вошла тема Гамлета: зачем живет человек?
Несыгранный Гамлет продолжал и дальше жить в актере.
Атмосфера нервозности, тревоги, незаслуженной обиды, в которой больше двадцати лет назад проходили в театре репетиции «Гамлета», как бы возродилась в Мите Карамазове.
Ливанов-Митя. И все сразу вспомнили Леонидова. Даже те, кто его не видел, стали поспешно читать сборник, чтобы убедиться, что сегодняшний Митя не тот, которого играл Леонидов.
Такой уж у Ливанова темперамент – он все время вступает с кем-нибудь в спор.
Пожалуй, как ни в одной работе, в «Карамазовых» проявилась современность художника.
Быть современным в современном репертуаре, в общем-то, задача элементарная. Ливанов чувствует пульс времени великолепно. Он не раз доказывал это и в кино и в театре. Но далеко не каждому под силу привнести сегодняшнее переживание в образ из классической литературы так, чтобы ситуация произведения углубилась и обострилась.
Ливанов сделал Митю буйным, несдержанным, страстным, но при всем этом, как заметил В. Ермилов, его недюжинная сила соединялась с душевной незащищенностью. Кульминацией образа стала сцена допроса в Мокром, которую с полным правом можно назвать «Прозрение Дмитрия Карамазова».
… Вспыхнул свет в комнате, и вошли в нее люди, много людей в полицейских шинелях, с портупеями, кобурами на боку. Вошли и сказали: «Дмитрий Карамазов, Вы обвиняетесь в убийстве отца!»
Невыносимо стыдно Мите. И не столько за себя, сколько за этих серьезных, с виду умных и, наверное, занятых людей: что они делают?! Что говорят? О чем спрашивают?
И если волнуется Митя, то потому, что считает себя убийцей старика Григория. И вину за это готов принять. И никак в толк не возьмет, что не в том его обвиняют. Но пока неизвестно ничего про Григория, Митя стоит посредине довольно покорно: за дело! А Григорий-то, оказывается, жив!
Лицо Мити, до того напряженное, почти трагическое, моментально светлеет. Облегченно вздохнув, он бросается к столу, как всякий свободный человек, но окрик заставляет его попятиться назад. Недоуменно смотрит он на полицейские мундиры: ведь все ясно, жив Григорий. Значит, нет на нем вины. Но, почему же, не выпускает из своих пальцев ручку человек, сидящий за отдельным столом? Почему не уходят все эти люди? Митя объясняет, охотно и просто помогает им разобраться в том, чего они, видимо, не понимают. Они не понимают! И не замечает того, что сам плетет вокруг себя западню. Нет! Он не оправдывается. Не в чем ему оправдываться, он только припоминает все, как было, и не видит усмешки на лицах полицейских чинов, не слышит их язвительных интонаций. Митя Ливанова говорит с ними, как с людьми, а они с Митей – как с преступником. Когда это становится особенно очевидно, Митя замолкает. По лицу Ливанова проходит болезненная, извиняющаяся улыбка. Неловко ему и за себя и за них. Неловко стоять посредине комнаты, неловко чувствовать себя таким большим и знать, что с его ростом никуда не спрячешься. А чины все задают и задают вопросы.
И вдруг его словно осенило. Понял Митя: им неважно, что он не убивал. Им важно доказать ему, Дмитрию Карамазову, что он – убил. Доказать, внушить, уверить… Именно к этому прозрению ведет Ливанов сцену допроса. Потому и не кричит его Митя, не протестует, не буйствует. От открытия такого в крике не спасешься: оно пострашнее, от него цепенеют…
Так сцена допроса стала вершиной, трагической кульминацией образа.
Рядом с ней и суд, и отправка на каторгу уже не могут потрясти ливановского Митю. То, что понял он в Мокром, – пожалуй, самое ужасное из всего, когда-либо пережитого человеком.
Поговорите с самим Ливановым. Вас просто ошеломит яркость темперамента, быстрота ума, воля артистической убежденности, современность художественного взгляда на существо театра, широта интересов. Через первые же тридцать минут разговора с ним любой человек почувствует состояние «перегрузки». Действительно, ваше воображение еще только пристраивается к постижению, например, колорита Тициана, как Ливанов уже заставляет вспоминать портрет Мейерхольда работы Кончаловского. Только-только настроишься на Пушкина, как уже предлагается понять своеобразнейшую гармонию Достоевского. Кажется, что в Ливанове живет одновременно и драматург и режиссер: под натиском его фантазии, знания, вдохновения, воспоминаний в разговор входят Станиславский, Немирович-Данченко, Щукин, Лермонтов, Горький…
Поначалу представлялось, что именно Ливанову противопоказана режиссура – это умение отдать свой темперамент, свое понимание пьесы не одной роли, а всем ролям, всем участникам спектакля. Его собственная яркость, своеобразная актерская диктатура, казалось, должны были помешать созданию концепции целого произведения, раствориться (насколько это возможно) в ансамбле. Крылатая фраза Немировича-Данченко о том, что «режиссер должен умереть в актере», представлялась просто нереальной применительно к Ливанову. Скорее он бы мог один сыграть целый спектакль, сыграть за всех: мужчин, женщин, детей…
И все же он истинный режиссер. Режиссер МХАТ, прошедший великолепную школу Станиславского, Немировича-Данченко, Сахновского, Телешевой; но, постигнув эту школу, он остался самим собой. Традиции не заглушили в нем индивидуальности.
Режиссировать собственные роли Ливанов начал, еще будучи молодым актером. Так родился его Кимбаев, – герой, которого сам Афиногенов представлял себе не иным, а менее значительным. Так рождались все ливановские характеры – буйные, в которых бурлила через край энергическая сила, и, как правило, не знающие, что такое равнодушное отношение к окружающим. Таким он пришел и в режиссуру. Когда-нибудь о режиссере Ливанове напишут исследования, подивятся обнаружившимся чертам трагедийного размаха, характерной зоркости и лирической просветленности в этой, может быть, самой тонкой и мудрой области современного театрального искусства.
Стараниями Ливанова в репертуаре МХАТа появилась современная пьеса молодого драматурга И. Соболева «Хозяин» (в постановке Б. Ливанова, П. Маркова, В. Маркова).
При всем несовершенстве авторской интерпретации темы в пьесе был намечен интересный характер председателя колхоза Линькова. Он-то и увлек Ливанова – актера и режиссера.
При всех своих заблуждениях и срывах Линьков – настоящий человек. «Хозяин», – с укором и негодованием говорят про него самые близкие люди – дочь, приемный сын Левка; «хозяин», – слышится шутливо-уважительная интонация других. А Линьков действительно хозяин. Сильный, кряжистый человек с лицом, медным от степного ветра. И кажется, что не седой он, просто волосы выгорели от солнца. Вот только годы чуть согнули спину, да ноги не очень ловко гнутся – а так он еще покажет, на что способна старая гвардия, что в гражданскую с беляками сражалась. Правда, не сдержан председатель, горяч и в гневе никого не видит и не слышит. Но при всем том границы характера Ливанов чувствует точно. И кричит его Линьков, и ругается, и плеткой Левку по уху съездил, а ведь не самодур. И людей любит. И люди это понимают (это уже достоинство Ливанова-режиссера). То ли глаза у Линькова добрые, то ли обезоруживает смешная привычка рукавом поглаживать седые усы, то ли походка чуть шаркающая (ведь не молод уже председатель), а вообще-то, наверное, все сразу – симпатизирует зал этому седому человеку с Золотой Звездой на парусиновом френче. И ведь никого сомнение не берет, что звание Героя он не по праву получил или, что за анархистские действия звания этого лишить надо.
Тут уже в силу вступало умение актера создавать достоверный характер. Достоверный в каждой мелочи. И если его инженер Забелин – образ, живущий больше в себе самом, не очень определенно еще раскрывался в отношении к жене, к Маше, к Рыбакову, у Линькова есть круг определенных привязанностей – к дочери, внучке, Левке, жене, односельчанам. Привязанности эти разные и по силе и по длительности, но все их ощущаешь.
К тому же, видимо, эти привязанности заставили режиссера Ливанова сделать так, чтобы актер Ливанов не только почувствовал, но и донес до зрителя то, что его Линьков живет среди людей, в обществе. И совсем неважно, что фамилия Линькова в программе пишется первой, а второго секретаря или секретаря в приемной райкома – последней. Все они друг от друга как-то зависят. И не только сценически, но и человечески. Так уже в «Хозяине» стали складываться черты Ливанова-режиссера. Назовем их определяющими. (Думаем, что это именно так.)
В «Егоре Булычове» (постановка Б. Ливанова и И. Тарханова), где, казалось бы, и текстом Горького и идущей от Щукина традицией указано противопоставление Булычова и среды, булычовская исключительность и обособленность, Ливанов показывает своего героя внутри дома, в котором он живет, логикой жизни и логикой существования класса, впаянного в определенную среду. И, сколь ни хорош Булычов – умен, талантлив и значителен по характеру, он – «Булычов и другие».
Как ни современна пьеса Горького, она в той же степени и исторична. В исполнении Щукина бунт Егора воспринимался как принятие купцом Булычовым революции – у Ливанова бунт стал страницей умирания класса, отзвуком жестокой правды о классовой борьбе.
Булычов Ливанова – не Достигаев, не Звонцов, которые загребали деньги, приспосабливаясь к обстоятельствам. Приспособиться он органически не может. Вон с женой своей, Ксенией, и то примириться неспособен: как презирал ее тридцать лет назад, так и сегодня презирает. А революция не примирения требует, а принятия, принятия целиком. Это штука посложнее. Умен Булычов. Понимает, что Лаптев, Донат – не его компания. Дочери своей Шуре он может подсказать, с кем идти. А самому? Куда он пойдет, когда в дом, капитал, угодья не то, что телом – душой всей врос. От жадности? Нет. Это не по-булычовски. Скорее от характера, от силы, которую он впервые-то в деньгах познал, а не в себе. Потому на Ксении и женился. Приданое за нею давали хорошее. А революция, как он слышал, против частного капитала. Вот тут и конфликт. Одно дело – самому себе признаться, что не на той улице живешь. Совсем другое – услышать это, например, от Якова Лаптева и оказаться, может, и на той улице, да без «дела», которому жизнь отдал.
Вот этот сложный характер в сложных обстоятельствах и создает Ливанов – режиссер и актер.
Работая над пьесой, он не раз задавал себе вопрос: почему Горький «убил» Булычова? Что это – печальное недоразумение: действительно умирает умный, во многом разбирающийся и многое правильно видящий человек? А потом понял – это не болезнь его героя доконала, а революция! От всего отказался его Булычов, от всего, кроме себя. Себя ставил выше. Потому и умер. Но это в самом финале. А три акта на глазах зрителей жил, думал, смеялся, любил, проклинал, мучился незаурядный человек.
Другие и Булычов…
И все эти другие, хочет или не хочет того Егор, какое-то место в его жизни занимают. И не думать о них он не может – это уже в привычку вошло.
Но чем сильнее забирает Егора болезнь, тем громче бурлит на улице людской поток. Уж не в одно окно, а во все врывается песня.
Поддался дом, завертел его ветер, песня стучит в стекла. «Погибнет царство, где смрад», – в ярости кричит Егор. И кажется ему, что «Смело, товарищи, в ногу!» – отходная по нему. Пришел ему конец. В последний раз мелькнул в отворотах дорогого темно-зеленого халата расстегнутый ворот пунцовой косоворотки, надетой назло смерти, домашним, и рухнул Егор, сбитый с ног волей тех, кто шел на борьбу не только с самодержавием, но и с такими, как купец Булычов…
Несыгранный Гамлет породил удивительную душевную деликатность ливановского Мити, легко взрывающегося бурным негодованием. В Егоре Булычове актер уже обрел мудрость и красоту гармонии. Наверное, далеко не каждый, пройдя путь, подобный ливановскому, не утерял бы ни грана своего не только ярчайшего таланта, но и желания беспрестанного решения творческих задач. И, по сути говоря, ни одна роль в его репертуаре не была проходящей. В каждой из них он рассказывал залу о своем познании человека, о лучшем и самом глубоком проявлении его человеческой энергии и свойственного только этому герою «открытия мира». Миры эти разные, как и эпохи, в которые живут ливановские герои. Но если расположить их всех по векам, по событиям и дням, прожитым этими героями, из них сложится простая и сложная биография многих поколений, и самая яркая ее страница будет посвящена современнику.
Самое великолепное, чем только может быть отмечена творческая биография артиста – это неуемное стремление идти вперед. Такие художники не стареют: им столько лет, сколько герою, образ которого они создают сегодня…
«Театр», № 5, 1964 год
В. Б. Ливанов Гамлет
Да вот же он! Туда, туда взгляните:
Отец мой, совершенно как живой!
В. Шекспир «Гамлет» (перевод Б. Пастернака)Летом 1952 года Московский Художественный театр гастролирует в Ленинграде. Ольга Фрейденберг делится с Пастернаком своими впечатлениями от натовских спектаклей. Пастернак ей отвечает письмом от 16 июня:
«Как молодо и с какой отчетливостью ты рассуждаешь о перемене художественных форм и их назначении, о театре, о кино, как по-философски талантливо и с какой безошибочностью судишь о строении разных творческих явлений и их подобии! …если ты даже выделила Ливанова, потому что знаешь, что это мой лучший друг, то и в таком случае меня радует, что наше отношение к нему сходится. Его нельзя назвать неудачником, нельзя сказать, что он не понят, недооценен, но широта его мира, его разносторонность, образованность и то, что он не замкнулся в рамки характерного актера, позволяет его собратьям коситься на него под многими предлогами…»
Весной 1954 года Пастернак, интересуясь постановкой «Гамлета» в своем переводе в Александринке, напоминает в письме к О. Фрейденберг[11]:
«В Ленинграде часто бывает Ливанов, большой мой друг, который должен был играть Гамлета во МХАТе пятнадцать лет тому назад» (12.4.54).
В 1939 году В. И. Немирович-Данченко задумал и стал готовить во МХАТе постановку «Гамлета».
С какой ответственностью и тщательностью режиссерская группа (Немирович-Данченко и В. Г. Сахновский) относилась к будущей постановке, говорит хотя бы то, что при распределении ролей для исполнения Офелии и Лаэрта труппу Художественного театра пополнили талантливые молодые актеры из других театров: Ирина Гошева из Ленинградского театра комедии от Николая Акимова и Владимир Белокуров из Московского театра имени В. Маяковского от Николая Охлопкова. Кстати, пригласить Белокурова посоветовал мой отец, которому предназначалась роль Гамлета.
Возникли проблемы с переводом. Выбранный поначалу перевод А. Радловой позже стал не устраивать Немировича-Данченко. Интересный при чтении текст перевода проигрывал в сценическом звучании: становился легковесным. Попытка соединения двух переводов – академически громоздкого Лозинского и нового, Радловой, – не дала желаемого результата. Немирович-Данченко стремился к современному, разговорно-острому и поэтическому звучанию текста, но не за счет упрощения философской значимости.
И тут появился перевод Бориса Пастернака. Это было именно то, к чему стремился театр. Ливанов немедленно представил режиссерам перевод и переводчика.
Театр принял пастернаковскую работу почти безоговорочно. Немирович-Данченко написал А. Радловой в ноябре 1939 года: «Перевод этот (Пастернака. – В. Л.) исключительный по поэтическим качествам, это несомненно событие в литературе.
И Художественный театр, работающий свои спектакли на многие годы, не мог пройти мимо такого выдающегося перевода «Гамлета»… Ваш перевод я продолжаю считать хорошим, но раз появился перевод исключительный, МХАТ должен принять его».
Доверяя художественному вкусу Бориса Ливанова, его актерскому «чутью» и видя в нем творческого единомышленника, увлеченного замыслом постановки, Немирович-Данченко предложил актеру, исполнителю заглавной роли, вместе с поэтом проверить сценическое звучание перевода, добиваясь полной органичности произносимого текста. Но никакого совместного творчества не произошло бы, если бы поэт Борис Пастернак сам не относился к актеру Борису Ливанову с высокой степенью доверия и восторженного приятия.
Евгения Ливанова так вспоминала о присутствии поэта на спектакле «Горе от ума», в котором Ливанов играл роль Чацкого:
«На спектакле я была с Пастернаком. Сидели в восьмом ряду рядом с креслом Немировича-Данченко, он отдыхал в это время в Барвихе. Ему туда послали телеграмму о небывалом успехе, и что занавес давали 24 раза.
Первые слова Ливанова-Чацкого: «Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног!» – и Пастернак залился слезами. Он их даже не замечал. И это продолжалось весь спектакль, как только выходил Чацкий-Ливанов и начинал говорить.
– Я впервые понял, почему это написано в стихах, – сказал Борис Леонидович.
После конца спектакля он был возбужден, взволнован, лицо было заплакано».
Свои впечатления Пастернак выразил в надписи на вырванной из книги странице со своим портретом-репродукцией работы художника Леонида Пастернака – отца поэта:
«Великому и стихийному артисту и, по счастью, другу моему Борису Ливанову, дань любви и восхищения и общей нашей будущности, раскрывающейся мне в его игре.
Б. П., 1938 год».
Оба Бориса азартно взялись за совместный труд. Это время можно считать началом их творческого и человеческого дружеского сближения. Они занимались не только поисками наиболее выразительного звучания слова. Борис Ливанов – талантливый художник – рисовал отдельные мизансцены будущего спектакля, которые отражали их общее понимание того или иного сценического решения. Пастернак участвовал советами и в поисках внешности героя: Ливанов всегда предварял рисунками свою актерскую работу над образом, находя внешний облик персонажа – грим, костюм.
18 июня 1941 года Пастернак надписывает Ливанову первое издание шекспировской трагедии в своем переводе:
«Человеку, о котором это написано:
Борису Ливанову-Гамлету.
Б. Пастернак. 18.VI.41. Переделкино»Через четыре дня разразилась война.
«5. IX. 41
Золото мое Боричка!
Я дико занят. На мне две пустые квартиры, дача, чужие неразочтенные домработницы, самые разноречивые хозяйственные заботы. Все мои кто где, на Каме, в Ташкенте, под Челябинском. Изредка у меня ночные дежурства в Лаврушинском[12], я прохожу ежедневное военное обучение. Каждый день с утра в Москве, где высуня язык бегаю по разным безуспешностям только затем, чтобы, вернувшись в Переделкино, полакать чего-нибудь впопыхах (воображаю, что б это было, если бы на это взглянуть при свете дня). На рассвете (в моем распоряжении только 1,5–2 часа утром до поезда) строчу что-нибудь (меня опять свели к переводам, с латышск., с грузинск.) на гривенник, на пятиалтынный, которые потом не платят. Но я не жалуюсь, я люблю быстроту. Судьба циркового трансформатора прельщает меня. Беда не в этом. В чем она, я расскажу тебе как-нибудь один на один.
На днях я взбунтовался, и тут мы с тобой сразу подходим к теме. Вчера я прямо с боевой стрельбы отправился к Храпченко[13], и тут я узнал вещи ошеломляющие. По его словам в Новосибирске будут продолжать играть Гамлета в новом сезоне, и для его подготовки, где бы то ни было, никаких препятствий не встречается. Мало того: он упрекнул меня, зачем я бросил работу по «Ромео», а на мои слова, – кому-де нужен сейчас Шекспир, ответил что-то вроде «глупости», но повоспитаннее, я точно не помню. Как Вам это нравится, и сделали ли Вы из этого практический вывод?
Крепко тебя целую и бегу на поезд, е… его мать, хотя так выражаться не следует, потому, что дальше поклоны Сахновским[14], Вит, Як[15] и Ольге Серг.[16].
Если ты задумаешь осчастливить меня открыткой, направляй ее по адр.: Москва 17, Лаврушинский пер, д. 17/19, кв. 72, Б. Л. Пастернаку.
Искренне тебе преданный Б. П.»Несмотря на недоуменный оптимизм Пастернака в отношении дальнейшей работы над «Гамлетом», в сотворчестве обоих Борисов наступает перерыв, вызванный эвакуацией МХАТа из Москвы, и отъездом Пастернака к своей семье в Чистополь на р. Каму.
В 1942 году в эвакуации директором МХАТа был назначен И. М. Москвин. Немирович-Данченко оказался вдали от театра, на Кавказе. Поначалу театр направился в Саратов, потом переехал в Свердловск. «Гамлет» не репетировался, несмотря на то, что один из режиссеров спектакля В. Г. Сахновский, был с труппой. Сказывалось отсутствие Немировича-Данченко.
Ливанов и Пастернак с семьями возвращаются в Москву в 1943 году.
МХАТ в полном составе постепенно возобновляет репетиции «Гамлета». Поэт и актер снова часто встречаются для продолжения совместной работы.
Ходил упорный слух, что Сталин с опаской относится к теме гамлетизма. В данном случае выход спектакля гарантировался бесспорным авторитетом Немировича-Данченко. Смерть его наносит готовящемуся спектаклю первый удар.
И. Москвин, Н. Хмелев, ставший художественным руководителем театра, и назначенный директором В. Месхетели публикуют и центральной прессе статьи о готовящемся спектакле, пытаясь защититься хотя бы памятью о Немировиче-Данченко.
Привожу фрагмент одной из таких статей:
«БЛИЖАЙШИЕ ПРЕМЬЕРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
…Более двух лет Владимир Иванович с присущим ему увлечением работал над «Гамлетом» Шекспира. Он создал режиссерский штаб во главе с В. Сахновским, глубоко и проникновенно проработал все линии этой постановки. С режиссурой и участниками спектакля неоднократно обсуждался план постановочной работы, была определена характеристика образов действующих лиц. Перед актерами, занятыми в этой работе, наш учитель ставил задачу – добиться большой трагической силы, сочетаемой с простотой живой психологии и прекрасной театральностью. Он стремился к тому, чтобы в спектакле чувствовалась суровая атмосфера действия и был вскрыт глубочайший философский человеческий смысл трагедии Гамлета. Владимир Иванович не ограничивался только разработкой плана и беседами с участвующими в спектакле артистами. Он провел с ними много репетиций, приглашая их к себе даже на дом в те дни, когда чувствовал себя плохо. Особенно много внимания он уделил работе с Б. Ливановым – исполнителем роли Гамлета. Эта работа не прекращалась до самых последних дней его жизни. Он принял и утвердил спектакль, эскизы костюмов, написанные художником В. Дмитриевым. Без всякого преувеличения можно утверждать, что замысел этой постановки принадлежит к крупнейшим и интереснейшим работам, великого мастера русской сцены. И сейчас задача нашего коллектива, наших мастерских, всего театра – воплотить в сценическое создание замыслы нашего учителя и сделать спектакль «Гамлет» достойным, его светлой памяти»[17].
Понимая, что театр остался без своего главного заступника, В. Г. Сахновский торопится довести спектакль до премьеры.
О напряженном труде обоих Борисов свидетельствует письмо Пастернака:
«8. III.44
Дорогой Борис!
Отраженно по себе догадываюсь, что позавчера были твои именины, с чем тебя и поздравляю.
В субботу я был не выспавшись, и ради Бога не думай, что я во все дни недели бываю такой тупой и злой.
Два дня я тебе звоню, чтобы сообщить новые возможности относительно наших проклятых шекспировских строчек:
Все в жизни рухнуло.
Святыни рухнули, и вот я стал
Защитником поруганных начал.
Спасителем
Поборником
Готов потеть и дальше. Привет всей твоей семье. Евгении Казимировне целую ручку.
Твой Б. П.»В нашем семейном архиве сохранилась репетиционная тетрадь моего отца, в которой страницы с наклеенным печатным текстом перевода чередовались с пустыми, предназначенными для актерских записей и помет. Некоторые из них заполнены рукой Ливанова, другие – рукой Пастернака. Очевидно, что актер давал поэту эту тетрадь с намеченными им во время репетиций исправлениями в тексте, и Пастернак вписывал туда свою окончательную редакцию.
Помню, по всему нашему дому в то время обнаруживались случайные листы бумаги, на которых, «озверев от помарок», Борис Леонидович записывал новые и новые варианты гамлетовских реплик и монологов.
Многие из рукописных правок в актерских тетрадях Ливанова вошли в новое издание пастернаковского перевода трагедий Шекспира и закреплены в нем как окончательные.
«Дорогому Борису Ливанову,
с которым вместе мы варили это блюдо.
Б. Пастернак. Москва. 8 октября 1947 год».Так оценит Борис Пастернак их совместное творчество, надписывая новое издание перевода – в Детгизе, в 1947 году.
Из воспоминаний Евгении Ливановой:
«К Новому, 1945 году группа английских актеров во главе с «английским Качаловым» – Джоном Гилгудом направила своим советским коллегам подарок – пластинки с записью шекспировских монологов. Два монолога из «Гамлета» читал Гилгуд, причем свое исполнение он посвятил – так это и звучало на пластинке – «моему другу Борису Ливанову, занятому сейчас работой над Гамлетом».
В ответ Ливанов и Пастернак послали Гилгуду письмо.
«Москва, 1945 год
Джону Гилгуду Королевский театр,
Геймаркет, Лондон
Дорогой Гилгуд!
В дни, когда все человечество считает секунды, думая об истинной, достойной человека жизни, наконец завоеванной, мы получили от Вас подарок. Вы прислали нам свое дыханье. Вы произнесли слова, сказанные лучшим из нас Гамлетом: «Что значит человек…». Спасибо Вам.
Мы, советские художники, ощущаем радость по поводу того, что в наше время мы в такой доступности, о которой могли бы мечтать наш Пушкин и Ваш Байрон, услышали голос того, кто нам душевно так близок, а пространственно так далек. Я и мой друг Пастернак великолепно способны оценить, кем Вы вошли в Гамлета и кем из него вышли и что к нему прибавили.
Вы – прекрасный артист, и мы счастливы, что судьба посвятила нас в стихию артистизма, неразрывно породняющую нас с Вами, – залог нашей более широкой и длительной творческой дружбы.
С лучшими пожеланиями, искренне Ваши
Борис Ливанов,Борис Пастернак».В этом же письме Ливанов сделал приписку, прося Гилгуда прислать свой портрет в роли Гамлета. Просьба вскоре была исполнена.
«Борису Ливанову – артисту, союзнику и коллеге в знак товарищества – приветствие», – значилось на подписи к подарку.
А мхатовскому спектаклю был нанесен второй удар судьбы – в разгар репетиций скончался В. Г, Сахновский. Постановка оказалась режиссерски окончательно обезглавленной. Но работа практически была уже завершена. Спектакль был на выпуске. О сталинском запрете «Гамлета» во МХАТе Борис Ливанов узнал на генеральной репетиции, стоя на сцене в гриме и костюме принца Датского.
В ливановском архиве имеется черновик письма, записанного О. Бокшанской под диктовку Ливанова и предназначавшегося кому-то из бдительных начальников советского искусства.
«Многоуважаемый Георгий Федорович![18]
Опасаюсь, что Ваша занятость не позволит Вам лично выслушать мои соображения по этому вопросу. Поэтому позволю себе кратко об этом написать.
Переношусь мысленно на два года назад, 23 февраля 1945 года. Я в полном костюме и гриме репетирую «Гамлета» во МХАТе. Все было готово к постановке. Немалые затраты людских сил – художников, декораторов и других – этому предшествовали. Немало сил затратил и я, мои коллеги по этому спектаклю. Большие материальные, денежные средства ушли на подготовку этого спектакля. Наша печать предвещала его. О нем писали за границей. Известнейший английский исполнитель роли Гамлета – Джон Гилгуд прислал мне свой снимок в этой роли в надежде «получить в обмен» мой портрет в роли Гамлета.
«Гамлет» не был поставлен потому, что через несколько дней после этого скончался наш руководитель – Сахновский.
Очень больно сознавать, что огромный труд и большие материальные затраты могут пропасть даром. На днях я спросил у художника – «целы ли декорации?». «Пока целы», – был ответ. Пока живы главные исполнители. Имеются стенограммы, записи всех режиссерских указаний Владимира Ивановича Немировича-Данченко.
Прошу Вас подумать, не следует ли возобновить работу по этой постановке. Времени должно уйти немного – месяца три-четыре. Новых материальных затрат почти никаких или, во всяком случае, очень мало».
Думаю, что письмо Ливанова, черновик которого сохранился, было театром отправлено. Судя по всему, у «многоуважаемого» не нашлось времени не только на разговор с артистом, но и на ответ по его письму.
Сталинские распоряжения не обсуждались, и отчаянная попытка Бориса Ливанова, безусловно, была расценена как дерзость.
«Чего-чего не делали мы вместе с Борисом,
И хохотали, и плакали.
И никогда не помогало!!» —
еще раньше угадал Пастернак, надписывая свой перевод «Ромео и Джульетты», и добавил:
«На память о нашем совместном посещении сей планеты.
24. XI.44. Москва».О том, что поэт и актер чувствовали, когда спектакль был запрещен, свидетельствует надпись Пастернака Ливанову на тоненькой книжечке стихов «Земной простор», изданной в это время:
«Боричка! В несчастной части твоей «многосложной» жизни мы – братья. С братским приветом с этого участка твой, крепко любящий тебя
Борис».А пытка Шекспиром продолжалась.
Еще до осуждения «культа личности» «лучшего друга писателей, артистов» и вообще всех на свете Ливанов задумал сыграть и поставить «Короля Лира», конечно же, в переводе Пастернака. Бориса Леонидовича эта идея привлекала. Но, занятый работой над романом «Доктор Живаго», на который автор возлагал большие надежды, Пастернак только время от времени давал своему другу практические советы, развивающие замысел, и помогал делать необходимые сокращения в тексте пьесы.
Несмотря на разочарование, пережитое в истории со спектаклем, Борис Леонидович вместе с Ливановым поверил, что на этот раз их ждет удача. Он писал отцу в апреле 1953 года:
«…Боря, Лир с середины, где со сцены уходит шут и его начинает заменять прикидывающийся сумасшедшим Эдгар, – очень по тебе. Его бушевание и безумие отсюда – это вылитый ты за столом, твое гениально-величественное красноречие с грозным, подкапывающимся под умничающих лицемеров простодушием. Тебе будет очень легко играть его. И в этой достоевщине есть одна вечная толстовская нота. Я не могу найти того, что писал об этой трагедии в предисловии ко всем, но вот эта мысль. В «Лире» о добре, присяге, интересах государства и верности родине говорят одни мерзавцы и уголовные преступники. Положительные герои этой трагедии – сумасшедший самодур и до святости правдолюбивая дурочка.
«Здравый смысл» представлен экземплярами из зверинца, и только эти оба – люди. Эта мысль чрезвычайно анархическая. Ты в Лире будешь производить бурю в зрительном зале и срывать в ходе действия овации.
Начни с Лира, а продолжи Гамлетом (Пастернаку хотелось, чтобы Ливанов все же осуществил «Гамлета», но уже как постановщик. – В. Л.).
Но письмо приняло деловой характер. Крепко целую Вас обоих, привет и поцелуи детям.
Ваш Б.».
Все повторялось. Снова английский актер, теперь не Джон Гилгуд, а Пол Скофилд, будучи на гастролях в Москве, где он с успехом выступил в роли Лира, преподнес отцу свой портрет с надписью:
«Борису Ливанову с лучшими пожеланиями успеха Вашему «Королю Лиру».
Были распределены роли. Делать декорации и костюмы Ливанов пригласил замечательного чешского художника Иржи Трнку, своего друга.
Казалось, теперь на пути осуществления шекспировского спектакля нет, и не может быть никаких препятствий. Борис Ливанов медленно, но верно разворачивал тяжело груженный конъюнктурными задачами театр к давно позабытому Шекспиру.
И – разразился безобразный скандал вокруг «Доктора Живаго».
Становилось ясно, что вынесение на сцену «правительственного» театра работы Бориса Пастернака, переводчика «Лира», – нового «врага народа» теперь уже эпохи Хрущева – вряд ли возможно. Начались какие-то «сложности» при заключении договорных отношений с И. Трнкой. Раздосадованный «заячьими петлями» советских министерских чиновников от культуры, художник отказался от сотрудничества во МХАТе, сославшись на занятость.
Отец обратился к Андрею Гончарову, своему давнему товарищу, известному иллюстратору, в частности, шекспировских трагедий. Гончаров дал свое согласие. Но это, как и следовало ожидать, ничего не поправило.
Пастернака не стало. Мои родители были на его похоронах[19].
На следующий же день после похорон Бориса Леонидовича министр культуры всего Советского Союза Екатерина Фурцева пригласила Бориса Николаевича в свой правительственный кабинет для «неотложной личной беседы».
Не успел Ливанов переступить порог, как Фурцева обрушила на него державный гнев:
– Как вы могли? Вы – народный артист СССР?! Это же политическая демонстрация…
– Мы с вами по-разному понимаем и жизнь и смерть, – остановил ее Ливанов.
Задуманного Фурцевой выговора не получилось.
Этого короткого «обмена мнениями» Фурцева Ливанову не забудет. «Неуправляемый» – такой, опасный, с точки зрения партаппарата, ярлык привесили Ливанову.
Вскоре всевластная дама найдет способ известить театр о том, что «Никита Сергеевич Хрущев считает постановку Шекспира в Художественном театре несвоевременной»[20]. Это значило, что Министерство культуры не истратит на спектакль ни гроша.
«Меня с этой должности (министра культуры. – В. Л.) вынесут только вперед ногами», – как-то сказала Фурцева Ливанову.
Так и произошло. Фурцева, сыграв значительную роль в падении Хрущева, пользовалась непременной поддержкой нового «Ильича» – Леонида Брежнева.
Однажды, выступая в Министерстве культуры перед членами коллегии, среди которых был и Б. Ливанов, Фурцева развивала свою любимую идею об организации повсюду, где это только возможно, «художественной самодеятельности» и договорилась до того, что, по ее мнению, «самодеятельность должна скоро вытеснить профессиональное искусство».
– Борис Николаевич, – прервав речь, обратилась она к Ливанову. – Я вижу, вы что-то рисуете в блокноте и меня не слушаете. Вы что, со мной не согласны?
– Я слушаю, – ответил Ливанов. – Вы радуетесь тому, что профессиональное искусство скоро исчезнет, а я – профессионал… И за профессионализм во всех областях, не только в искусстве. Вот вы бы, Екатерина Алексеевна, стали пользоваться услугами самодеятельного гинеколога?
Обсуждение вопроса развития самодеятельности закончилось гомерическим хохотом всех присутствующих.
Судьба «Гамлета» во МХАТе постигла и «Лира». Историкам русского театра еще предстоит дать оценку министерским заслугам Е. А. Фурцевой в области культуры, главная из которых – уничтожение искусства Художественного театра, того неповторимого явления русской культуры, которое благодарной любовью отзывалось в умах и душах трех поколений зрителей.
Великий МХАТ умер. Труп его расчленен пополам по орнитологическому признаку: одна половина обозначена птицей чайкой, другая – буревестником.
Интересно, чьи куриные мозги впервые посетила такая птичья идея?
«Неуправляемый» Борис Ливанов, любимый ученик и последователь К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, погиб под развалинами театра, живым символом которого являлся почти полвека.
В. Б. Ливанов «Бедный Боря»
…Прием в Кремле первых лауреатов Сталинской премии. Год – 1940-й. Один стол для членов правительства, в центре – Сталин. Столы для приглашенных стояли к правительственному торцами.
В конце приема ко мне подошел офицер, попросил «пройти за ним».
– Куда мы идем?
Он ничего не ответил.
Полуосвещенные залы Кремля. Мы движемся из одного в другой. Наконец остановились у закрытой двери. Он постучал. Открыл Ворошилов.
– Здравствуйте, проходите.
Среди знакомых лиц много артистов. Жданов играет на рояле Чайковского. Вошел Сталин и, с приветственным жестом обращаясь к каждому, называл по фамилии. Поздоровавшись, спросил:
– Может быть, посмотрим фильм? Какой фильм будем смотреть? «Если завтра война» посмотрим?
В фильме были кадры гитлеровской военной хроники. Потом предложил посмотреть «Волга-Волга». Когда просмотр кончился, официанты стали разносить вина, кофе, фрукты. Переходя от одной группы гостей к другой, Сталин оказался около меня. Сел на стул и предложил мне сесть на стоящий рядом. Начал разговор о Художественном театре. Между прочим, сказал:
– Вы не вовремя поставили «Три сестры». Чехов расслабляет. А сейчас такое время, когда люди должны верить в свои силы.
– Это прекрасный спектакль!
– Тем более, – сказал Сталин.
Потом спросил о «Гамлете», который театр в это время репетировал. Я стал рассказывать о замысле нашего спектакля. Сталин внимательно слушал, иногда задавал вопросы, требующие точного, недвусмысленного ответа. Время от времени он чуть подымал руку, и напротив нас раздвигалась часть стены, выходил человек, неся на подносе дне рюмки с коньяком: маленькую для Сталина, довольно большую – для меня. Сталин предлагал мне выпить и выпивал сам. Через некоторое время я заметил военного, появившегося у меня за спиной. Я понимал, что засиделся рядом со Сталиным. Но что он хочет, этот военный? Чтобы я прервал разговор и, извинившись, ушел? Вдруг военный больно нажал мне на плечо. Я рефлекторно хлопнул его по руке.
– В чем дело? – повернувшись к военному, спросил Сталин. – Мы вам мешаем? Того как ветром сдуло.
Заканчивая разговор, Сталин спросил:
– Ваш Гамлет – сильный человек?
– Да.
– Это хорошо, потому что слабых бьют, – сказал Сталин.
Я посмотрел на часы: семь утра.
– Отчего вы забеспокоились?
– Что думает моя жена. Ушел на прием в семь вечера, а сейчас…
– Как зовут вашу жену?
– Евгения Казимировна.
– Передайте Евгении Казимировне привет от товарища Сталина.
Сталин поднялся и подвел меня к большой группе гостей. Предложил тост за актеров.
Неожиданно спросил:
– А почему вы не в партии, товарищ Ливанов?
– Товарищ Сталин, я очень люблю свои недостатки.
Несколько секунд напряженной тишины, и Сталин расхохотался. Все потянулись к нему чокаться.
В это же утро я позвонил Леонтьеву – директору Большого театра. Он ведал в Кремле концертами.
– Знаешь…
– Я буду в Кремле сегодня. Постараюсь узнать. Позвони мне в четыре часа.
– …Боря, не волнуйся! Товарищ Сталин сказал: приятно было поговорить с мыслящим артистом.
Начались звонки из газет:
– Борис Николаевич, вы долго разговаривали с товарищем Сталиным. Дайте интервью.
– Обратитесь к товарищу Сталину. Если он согласен – дам.
Второй раз не перезванивали»[21].
В. Б. Ливанов Юмор Бориса Ливанова
Шутки, остроумные замечания и определения моего отца, прославленного артиста и режиссера Московского Художественного академического театра моментально становились достоянием городского фольклора. Благодаря своей афористичности со временем некоторые утрачивали авторство, воспринимались как народные.
В последнее время объявились пошляки, охочие приписывать Борису Ливанову остроты, которые он никогда не произносил, в ситуациях, в которых никогда не бывал.
Поэтому-то я и решил, дорогие читатели, познакомить вас с подлинно ливановским юмором.
Старый знакомый Ливанова при встрече:
– Борис, посмотри, какую дурацкую, уродливую трость мне подарили!
– Ты так думаешь? А, по-моему, она тебе очень к лицу.
Один драматург принес Ливанову свою пьесу о Курчатове.
Борис Николаевич прочел пьесу и, встретившись с автором, сделал ему ряд конкретных замечаний и предложений по доработке, без которой, по мнению Ливанова, пьеса была не готова для сценического воплощения. Тем более что драматург хотел, чтобы Ливанов пьесу ставил и сам играл роль Курчатова.
Вместо продолжения работы драматург отправил свое произведение на закрытый конкурс Министерства культуры, где получил первую премию.
После этого позвонил Ливанову:
– Борис Николаевич, вы будете ставить мою пьесу?
– А вы ее доработали?
– Нет. А вы разве не знаете мнение Министерства культуры?
– Знаю, – ответил Ливанов. – Но я могу поставить пьесу, а мнение я поставить не могу.
Ливанов требует от актера, чтобы тот точно выполнил его режиссерское задание. Актер пробует раз, другой, третий.
– Борис Николаевич, я не могу это сыграть. Я еще молодой актер. Мне 28 лет.
– В твоем возрасте лошади уже дохнут!
Идет генеральный прогон спектакля «Егор Булычов», актеры в гриме и костюмах. Внезапно Настасья Платоновна Зуева, исполняющая роль Знахарки, прерывает сцену, подходит к рампе и спрашивает, обращаясь к Ливанову-режиссеру, в темный зрительный зал:
– Боречка, я забыла, какая у меня здесь «сверхзадача»?
– Какая «сверхзадача», Настя! – простонал в ответ Ливанов. – Билеты уже продают!!!
Театральный критик, выступая на юбилее артиста Юрия Леонидова, называл его роли «полотнами».
– Когда наш юбиляр создавал это полотно… А в этом, сотворенном им полотне… и т. д.
После выступления критика Ливанов сказал юбиляру:
– Юра, я думал, что ты – артист. А ты, оказывается, полотняный завод.
Один молодой актер на гастролях театра отмечал свой день рождения, который завершился пьяным дебошем в гостинице, где проживала труппа.
На следующий день почтенный мхатовец старец М. Кедров выговаривал провинившемуся:
– Не понимаю, зачем надо было пить водку? Ведь можно было отметить свой день рождения лимонадом.
– Ну, тогда это был бы твой день рождения! – заметил Ливанов.
После войны Алла Тарасова, прославившаяся в роли Анны Карениной, оставила своего мужа И. М. Москвина и стала женой героического летного генерала Пронина. Пронин был крепыш среднего роста, очень широкоплечий, почти квадратный, с ничем не примечательными чертами лица.
Стареющий Москвин воспринял уход жены болезненно, в театре ему сопереживали. Тарасовой, очевидно, хотелось найти какое-то достойное оправдание своему поступку.
– Борис, – обратилась она к Ливанову, – правда, Пронин – это вылитый Вронский?
– Алла, перечитай «Анну Каренину», – посоветовал Борис Николаевич.
Растолстевшему приятелю-художнику:
– У тебя портрет совсем за раму вышел.
Актеров нельзя допускать в судебные заседатели. Они по любому поводу могут вынести только один приговор: кровавая смертная казнь. На Шекспире воспитаны.
Во время гастролей в Киеве три администратора – один мхатовский и двое местных – затеяли концерты с участием молодых актеров. Два концерта до спектакля и один после. И так целую неделю. Молодые актеры радовались: подработаем. И трудились из последних сил. Когда конвейер концертов остановился, администраторы получили солидные денежные премии, актеры – ничего. В театре разбушевался стихийный митинг.
Обманутые актеры ринулись за правдой к Ливанову, одному из руководителей театра:
– Борис Николаевич, вы слышали, что произошло?
– Слышал. Все правильно.
– Как? Почему?
– Потому что премии получают доярки, а не коровы.
– Рожденный ползать – летать не может.
– Летать рожденный – заползать может.
– Оптимизм – это недостаточная осведомленность.
Заседание руководства театра. Ливанов, войдя в комнату, обращается к Станицыну, сидящему в кресле:
– Пересядь, пожалуйста, здесь обычно сижу я.
– Борис, какая разница. Вон свободное кресло.
– Нет, здесь у каждого льва своя тумба.
В последние годы во МХАТе «старики» между собой почти не разговаривали. Бывало, сидят в антракте в закулисном фойе театра, в гримах и костюмах, молчат и думают каждый о своем.
И вдруг один из «стариков», ни к кому персонально не обращаясь, начинает рассуждать вслух:
– Ну, чего у меня нет? Я – народный артист Советского Союза, член партии… орденоносец… Постоянно занят в репертуаре. Чего у меня еще нет? У меня прекрасная пятикомнатная квартира в центре… дача, очень хорошая… Две государственных премии… Да… я еще и режиссер… у меня есть свой театр, я там художественный руководитель… меня на казенной машине возят… а еще у меня есть своя машина… «Волга»… На здоровье, тьфу-тьфу, не жалуюсь. Ну, чего у меня еще нет?
В повисшей тишине раздается голос Бориса Николаевича:
– Совести у тебя нет.
В конце сороковых годов, в период борьбы с «космополитизмом» театр захлестнула мутная волна конъюнктурных пьес-однодневок. Не миновала эта беда и МХАТ.
Актеры пытались, как могли «дорабатывать» скороспелые пьесы, сами исправляли тексты своих ролей, пытаясь внести в них ноты правдоподобия и человечности. Меняли названия, чтобы они не звучали как агитлозунги.
В те поры директором театра была Алла Константиновна Тарасова.
Однажды на художественном совете придумывали новое название очередной пьесы.
Алла Тарасова предложила:
– «Под алым стягом».
– Мне нравится, – сказал Ливанов. – Но маленькая поправка: «Под стягом Аллы».
– Жизнь состоит из подготовки к ней. А я волосы отпустил. Совсем!
При переполненном зале во Всероссийском театральном обществе показывали новый фильм американского режиссера С. Крамера «На берегу». На экране разворачивается трагедия гибели человечества в атомной войне.
По окончании фильма потрясенные зрители в немом молчании потянулись из зала. Кто-то шепотом спросил Бориса Николаевича:
– Правда, страшно?
– Нет, – громко ответил Ливанов, любимый ученик Станиславского. – Я понял, бац! И – здрасьте, Константин Сергеевич!
Очень худощавому актеру:
– У тебя не телосложение, а теловычитание.
В театре:
– Борис Николаевич, вас просят зайти в художественную часть.
– Как это художественное целое может зайти в художественную часть?
Труппа саратовского драмтеатра встречает гостей-мхатовцев:
– Борис Николаевич, а у нас есть актер Ливанов – ваш однофамилец.
– Замечательно! В каждом театре должен быть свой Ливанов!
Любуясь природой:
– Так красиво, что даже грустно!
Перед выпуском спектакля:
– Все в театре волнуются. Но по-разному. Я потому, что не уверен в своем успехе, а некоторые товарищи потому, что не уверены в моем провале.
– Молодость, как таковая, интересна только в телятине.
Врач, выписывая Бориса Николаевича из больницы после инфаркта:
– Ну вот, мы вернули вам все ваши достоинства.
– Верните мне мои недостатки!
В доме Ливановых часто собиралось дружеское застолье. Отец и мама всегда сидели напротив друг друга в торцах длинного стола. Кто-то из друзей поинтересовался, почему они сидят именно так.
– Чтобы избежать рукопашной, – ответил Борис Николаевич.
Когда родилась первая внучка:
– Ну вот, я впал в дедство.
Когда исполнилось 66 лет:
– Я эту дату воспринимаю так: 33 с фасада и 33 с тыла.
Присвоение знаменитых имен различным театрам сделалось почти обязательным. Коллегии Министерства культуры Е. А. Фурцева объявила, что в «высших инстанциях» принято решение присвоить Камерному театру имя А. С. Пушкина.
Естественно, члены коллегии поинтересовались:
– Почему?
– Как вы не понимаете, товарищи? – укорила министр культуры. – Театр находится недалеко от памятника Пушкину. На бульваре.
– Ну, тогда, – подал реплику Ливанов, – его лучше назвать Бульварный театр.
Во время пребывания театра в Нью-Йорке знаменитый актер и педагог Ли Страссберг, знаток системы Станиславского, попросил Бориса Николаевича дать пресс-конференцию. Студию Страссберга заполнили не только журналисты, но актеры, писатели, режиссеры. Один из первых вопросов:
– Такой художник, как вы, должен верить в Бога. Что вы на это ответите?
– Говорить об этом не будем, – последовал ответ, – Вы, американцы, и Христа любите из-за его мировой популярности.
Зал разразился овацией.
Однажды, выступая в Министерстве культуры перед членами коллегии, среди которых был и Ливанов, министр Фурцева развивала свою любимую идею об организации повсюду, где только возможно, «художественной самодеятельности», и договорилась до того, что, по ее мнению, «самодеятельность должна скоро вытеснить профессиональное искусство».
– Борис Николаевич, – прервав речь, обратилась она к Ливанову. – Я вижу, вы что-то рисуете в блокноте и меня не слушаете? Вы, что, со мной не согласны?
– Я слушаю, – ответил Ливанов. – Вы радуетесь тому, что профессиональное искусство скоро исчезнет, а я – профессионал. Вот вы бы, Екатерина Алексеевна, стали пользоваться услугами самодеятельного гинеколога?
Обсуждение закончилось гомерическим хохотом всех присутствующих.
Образованием ума не заменишь.
В. Б. Ливанов Путь из детства
Мне уже минуло 37 лет, когда…
В этот вечер 22 сентября я поздно задержался, работая на киностудии «Союзмультфильм», где меня и застал звонок в дирекцию.
«Вася, – услышал я голос своей сестры Наташи, – приезжай прямо сейчас… Только не гони».
Она звонила из больницы, так называемой «Кремлевки», куда несколько дней назад увезли из дома моего тяжело больного отца.
Полутемный больничный коридор, белые халаты врачей, пятна лиц, черт которых я не различаю.
– Ваш отец… Борис Николаевич… скончался.
Один белый халат надвинулся на меня. Я оттолкнул его. Стоящие за ним расступились.
Отец лежал навзничь, вытянувшись во весь рост. Белая простыня оставляла открытыми вытянутые вдоль тела руки и верхнюю часть груди. Глаза были закрыты. Мама неподвижно сидела на стуле в изголовье кровати. Рядом стояла моя сестра Наташа.
И произошло то, чему я и сейчас не могу найти разумного объяснения.
Всем телом, вытянувшись, я лег на тело моего отца, сжал между ладонями его голову и, глядя в его безжизненное белое лицо, стал его звать:
– Отец, вернись! Ты ничего не сказал мне… Не попрощался… Прошу тебя, вернись! Вернись!
И тут я внезапно ощутил, что какая-то сила истекает из моей груди, из живота, из всего меня, словно вода, туда вниз, в лежащее подо мной неподвижное тело моего отца.
И вдруг тяжелые сомкнутые веки его дрогнули, и на меня взглянули такие любимые глаза его, зеленоватые, цвета морской волны, с золотистыми искрами по радужке.
Оттолкнувшись руками и не отрывая взгляда от отцовских глаз, я сел на край кровати. Как только отец открыл глаза, мама, вскочив, схватила обеими руками его ладонь и так замерла.
И мы услышали голос отца, спокойный, ровный:
– Все кончено. Прощаемся. Прощайте. Привет всем.
– Спасибо тебе за мою жизнь, – отозвалась мама. – Я была очень счастлива с тобой, Борис.
Мама стала медленно опускаться на колени у кровати. Потом она мне скажет, что отец с такой силой сжал ее ладонь, что она оказалась на коленях скорее не от душевного порыва, а от болезненной силы отцовского рукопожатия.
Отцовские глаза закрылись.
В палате стоял монитор, по темному экрану которого, часто прерываясь, высвечивалась бегущая белая линия. И мы, родные и врачи, следом за мной вошедшие в палату, стали следить за ее прерывистым движением. И вот она дрогнула, остановилась и как будто взорвалась, рассыпавшись искрами, словно салютом. Прощальным салютом.
Всё? – спросила мама в неподвижной тишине.
Господи, сколько боли, сколько душевной, почти детской незащищенности было в ее голосе, в ее вопросе!
Пролет лестницы вверх от лифта до дверей квартиры мне пришлось нести маму на руках. Еще в больнице врачи сделали ей какой-то укол, заверив меня, что ничего дурного с ней не должно случиться. Уложив маму в постель и прикрыв дверь в родительскую спальню, я перешел через коридор в соседнюю комнату.
Этот узкий коридор делит квартиру пополам. Если из прихожей пройти в глубь коридора, то в конце его, справа – отцовский кабинет. Когда отца увезли в больницу, мама задернула в кабинете тяжелые шторы на окнах, оставив на письменном столе две высокие стопки каких-то бумаг, и заперла дверь в кабинет. За эти дни, пока отец был в больнице, в его кабинет никто не входил.
Проход из прихожей в коридор отгораживала наполовину застекленная дверь. Замка в ней не было, и дверь неплотно прилегала к притолоке. Поэтому когда отец входил в дом и обычно хлопал входной дверью, то эта самая, застекленная, всегда отзывалась характерным позвякиванием стекла.
Сидя за столом у телефона, спиной к открытой в коридор двери, я обдумывал порядок предстоящих телефонных звонков. Несмотря на то, что шел уже 12-й час ночи, мне сначала предстояло, не откладывая, позвонить министру культуры Фурцевой, сообщить о кончине отца и сказать, что необходимо обеспечить в ближайшие два дня приезд из Болгарии режиссера Анны Дамяновой и актера Петра Гюрова – друзей отца, участников спектакля «Братья Карамазовы», последнего спектакля, постановку которого он не так давно осуществил в болгарском театре им. И. Вазова в Софии.
Мысленно возвращался к словам, сказанным мне другом отца, хирургом Александром Александровичем Вишневским, после того как проведенная им операция не принесла отцу облегчения.
– Болезнь твоего отца – это то, что сотворили с его театром. От этого я вылечить не могу…
Партийные чиновники от культуры все-таки добили великий театр, созданный Станиславским и Немировичем-Данченко. Театр, художественным принципам которого Борис Ливанов верно служил почти полвека. Олег Ефремов пришел во МХАТ утверждать другие принципы, выстраданные им в его театре «Современник».
– Я никогда не мечтал работать в театре «Современник», тем более в его филиале, – это слова моего отца.
Прав Вишневский, точнее не скажешь. И теперь мой отец умер вместе со своим театром.
Вдруг в тишине отчетливо звякнула застекленная дверь из прихожей.
Потом звук шагов по коридору, таких знакомых шагов моего отца! Шаги остановились у открытой двери, у меня за спиной. Повернуться, посмотреть или не поворачиваться? Страха не было, я испытывал только душевное смятение. Шаги двинулись в глубь коридора. Если это мой отец, ничего плохого произойти не может! Я вскочил и бросился вслед за шагами. Дверь в кабинет была закрыта, я толкнул ее. Оба окна в кабинете были распахнуты настежь. Ветер, врываясь с улицы, поднимал и трепал занавески. По всей комнате, словно встревоженная стая белых птиц, летали, кружа, листы бумаги.
Что это было, Господи? Что же это было? Я выглянул в окно на улицу. Редкие в этот час прохожие, проезжают, светя фарами, машины. Все как всегда. Я запер окна, подобрал осевшие на пол листы и закрыл за собой дверь. Заглянул к маме. Она спала и дышала спокойно, ровно. И я вернулся к телефону. Позвонил Фурцевой, найдя ее служебный телефон в отцовской записной книжке. Было известно, что последнее время министр устроила свое жилое помещение рядом со служебным кабинетом, и дежурной помощнице пришлось начальницу разбудить. Потом дозвонился до наших друзей в Болгарии. Потом, кажется, Олегу Стриженову, ведь это были годы нашей памятной дружбы. Борис Николаевич Ливанов был его кумиром – это нас тоже сближало.
Я так и просидел у телефона до утра. Сна, как говорится, ни в одном глазу. И курил, курил.
Где-то часов в 9 раздался звонок. Мужской бодрый голос:
– Товарищ Ливанов? Сейчас с вами будет говорить Леонид Ильич Брежнев.
В трубке потрескивало. Видно, Фурцева уже успела ему сообщить.
В комнату вошла мама. Она придерживала запахнутый халат у самого горла.
– Василий Борисович, – услышал я голос, хорошо знакомый по телевизионным трансляциям и многочисленным подражаниям в актерской среде.
На мгновение мелькнула мысль: а не разыгрывают ли меня? Но в такой момент – вряд ли.
– Василий Борисович… Примите наши глубокие соболезнования… Скажите, что мы может для вас сделать?
Я помнил недавний рассказ одной своей приятельницы, дочери знаменитого авиаконструктора, попавшего в партийную опалу. Когда ее отец скончался, ей тоже звонил Брежнев. И тоже спросил: «Что мы можем для вас сделать?» Ответила – и стала ездить на новой дарованной «Волге». Такая вот компенсация потери отца. Нет, товарищ Генеральный секретарь, с Ливановыми так не получится.
– Что вы можете для меня сделать? – переспросил я только для того, чтобы маме стало понятно, о чем разговор. – Верните мне моего отца. Можете?
Потрескивание в трубке.
И – длинные гудки. Я повесил трубку.
Мама положила мне руку на плечо.
– Сын мой, прекрасный сын мой, – сказала мама.
Прошло еще с полчаса, и снова зазвонил телефон. Тот же бодрый мужской голос сообщил мне, что предстоит согласовать со мной текст некролога для газеты «Правда». Зачитал абзацы, где говорилось об актерских заслугах Бориса Ливанова. Я предложил обязательно включить отзыв о нем как о театральном режиссере. Через некоторое время он перезвонил и зачитал предложенный мной отзыв.
– Ну, и теперь последнее: партия и правительство высоко оценили…
– Стоп! – прервал я.
– Что «стоп»? – удивился он. – Что вы имеете в виду?
– Мой отец Борис Николаевич Ливанов никогда не вступал в Коммунистическую партию. Он был народным артистом СССР, истинно народным, любимым миллионами своих зрителей. Я думаю, что правильнее будет написать: Родина, запятая, партия и правительство…
Теперь он прервал меня:
– Вы же понимаете, что такое я не могу самостоятельно решить. Я вам перезвоню.
Я ходил, терпеливо ждал. Наконец звонок:
– Принято: Родина, партия и правительство
– Спасибо, до свидания.
Когда газета вышла, первым позвонил давний друг отца Виктор Борисович Шкловский:
– У меня в руках «Правда». Васька, это ты сделал?
Сразу было понятно, о чем он спрашивает.
– Я.
– Я горжусь тобой.
Такого текста в официальных некрологах «Правды», чтобы партия и правительство писались на втором месте после запятой, ни до, ни после в партийно-правительственной газете не было.
Это – правда.
Эпилог
К. С. Станиславский – Б. Н. Ливанову
Дарственная надпись на фотографии
…Малому и любимому артисту, хорошему человеку.
Кому много дано, с того много и спросится. Отвечайте мне, что Вы сделали с Вашим прекрасным талантом? Поняли Вы главные основы искусства? Изучили Вы их? Знаете ли Вы, что единственная радость в нашем деле – познавание творческих тайн органической природы? Подсказал ли Вам талант, что театр во всем мире кончается навсегда; что уцелели единицы, еще знающие, что такое искусство. Таких единиц, знающих кое-что об искусстве, больше, чем где-нибудь – в нашем театре. Это обязывает его ко многому. Но и эти единицы стареют и уходят от нас, а с ними уходит и русское искусство артиста. Не пропустите их, чтоб тайны нашего дела не оказались навсегда схороненными. МХАТ призван спасти мировое искусство. За неисполнение этого указа судьбы ответите Вы, оставшиеся в живых молодые последователи. Если это Вам удастся, Вас ждет Слава. Нет – Вас заклеймит позор.
Не теряйте времени! Бросайте все, учитесь снова, все очень отстали; искусство открывает все новые законы!
Пришло последнее время.
Вы один из тех, об котором я думаю, когда мне мерещится судьба театра в небывало прекрасных условиях для его расцвета – в нашей стране.
Любящий и надеющийся на Вас К. Станиславский
8 июля 1936 года
ВЛ. И. Немирович-Данченко – Б. Н. Ливанову
Дарственная надпись на фотографии
Борис Николаевич, я верю в Вас. Пока верю, буду затрачивать на Вас много внимания и весь мой опыт, и мой вкус.
Без глубоко захваченного зерна не может быть создания подлинного искусства! Зерна, а не всего того, что его облепляет. Самой глубокой сущности образа, настоящей, глубокой, искренней отдачи себя этому зерновому замыслу…
С искренней симпатией Ваш Вл. Немирович-Данченко
Примечания
1
Запас, питание. (Все примечания в двух первых частях этой книги, за исключением особо оговоренных случаев, принадлежат Е. К. Ливановой). – Прим. ред.
(обратно)2
Михаил Борисович Храпченко, литературовед, академик, был председателем Комитета по делам искусств. – Прим. ред.
(обратно)3
«О Станиславском». Сборник воспоминаний. М., ВТО, 1948, С. 274–275.
(обратно)4
Когда под Ростовом шли натурные съемки фильма «Степь», меня спросил молодой парень, местный, принимавший участие в массовке: «Ты Ливанов?» – «Да, а что?» – «Так, ничего. Я – Звяга. Бабка мне кое-что рассказывала…» Оказалось, внук того самого Степана Звяги, – Прим. В. Б. Ливанова.
(обратно)5
Хотя режиссерские способности Василий Иванович уже тогда предощущал в нем.
(обратно)6
Спектакль ставился для Малой сцены.
(обратно)7
Сцена эта впоследствии была сильно сокращена.
(обратно)8
Д. Тальников, тот самый, которого Маяковский назвал «галопщнком по писателям», выступал с критикой Художественного театра. Ливанова, как и все «младшее» поколение, он противопоставлял «старикам». О Ливанове в роли Бондезена Тальников специально писал в статье «Судьба спектакля» («Советское искусство», 8 марта 1933 г.). – Прим. ред.
(обратно)9
Эскизы Борис Николаевич сделал, но В. Н. Пашенная сказала: «Хорошо, но все-таки мы – Малый театр, мы пригласим Юона».
(обратно)10
Так же, как впоследствии, когда он играл Мурова в фильме «Без вины виноватые».
(обратно)11
Ольга Михайловна Фрейденберг – двоюродная сестра Б. Пастернака, профессор древних языков
(обратно)12
В Лаврушинском переулке, где жил Пастернак
(обратно)13
Храпченко М. Б., в 1939–1948 годах председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР.
(обратно)14
Сахновский В. Г. – режиссер МХАТа
(обратно)15
Вит. Як. – Виленкин, помощник Немировича-Данченко по литературной части. Крестик, поставленный возле имени-отчества Виленкина, обозначает знак особой осторожности. Немировича-Данченко окружали всякого рода помощники. Некоторые из них фиксировали каждый шаг Немировича-Данченко, записывали каждое слово, так сказать, «для истории». Мхатовские остряки, очевидно, не без оснований злословили, что этими записями постоянно интересуются не только в театральной среде.
(обратно)16
Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь Немировича-Данченко, сестра жены М. Булгакова Елены Сергеевны.
(обратно)17
«Литература и искусство», 1943, 30 июня
(обратно)18
Я не стал уточнять фамилию этого человека. Все эти Чиновники были на одно лицо – их персонификация не важна. – В. Л.
(обратно)19
В феврале 1990 года газета «Вечерняя Москва» опубликовала фотографию с похорон Б. Пастернака. Б. Ливанов – среди несущих гроб с телом поэта.
(обратно)20
В те годы московские остряки дали Фурцевой прозвище «Никитские ворота»
(обратно)21
Моей матери уже не было на свете, когда книга «Борис Ливанов» наконец находилась в гранках. Звонок из редакции: меня просят срочно приехать. Оказывается, из Отдела пропаганды ЦК КПСС обратились в редакцию, сказали, что необходимо снять эпизод разговора Б. Н. Ливанова со Сталиным. Я стал звонить в ЦК по оставленному в редакции номеру. На мой вопрос, почему вдруг возникла такая необходимость, мне очень вежливо ответили, что для того, чтобы включить такой эпизод, его необходимо проверить и уточнить… в Институте марксизма-ленинизма (!). Ответ этот, прикрыв рукой мембрану телефона, я тут же передал редакторам.
На меня замахали руками:
– Это еще на десять лет! Во имя выхода книги – соглашайтесь!
Эпизод со Сталиным был вынут из гранок с такой поспешностью, что забыли убрать имя Сталина из списка лиц, упоминаемых в книге. Так и значится И. В. Сталин на 71-й странице.
Чиновников брежневского партаппарата невозможно заподозрить в инициативе по исключению из книги этого эпизода. Теперь я догадываюсь, кому мешала эта правдивая информация о разговоре Ливанова со Сталиным по поводу «Гамлета». И кто из «вхожих наверх» добивался ее исключения. – В. Л.
(обратно)


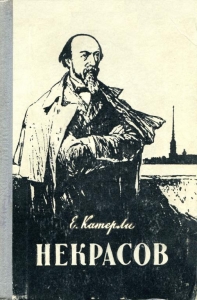
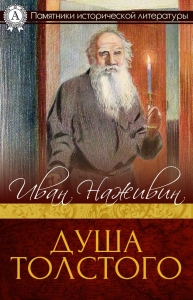
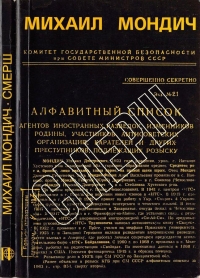

Комментарии к книге «Мой отец – Борис Ливанов», Василий Борисович Ливанов
Всего 0 комментариев