Даниил Гранин АВТОБИОГРАФИЯ
«На этот раз я родился в двадцатом веке…»
Так бы хотелось начать биографию героя новой книги. В этом есть что-то из личных ощущений. Когда-то ты уже жил, поэтому удивляешься тому, как ныне все сложилось. Сколько надо было случайностей в судьбах родителей, а потом и в моей собственной, чтобы добраться до нынешнего дня.
Тогда они очень любили друг друга, отец мой и мать. Она была совсем молоденькой, она пела, у нее был хороший голос, все детство прошло под ее песни. Много было романсов, городских романсов двадцатых годов, иногда у меня выплывают какие-то строки-куплеты — «И разошлись, как в море корабли…», «Мы только знакомы, как странно…». Не было у нас инструмента; учить ее тоже никто не учил, она просто пела, до последних лет. Стрекот швейной машинки и ее пение. Отец был старше ее на двадцать с лишним лет.
…1919 год, год моего рождения — в тех местах еще догорала гражданская война, свирепствовали банды, вспыхивали мятежи. Они жили вдвоем в разных лесничествах где-то под Кингисеппом. Были снежные зимы, стрельба, пожары, разливы рек первые воспоминания мешаются со слышанными от матери рассказами о тех годах. Детство, оно было лесное, позже — городское; обе эти струи, не смешиваясь, долго текли и так и остались в душе раздельными существованиями. Лесное — это баня со снежным сугробом, куда прыгал распаренный отец с мужиками, зимние лесные дороги, широкие самодельные лыжи (а лыжи городские узкие, на которых мы ходили по Неве до самого залива. Нева тогда замерзала ровно, и на ней далеко блестели великолепные лыжни).
Лучше всего помнятся горы пахучих желтых опилок вблизи пилорам, бревна, проходы лесобиржи, смолокурни, и сани, и волки, уют керосиновой лампы, вагонетки на лежневых дорогах…
Родина писателя — детство. Это не мое выражение, но я часто ощущаю его справедливость. О детстве хочется писать с подробностями, потому что они помнятся, краски тех лет не тускнеют, некоторые картинки все так же свежи и подробны.
Матери-горожанке, моднице, молодой, красивой, не сиделось в деревне. Это я понимаю теперь, задним числом, разбираясь в их ночных шепотных спорах. А тогда все принималось как благо: и переезд в Ленинград, и городская школа, наезды отца с корзинками брусники, с лепешками, с деревенским топленым маслом. А все лето — у него в лесу, в леспромхозе, зимою — в городе. Как старшего ребенка, первого, особо сильно тянули меня каждый к себе. Это не была размолвка, а было разное понимание счастья. Потом все разрешилось другими обстоятельствами — отца послали в Сибирь, куда-то под Бийск, а мы с тех пор стали ленинградцами. Мать работала портнихой. И дома прирабатывала тем же. Появлялись дамы — приходили выбирать фасон, примеривать. Мать любила и не любила эту работу — любила потому, что могла проявить свой вкус, художественную свою натуру, не любила оттого, что жили мы бедно, сама одеться она не могла, молодость ее уходила на чужие наряды.
Школа моя пошла всерьез примерно с шестого класса. В школе, на Моховой, оставалось еще несколько преподавателей бывшего здесь до революции Тенишевского училища — одной из лучших русских гимназий. В кабинете физики мы пользовались приборами времен Сименса-Гальске на толстых эбонитовых панелях с массивными латунными контактами. Каждый урок был как представление. Преподавал профессор Знаменский, потом его ученица — Ксения Николаевна. Длинный преподавательский стол был как сцена, где разыгрывалась феерия с участием луча света, разложенного призмами, электростатических машин, разрядов, вакуумных насосов.
У учительницы литературы не было никаких аппаратов, ничего, кроме стихов и убежденности, что литература — главный для нас предмет. Ее звали Аида Львовна. Она организовала литературный кружок, и большая часть класса стала сочинять стихи. Один из лучших наших школьных поэтов стал известным геологом, другой — математиком, третий — специалистом по русскому языку. Никто не остался поэтом. Мне же стихи не давались. С тех пор у меня появилось благоговейное отношение к поэзии, как к высшему искусству. В порядке самоутверждения я тоже написал в школьный журнал, написал о том, что поразило меня тогда — о смерти С. М. Кирова: Таврический дворец, где стоял гроб, прощание, траурная процессия…
Несмотря на интерес к литературе и истории, на семейном совете было признано, что инженерная специальность более надежная. Я подчинился, поступил на электротехнический факультет и кончил Политехнический институт перед войной. Энергетика, автоматика, строительство гидростанций были тогда профессиями, исполненными романтики, как позже атомная и ядерная физика. Наши профессора участвовали еще в создании плана ГОЭЛРО. О них ходили легенды. Они были зачинатели отечественной электротехники. Они были своенравны, чудаковаты, отдельны, каждый позволял себе быть личностью, иметь свой язык, сообщать свои взгляды, они спорили друг с другом, спорили с принятыми теориями, с пятилетним планом. Мы ездили на практику на станции Свири, Кавказа, на Днепрогэс. Мы работали на монтаже, на ремонте, мы дежурили на пультах. На пятом курсе, в разгар дипломной работы, я вдруг стал писать историческую повесть о Ярославе Домбровском. Ни с того ни с сего. Писал не о том, что знал, чем занимался, а о том, чего не знал, не видел. Тут было и польское восстание 1863 года, и Парижская коммуна. Вместо технических своих книг я выписывал в Публичной библиотеке альбомы с видами Парижа. О моем увлечении никто не знал. Писательства я стыдился. Написанное казалось безобразным, жалким, но остановиться я не мог.
После окончания института меня направили на Кировский завод, там я начал конструировать прибор для отыскания мест повреждения в кабелях. С Кировского завода я ушел в Народное ополчение, на войну. Не пускали. Надо было добиваться, хлопотать, чтобы сняли броню. Война прошла для меня, не отпуская ни на день. В 1942 году на фронте я вступил в партию.
Воевал я на Ленинградском фронте, потом на Прибалтийском, воевал в пехоте, в танковых войсках и кончил войну командиром роты тяжелых танков в Восточной Пруссии. Рассказывать о своей войне я не умею, да и писать о пей долго пе решался. Тяжелая она была, слишком много смерти было вокруг. Если пометить, как на мишени, все просвистевшие вокруг пули, осколки, все мины, бомбы, снаряды, то с какой заколдованной четкостью вырисовывалась бы в пробитом воздухе моя уцелевшая фигура. Существование свое долго еще после войны считал я чудом и доставшуюся послевоенную жизнь бесценным подарком. На войне я научился ненавидеть, убивать, мстить, быть жестоким и еще многому другому, чего не нужно человеку. Но война учила и братству, и любви. Тот парень, каким я пошел на войну, после этих четырех лет казался мне мальчиком, с которым у меня осталось мало общего. Впрочем, и тот, который вернулся с войны, сегодня тоже мне бы не понравился. Так же, как и я ему.
Когда пишешь автобиографию, пишешь на самом деле пе о себе, а о нескольких разных людях, из них есть даже чужие тебе. Меня было три, а может, и больше. Довольно трудно прийти к выводу насчет себя и оценить, что это за человек жил-был на свете, такой он разный, несовместимый.
Мне повезло: первыми моими товарищами в Союзе писателей стали поэты-фронтовики — Анатолий Чивилихин, Сергей Орлов, Михаил Дудин, — они приняли меня в свое громкое, веселое содружество. А кроме того, был Дмитрий Остров, интересный прозаик, с которым я познакомился на фронте, в августе 1941 года, когда по дороге из штаба полка мы с ним заночевали на сеновале, а проснулись — кругом немцы… Диме Острову я принес, уже где-то в сорок восьмом году, свою первую законченную повесть, ту самую — о Ярославе Домбровском, Подозреваю, что он так и не прочел ее, жалея меня, но тем не менее убедительно доказал мне, что если уж я хочу писать, то надо писать про инженерную свою работу, про то, что я знаю, чем живу. Я и сам это ныне советую молодым, позабыв, какими унылыми мне показались подобные нравоучения.
То были прекрасные годы. Я не думал стать только писателем, литература была для меня всего лишь удовольствием, отдыхом, радостью, как прогулка в горы или луга. Кроме нее была работа, главная работа — в Лен-энерго, в кабельной сети, где надо было восстанавливать разрушенное в блокаду энергохозяйство города. Ремонтировать кабели, прокладывать новые, приводить в порядок подстанции, трансформаторное хозяйство. То и дело происходили аварии, не хватало энергии, не хватало мощностей. Меня поднимали с постели, ночью — авария! Надо было откуда-то перекидывать свет, добывать энергию погасшим больницам, водопроводу, школам. Переключать, ремонтировать… В те годы 1945–1948 — мы, кабельщики, энергетики, чувствовали себя самыми нужными и влиятельными людьми в городе. По мере того как энергохозяйство восстанавливалось, налаживалось, входило, как говорится, в русло, у меня таял интерес к эксплуатационной работе. Нормальный, безаварийный режим, которого мы добивались, вызывал удовлетворение и скуку. В это время в кабельной сети начались опыты по так называемым замкнутым сетям — проверялись расчеты новых типов электросетей. Я принял участие в эксперименте, и ожил давний мой интерес к электротехнике.
И вдруг я написал рассказ. Про аспирантов. Было это в конце 1948 года. Назывался он «Вариант второй». Я принес его в журнал «Звезда». Меня встретил там Юрий Павлович Герман, который ведал в журнале прозой. Его приветливость, простота и какая-то пленительная легкость отношения к литературе помогли мне тогда чрезвычайно. Рассказ был напечатан сразу, почти без поправок. Легкость Ю. П. Германа была свойством особым, редким в нашей литературной жизни. Заключалось оно в том, что литература понималась им как дело веселое, счастливое, при самом чистом, даже святом, отношении к нему. Мне повезло, потом уже ни у кого я не встречал такого празднично-озорного отношения, такого наслаждения, удовольствия от литературной работы.
Рассказ «Вариант второй» был опубликован в 1949 году, замечен критикой, расхвален, и я решил, что отныне так и пойдет, так и положено: я буду писать, меня сразу будут печатать, хвалить, славить и т. п. К счастью, следующая же повесть «Спор через океан», напечатанная в той же «Звезде», была жестоко раскритикована. Не за художественное несовершенство, что было бы справедливо, а за «преклонение перед Западом», которого в ней как раз и не было. Несправедливость эта удивила, возмутила меня, но не обескуражила. Надо заметить, что инженерная моя работа создавала прекрасное чувство независимости. Кроме того, меня поддерживала честная взыскательность старших писателей — Веры Казимировны Кетлинской, Михаила Леонидовича Слонимского, Леонида Николаевича Рахманова. В Ленинграде в те годы я еще застал замечательную литературную среду — были живы Евгений Львович Шварц, Борис Михайлович Эйхенбаум, Ольга Федоровна Берггольц, Анна Андреевна Ахматова, Вера Федоровна Панова, Сергей Львович Цимбал, Александр Ильич Гитович, — то разнообразие талантов п личностей, которое так необходимо в молодости. Но, может, более всего помогал мне участливый интерес ко всему, что я делал, Таи Григорьевны Лишиной, ее басовитая беспощадность и абсолютный вкус… Она работала в Бюро пропаганды Союза писателей. Многие писатели обязаны ей. У нее в комнатке постоянно читались новые стихи, обсуждались рассказы, книги, журналы…
Вскоре я поступил в аспирантуру Политехнического института и одновременно засел за роман «Искатели». Вышла к тому времени многострадальная моя книга «Ярослав Домбровский». Параллельно и в электротехнике тоже чего-то завязалось и стало получаться. Напечатал несколько статей, от замкнутой сетки я перешел к проблемам электрической дуги, тут много было таинственного, интересного, это требовало времени и полной погруженности. По молодости, когда сил много, а времени еще больше, казалось, что можно совместить науку и литературу. И хотелось их совместить. Но не тут-то было. Каждая из них тянула к себе все с большей силой и ревностью. Каждая была прекрасна. Пришел день, когда я обнаружил в своей душе опасную трещину. Но в том-то и штука, что душа — это не сердце, и разрыва души быть не может. Просто надо было выбирать. Либо — либо. Вышел роман «Искатели», он имел успех. Появились деньги, можно было перестать держаться за свою аспирантскую стипендию. Но я долго еще тянул, чего-то ждал, читал лекции, работал на полставки, никак не хотел отрываться от науки. Боялся, не верил в себя… В конце концов это, конечно, произошло. Нет, не уход в литературу, а уход из института. Впоследствии я иногда жалел, что сделал это слишком поздно, поздно стал писать всерьез, профессионально, но, бывало, жалел, что бросил науку. Я знаю, что «величайшая роскошь, которую только может себе позволить человек, — всегда поступать так, как ему хочется». Это слова Александра Бенуа, но лишь теперь я постигаю непростой их смысл.
Я писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве, это была моя тема, мои друзья, мое окружение. Мне не надо было изучать материал, ездить в творческие командировки. Я любил этих людей — моих героев, хотя жизнь их была небогата событиями. Изобразить ее внутреннее напряжение было нелегко. Еще труднее было ввести читателя в курс их работы, чтобы читатель понял суть их страстей и чтобы не прикладывать к роману схемы и формулы.
Решающим рубежом был для меня двадцатый съезд партии. Подействовал он разительно на меня, на все мое поколение фронтовиков, заставил по-иному увидеть и войну, и себя, и прошлое. По-иному — это значило увидеть ошибки войны, оценить выше мужество народа, солдат, себя самих…
В шестидесятые годы мне казалось, что успехи науки, и прежде всего физики, преобразят мир, судьбы человечества. Ученые-физики казались мне главными героями нашего времени. К семидесятым тот период кончился, и в знак прощания я написал повесть «Однофамилец», где как-то попробовал осмыслить свое новое или, вернее, иное отношение к прежним моим увлечениям. Это не разочарование. Это избавление от излишних надежд.
Пережил я и другое увлечение — путешествиями. Впервые мы поехали в 1956 году в круиз вокруг Европы па теплоходе «Россия». Мы-это группа писателей, в том числе: К. Г. Паустовский, Л. Н. Рахманов, Расул Гамзатов, Сергей Орлов и я. Для каждого то был первый выезд за границу. Да не в одну страну, а в шесть странБолгария, Греция, Турция, Франция, Италия, Швеция — это было открытие Европы. С тех пор я стал много ездить, ездил далеко, через океаны — в Австралию, Кубу, Японию, США. Это была жажда увидеть, понять, сравнить. Конечно, современное путешествие, во всяком случае, мои путешествия, обходились без плена, стрельбы и тому подобных приключений. Но все же я спускался на барже по Миссисипи, я бродил но австралийскому бушу, жил у сельского врача в Луизиане, я сидел в английских кабачках, жил на острове Кюрасао… Я посетил множество музеев, галерей, храмов, бывал в разных семьях испанских, шведских, итальянских. Кое о чем мне удалось написать. Путевые записки — жанр привычный и опасно легкий. Надо было потратить много сил, чтобы уйти от известных мне шаблонов. Лучшим способом был юмор. И собственные впечатления. И в том, и в другом нет опасности кого-то повторить. С юмором было, конечно, не просто, поскольку вещь это дефицитная, а научиться шутить невозможно. Чему угодно научиться можно, научиться юмору — нельзя. Пришлось заниматься этим как умею. Собственные же впечатления хороши тем, что в них все достоверно. Но надо их иметь, эти впечатления, получать, вынашивать. Именно собственные, не услышанные, не навязанные…
Автобиография — что может быть проще — она начинается… она кончается… она содержит… состоит… Но как ее ни раскрашивай, она напялена на манекен бесчисленных своих предшественников, написанных в приложение к еще более бесчисленным анкетам.
Как бы ее ни писать, свою биографию, в ней неистребим пыльный запах канцелярских папок, тяжелых шкафов и печатей…
Что это за автобиография, где нет места любви, увлечениям, где нет жены, нет дочери, нет того, что составляло счастье и беду, когда ловишь каждое слово, когда от ссоры и размолвки теряешь себя на месяцы, когда от улыбки ребенка можешь больше, становишься лучше и ничего не страшно. Именно там решалось — и замыслы, и стойкость, и слабости, и поступки. Там, в этих наплывах любви и горечи, они созревали.
Мы поженились в дни войны: только зарегистрировались, как объявили тревогу, и мы просидели, уже мужем и женой, несколько часов в бомбоубежище. Так началась наша семейная жизнь. Этим и кончилась надолго, потому что я тут же уехал обратно, на фронт.
Кто знает, из чего образуется «Я». Думаю, что многое зависит от того, где человек живет. Если бы я жил не в Ленинграде, если бы в детстве жил не у Спасской церкви с пушками, если бы потом не на Петроградской стороне, если бы перед глазами моими не была набережная, в гранит одетая Нева, проспекты, то «Я», о котором тут идет речь, было бы несколько иное.
Автобиографии знакомых людей читать интересно — видишь, как автор представляет себя и свою жизнь, а ты знаешь его другим. Этой разницей можно мерить нравственность человека.
Постепенно жизнь моя сосредоточивалась на литературной работе. Романы, повести, сценарии, рецензии, очерки. Писатель, наверное, должен уметь делать все. В этом состоит профессионализм. Я пытался освоить разные жанры, вплоть до фантастики. Единственное, что никак у меня не получалось, — это драматургия. И, конечно, стихи. Но стихи — это вообще искусство особое, ни на что не похожее, как музыка. А вот драматургия это моя мечта. Мне перед всякой повестью кажется, что надо писать пьесу, но когда сажусь писать, почему-то получается проза…
Говорят, что биография писателя — его книги. Но почему-то, когда я сижу за столом, работаю, меня мучает чувство утраты, мне кажется, что биография моя прерывается, что настоящая жизнь, с солнцем, морем, природой, встречами, эта жизнь проходит мимо, она слышна за окнами смехом детей и шумом машин. А когда я не пишу, а гуляю с друзьями, куда-то еду, я корю себя за то, что не работаю, трачу время впустую и т. п. Наверное, такое противоречие неизбежно, но оно доставляет немало горя, оно портит жизнь. Не хочется работать за счет жизни, лучше все же жить за счет работы, потому что жизнь — она выше, она дороже. Ну еще одна книга — говорю я себе, — что от этого изменится? Доказываю себе, что ничего, — и тем не менее сажусь писать.
1980 год. Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


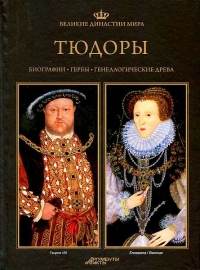

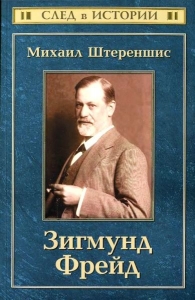
Комментарии к книге «Автобиография», Даниил Александрович Гранин
Всего 0 комментариев