Эммануэль Каррэр Филип Дик: Я жив, это вы умерли
Посвящается Анне
Я нисколько не сомневаюсь, что вы мне не верите; мало того, вы вряд ли верите даже в то, что я сам верю в то, что говорю. Это, разумеется, ваше право, но поверьте, по крайней мере, в то, что я не шучу. Всё, что я сейчас скажу, очень серьезно и очень важно, а также неожиданно для меня самого. Многие утверждают, что сохранили воспоминания о своей прошлой жизни. Я же говорю о другой жизни в настоящем. Мне неизвестны другие подобные заявления, однако я подозреваю, что я не единственный, кто это пережил. Моя уникальность состоит, пожалуй, только в желании рассказать о своем опыте.
Отрывок из речи, произнесенной Филипом К. Диком 24 сентября 1977 года в МетцеГлава первая БЕРКЛИ
16 декабря 1928 года, в Чикаго, Дороти Киндред, в замужестве Дик, родила, на шесть недель раньше срока, двух близнецов — мальчика и девочку. Их назвали Филип и Джейн. Младенцы были очень слабыми. Поскольку у матери было слишком мало молока для двоих и никто из родственников или врачей не посоветовал ей прибегнуть к дополнительному искусственному вскармливанию, первые недели жизни дети страдали от голода. 26 января 1929 года Джейн умерла.
Ее похоронили на кладбище в Форт Морган, штат Колорадо, откуда был родом их отец. На стеле, рядом с именем покойной, также выгравировали имя ее выжившего брата и дату его рождения, оставив пустое место для даты смерти. Спустя какое-то время семейство Дик переехало в Калифорнию.
О том, как выглядел Эдгар Дик, отец будущего писателя, можно судить по немногочисленным семейным фотографиям. Худощавый мужчина с узким лицом, в пиджаке из саржи и в фетровой шляпе, похожей на те, что носят агенты ФБР в фильмах, действие которых происходит во времена «сухого закона». Эдгар Дик действительно был государственным чиновником, но служил в департаменте сельского хозяйства. Его обязанностью было следить за тем, чтобы скот, заявленный фермерами как забитый, являлся таковым на самом деле, а также, в случае необходимости, забивать его самому — за каждое убитое животное полагались выплаты, и поэтому были случаи мошенничества. Эдгар Дик разъезжал на своем «бьюике» по деревням, разоренным в период Великой депрессии, постоянно имея дело с подозрительными и видавшими виды людьми, способными злобно размахивать прямо перед носом у инспектора крысой, поджаренной на импровизированной жаровне. Единственной отдушиной во время таких поездок были встречи с бывшими сослуживцами. В свое время Эдгар Дик ушел на фронт добровольцем, дослужился до сержанта и вернулся из Европы с ворохом героических воспоминаний и противогазом, с помощью которого он как-то раз попытался развеселить своего трехлетнего сынишку. Однако веселья не получилось: увидев круглые непроницаемые глаза и зловеще раскачивающийся черный резиновый хобот, Фил завопил от страха, решив, что место отца заняло какое-то чудовище, нечто вроде гигантского насекомого. И потом несколько недель подряд малыш внимательно изучал вновь обретшее прежний облик лицо, ища и боясь обнаружить другие признаки подмены. Ласки любящего отца только усиливали его подозрительность. Дороти, у которой имелось свое собственное мнение относительно воспитания детей, выразительно закатывала глаза и яростно раздувала ноздри каждый раз, когда ее взгляд встречался с взглядом смущенного супруга.
Когда Эдгар, только еще вернувшись с фронта, женился на Дороти, все говорили, что она похожа на Грету Гарбо. С возрастом, а также вследствие различных болезней, бывшая красавица превратилась в настоящее пугало: чувственность исчезла без следа, но некая властная притягательность осталась. Страстная, эта женщина делила мир на два лагеря: тех, кого привлекает творческая деятельность, и всех прочих. Убежденная, что вне первой категории не могут существовать полноценные люди, сама она была вынуждена проводить жизнь в своего рода пуританском, исключительно интеллектуальном боваризме, поскольку ей так никогда и не удалось распахнуть дверь, ведущую в мир избранных, каковыми, по ее мнению, являлись все публиковавшиеся авторы. Дороти презирала мужа, который, помимо военного дела, интересовался только футболом. Эдгар пытался привить свое увлечение и Филу, для чего втайне от матери водил сынишку на стадион. Однако мальчик, как и мать, совершенно не понимал, почему взрослые так суетятся вокруг мяча, хотя ему и льстило, что у них с папой есть свой секрет.
Детство Филипа Дика напоминало детство набоковского Лужина или детство Гленна Гулда, его сверстника и, в некотором смысле, духовного брата: толстенькие и замкнутые мальчики, которые со временем становятся чемпионами по шахматам или пианистами-виртуозами. Педагоги хвалили Фила за примерное поведение, а также за рано развившуюся страсть к музыке. Больше всего он любил прятаться где-нибудь в старых коробках и сидеть там часами, в тишине и безопасности.
Мальчику было пять лет, когда родители разошлись по инициативе Дороти, которую психотерапевт заверил, что ребенок якобы не будет страдать из-за развода (Дик будет жаловаться на это всю свою жизнь). Эдгар, вероятно, поначалу не хотел сжигать за собой все мосты, но, навестив пару раз бывшую жену и нарвавшись на холодный прием, он, обескураженный, уехал в Неваду. Дороти, в свою очередь, в надежде найти более интересную и высокооплачиваемую работу, нежели должность секретаря, на которой она прозябала на тот момент, поселилась с сыном в Вашингтоне.
Там они провели три ужасных года. В те времена, когда их семья жила в Чикаго, Фил был слишком мал, чтобы запомнить что-либо, кроме благословенного климата Западного побережья, и теперь он с мучительным оцепенением открыл для себя дождь, холод, бедность и одиночество. Мать весь день работала в Федеральном бюро по вопросам детства, исправляя ошибки в педагогических брошюрах. Фила же она отдала в школу квакеров, живших в надежде на общение со Святым Духом. Вернувшись домой из школы, мальчик часами ждал мать, один, в темной и унылой квартире. Поскольку Дороти приходила с работы слишком поздно и слишком уставала, чтобы рассказывать сыну сказки, он был вынужден пересказывать самому себе те, которые уже знал. Его любимой была история о трех желаниях, которые фея разрешила загадать одной крестьянской паре. «Я хотела бы огромную сосиску!» — восклицает жена. Сосиска тут же возникает перед ней, что приводит в бешенство мужа: «Ты что, ненормальная! Так бездарно потратила первое желание! Да хоть бы эта сосиска навсегда повисла на твоем носу!» И вот уже нос жены украшен сосиской, и только третье желание сможет ее освободить. Взяв эту историю за основу, мальчик придумывал бесконечные ее варианты. Затем Фил научился читать и открыл для себя «Винни-Пуха». Чуть позже его потряс роман Сенкевича «Камо грядеши», который он прочел в упрощенной версии. Благодаря этому произведению ожило все то, о чем ему рассказывали в школе квакеров. Мать Фила так никогда и не узнала, что всю зиму он играл сам с собой, изображая одного из первых христиан, прятавшихся в катакомбах.
В 1938 году Дороти получила место в Калифорнии в Лесном департаменте, расположенном на территории университета Беркли. После Вашингтона мать и сын вновь вздохнули здесь полной грудью. Им показалось, что они у себя дома и одновременно в центре мира, как и каждый, кто прожил тут хотя бы неделю. После Беркли остальной мир просто переставал существовать. Феминистка, пацифистка, женщина, увлеченная прогрессивными идеями и интересующаяся культурой, Дороти просто расцвела в этом уголке, где можно было в одно и то же время быть чиновницей и сторонницей женского равноправия, никого при этом не смущая. Что же касается Фила, то он любил сияние залива, лужайки и речку в кампусе, где свободно играли городские дети, а также куранты башни Сатер, разливающие свой веселый безмятежный звон по крышам, как будто желая вознаградить всех обитателей городка за столь плодотворно проведенные часы. Школа нравилась мальчику меньше, но он страдал от приступов астмы и тахикардии, что позволяло ему часто пропускать занятия. И даже когда Фил чувствовал себя хорошо, Дороти с готовностью покрывала его пропуски, разрешая остаться дома. В глубине души она радовалась, что сын совсем не похож на отца, что он с презрением относится к спорту, шумным играм и ко всем тем коллективным глупостям, которые хороши лишь для воспитания верзил на американский манер. Несомненно, Фил был на ее стороне, на стороне артистов, белых гордых альбатросов, которым мешают ходить по земле огромные крылья.
В двенадцать лет Фил уже любил все то, что будет любить всю свою жизнь: слушать музыку, читать и печатать на машинке. Мать по его просьбе покупала мальчику пластинки с классической музыкой, тогда еще на семьдесят восемь оборотов, и Фил развил в себе способность, которой они оба немало гордились: по первым же нотам угадать любую оперу, симфонию, любой концерт, который ему наиграли или даже просто напели. Фил собирал иллюстрированные журналы, где в научно-популярной манере рассказывалось об исчезнувших континентах, о проклятых пирамидах, о судах, таинственным образом пропавших в Саргассовом море. Названия этих журналов состояли сплошь из эпитетов: «Удивительное», «Невероятное», «Неизвестное»… А еще мальчик читал произведения Эдгара По и Лавкрафта, так называемого затворника из Провиденса, чьи герои сталкивались со столь ужасными мерзостями, что даже не могли их описать.
Фил довольно рано начал подражать обоим этим литераторам. Еще в Вашингтоне он набросал несколько мрачных стихотворений, повествующих о коте, заживо пожирающем птицу; о муравье, который тащит в муравейник останки шмеля; о безутешной семье, погребающей слепую собаку. Печатная машинка давала широкий простор его вдохновению. Постепенно Фил превратился в настоящего виртуоза машинописи. По воспоминаниям очевидцев, никто не мог печатать так быстро и так долго, как он, казалось, клавиши сами устремляются навстречу его пальцам. За десять дней Фил напечатал свой первый роман, продолжение «Приключений Гулливера», но рукопись была утеряна. Его первыми опубликованными текстами стали мрачные сказки, навеянные творчеством Эдгара По, и появились они в «Беркли газетт», в рубрике «Подающие надежды таланты». Сотрудник, возглавляющий литературный отдел данного издания, подписывался «Тетушка Фло» и был влюблен в реализм (от Чехова до Натанаэла Уэста). Он призывал Фила писать о том, что тот знал, о мелочах повседневной жизни, и держать свое воображение на коротком поводке. Решив, что его не понимают, Фил основал свою собственную газету, единственным сотрудником и редактором которой был он сам. Название этой газеты — «Правда» — было весьма значимым, как и основополагающее заявление, предваряющее единственный номер, — «Мы обещаем писать здесь только то, что, вне всякого сомнения, является правдой». Как мне кажется, весьма показательно, что эта бескомпромиссная правда предстала в виде межгалактических приключений — плода мечтаний тринадцатилетнего журналиста.
Примерно тогда же Филу приснился сон, который впоследствии неоднократно повторялся. Как будто он находится в книжном магазине и ищет недостающий в его коллекции номер журнала «Удивительное». В этом редком и поистине бесценном номере была напечатана история под названием «Империя никогда не исчезала». Если он сможет отыскать этот номер и прочитать это произведение, он узнает все. В первый раз Фил проснулся прежде, чем успел перебрать до конца кипу поблекших журналов, под которыми, как он полагал, и был погребен нужный ему экземпляр. Мальчик с нетерпением ждал возвращения сна, и когда это произошло, он, с облегчением увидев кучу журналов на том же самом месте, принялся лихорадочно в ней рыться. Она уменьшалась с каждым последующим сном, но каждый раз Фил просыпался, не успев добраться до последнего номера. Целыми днями он твердил про себя название произведения, и в конце концов оно стало пульсировать у него в висках, как бывает при лихорадке. Он представлял себе отдельные слова и буквы, из которых это название состояло, видел иллюстрацию на обложке. Последняя, будучи несколько расплывчатой, очень беспокоила его. С течением времени к его желанию найти журнал примешалась тревога. Фил не сомневался, что после прочтения этой истории ему откроются все секреты мира, но он также подозревал, что знание это будет небезопасным. Недаром его любимый Лавкрафт как-то написал: «Если бы мы знали все, страх превратил бы нас в безумцев». Мальчик даже стал считать свой сон некоей дьявольской ловушкой, а запрятанный под грудой других журналов номер — притаившимся чудовищем, готовым пожрать его, лишь только он спустится по тобоггану, ведущему прямо к нему в пасть. Теперь, вместо того чтобы торопиться, как это было вначале, Фил пытался нарочно замедлить движения своих пальцев, которые, откладывая в сторону один журнал за другим, приближали его к ужасной развязке. Он так боялся сна, что не хотел ложиться спать.
Внезапно сон прекратился. Вначале Фил ждал его возвращения с беспокойством, затем с нетерпением; по прошествии двух недель мальчик отдал бы все за то, чтобы увидеть его еще раз. И ему вспомнилась история о трех желаниях: второе и третье были потрачены на то, чтобы срочно исправить вред, нанесенный необдуманностью предыдущего. Вот так и он сам: сначала хотел прочесть книгу «Империя никогда не исчезала», затем, предчувствуя опасность, пожелал, чтобы его избавили от этого чтения, теперь же он вновь мечтал ее прочитать. Возможно, думал мальчик, отказ выполнить его просьбу был вызван жалостью, ведь у него нет права на четвертое желание. Сон больше не возвращался, и Фил был разочарован. Какое-то время он сильно переживал из-за этого, а потом забыл.
Как выглядел в этом возрасте будущий писатель? Это был полноватый мальчик, страдающий одышкой. Они жили вдвоем с матерью, звали друг друга Дороти и Филип и общались между собой с особой церемонностью. По вечерам сын и мать беседовали, лежа каждый в своей кровати и оставив открытыми двери спален. Любимыми темами их разговоров были книги, болезни и лекарства, призванные от этих болезней избавить. Ипохондрик со стажем, Дороти имела аптечку, столь же богатую, сколь и коллекция пластинок ее сына. Когда после войны появились первые транквилизаторы, она вошла в число пионеров химического эльдорадо и, по мере появления в продаже этих лекарств, перепробовала торазин, валиум, тофранил, либриум, сравнивая препараты между собой и нахваливая их всем своим знакомым.
Время от времени Фил виделся с отцом, который снова женился и жил в Пасадене, где работал ведущим на местном радио. Это произвело огромное впечатление на застенчивого подростка, в глубине души мечтавшего оказывать влияние на других людей. Во время войны он был патриотом, как и все вокруг, но одновременно был очарован пропагандой Геббельса. Фил полагал, что можно восхищаться исполнением как таковым, если оно безупречно, даже если осуждаешь сам замысел. Где-то внутри неуклюжего, застенчивого парнишки дремал лидер, но, так как увлечь за собой ему никого не удалось, он так и сидел тихонечко в своем углу.
Да, за неимением лучшего это было излюбленное занятие юного Фила Дика: сидеть в углу в окружении своих «сокровищ». Мать регулярно просила сына прибраться в его комнате, где царил тот особый беспорядок, который свойствен людям увлеченным. Подобно Шерлоку Холмсу, они способны легко отыскать и датировать любой документ под слоем пыли, но при этом никто, кроме них, не смог бы здесь ориентироваться. В комнате Фила было полным-полно хлама, среди которого можно было отыскать модели самолетов и танков, шахматы, пластинки, научно-фантастические журналы, а также фотографии обнаженных девушек, причем эти фотографии были спрятаны с особой тщательностью.
Разумеется, Фил уже начал интересоваться девушками. Из-за своей неуверенности он не пользовался у противоположного пола успехом, однако этого интереса оказалось достаточно, чтобы ослабить его весьма тесную связь с матерью. Утратив влияние, Дороти вдруг решила, что плохая успеваемость, апатия, замкнутость и приступы беспокойства у сына требуют вмешательства психоаналитика. Филу было четырнадцать, когда мать впервые отвела его к этому специалисту, и впоследствии он посещал психоаналитиков и психиатров практически всю свою жизнь.
Побывав на нескольких сеансах и просмотрев книги, которые мать спешно снабдила собственными пометками, молодой Дик начал с апломбом рассуждать о неврозах, комплексах, фобиях и предлагал своим соученикам пройти так называемые личностные тесты, из которых он, не раскрывая источника собственной осведомленности, делал для каждого выводы, в разной степени льстивые и по-разному принятые.
К концу тридцатых годов распространение подобных тестов значительно изменило представление среднего американца о том, что происходит в его собственной голове и в голове его соседа. Во время Первой мировой войны вдруг обнаружилось, что более двух миллионов призывников из четырнадцати непригодны для военной службы из-за нервных и психических расстройств. Поскольку никто ранее и не подозревал о подобной проблеме, в обществе возникла паника. В результате на развитие этой области здравоохранения были направлены огромные средства, а также всячески поощрялось развитие психоанализа — в расчете на то, что с его помощью все эти потенциальные психи превратятся в ответственных и уравновешенных граждан.
Подобная вера может показаться наивной, даже старый Фрейд улыбнулся бы, ведь, сходя на берег в Нью-Йорке, он воображал, что привез в Новый Свет чуму. Но американские психиатры и психоаналитики, в меньшей степени, чем их европейские коллеги, разграничивавшие эти две дисциплины, приспособили фрейдизм для своих, сугубо прагматических целей. Их интересовало не столько знание и принятие самого себя, сколько адаптация личности к социальным нормам. И тесты, которым они старательно подвергали своих пациентов, оценивали, насколько те способны к нормальной деятельности. Или хотя бы к имитации нормальной деятельности.
Помню, как я сам, будучи еще ребенком (но, увы, уже страдая близорукостью), привел в замешательство окулиста, отбарабанив ему наизусть всю таблицу вплоть до самой нижней строчки и попытавшись доказать, что в моем случае об очках не может быть и речи (номер не прошел). Подростком Дик столь же свободно обращался с тестами, но он весьма виртуозно пользовался своими умениями. С помощью интуиции, опыта юности, а также благодаря косности самой системы Фил научился обходить ловушки, которые скрывались за вопросами, а также угадывать, каких от него ждут ответов. Как ученик, доставший пособие для учителя, он знал, в какой клетке нужно поставить галочку в Личностном опроснике Вордсворта[1] или в Миннесотском опроснике[2], чтобы получить нужный результат, какой рисунок в каком задании Роршаха[3] следует отметить, чтобы вызвать замешательство специалистов. Он намеренно был то нормально нормальным, то нормально аномальным, то аномально аномальным, то (его гордость) аномально нормальным, и из-за разнообразия и постоянной смены симптомов его первый психоаналитик не выдержал и отказался работать с Диком.
На смену ему пришел другой специалист, явно более сообразительный психоаналитик из Сан-Франциско, последователь Юнга, а они в Беркли считались настоящей элитой, предназначенной лишь для работы с творческими натурами. Таким образом, два раза в неделю Фил пересекал на поезде залив. Приятелю, заинтересовавшемуся этими необычными перемещениями, он рассказал, что посещает особые курсы для сверходаренных людей с необычайно высоким коэффициентом умственного развития и добавил, а вот этого делать не следовало, что он смошенничал, чтобы подтасовать результаты тестов. Тот в ответ лишь посмеялся, как посмеиваются промеж себя самодовольные тупицы, но Фил надменно заявил, что обманщик, которому удалось сойти за гения, является благодаря этому еще большим гением, чем настоящий гений. Приятель посмотрел на него почти так же, как под конец на него смотрел первый психоаналитик, и впоследствии его избегал.
Во время второго курса лечения Фил открыл для себя, какой необыкновенный эффект производит на людей, занимающихся психологией и психиатрией, трагическая история его умершей во младенчестве сестренки Джейн, и понял, что столь сильная психологическая травма вызывает у знатоков нечто вроде уважения. Он понял, что становится интересен благодаря разговорам о своей покойной сестре, и в течение нескольких сеансов специалисты выясняли, кто и в какой момент рассказал мальчику о трагических подробностях его рождения. Вероятно, мать, и, вероятно, довольно рано. Филу казалось, что он всегда это знал. Он помнил, что в раннем детстве у него была воображаемая подружка по имени Джейн, черноглазая и темноволосая; она с отчаянной дерзостью выпутывалась из опаснейших ситуаций, в отличие от него, неуклюжего и вечно прячущегося в старых коробках. Фил заявлял также, что помнит, как мать кричала в минуту гнева, что лучше бы умер он, а не Джейн.
Заключение психоаналитика о том, что его мать — деспот, выглядело в глазах сына как своего рода предательство (Дороти платила этому типу за то, что он плохо о ней отзывается), но эта информация попала на благодатную почву, и вскоре Фил забеспокоился. С такой матерью, без отца, с явно выраженным пристрастием к области искусства или интеллектуальной деятельности, уж не объединил ли он в себе все необходимые условия, для того чтобы стать гомосексуалистом?
Это стало одним из наваждений его юности, но далеко не единственным. Фил также боялся высоты, открытых пространств и общественного транспорта, не мог есть на людях, даже бутерброды. В пятнадцать лет, во время симфонического концерта, его вдруг охватила паника, — парнишке показалось, что он погрузился на дно и смотрит на мир через перископ подводной лодки.
В другой раз ему стало плохо в кинотеатре, во время показа кинохроники, где американские войска из огнеметов уничтожали японских солдат на одном из островов Тихого океана. Самым ужасным были даже не мучения японцев, а воодушевление людей в зале, радостно взирающих на превращенных в факелы макак. Фил был вынужден поспешно уйти, в сопровождении страшно перепугавшейся Дороти, и еще долгие годы потом не переступал порог кинотеатра.
Разумеется, подобные приступы не способствовали успешной учебе, и теперь Фил больше не ходил на занятия, а работал дома, слушая пластинки. Больше всего он любил немецкий язык, поскольку тот, по его мнению, хорошо сочетался со звуковым сопровождением. К концу войны Фил, из чувства противоречия, выбрал его для изучения и открыл для себя немецкую поэзию, как будто специально созданную для того, чтобы ее петь. В жизнь Дика вошли мелодии Шуберта, Шумана и Брамса. Он просто не представлял себе лучшего занятия, чем слушать их произведения, и в шестнадцать лет решил сделать это своей профессией.
Юный Филип Дик устроился на неполный рабочий день в магазин «Университетская музыка», где продавали пластинки, радиоприемники, проигрыватели, первые телевизоры. Там также осуществляли ремонт техники, и умелые мастера, чьей компетенции Фил завидовал, были местной аристократией. Английский глагол to fix одновременно означает «чинить», «мастерить», «налаживать», «скреплять». Хотя он созвучен французскому глаголу fixer, однако в гораздо большей степени передает идею прочности, завоеванной силой; этот глагол вобрал в себя все, что Дик ценил в человеке превыше всего. Героями его книг будут любители вечно что-нибудь мастерить, мелкие ремесленники, прикованные к станку. Это может показаться странным, ведь речь идет о мальчике, который безумно увлекался чтением и вырос в самом интеллектуальном из университетских городков, но юный Филип Дик довольно рано (так что его вряд ли можно обвинить в том, что он нарочито хулит виноград, до которого не может дотянуться) выбрал для себя иное поле деятельности. Университету и кафе, где шумные студенты вечно переделывают мир, он всегда будет предпочитать маленькие предприятия или уютные магазинчики, перед которыми по утрам, перед тем как поднять железные жалюзи и впустить первых клиентов, подметают тротуар.
Его обязанностью было открывать коробки с пластинками классической музыки, расставлять их на полках, самому решать, куда лучше поставить пластинки, которые содержат произведения разных авторов. Кроме того, он покупал пластинки по дешевке для собственной коллекции, обсуждал с клиентами или с другими продавцами достоинства различных версий «Волшебной флейты», подметал пол и менял рулоны туалетной бумаги в туалете, расположенном за кабинкой для прослушивания номер три. Магазин «Университетская музыка» был его миром, миром прочным и привычным, в котором с ним не могло случиться ничего неприятного. Здесь Фил чувствовал себя в безопасности от приступов тревоги или агорафобии и становился увереннее. Если ему нравилась какая-нибудь клиентка, он приглашал ее в кабину, чтобы дать послушать первые альбомы этого чудесного молодого баритона, немца по имени Дитрих Фишер-Дискау, исполнявшего романсы Шуберта как никто до него. Пока крутилась пластинка, Фил не отрываясь смотрел на девушку своими синими глазами и подпевал красивым, глубоким, немного глуховатым голосом, сменившим его подростковый фальцет.
Фил также мечтал вести передачу, которую его начальник курировал на местном радио: уж тут бы ни одна девушка не устояла. К сожалению, он только составлял программы; микрофон же был монополией некоего типа с напомаженными волосами, носившего пиджак в клетку и двуцветные ботинки. Фил его от всего сердца ненавидел. В одной из своих любимых фантазий юный Дик представлял себя астронавтом на околоземной орбите. Находясь на спутнике, где он осужден вращаться вплоть до самой смерти, так как нет технической возможности вернуть его на Землю, опустошенную ядерной катастрофой, он получает радиопослания от выживших людей, разбросанных по всей пострадавшей планете. И, в свою очередь, сам передает послания, которые пытаются поймать те, кто находится внизу, подобно тому, как во время оккупации французы слушали Лондон. Он заводит пластинки, читает книги, передает информацию. Благодаря ему установлена связь между изолированными группами людей, которым его теплый голос придает мужества, чтобы выдержать испытания. Эти люди собираются вокруг благоговейно собранных детекторных приемников, которые теперь считаются на Земле самым ценным имуществом, чтобы послушать его. Без приемников, без одинокого диск-жокея, который следит за ними сверху, они вернулись бы в дикое состояние. Если цивилизация воскресла, это произошло под его эгидой. И самым приятным моментом грез юного Дика был тот, когда он подвергается искушению позволить людям обожать себя как Бога. Он празднует заслуженный триумф.
Относительно того, почему юный Филип Дик решил покинуть материнский дом, существуют разные версии. Фил утверждает, что Дороти якобы очень возмущалась, узнав о решении сына, угрожала вызвать полицию, чтобы помешать ему уйти и стать гомосексуалистом, а это неминуемо произойдет, стоит лишь ей перестать его контролировать. Дороти, напротив, заявляла, что ей буквально пришлось выставить сына за дверь, поскольку он уже вышел из того возраста, когда дети живут вместе с матерью. Что бы там ни было, он перевез свои книги, пластинки, журналы и бесценный приемник «Магнавокс» в квартиру, где жила группа богемных студентов, под влиянием которых его литературные вкусы изменились. В этом напыщенно просвещенном обществе можно было цитировать только «великую литературу», и лишь гораздо позже мода стала благосклонной и к популярным жанрам. Оказавшись в иной атмосфере, Дик, подобно хамелеону, перестал интересоваться научной фантастикой, спрятал дешевые журналы, которыми он восхищался в юности, и отныне читал исключительно Джойса, Кафку, Паунда, Витгенштайна и Альбера Камю. На вечеринках он теперь слушал Бюкстехуда или Монтеверди, а наряду с авангардными поэтами цитировал по памяти целые куски из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» и искал в нем следы влияния Данте. Все вокруг него пытались писать, обменивались рукописями и советами, без удержу хвалясь знакомствами с видными людьми. Кроме множества рассказов, которые Фил тщетно пытался поместить в журналы, он написал в этот период два романа, про которые известно только то, что он сам впоследствии захотел о них сказать. Первый роман представлял из себя длинный внутренний монолог, речь в котором шла о немыслимых любовных поисках и об архетипах Юнга, второй описывал сложные хитросплетения лжи и недомолвок внутри одного любовного треугольника в Китае времен Мао.
Тогда же Фил избавился от страха стать гомосексуалистом, лишившись невинности с клиенткой, которую другой, более развязный служащий магазина подбил его подцепить. Отказавшись продать девушке слащавые рождественские гимны, за которыми она пришла, Фил дал ей послушать в кабинке одну из своих любимых пластинок, затем отвел красавицу в подвал (тот был свободен, когда мастера по ремонту техники уходили на обед), и уже через неделю женился на ней, скромно положив начало своей долгой полигамной карьере. Молодожены снимали мрачную однокомнатную квартиру, где Фил сделал два открытия: во-первых, насколько тяжела жизнь бедной пары, а, во-вторых, что они с женой совершенно несовместимы. Она засыпала, когда он читал ей «Разнообразие религиозного опыта» Уильяма Джеймса или свои собственные рассказы, находила роман «Поминки по Финнегану» непонятным и терпеть не могла пластинки, которые ее муж без конца слушал. Через несколько недель она заговорила о разводе, и их разрыв стал неизбежным. Одна угроза давно не давала Дику покоя, хотя, кажется, судья посчитал эту причину развода несерьезной. В романе Оруэлла «1984» полиция, перед тем как оказать непосредственное давление на конкретного гражданина, старается узнать, что вызывает у него наибольший страх: один боится быть погребенным заживо, другой — что его сожрут крысы. Мысль о том, что кто-то может разбить его бесценные пластинки, приводила Дика в состояние полного ужаса. Из книги в книгу кочуют у него жестокие супруги, которые наносят этот страшный удар своим жалким мужьям, а в предпоследнем романе сам Яхве вынужден прибегнуть к этой угрозе, чтобы повлиять на героя, не желающего содействовать Его воле.
Эта опасность отдалилась с появлением второй жены, которую Фил также встретил в магазине пластинок, где она интересовалась итальянской оперой. Обжегшись один раз, он вначале изучил вкусы и не торопился с ухаживаниями, пока не убедился, что ей нравятся те же вещи, что и ему. Студентке Клео Апостолидис было девятнадцать лет. Греческого происхождения, брюнетка, достаточно привлекательная, любительница читать и, если мы примем во внимание будущие стандарты Дика для супруги, необычайно уравновешенная. Они поженились в июне 1950 года и купили в кредит обветшалый дом в нижней, весьма демократичной части Беркли. Краска шелушилась, крыша протекала, и зимой во время сильных дождей приходилось практически повсюду расставлять тазы. Но ни Фил, ни Клео не собирались ремонтировать дом. Первый — в силу своей беспечности, так как тратил большую часть заработка на покупку пластинок, а все свободное время — на их прослушивание, вторая считала обустройство быта мещанством и причисляла себя к богеме. Этакий бравый солдат местного радикализма, Клео неизменно носила джинсы и роговые очки, с пылающим от ненависти сердцем запевала песни интернациональных бригад, едва лишь речь заходила о войне в Испании, и говорила обо всем с равной горячностью, была ли она воодушевлена или возмущена. Особенно ей нравилось возмущаться.
Чтобы оплачивать свое обучение (она изучала политические науки), Клео перебивалась временными заработками. Фил, в свою очередь, отныне проводил все дни в «Университетской музыке». В отличие от почти всех обитателей Беркли он не был студентом. Однажды он, правда, записался на два курса: посвященные немецкому литературному движению XVIII века «Буря и натиск» и философии Хума, но буквально через несколько дней особенно тяжелый приступ тревоги взял верх над его желанием получить образование. Филип Дик вовсе не стремился сделать карьеру ученого, а потому он легко поставил на ней крест. Однако у продавца пластинок не было совсем никаких перспектив, разве что получить, да и то не скоро, место управляющего магазином. Поэтому Дик в душе сожалел о своем выборе, опасаясь со временем превратиться в местную достопримечательность Беркли, с которой поколения студентов будут обращаться с дружеской непринужденностью. Старый продавец в «Университетской музыке», такой образованный, всегда готовый поболтать, если разговор зайдет о философии немецких идеалистов или о верхнем до, заимствованном Элизабет Шварцкопф у Кирстен Флагштадт в «Тристане» Фуртвенглера.
И снова решающая встреча произошла в «Университетской музыке», на этот раз с писателем по имени Энтони Бучер, этаким человеком-оркестром в популярной литературе, который под различными псевдонимами сочинял, рецензировал и издавал детективные и научно-фантастические романы. Тот факт, что зрелый, выдающийся во всех отношениях человек, искушенный меломан, не пренебрегает жанром, от которого сам он отвернулся, чтобы не показаться окружающим недоразвитым, сперва потряс Дика, но потом он почувствовал огромное облегчение. Робость помешала Дику посещать занятия в студии так называемого творческого сочинительства, которые Бучер проводил у себя дома, но Клео тайком отнесла мэтру несколько сочинений мужа, в том числе и один научно-фантастический рассказ. И снова приятный сюрприз: Бучер назвал этот рассказ многообещающим. Воодушевленный, Дик забросил тонкую психологию и внутренние монологи и позволил своему воображению отправиться к звездам. В результате в октябре 1951 года журнал, главным редактором которого был мистер Бучер, опубликовал первый «профессиональный» рассказ Филипа К. Дика под названием «Рууг» («Roog»). Речь в нем шла о псе, который с громким лаем преследует мусорщиков, потому что он догадался, что это не настоящие мусорщики, а инопланетяне, которые уносят и изучают отходы землян (в дальнейшем собираясь, как мы понимаем, покинуть и нас самих).
Заплатили за рассказ мало, но все-таки заплатили. Из этого Дик сделал вывод, что он сможет этим зарабатывать себе на жизнь. Он бросил работу в «Университетской музыке» и со смешанным чувством тревоги и возбуждения превратился в полноценного писателя. У Дика даже появился литературный агент. В 1952 году он продал четыре рассказа, в 1953 — тридцать, в 1954 — двадцать восемь, а в 1955 году вышли его первая антология и первый роман.
Глава вторая ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ
Когда в двадцать четыре года Дик принял решение стать профессиональным научным фантастом, он вряд ли думал, что этот выбор предопределит всю его жизнь. Филипу казалось, что он просто ухватился за подвернувшуюся возможность, отреагировал соответствующим моменту образом на временную же ситуацию. Решив однажды не продолжать образование, он не мог, из-за своих многочисленных фобий, освоить большинство профессий, доступных среднестатистическому американцу. По крайней мере этому психологические тесты его научили. Дик знал, что способен всех перехитрить и так пройти собеседование, что любой менеджер по персоналу охотно возьмет его на работу как серьезного молодого человека, но обманывать день за днем начальство в конторе он не сможет. Кроме того, работа в офисе абсолютно его не привлекала. Власть, хотя Филип и отказывался это признавать, его манила, но не та, которой обладает средний чиновник над мелкими или крупный над средними. Что же касается жизни «белых воротничков», считавшейся весьма завидной в стране, совсем недавно начавшей жить в достатке, то обитатель Беркли не мог сдержать снисходительной улыбки, видя броуновское движение этих довольных собой роботов в галстуках, которые по утрам наполняют пригородные поезда запахом одного и того же одеколона, а по вечерам, после бессмысленной суеты, возвращаются в свои дома, где их жены, улыбающиеся блондинки, спрашивают супругов одним и тем же тоном, протягивая им бокал мартини: «Как сегодня прошел день, дорогой?» Гораздо лучше сохранять свою самобытность, в данном случае, его юношеский и немного регрессивный вкус к научной фантастике, поскольку в этой области существовал растущий рынок, достаточно открытый для того, чтобы молодой писатель, чьи «литературные» тексты никто не принимал, мог рассчитывать зарабатывать этим на жизнь, хотя и бедную, но зато независимую. Конечно, и ему тоже приходилось играть по чужим правилам: много сочинять, соглашаться на сокращения, какие-то невообразимые заглавия и кричащие рисунки, изображавшие «зеленых человечков» с глазами на стебельках. Бучер шутил, что, если бы Библию решили опубликовать в серии научной фантастики, из нее сделали бы два тома по двадцать тысяч слов в каждом; при этом Ветхий Завет назвали бы «Хозяин хаоса», а Новый — «Существо с тремя душами». Но Дик надеялся, что вскоре положение изменится: его рассказы будут печатать в журнале «Нью-йоркер», у настоящих издателей появятся его настоящие книги, о них напишут настоящие критики, о нем будут говорить наравне с Норманом Мейлером или Нельсоном Элгреном, ну а этот первый бесславный опыт лишь придаст его биографии демократичную черточку, которую подобает иметь великому американскому писателю.
Самым удивительным было то, что этого не случилось. Хотя «серьезные» произведения Дика, принадлежащие к литературе основного направления, мейнстрима, как принято говорить в Америке, возможно, были не слишком хороши, но уж точно не были худшими. В то время, когда стольких писателей, прежде чем они канули в Лету, вовсю хвалили и называли самородками, Дик был вынужден терпеть неудачи и скромно совершать свой путь по беговой дорожке, в сущности, достаточно открытого мира буржуазной литературы. Что-то мешало ему, и если это вначале казалось необъяснимым невезением, то — много позже — оказалось знаком несравненно более высокого призвания.
В пятидесятых годах, создав восемьдесят с лишним рассказов и семь научно-фантастических романов, он написал также не менее восьми «серьезных романов», однако все они были отвергнуты. Неудачи мужа не обескураживали Клео, верившую в мифы о непонятом художнике и беззаботной богеме. По ее мнению, артист, по крайней мере, в самом начале своего пути, должен быть непонятым, а богема — беззаботной, так же как военные должны быть болванами с галунами, а голливудские фильмы — тупыми, шаблонными и коммерческими. И, прикалывая кнопками к стене письма с отказами, которые падали в их почтовый ящик с ужасающей частотой — однажды они достали одновременно целых семнадцать штук — Клео с искренней убежденностью говорила о том, как глупы все эти зомби в серых костюмах, заправляющие издательствами, и как оригинален и талантлив ее муж, что скоро всеми будет признано. К тому времени в газетах начали писать о поколении битников, рисуя шаблонные образы беспечного парня и писателя-бунтаря, на которых Фил, по крайней мере, внешне, походил: джинсы, рубашка в клетку, как у лесоруба, и старые армейские ботинки. Клео мечтала для мужа о славе Керуака, и, когда они изредка отправлялись через залив в Сан-Франциско, пыталась затащить его в одно из пропитанных дымом маленьких кафе Северного взморья, где поэты-битники слушали джаз и до глубокой ночи читали свои произведения.
К сожалению, Фил не любил ни поездки через залив, ни задымленные кафе, ни джаз, ни шумные сборища писателей. Он страшно боялся, что кто-нибудь спросит его, что он написал, и уже привык к усмешке превосходства, с которой самый непонятный поэт, из числа тех, кто публикует свои творения за собственный счет, встречал его смущенное бормотание насчет научной фантастики. Менее уверенный в себе, чем жена, и менее склонный возмущаться, Дик сомневался в том, что неуспех был признаком гения, и отворачивал несчастный взгляд от стены с отказами, не осмеливаясь потребовать, чтобы эти трофеи убрали. «Как? — воскликнула бы Клео. — Только не говори мне, что тебе стыдно!» Оставаясь один, Фил вынимал из своего бумажника и созерцал как некую реликвию совершенно непримечательное письмо одного «серьезного» романиста, Херба Голда, которого он едва знал, но который был столь любезен, что назвал его «дорогой коллега», как если бы он тоже был настоящим писателем.
Чувствуя себя неполноценным среди тех, кого бы он хотел считать своей ровней, Дик был таковым и для обычных людей: тех, кто делал карьеру, жил в добротных благоустроенных домах, зарабатывал деньги. Он всегда мог как Клео презирать их успех, но Филип прекрасно понимал, что они презирают его провал. Гордость называться независимым и не иметь начальства мало чего стоила перед нескончаемыми тяготами бедности. Возле них находился магазин под названием «Счастливый пес», где продавался корм для домашних животных. Филип Дик ходил туда несколько раз покупать конину, считающуюся в Америке непригодной для употребления в пищу человеком. Однажды продавец внимательно оглядел покупателя и одной лишь фразой метко определил его положение неудачника: «Надеюсь, вы не едите это сами?» Клео, когда он рассказал ей об этом, расхохоталась и в качестве утешения объяснила мужу, что в переводе с греческого его имя, Филип, означает «тот, кто любит лошадей». Интересно, о какой любви идет речь, уточнил он. Значит ли это, что он должен есть их мясо, или же, наоборот, с ужасом отворачиваться от него? Индусы, например, не употребляют в пищу коров, которых они почитают как священных животных; с другой стороны, евреи не едят свинину, так как свинья считается нечистым животным. Филип пришел к выводу, что, с точки зрения сравнительного религиоведения, обе точки зрения имеют право на существование. Так или иначе, факт остается фактом: они ели конину, а в 1955 году в Калифорнии она считалась пищей парий.
Еще с тех времен, когда Филу приходилось каждый день ходить на работу, он сохранил привычку писать по ночам. По утрам он бродил вокруг дома, все сужая и сужая круги, изучал коробки с подержанными пластинками, а в основном читал, сидя в неухоженном палисаднике, вместо того чтобы что-нибудь мастерить, как наверняка поступил бы его сосед, будь у того столько же свободного времени. Уходя на работу, этот самый сосед бросал на Дика косой, полный подозрений взгляд, а Фил после ухода соседа томно и робко украдкой глядел на его жену, которая начинала заниматься домашними делами как раз в тот момент, когда он думал о том, чтобы пойти вздремнуть. Возможно, у них завязался легкий флирт, однако когда Клео и Фил переехали в другое место, никаких серьезных последствий не было и их брак благополучно просуществовал вплоть до 1958 года.
Что он читал? Да все подряд: Достоевского, Лукреция, протоколы Нюрнбергского процесса, немецкую поэзию, философию, тоже немецкую, научную фантастику, книги по психоанализу, особенно Юнга, чье полное собрание сочинений Дик приобретал том за томом, по мере того как книги появлялись в солидном издательстве «Боллинген». Также он открыл для себя «Семь молитв к мертвым» — это произведение молодой швейцарский врач напечатал еще в 1916 году под псевдонимом Василид, заимствованном у одного александрийского гностика II века. Эта архаическая проза рассказывает о некоем мистическом опыте, полном необъяснимых звуков, огней и откровений, изложенных такими персонажами, как пророк Илия, Симон Волхв, а также некий Филемон, в котором Юнг обнаружил компоненты структуры личности своего собственного сознания, но эта личность была образованнее и мудрее, чем он сам. Дик сильно увлекся этим странным текстом и в течение нескольких дней носился с идеей положить ее в основу романа о жизни воображаемого писателя, создать нечто вроде «Доктора Фауста» Томаса Манна, который был недавно напечатан и который он прочел с неподдельным восторгом. Но затем Дик забыл об этой идее.
В целом серьезные романы, которые Филип Дик написал в тот период, ничуть не отражали его тогдашнего круга чтения. В качестве героев в них выступали стареющие телевизионные мастера, нервные продавцы пластинок, мечтающие стать диск-жокеями, совершенно не подходящие друг другу супруги. Хотя, какие там из них герои: приклеенные к будничной, невероятно серой, приводящей в уныние жизни, они тащились по дороге, ведущей их от бессилия к безнадежности. Это были книги с неясной и неровной структурой, полные угрожающе пустых диалогов, раскрывающие в чистом виде меланхолию, присущую их автору: это было именно то, что он сам, Филип Дик, посчитал бы стоящим, и именно благодаря этим книгам он собирался походить на Томаса Манна. Истории о «зеленых человечках» и летающих тарелках, за которые ему платили, напротив, в лучшем случае сделали бы его равным Ван Вогту, рядом с которым Дика как-то сфотографировали во время одного из тех собраний, где приверженцы жанра заявляют о своем единстве. Фотография появилась в тематическом журнале с подписью: «Два автора: именитый и молодой, подающий надежды». Спустя три года Филип Дик все еще считался начинающим писателем.
Специальностью Ван Вогта и некоторых других, таких как Лафайетт Рон Хаббард, основавший впоследствии школу саентологии, было галактическое обновление героических поэм, именуемое космической оперой (space opera). Речь в них шла о храбрых землянах, расправляющихся с ордами мутантов, нагрянувших из других миров. Это были битвы титанов, невероятные испытания, демонстрация сверхъестественных возможностей. Наряду с этим наивным и одновременно заумным жанром, который некоторые критики, не без причины, упрекали в том, что он отвлекает обездоленные массы от реальных проблем, существовало и другое направление, более зрелое, если судить по его приверженцам, которые в словосочетании «научная фантастика» делали упор на первое слово и стремились прежде всего с точностью ученых показать будущее. Эти авторы ломали головы, пытаясь обобщить уровень развития существующей или потенциальной техники в надежде, что поколение 2000 года, читая их книги, будет чувствовать себя в своей тарелке.
В принципе, ни одно из этих направлений не привлекало Дика. Однако, учитывая запросы рынка, он вначале написал несколько произведений в стиле Ван Вогта и подписался, чтобы быть в курсе событий, на различные научно-популярные журналы. В своей профессиональной добросовестности он дошел даже до того, что, прочтя статью об исследованиях в СССР теории ограниченной относительности, тотчас написал одному из упомянутых русских ученых, академику Александру Топчиеву, надеясь, в свою очередь, получить сведения из первых рук, что могло бы послужить темой для очередного рассказа. Однако Дик не получил никакого ответа, а издатели достаточно быстро поняли, что научная точность порождает смертельно скучные тексты, поэтому авторы и начинают выдумывать всякую всячину: обратное течение времени, путешествия в четвертом измерении, космические такси, доставляющие вас на вечеринку на одно из колец Сатурна.
К середине пятидесятых годов возникло новое направление, в котором Дик чувствовал себя гораздо уютнее. Начали публиковаться такие авторы, как Роберт Шекли, Фредрик Браун, Ричард Мэтисон; их рассказы были полны сухого и черного юмора, но при этом не отрывались от повседневности, которую различные хитросплетения превращают в кошмар. Часто это были рассказы, построенные с расчетом на конечную перемену, которая смешивает все ориентиры и исподтишка подрывает порядок вещей. Это направление, находящееся где-то посередине между традиционной и научной фантастикой, мало известно во Франции — я убедился в этом, когда опубликовал свой собственный роман «Усы», являвшийся практически подражанием Мэтисону, который не был упомянут ни одним из моих критиков, тогда как имя Кафки прозвучало в большинстве работ. А если и известно, то лишь благодаря кино и телевидению: духом этого нового направления пропитаны, например, сериал «Четвертое измерение» и кинофильм «Захватчики», сценарии к которым писали упомянутые авторы. Очень показательный пример — фильм Дона Сигела «Вторжение осквернителей тел».
Постараюсь вкратце рассказать его содержание: в одном американском городке против жителей ведут подрывную деятельность странные овощи. На первый взгляд, ничего не меняется, человек остается врачом, сборщиком налогов, барменом, добрым соседом, которого все знают и любят. Однако это уже не прежние люди, а мутанты, инопланетяне, решившие тайно захватить нашу планету. Главный герой, вначале ни о чем таком и не подозревающий, замечает странности в поведении сперва у одного из своих соседей, затем у своих близких. Постепенно он начинает задавать себе вопросы и искать разумные ответы, пока наконец не приходит к просто невероятному, но единственно верному выводу: тыквы, которые можно увидеть в оранжереях, вырастая, принимают человеческий облик обитателей города и в итоге их заменяют, а людей выбрасывают на свалку. Поэтому нужно всех опасаться. За каждым знакомым и любимым лицом может скрываться хладнокровный монстр. Не существует способа, позволяющего отличить настоящих людей, если таковые еще остались, от «замещенных». Герой и сам рискует оказаться монстром. Он хотел бы, если такое произойдет, быть уверенным в том, что выжившие люди не позволят ему причинять вред. Но он знает, что, когда это случится, он не захочет больше помогать людям, потому что он уже не будет одним из них, потому что он уже не будет самим собой.
Неуютно чувствующий себя в кинотеатрах, Дик не видел этого фильма, когда тот вышел на большой экран, но ему пересказали содержание, и в течение нескольких дней он был уверен, что идея украдена у него. Двумя годами ранее Филип Дик опубликовал рассказ на похожий сюжет; речь в нем шла о маленьком мальчике, убежденном, что некое ужасное существо подменило его отца. И чем точнее сходство, тем очевиднее кажется мальчику подмена. И пока он ищет в мусоросжигателе в гараже останки настоящего отца, самозванец в гостиной жалуется матери на то, что у их сына слишком буйное воображение.
Проведя небольшое исследование, Дик выяснил, что фильм снят по мотивам рассказа Джека Финни, опубликованного на несколько месяцев раньше его собственного. Поэтому он сделал правильный вывод о том, что идея витала в воздухе.
Глава третья ДЖОРДЖ СМИТ И ДЖОРДЖ СКРАГГЗ
То была эпоха «холодной войны» и «охоты на ведьм». Вся атмосфера США была насквозь пропитана двойным подозрением. С одной стороны, ФБР, подогреваемое заявлениями сенатора Джозефа Маккарти, подозревало буквально каждого американского гражданина в том, что он переодетый коммунист, хотя, по мнению самого тогдашнего главы Федерального бюро Эдгара Гувера, в стране было не более двадцати пяти тысяч членов Коммунистической партии, включая внедренных туда агентов в пропорции один к шести. С другой стороны, американские граждане, не обязательно коммунисты, но такие, кого можно было бы в этом заподозрить, полагали, в свою очередь, что их соседи — переодетые полицейские, или, по меньшей мере, стукачи, способные на них донести. Таким образом, злодеи из «Осквернителей тел» и дюжины других подобных историй могли вполне оказаться как агентами Москвы, так и преследующими их агентами ФБР: намерения авторов значили в этом случае гораздо меньше, нежели настрой публики. Каждый, более или менее сознательно, отождествлял этих неведомых врагов с чем-нибудь до ужаса знакомым и неизменным: фермер со Среднего Запада — с оголтелым коммунякой, а житель Беркли — с грязным копом.
С тридцатых годов Беркли был «красной» столицей Соединенных Штатов. Не только потому что здесь можно было найти ядро «настоящих» коммунистов, членов Коммунистической партии США, но и потому, что здесь все считали себя в определенном смысле единомышленниками, говорили на общем марксистском жаргоне, в котором слова «капиталист» и «фашист» считаются синонимами и обозначают всякого, кто имеет хоть какое-то отношение к властям или просто носит галстук.
Дик вырос в этом обществе. Его няня, некая Олив Холт, считала, что жизнь рабочих в Советском Союзе невозможно даже сравнивать с тяжким жребием американского рабочего, пот и кровь которого пьют вампиры с Уолл-стрит. Его мать, хотя сама и не вступила в партию, одобряла подобные высказывания. Его звонкоголосая жена придерживалась примерно тех же взглядов; иной раз Клео отправлялась после занятий на собрания, лозунги которых она разделяла. Сам Дик не испытывал симпатий к коммунизму и слыл среди друзей Клео, которых она приводила к ним в дом, закоренелым реакционером. Благодаря прочитанным книгам, особенно Оруэллу и Ханне Арендт, он пришел к выводу, что между коммунизмом и фашизмом нет никакой разницы. Дик наотрез отказывался учитывать лучшие намерения первого и принимал во внимание только результаты, а результатом, как известно, было установление тоталитарных режимов. Споря как-то с одним коммунистом, Дик был выведен из себя его догматизмом и узостью взглядов. Что не мешало ему одновременно восхищаться выдающимися революционными личностями, инстинктивно ставить себя в один ряд с преследуемыми и, не любя Советский Союз, ненавидеть буржуазию, которой тот внушал ужас. Филип Дик, таким образом, вполне соответствовал своему окружению, которое было «радикальным», или, согласно неподражаемой формулировке ФБР, «благосклонно ориентированным по отношению к лицам или группам, в свою очередь благосклонно ориентированным по отношению к коммунизму».
Люди с подобными взглядами не преминули заметить блестящий дебют Ричарда Никсона, сенатора из Калифорнии, который появился в конце сороковых годов в округе Оранж. Этот расположенный на тысячу километров южнее чудовищно реакционный регион, где отродясь не водилось нормальных людей, был для обитателей Беркли чем-то вроде антимира, каким являлся для жителей департамента Ардеш, сторонников событий 1968 года, департамент Вар, населенный пенсионерами, голосующими за Национальный фронт. И Никсон был просто идеальным его порождением: этакий скрытный грубиян с синюшным подбородком и напомаженными волосами, который обожал фотографироваться в ковбойской шляпе на фоне своей коллекции огнестрельного оружия. Вопрос о том, можно ли у подобного типа купить подержанную машину, еще открыто не ставился, но его уже называли «Ловкач Дик», «Порочный Дик», и когда карьеры их обоих еще только начинались, Дик, я имею в виду Филипа Дика, видел в этом типе своего личного врага. В «Беркли газет» писали, что у Никсона волосатые пальцы и что победе на выборах он обязан беспощадной кампании по очернению своей противницы от демократов, которую обвинили в том, что она — лесбиянка и «розовая вплоть до нижнего белья». Никто не был удивлен, когда сенатор Никсон, назначенный членом комиссии, которой было поручено расследовать антиамериканскую деятельность, отличился в ней своим рвением. Маккарти по сравнению с ним был простым крикуном, которого Конгресс умел заставить замолчать, если тот ему надоедал. Совсем другое дело Никсон: он говорил негромко и наносил удары исподтишка. Когда в 1952 году Филип Дик опубликовал свой первый рассказ, Ловкач Дик, кандидат Эйзенхауэра, стал вице-президентом Соединенных Штатов. Время, когда няни могли открыто объявлять себя коммунистками, кануло в Лету.
Однажды зимой 1955 года, когда Дик был дома один и слушал симфонию Бетховена, явились два типа, которых он сначала принял за коммивояжеров. Один был высокий и толстый, другой — маленький и плюгавенький, а их одинаковый наряд только подчеркивал контраст. Оба были одеты в серые костюмы-тройки, фетровые шляпы, черные начищенные воском ботинки, все равно как герои сериала «Неподкупные» (его тогда только-только начали показывать по телевидению) или как его отец, ставший с годами ограниченным и непреклонным консерватором. Впрочем, отца Дик не навещал вот уже много лет, точнее, с момента бомбардировки Хиросимы, так как Эдгару не понравилось, что его сын не одобрил это решительное и суровое предупреждение, урок, который Америка преподала узкоглазым.
Но эти два типа не собирались ничего продавать. Они предъявили Дику удостоверения агентов ФБР. Чтобы казаться непринужденным, он решил рассказать гостям анекдот, который недавно прочел в разделе «Городские сплетни» в «Нью-йоркере»: Два агента ФБР допрашивают соседа подозреваемого. Тот сообщает, что подозрительный тип часто слушает симфонии. «Смотри-ка, симфонии, — говорят агенты ФБР. — И на каком языке?»
Какой бы простой и замысловатой ни была эта история, Филип Дик сбился, рассказывая ее. Как всегда, когда он был взволнован, его голос сделался неестественно высоким, превратившись в юношеский фальцет. Стоявшие на пороге агенты даже не улыбнулись.
— Этот парень был точно не из нашего отдела, — сказал один из них.
Войдя в дом, агенты мигом заметили пишущую машинку и проигрыватель, который Дик нервно выключил. Они явно не одобряли, что такой рослый тип, в рубашке без пиджака, плохо выбритый, в одиннадцать утра бесцельно бродит по своему дому, вместо того чтобы работать как все в конторе, мастерской или магазине. Толстый спросил, что он конкретно пишет, и ответ Дика его развеселил: истории про марсиан, «зеленых человечков», этакие книжки для детей; конечно, он их никогда не читал, но видел. Его усмешка выдавала презрение, к которому Дик уже привык, но которое тревожило его сейчас больше обычного, учитывая, кем был его собеседник. На какое-то мгновение Дик вообразил, что им интересуются как автором научной фантастики. Это подозрение выглядело логичным: будь он сам агентом ФБР, он бы проверил писателя. Автор научной фантастики обращается к самым широким слоям общества, к людям необразованным, которые не читают ничего другого и, как следствие, легко поддаются влиянию. Ему так же просто одурманить умы людей, как инженеру, работающему на водопроводной станции, — отравить ядом резервуары с питьевой водой большого города. Не говоря уж о том, что он может запросто обнаружить и раскрыть жизненно важные для страны технологические секреты, полагая, что просто следует за своим воображением. Да уж, будь сам Дик «охотником за ведьмами», его беспокоили бы не модные писатели с Восточного побережья и не нарочито «красные» режиссеры из Голливуда, чьей задачей, вероятно, является отвлечь внимание. Нет, он бы не попался на эту удочку, а вместо этого день и ночь следил бы за настоящими манипуляторами общественным мнением, за теми, кто работает с первоисточником, создает литературу для детей и работяг, к которой все относятся с презрением.
— Вы являетесь политически активным, господин Дик? — спросил его толстый агент.
Он честно ответил, что нет. Он никогда никого ни за что не агитировал, никогда не голосовал. Самым подрывным в его жизни был разве что интерес к русскому искусству: его страсть к Достоевскому и «Борису Годунову», которого у него было две записи.
— Но ваша жена, — продолжил полный агент, — принадлежит к группе студентов, являющихся членами Социалистической рабочей партии. Она рассказывает вам о собраниях, на которых присутствует?
— Нет. Клео знает, что меня это не интересует.
— Если вы проявите интерес, то супруга вам, несомненно, обо всем расскажет. Как вам эта идея, а?
Дик едва поверил, что ему вот так открыто предлагают шпионить за собственной женой. Просто невероятно: уж не имеет ли он дело с фальшивыми агентами ФБР? Зачем обращаться к нему, когда все, даже Клео, знают, что в СРП и во всех этих маленьких левацких партиях полно шпиков? Кроме того, если даже предположить, что по какой-то причине в ФБР действительно в нем нуждаются, им следовало бы сперва предпринять долгие и сложные маневры, чтобы приблизиться, устроить ему какую-нибудь ловушку и затем поставить его перед выбором, но только тогда, когда у него не будет возможности отказаться. Похоже, где-то здесь кроется ловушка, просто он ее еще не видит.
Не зная настоящей цены вопроса, Дик придал тупое выражение своему лицу и повторил, что нет, его это не интересует. Казалось, что и молчаливый тощий агент, который стоял перед бюро и без стеснения читал листок, заправленный в печатную машинку, интересуется этим не больше. Его тучный коллега захотел узнать, испытывает ли Дик симпатию к Коммунистической партии.
В принципе, никакой, но на этот раз смысл вопроса опять ускользнул от него. Какой ответ агенты ФБР ожидали услышать, учитывая, что Коммунистическая партия была запрещена? Внезапно Дик вспомнил, что сказал в подобной ситуации один знаменитый английский шпион. Элегантность мысли привела его в восторг, вот прекрасный случай блеснуть остроумием.
— Нет, — сказал он, — я не испытываю симпатии к Коммунистической партии. Но вы хорошо знаете, что, если бы даже это и было так, я ответил бы то же самое.
Какой бы подходящей ни была эта реплика, ему показалось, что она смутила обоих агентов, которые переглянулись, а затем удалились, сказав, что еще вернутся. Оставшись один, Дик спрашивал себя, привел ли он своим остроумием в замешательство двух болванов или, напротив, сам попал в искусно расставленную ловушку. Задумавшись, он вспомнил фразу, которую как-то пометил в книге Бертольта Брехта, любимого автора его жены, известного своими «красными» взглядами: «Он смеялся, потому что враги не сумели его догнать; но он не знал, что они специально старались дать ему ускользнуть».
Клео поначалу все восприняла всерьез и трубила на всех перекрестках о том, что Соединенные Штаты превратились в фашистское государство. Затем все устаканилось. Какое-то время Джордж Смит и Джордж Скраггз — так их звали — наносили им визиты раз в неделю. Смит, высокий и полный, задавал вопросы, говорил о том о сем, тогда как Скраггз, маленький и худой, упорно молчал, как если бы он, не имея других дел, сопровождал своего приятеля на встрече, которая его самого не касалась. Клео сделала из этого вывод, что из них двоих он наиболее опасен, но это впечатление ничем не было подкреплено. Уходя, агенты оставляли анкеты, а в следующий раз забирали их уже заполненными. Они представляли все как опрос общественного мнения, тогда как это явно были тесты, имевшие целью установить, до какой степени люди мыслят правильно. Эти тесты на благонадежность, как и поведение обоих Джорджей, сбивали с толку: уж очень сложно было определить, в какой степени их следует воспринимать всерьез. Вопросы напоминали те, что задает миграционная служба желающим въехать в страну. «Вы токсикоман? Террорист? У вас есть намерение убить президента Соединенных Штатов?» Чем более идиотскими казались вопросы, чем более явными выглядели нужные ответы, тем больше, по мнению Дика, было шансов, что тут скрывается какая-нибудь ловушка, как на уровне «К» в Миннесотском опроснике, так называемом «уровне лжи». Например, нужно было выбрать одно утверждение из трех: «СССР 1) становится слабее; 2) набирает мощь и силу; 3) остается примерно на том же уровне, что и свободный мир».
Разумеется, следовало выбрать пункт 2, чтобы показать, что ты разделяешь беспокойство властей по поводу растущей мощи СССР и понимаешь, что просто необходимо без промедления удвоить военный бюджет свободного мира. Но следующий вопрос ставил под сомнение предыдущий: «Советская техника 1) очень хорошая; 2) вполне достойная; 3) никакая».
Выбор первого варианта выглядел бы как хвала комми. Пункт 2 казался более подходящим вариантом и, вероятно, соответствовал истине. С другой стороны, сама формулировка третьего варианта ответа приглашала всякого здравомыслящего гражданина без раздумий выбрать его: чего еще ждать от грубых отсталых славян, кроме полного провала? Но как тогда могло случиться, чтобы технически отсталая нация неуклонно набирала мощь и силу? К счастью, ответ подразумевался в следующем вопросе: «Самый большой враг свободного мира 1) СССР; 2) наш высокий уровень жизни; 3) тайно внедренные среди нас элементы».
— Хорошо, сказала Клео, — когда они заполняли эту анкету, — выберем третий пункт. Но, если я правильно поняла их мысль, тайно внедренные среди американских граждан элементы, это, должно быть, мы!
Дик и Клео весело смеялись, играли в страшилки. Супруги прекрасно понимали, что они — мелкие сошки.
Потом, Джордж Скраггз начал приходить один или в компании пса Мертона, немецкой гончей. Дики спрашивали себя, означало ли изменение режима новый маневр или просто ослабление надзора. Выяснилось, что Худой Джордж живет неподалеку и ему просто нравится заходить к ним по дороге на работу, чтобы немного поболтать. В его приходах не было ничего угрожающего. В отличие от своего необразованного и презирающего Дика товарища, он, казалось, был взволнован знакомством с писателем. Он спрашивал, как тому в голову приходят идеи, и даже прочел одну из его книг. Интерес фэбээровца льстил Филу. Хотя он и подозревал, что Джордж Скраггз потихоньку завоевывает его доверие, чтобы в конце концов лучше заманить писателя в ловушку, между ними возникла своего рода дружба. Узнав, что Фил не умеет водить машину, Джордж предложил давать ему уроки. Этот маленький человечек обладал также поразительно миниатюрной машиной: Филу приходилось сжиматься, чтобы уместить там свои длинные ноги. Каждое воскресное утро, зажатый между рулем и сиденьем, он проводил час или два, беседуя с агентом ФБР, и открыл для себя удовольствие его разыгрывать. За властными и уверенными манерами Джорджа Скраггза, приобретенными в ФБР, скрывался честный и добросовестный человек, что превращало его в идеальную жертву для софиста. Когда Скраггз был не на службе, на него можно было повлиять при помощи разумных доводов, и Фил этим пользовался, чтобы заставить агента проглотить совершенно разрушительные идеи под прикрытием шутки, выдумки или чистой логики.
Однажды, когда они, не торопясь, объезжали на автомобиле квартал, ученик заговорил со своим инструктором о досье, которые у ФБР наверняка есть на него и Клео. Смущенный, Джордж Скраггз пожал плечами и пробурчал что-то неразборчивое.
— Но признайтесь, — настаивал Дик, — вы по-прежнему верите, что моя жена коммунистка.
— Ваша супруга ходит на собрания Социалистической рабочей партии, а эта партия — тайный агент коммунистов. Она подписала Стокгольмское обращение. Факты говорят сами за себя.
— Это просто ловкая маскировка, — сказал Фил, подмигивая. — Клео действительно присутствует на собраниях, она повторяет лозунги левых, она подписывает петиции. Но это доказывает только одно, и вы знаете это так же хорошо, как и я: то, что она точно не коммунистка. В противном случае она бы остерегалась. Согласны?
— Согласен, — вынужден был признать агент. (Эта простая уступка доказывала, что Фил его заговорил: Джордж Скраггз никогда бы не сказал «согласен».) — Но как же тогда вычислить коммунистов? Если они не ходят на митинги, не повторяют лозунги и не подписывают петиции?
— Да именно по тому, что они не делают ничего из этого. Кроме того, вы прекрасно сами знаете: вы следите за честными и безобидными людьми, вроде моей жены, а те, кто вас действительно интересуют, о, эти типы стараются остаться незамеченными. Обратите внимание на тех, кто громче всех кричит, выступая против коммунистов. Да вы и сами это прекрасно понимаете. Не держите меня за простака.
Джордж Скраггз почесал в затылке. Фил заметил, что этого человека можно легко привести в замешательство, приписав ему коварные тайные мысли. Железная логика сбивала агента с толку.
— И все же, — слабо запротестовал он, — мы обязаны обращать внимание на то, что люди делают. А как иначе можно узнать, кто что думает, что происходит в головах людей?
— Да ладно, Джордж, я ведь не вчера родился.
Джордж все больше и больше нервничал. Не понимая, когда и как это произошло, он чувствовал, что поменялся местами со своим собеседником. Фил не сильно бы его удивил, открыв, что он также агент ФБР, причем выше его по званию, переодетый в невзрачного и неопрятного писателя.
— Если рассуждать как вы, Фил, в нашей стране опасны все.
— А кто сказал, что нет?
— Перестаньте. Тогда и Никсон — агент коммунистов.
Синие глаза Фила язвительно блеснули.
— Я надеюсь, Джордж, вы не забудете, что это сказал не я.
Этот разговор заставил Дика задуматься, особенно обескураженная фраза фэбээровца о том, как сложно узнать, что происходит в головах людей. Писатель спрашивал себя, что было бы, окажись он вдруг в голове какого-нибудь человека, совершенно непохожего на него. Например, в голове Джорджа Скраггза. Или, хуже того, Джорджа Смита. Или его отца. Или Ричарда Никсона.
Какое-то время он обдумывал идею, хотел описать в одной книге, как его собственный мозг и мозг Никсона поменялись местами, но затем оставил ее. Фил Дик, просыпающийся в одно прекрасное утро в теле сенатора из Калифорнии, а тот — в теле писаки из Беркли, — это могло, несомненно, стать неплохой историей, богатой на неожиданные повороты, но это было не то, о чем Дик думал. В одном учебнике по философии он прочитал о различии между idios kosmos[4], этим особенным видением вселенной, которое каждый из нас таскает в своей в голове, и koinos kosmos[5], который считается объективной вселенной. Когда мы говорим о «реальности», то ссылаемся для удобства на koinos kosmos, но, собственно говоря, koinos kosmos не существует: его восприятие есть результат договоренности между людьми, беспокоящимися о том, чтобы ощущать под ногами твердую почву. Это некая дипломатическая фикция, наименьший общий знаменатель для моего idios kosmos и для idios kosmos моего соседа — если считать, что мои соседи вообще существуют и что я не один во вселенной, как того хотел бы непримиримый идеализм.
И на самом деле идея Дика состояла не в том, чтобы обменять свой idios kosmos на idios kosmos другого рискуя при этом ничего не заметить, поскольку это будет уже совсем иной человек, а не он сам, а в том, чтобы посетить чужой idios kosmos, не отказываясь от своего собственного. Просто путешествовать в нем, как в чужой стране. И Дику требовалось только какое-нибудь средство, чтобы такое путешествие стало возможно, а жанр, в котором он работал, имел, по крайней мере, то преимущество, что в изобилии его подобными средствами обеспечивал. В тот же вечер, ухватив самую суть того, что в научной фантастике пугает значительную часть образованной публики настолько, что они не рискуют перевернуть страницу, Филип Дик напечатал следующие строчки.
«2 октября 1959 года[6] на протонно-лучевом дефлекторе „Мегатрон“, который был установлен в Белмонте, произошла авария. Дуга в шесть миллиардов вольт ударила в потолок помещения, сжигая все на своем пути, особенно наблюдательную площадку, на которой находилось восемь человек. Все они упали на землю и оставались там, раненые или впавшие в кому, до тех пор, пока не убрали магнитное поле и не подавили мощную радиацию».
Далее следует рассказ о том, как восемь пострадавших приходят в себя и их отвозят в больницу, а легко раненных — домой. Кажется, все пришло в норму, за исключением некоторых мелочей, которые производят потрясающее впечатление. Эти мелочи вскоре становятся более значительными. Ругательство привлекает на голову того, кто его произнес, множество саранчи; машинально произнесенная молитва тотчас удовлетворяется. Вскоре спасенные не могут больше скрывать удивительного факта: бог знает, как они очутились в некоем беспорядочном мире, где самые дикие суеверия становятся объективной властью, выпавшей на долю «настоящего» мира законов физики, молитва заменяет технику, а каждый, кто делает шаг в сторону, немедленно карается небесами, — короче, вселенная, созданная в мыслях безумного проповедника.
На самом деле происходит примерно следующее: герои понимают, что в действительности они, безжизненные, все еще лежат в «Мегатроне», но энергия, высвободившаяся в результате аварии, превратила личный мир одного из них (как потом выясняется, того, кто не терял сознания), в коллективный мысленный мир, пленниками которого стали все остальные. Как говорит одна вконец перепуганная героиня: «Мы подчинены логике невероятной религии, смеси ислама и средневекового христианства, вере старика, из мыслившего еще в тридцатые годы в Чикаго абсолютно бредовый религиозный культ. Мы находимся в его сознании».
Дик немало развлекся, изображая этот безумный мир. Но у него не было намерения посвятить его описанию всю книгу: помещая в «Мегатрон» восемь человек, он собирался посетить idios kosmos каждого. Религиозный фундаментализм старого вояки (который походил на отца самого писателя) он заменил на пуританскую утопию миловидной дамочки, полной добрых чувств, любящей (как и его мать) искусство, красоту, чистоту и точно так же ненавидящей беспорядок, секс, физиологическую сторону жизни, искренне убежденной, что можно отделить добро от зла, другими словами, можно уничтожить зло. Добиваясь этого, убирая зло из своего мира, она уничтожает не просто вещи, но целые категории: клаксоны, мусорщиков, с шумом перемещающих мусорные бачки, комивояжеров, СССР, мясо, бедность, половые органы, астму, кошелек, пьянство, грязь…
Дамочка все сильнее увлекается и действует необдуманно. «Улучшенный» с ее помощью мир саморастворяется и уступает место другому, еще более страшному миру молодой женщины, страдающей паранойей. Мир глянцевый, коварный, внешне безупречно нормальный, но при этом полный скрытых угроз. Здесь все имеет значение, все составляет часть заговора. Все враждебно, опасно, обманчиво, даже предметы. Люди, отданные во власть этого больного сознания, пребывают в панике. До настоящего момента каждый очередной мир оказывался хуже предыдущего. Каким будет следующий, если он вообще будет? Трое из восьми человек, выглядевшие совершенно безобидными, — старый служака, дама, занимающаяся благотворительностью, и немного закомлексованная секретарша — оказались на поверку религиозным фанатиком, воинствующей пуританкой и психически ненормальной личностью. Какие бездны скрывают в себе другие? Самые умные догадывались, что дела обстоят еще хуже, и спрашивали себя, какую страшную пропасть таит в своей душе каждый из них? Каким кошмаром для его товарищей станет его собственный мир, если будет им навязан?
В самом начале романа Дик позаботился о том, чтобы представить читателям семейную пару, которая тоже оказалась на «Мегатроне». Жену, Маршу, подозревали в том, что она коммунистка. Она клялась мужу, что это неправда, но он, тем не менее, начал ее подозревать. Тем более что, после того как женщину, страдавшую паранойей, в конце концов сожрали (как того и требовала логика) двое ее спутников, превратившихся в гигантских насекомых, все снова поменялось, и на сей раз герои попали в мир воинствующего коммуниста. Сочиняя эту главу, Дик вспомнил речи, которые произносила некая Олив Холт, столь раздражавшая его подруга Клео, и постарался как можно красочнее их передать: жаждущие крови капиталисты, фашистские войска, линчуемые на каждом углу улицы негры, населенные гангстерами города, толпы голодных детей, роющихся в мусорных баках — вот как видит Америку настоящий коммунист.
Но кто же является этим коммунистом? От какого члена группы на самом деле исходит этот ужасный и вместе с тем гротескный образ? Все подозрения, естественно, падают на Маршу: ведь ФБР косо смотрело на нее еще до аварии на «Мегатроне». И, несмотря на ее отчаянные оправдания, даже ее муж тоже начинает в это верить, потрясенный тем, что все это время Марша его обманывала.
Здесь Дик несколько преувеличил: их политические разногласия с Клео никогда не принимали столь драматического оборота. Но он посчитал необходимым сделать разоблачение коммуниста гвоздем книги. Уже через две недели Дик закончил работу. Печатая последнюю главу, он представлял себе Джорджа Скраггза, который читает этот роман, — догадывается ли агент ФБР, что развязка близка? Подозревает ли он, что тайный коммунист в группе — это не щедрая левая активистка, а офицер службы безопасности «Мегатрона», лишь притворявшийся одержимым «красными», «охотник на ведьм» собственной персоной?
Когда на следующий год роман «Око небесное» («Eye in the Sky») был опубликован, Филип Дик послал один из авторских экземпляров своему другу из ФБР. Маккарти тогда только что умер от цирроза, после чего серия решений Верховного суда США положила конец «охоте на ведьм». В течение некоторого времени Джордж Скраггз больше не навещал их. Тем не менее он снова пришел в гости к Дикам, чтобы поблагодарить за подарок и поделиться своим впечатлением о романе. Казалось, что большая часть политических аллюзий, хотя и явных, от него ускользнула, не говоря уже о философской составляющей. Дик тщетно пытался объяснить фэбээровцу значение понятий idios kosmos и koinos kosmos. Все, что интересовало Скраггза, это научное правдоподобие данного утверждения. Возможно ли, чтобы нечто подобное произошло в реальности? Может быть, с помощью гипноза или наркотиков? Дик не удержался от удовольствия поиздеваться над Скраггзом в последний раз и, вспомнив наивное письмо, которое он написал в СССР пять или шесть лет назад и которое так и осталось без ответа, важно заявил, что у него даже была по этому поводу оживленная научная переписка с советским академиком Александром Топчиевым.
— Да, в ФБР об этом известно, — рассеянно ответил Джордж Скраггз, и теперь настала очередь Дика задаться вопросом, уж не смеется ли тот над ним.
Глава четвертая ТО, ЧЕМ ОН ЗАНИМАЛСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ
Первый тревожный звонок прозвучал однажды вечером, когда Клео приготовила на ужин лазанью. Ужин закончился, они болтали, слушая музыку, как вдруг у Фила заболел живот. Он поднялся, сказав, что сходит за лекарством, и пошел по маленькому темному коридору, ведущему в ванную комнату.
На пороге он начал на ощупь искать ламповый шнур.
— Все в порядке? — бросила Клео из столовой.
— Все в порядке, — ответил он.
Но шнура на месте не было. Однако Филип знал, что шнур висит слева, вдоль двери. Куда же он подевался? Это было нелепо. Вытянув руки, растопырив пальцы, Фил начал шарить в темноте. Его охватила паника, как если бы все вокруг него исчезло, и он больно стукнулся головой о шкафчик с лекарствами. Стеклянные пузырьки, стоявшие на полке, ударились друг о друга. Фил выругался.
Удивительно далекий голос Клео повторил:
— Все в порядке? — Затем: — Что происходит?
Он пробурчал, вероятно, недостаточно громко, для того чтобы жена услышала, мол, он никак не может найти этот чертов шнур… и внезапно понял, что никакого лампового шнура и не существует. Здесь есть и всегда был выключатель, справа от двери. Филип без труда его нашел, включил свет резким ударом. Свисавшая с потолка лампа зажглась. Он с подозрением оглядел ванную комнату. Все казалось нормальным, не очень чистым, но нормальным. Белье сушилось на веревках. По кафельной плитке бежал таракан. Фил подавил в себе желание его раздавить.
Он открыл шкафчик с лекарствами, избегая смотреть на свое отражение в зеркале, поправил упавший пузырек, взял тот, в котором лежали пилюли от боли в животе, проглотил одну, запил стаканом воды, затем, осторожно погасив свет, так чтобы выключатель не щелкнул, вернулся в столовую. Клео закончила убирать со стола и мыла посуду на кухне. Фил приблизился к жене, размышляя: «Откуда у меня возникло воспоминание о ламповом шнуре? Я точно знал, что существует определенного вида шнур, определенной длины, в определенном месте. Я искал не случайно, как если бы я находился не в своей ванной комнате. Нет, я искал ламповый шнур, которым привык пользоваться, которым пользовался достаточно долго, чтобы моя нервная система выработала условный рефлекс».
— Тебе когда-нибудь случалось, — спросил он жену, — искать ламповый шнур, который не существует? Вместо выключателя?
— Это его ты искал столько времени? — поинтересовалась Клео, не прекращая мыть посуду.
— Но где, интересно, я мог приобрести привычку дергать ламповый шнур?
— Понятия не имею. Их уже почти нигде нет. Сегодня у всех ламп — выключатели. Возможно, к тебе вернулось воспоминание детства.
Затем Клео пошла спать, а Фил остался один с котом Магнификатом в столовой, которая в это время превращалась в его кабинет. Он поставил пластинку с «Кругом песен» Шумана, опус № 39, только что записанную Фишером-Дискау, и сел за стол, на который Клео вернула печатную машинку. За окном проехала машина, но, после того как она удалилась, наступила полная тишина. Филип Дик очень любил это время суток. Первая песня из сборника рассказывала о человеке, давно отправившемся в путешествие, который шел по снегу, с ностальгией думая о своей родине и о своем домашнем очаге. По правде говоря, в стихотворении не было речи о снеге, но на той же пластинке имелась также запись «Зимнего путешествия» Шуберта, и поэтому на конверте были изображены хлопья снега, что оставляло мало места для солнечного микроклимата в голове слушателя. Дик спрашивал себя, и эта мысль вызвала у него улыбку, можно ли было сочинить стихотворение, а затем мелодию, взяв за основу опыт, подобный тому, что он сам только что пережил: человек входит в ванную комнату и, вместо того, чтобы нажать на выключатель, ищет несуществующий ламповый шнур. Он с трудом удержался, чтобы не разбудить Клео и не спеть ей, на мотив только что закончившейся мелодии и подражая голосу Фишера-Дискау, последние строчки стихотворения, которое только что сочинил: «Es gab keine Lampen-schnur…»[7]
Мелодию ему, пожалуй, самому не сочинить, но можно попробовать извлечь из этого историю. Большинство из нас, столкнувшись с чем-то подобным, скажут: «Очень странно», — но вскоре об этом позабудут. Однако Филип Дик принадлежал к той категории людей, которые не проходят мимо непонятного, а ищут смысл в том, в чем, возможно, его и нет, ответ на то, что достаточно сложно назвать вопросом. Его профессией было изобретение подобных вопросов.
Он уже написал много историй, основанных на этом принципе: некто, отталкиваясь от незначительной детали, замечает, что происходит что-то не то. В одной из таких историй некто приходит в контору и понимает, что все слегка изменилось: сложно сказать, что именно, но и расстановка мебели, и сама мебель, и помещение в целом, и лицо секретаря — да, буквально все какое-то не такое. В итоге оказалось, что некая служба, официальная и в то же время тайная, старалась регулярно переделывать реальность, совсем немного, подобно тому как штукатурят стены домов, по достаточно расплывчатым причинам безопасности, перечислением которых писатель себя не утруждал. Герой другой истории, а также его родные, его друзья, соседи, — все эти люди, верившие, что они живут в маленьком американском городке в пятидесятые годы XX века, на самом деле обитали в огромных декорациях, в исторической реконструкции, выставленной в музее XXIII века. Как индейцы в резервации, с той лишь разницей, что они об этом не знали. Люди XXIII века толпами приходили в музей на них посмотреть, но хитроумная оптическая система позволяла посетителям оставаться незамеченными. В какой-то момент главный герой понял это и попытался убедить своих сограждан. Разумеется, те сочли его безумным.
Дику нравилось писать эти сцены, прорабатывать в деталях аргументацию человека, который говорит правду, но никто ему не верит, да он и сам прекрасно понимает, что поверить в подобное просто невозможно. Такие эпизоды должны были бы стать скучными, каковыми обычно бывают обязательные сцены, необходимые для развития интриги, однако Дику удалось этого избежать. Когда он писал об исторической реконструкции, ему особенно удался эпизод, где герой идет на прием к психиатру, который, по определению, является наихудшим собеседником из всех возможных, поскольку он никогда не задается вопросом, правда ли то, что ему рассказывают, или нет: о чем бы ни шла речь, его интересует лишь, симптомом чего это является. Дик ненавидел эту присущую психиатрам непоколебимую уверенность в том, что они знают, что есть реальность и истина, их манеру общаться. Приди к ним в свое время Галилей с целью поведать о том, что Земля вертится вокруг Солнца, или Моисей, чтобы повторить им услышанное от Яхве, они бы только благодушно улыбнулись и завели разговор о детстве пациентов. Писатель особенно любил эти истории за то, что последнее слово в них оставалось за ним, в его власти было сделать неправыми психиатров и правыми пациентов, которых те провозгласили безумными. Дик с наслаждением занимал этот высокий пост, он был творцом истории и, таким образом, мог сделать психиатра, без ведома последнего, частью исторической реконструкции: и посетители музея в XXIII веке буквально пополам сгибались от смеха, слушая, как он объясняет своему несчастному пациенту, единственному, догадавшемуся об истине, что тот боится встретиться лицом к лицу с реальной жизнью и, чтобы избежать этого, прячется в безумной выдумке. Инфантилизм личности, ставит диагноз специалист (между прочим, его собратья в реальной жизни именно так объясняли, почему Дик сочиняет истории о «зеленых человечках», вместо того чтобы приобрести профессию, подходящую для ответственного взрослого человека; он-де чувствует себя виновным, боится быть наказанным или выставленным на посмешище своим начальником). Инфантилизм личности? А что, после всего, что случилось, вполне может быть.
Несколькими месяцами ранее, читая «Пять лекций по психоанализу», Дик узнал о случае с президентом Коллегии Апелляционного суда в дрезденском Верховном суде Шребером, этим чиновником, которого Фрейд сделал моделью паранойи, и полагал, что если эту историю рассказать по-другому, из нее получилось бы прекрасное произведение в жанре научной фантастики. «Мужчина, которого Господь хотел превратить в женщину и с помощью злых духов заставить быть пассивным гомосексуалистом, чтобы спасти мир», — возможно, название несколько длинновато, но научная фантастика, как утверждал Энтони Бучер, состоит в том, чтобы задавать себе вопрос: «А что, если?» И здесь было чему удивляться: а что, если президент Шребер был прав? Если его так называемое безумие было точным описанием реальности? Если Фрейд был всего лишь ученым мракобесом, со злобой преследующим человека, который все понял? История о том, что единственный человек, который все знал, оказался под замком в психиатрической лечебнице, вовсе не была бессмысленной, но, увы, в таком виде на рынке современной литературы она была непродаваемой: ни один издатель научной фантастики не захочет иметь дело с романом, героями которого выведены Фрейд и Шребер. Напротив, ничто не мешало Дику написать историю о ламповом шнуре, изобразив в качестве героя себя самого. В конечном счете, она ведь действительно с ним произошла.
Да, рассказать историю про писателя-фантаста, который в один прекрасный день, ища несуществующий ламповый шнур, открыл, что что-то не так.
Эта книга будет в чем-то похожа на романы мейнстрима: маленький городок, маленькие дома, маленькие сады, соседская собака, угрюмый владелец станции техобслуживания с кривой трубкой, запах яблочного пирога, испеченного миловидной соседкой. Но на самом деле это будет научно-фантастический роман, что означает, во-первых, что он будет опубликован, и, во-вторых, что его герой окажется в итоге прав: что-то точно не так, мир не таков, каким кажется, это только декорации, видимость, ловко устроенная, чтобы использовать людей и скрывать от них… что?
Поскольку книги, героем которых является писатель, вызывают оправданное недоверие со стороны издателей, Филип Дик изменил в романе «Распалась связь времен» («Time Out of Joint») имя и профессию. В течение вот уже многих лет Рэгл Гам, главный герой этого произведения, зарабатывает на жизнь, отвечая на вопросы конкурса под названием «Где „зеленый человечек“ будет завтра?», организованного местной газетой.
Бланки ответов представляют из себя разлинованные вдоль и поперек листы бумаги, под одной из клеточек обязательно находится «зеленый человечек». Место меняется каждый день, и каждый день газета печатает серию загадочных ключевых фраз, вроде: «Одна кошка лучше тех двух, которые у тебя будут» — видимо, эта информация должна помочь в решении следующей загадки. Полагая, что в ключевых фразах содержится скрытая информация, Рэгл использует метод свободных ассоциаций, отталкиваясь от них, однако одновременно он учитывает все предыдущие результаты, которые хранит с тех пор, как сам начал участвовать в конкурсе. Его метод, этакая смесь дедукции и чистого вдохновения, оказался удивительно эффективным: Рэгл всегда выигрывает, он этим зарабатывает на жизнь. Конечно, на жизнь весьма скромную, но все-таки. То, что вначале было простым развлечением, способом заработать несколько долларов, отгадывая загадки, в итоге превратилось в ежедневный труд. Игра стала для Рэгла ярмом. Но окружающие не понимали этого: они верили, что ему достаточно сесть за стол, наугад выбрать клеточку, послать ответ, а затем получить чек. Рэгла считали лодырем, бесстыдно пользующимся незаслуженным даром, чтобы жить припеваючи, тогда как честные люди ежедневно ходят на работу в контору. Никто не представлял себе тех усилий, того нервного напряжения, которых ему стоило это запоздалое подростковое увлечение, и, будучи совершенно довольным своей независимостью, Рэгл одновременно страдает от зависти к простым людям, к которой примешивается презрение со стороны окружающих. Как часто он думал о том, чтобы сменить образ жизни, бросить этот глупый конкурс и заняться чем-нибудь другим: работать до седьмого пота на буровой вышке, сгребать опавшие листья, царапать цифры в конторе. Любое другое занятие было бы более взрослым, более плодотворным, более реальным, чем эта бессмысленная страсть, к которой он прикован… Но каждое утро приходила газета. И после завтрака, сидя все за тем же столом, Рэгл открывал ее на странице, где печатали очередное задание конкурса, и колесо его жизни вновь совершало оборот. Как он недавно прочел в Ведах, с кармой спорить бесполезно.
Одно его утешало: Рэгл знал, что в нем нуждаются. В самом деле, его постоянные выигрыши, его имидж безусловного победителя имели важное значение для рекламы конкурса. Организаторы явно хотели, чтобы он выиграл. Чтобы увеличить его шансы, они тайком предоставляли ему несколько чистых бланков для ответа.
Однажды Рэгл отважился спросить у организатора конкурса, имеют ли какое-либо значение загадки, предлагаемые его проницательности, решение которых он находит чисто интуитивно.
— В буквальном смысле, нет, — ответил тот.
— Я знаю, но мне хотелось бы понять, имеют ли они действительно какой-то смысл или служат лишь для того, чтобы убедить нас, что кто-то наверху знает ответ.
— Я не очень хорошо вас понимаю.
— Видите ли, у меня есть теория. Не очень серьезная, но она мне нравится: возможно, точного ответа вообще не существует.
— Но в таком случае, что служило бы критерием нашего выбора, как бы мы решали, какой ответ правильный, а какой — нет?
— Возможно, вы выбираете победителя задним числом. Потому что его ответ кажется вам более эстетичным или просто потому, что он мой, похоже, победителем конкурса, по тем или иным причинам, должен быть я.
— Осторожно, господин Рэгл, вы пытаетесь перенести свой метод работы на нас.
Тогда-то и происходит загадочный случай с ламповым шнуром, который укрепляет Рэгла в мысли, хотя пока и смутной, что что-то не так. Затем дети, играя на пустыре, откопали старый ежедневник, записи которого не соответствовали ничему известному. Номера телефонов, по которым Рэгл звонит, не отвечают. Его начинают обуревать странные впечатления, какое-то дежа вю. Он заметил, что все узнают его на улице. Возможно, они видели его фотографию в местной газете, как постоянного победителя конкурса, и все же… Позже, чиня старый радиоприемник, Рэгл поймал сообщения, которые, казалось, исходили из самолетов, беспрерывно летавших над местностью, где он жил. Однако никто в городе не знал о столь оживленном воздушном движении или, по крайней мере, не говорил ни слова. «Может быть, — думал Рэгл, — я единственный, кто об этом не знает. Может быть, я служу мишенью для чего-то, что замышляется без моего ведома? Но нет, надо успокоиться, а то я вот-вот воображу себя центром некоего заговора. Решу, что вселенная вертится вокруг меня, с одной лишь целью — обмануть меня. Я становлюсь параноиком…» И едва только он успел это подумать, как вдруг услышал радиосообщение, посвященное ему: «Да, он слышит все сквозь потрескивание, да, это Рэгл Гамм, ты как раз пролетаешь над ним. Нет, он ни о чем не догадывается…»
В рассказах, которые Дик уже писал на похожие сюжеты, герои обычно раскрывали секреты, касавшиеся, ни много ни мало, устройства мира, и выбивались из сил, объясняя это своим близким и не надеясь, что им поверят. На этот раз фантаст решил использовать другой, более волнующий драматический прием. Не он один знает правду, но все участвуют в заговоре, о котором он сам и понятия не имеет. Герой здесь выбивается из сил не меньше, чтобы объяснить, что он все понял, но встречает со стороны окружающих такую же недоверчивую реакцию. С той лишь разницей, что на этот раз данная реакция является частью заговора и что сограждане, следя за развитием подозрений Рэгла Гамма, говорят себе: «Ай-ай-ай, он начинает понимать».
Желая провести собственное расследование, Рэгл, сопровождаемый, сам того не зная, отрядами шпионов, пытается покинуть город, что оказывается абсолютно невозможным, хотя и не имеет никакого логического объяснения. Ну все равно как если бы за пределами предместий ничего не было, и требовалось, во что бы то ни стало, помешать главному герою узнать об этом. Заводит ли он машину — глохнет мотор. Пытается ли сесть на автобус — автовокзал ночью исчезает. Рэгл теряет голову. «Если я включу радио, — думает он, — я услышу, как они говорят обо мне. Потому что я — центр этого мира. Эти безумцы стараются создать вокруг меня искусственный мир, чтобы я оставался спокойным. Дома, машины, целый город. Все имеет вид настоящего, но все абсолютно искусственное. Одного не понимаю — почему именно я? И зачем этот конкурс? Он явно играет жизненно важную роль в их планах, вся эта иллюзия выстроена вокруг него. Когда я якобы вычисляю, где появится в следующий раз „зеленый человечек“, я в реальности точно делаю что-то другое. Они-то это знают, а я нет».
Я не собираюсь пересказывать роман целиком, раскрою только его финал. Благодаря хитрости, Рэгл пробивается сквозь иллюзии и добирается до реальности. Сначала он находит номер «Тайм мэгэзин» за 1997 год, обложку которого украшает его фотография с подписью «Рэгл Гамм, человек года». Вот что он узнал: в конце XX века свирепствует война между землянами и взбунтовавшимися колонистами с Луны, которые без конца бомбят нашу планету. К счастью, обороной Земли руководит стратегический гений, Рэгл Гамм, который с помощью незаурядного интеллекта, опыта, а в особенности проницательности и интуиции почти всегда предвидит, куда упадут следующие ракеты, так что жителей городов, служащих мишенью злодеев, можно эвакуировать заблаговременно. Но однажды непосильный груз ответственности приводит к нервно-психическому срыву. Чтобы избежать ответственности, Рэгл укрылся в оазисе спокойствия, в беззаботных пятидесятых своего раннего детства. Инфантилизм личности провозгласили расстроенные психиатры, нет никакого средства, чтобы вывести его из этого состояния. Тогда земные власти задумали приспособить к этому психозу окружение Рэгла, реконструировать вокруг него мир, в котором он будет чувствовать себя в безопасности. В некоей сверхсекретной военной зоне построили маленький городок, по образу довоенных американских городов, населили его жителями-актерами и придумали Рэглу хобби, позволяющее несмотря ни на что использовать и совершенствовать его талант. Полагая, что решает детские головоломки из газеты, определяет место следующего появления «зеленого человечка», он на самом деле находил координаты очередных точек попадания вражеских ракет и таким образом продолжал защищать население Земли. Вплоть до того дня, когда у Рэгла возникло сомнение, и его память, благодаря незначительным происшествиям, начала постепенно восстанавливаться. Ламповый шнур был спусковым механизмом.
Поскольку в этой главе я завершаю рассказ о годах обучения моего героя, я предлагаю читателям сделать паузу и для разнообразия поиграть. Вот три упражнения, которые помогут вам угадать, где на следующих страницах книги появится «зеленый человечек».
1) В возрасте тридцати лет, после того как он написал роман «Распалась связь времен», содержание которого я кратко изложил выше, Филип К. Дик полагал, что является малоимущим пролетарским писателем, вынужденным зарабатывать себе на жизнь и обреченным вести скромное существование, придумывая одну за другой истории для подростков. Это совершенно не оставляет ему времени на написание серьезного литературного произведения, с помощью которого он рассчитывал «запечатлеть свой след на песках времени». Однако Дик предчувствовал, что подробная оценка лишь отчасти дает представление о реальности; что в реальности, причем сам того не зная, он делал что-то другое. Но что именно?
2) Вы держите в руках номер «Тайм мэгэзин», обложка которого украшена портретом Филипа К. Дика и надписью «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Составьте приблизительный текст статьи.
3) Вариант 2, но с некоторым уточнением: журнал за 1993 год, деталь, указывающая, что он выходит не в том мире, где вы читаете эту книгу, а в другом, возможно, параллельном. О чем будет говориться в статье?
Глава пятая КРЫСА В ДОМЕ
Беркли, который в детские и юношеские годы Дика был маленьким тихим городком, становился все более шумным и беспокойным. Напротив их дома открылась школа Монтессори, и писатель жаловался на шум и громкие крики детей во время перемен. Он также возмущался каждый раз, когда они пересекали залив, ущербом, нанесенным старому Сан-Франциско автострадой Эмбаркадеро, строительство которой тогда сопровождалось с оглушающим грохотом отбойных молотков и бетономешалок. Они с Клео начали мечтать о жизни в деревне. Они представляли себя членами одной из сельских общин, где все друг друга знают, здороваются, помогают друг другу, где жизнь течет плавно и неизменно, где люди ловят форель и празднуют Хэллоуин. Супруги купили домик в Пойнт Рэйс, округ Мэрин. Расположенное в шестидесяти километрах к северу от моста Золотые Ворота, это маленькое тихое местечко, где было лишь две главные улицы и несколько магазинов, по выходным привлекало посетителей великолепного прибрежного парка, известного благодаря вычурным изрезам береговых скал, на которых находили убежище более трехсот видов морских птиц, однако в будние дни там было абсолютно тихо.
И если в университетском городке эксцентричность — частое явление, то здесь образ жизни новых соседей возбудил любопытство местных жителей. Три раза в неделю Клео на машине ездила в Беркли, где она работала секретаршей. А Филип, писавший в основном по ночам, казался окружающим бездельником. Все видели, как бесцельно бродит вокруг дома этот малообщительный тип с внешностью битника, но никто не знал, был ли он робок и застенчив или же в глубине души подсмеивался над миром. Когда прошел слух, что Дик пишет научную фантастику, он получил приглашение от местного общества любителей НЛО. Из любезности и любопытства он пришел на одно из собраний. Там, поедая вкусные домашние пирожки, он познакомился с группой по виду совершенно нормальных людей: продавец из скобяной лавки, владелец молочной фермы, супруга директора кафе и жена техника с местного радиоузла… Самым колоритным из них был некий художник-пейзажист, давно осевший в этой местности. Он носил галстук-шнурок, украшенный каким-то, видимо, эзотерическим узором. Однако эти вполне обычные с виду люди твердо верили в сверхъестественные вещи. Они утверждали, что Христос якобы прилетел с другой планеты, что они установили контакт с ее обитателями, более развитыми существами, чем мы, контролирующими развитие Земли и ведущими ее к духовному спасению через полное физическое уничтожение. Им даже была известна дата конца света: 23 апреля 1959 года. Осталось три месяца, для того чтобы к нему приготовиться.
Когда Дик рассказал Клео о том, где он побывал вечером, оба долго смеялись, искренне удивляясь, каким мистическим образом подобные верования могли зародиться в головах людей. Впоследствии Филип всячески избегал членов клуба. Чтобы разубедить их, Дику пришлось признаться в своем скептицизме, что было для него очень тяжело, так как он не любил возражать.
— Именно потому, — пытался объяснить он, — что я пишу об инопланетянах, я не могу сам верить в них. Автор научной фантастики не имеет права верить в то, что он рассказывает. Вообразите, какая тогда возникнет путаница.
Это заявление было встречено сначала с недоверием, а затем с враждебностью.
— Хорошо посмеется тот, — сказали ему в ответ, — кто посмеется 23 апреля.
Несколько дней спустя после переезда супругов им нанесла визит новая соседка по имени Анна Рубенстайн. Поскольку калитка в палисадник была закрыта, она без колебаний, даже не извинившись за свое бесцеремонное вторжение, перемахнула через нее. Нервная блондинка, то и дело снимающая и надевающая свои черные очки, она отличалась резкими и одновременно обольстительными манерами, которые порядком смутили молодую пару. При рукопожатии казалось, что Анна приглашает вас померяться силой, а самая безобидная фраза производила впечатление таившей в себе сексуальный намек. Хотя новая соседка была ненамного старше их, Фил и Клео казались себе нескладными подростками в присутствии этой женщины, которая в тридцать один год уже похоронила мужа и одна воспитывала трех дочерей.
Соседка скорее затащила силой, нежели пригласила их выпить по стаканчику. Анна жила на отшибе, вдали от деревни, в большом современном доме, с патио, круглым камином посреди гостиной и громкоговорителями системы хай-фай, встроенными в безупречно белые стены. Рядом на лугу паслась лошадь. В доме было три ванных комнаты, кухня напоминала кабину пилотов на космическом корабле. Фотографии таких интерьеров обычно украшают страницы журналов, а средний уроженец Беркли спешит презирать богатеев, чтобы не завидовать. Филу, который вполне искренне презирал комфорт и мещанство и находил, как и Клео, весьма романтичным и демократичным то, что у них в доме каждый раз, когда они включают тостер, вылетают пробки, внезапно показалась жалкой богемная обстановка, в которой он жил. Разумеется, не стоит полагать, будто его очаровали материальные удобства, но они составляли неотъемлемую часть атмосферы, окружавшей Анну. Пока хозяйка ходила по комнате, одетая в блузку и шелковые шорты, Филип не отрывал от нее глаз, очарованный гибкостью и грациозностью этой женщины, ее мускулистыми загорелыми ногами, энергией, которая исходила из нее. Анна обладала изяществом танцовщицы без какой-либо претенциозности; она ругалась и произносила грубые слова, смотрела на него в упор своими зелеными глазами так, как будто хотела бросить вызов; затем, внезапно ослабив натиск, она удалялась, саркастически шлепая пляжными тапками.
На следующий день Фил отправился навестить Анну один, тайком от Клео. Она повела своего нового знакомого на скалы, чтобы показать ему пляж, о котором не знал никто, кроме нее, и который являлся, если верить ей, самой западной точкой США. Нужно было спуститься вниз по канату, что сперва привело Фила в ужас, но она не отстала от него до тех пор, пока он не последовал за ней. Никогда ранее Филип не встречал столь проворную и столь решительную особу. Добравшись до кромки воды, с неистовством шумевшей, они искали китовые кости, а затем сели возле скалы и начали говорить обо всем на свете. От Юнга, к которому Анна прониклась такой страстью, что буквально им бредила, они перешли к клубу любителей НЛО.
— Скопище сумасшедших, — заявила Анна с презрением. — Воображают себя игрушками в руках высших существ, тогда как в действительности это их собственное «подсознательное» потеряло управление.
— Однако обратите внимание, — лукаво заметил Фил, — то же самое говорили про всех пророков и про всех святых: современники всегда считали их сумасшедшими.
— И они были правы. А вы сами верите в пророков и святых?
— Ну, вообще-то не особенно. В любом случае, поглядим, что произойдет 23 апреля. Вы знаете, что любители НЛО объявили этот день концом света?
Анна пристально посмотрела на собеседника и сказала с презрительным видом, который она сохраняла даже в самые напряженные моменты, что до 23 апреля может многое случиться. Фил почувствовал в ее словах намек, понять который он не осмелился. А Анна тут же, без перехода, начала рассказывать ему о своем муже, сыне богатых родителей, чокнутом поэте, который издавал журнал под названием «Невротика»; он умер в прошлом году в психиатрической больнице из-за аллергической реакции на транквилизаторы, которые на нем испытывали. Фил смутился, не зная, как долго следует хранить молчание, услышав подобное признание, но Анна пронзительно рассмеялась и заявила, чтобы он не принимал столь важный вид, оно того не стоит. Чтобы не остаться в долгу, Фил рассказал ей о смерти своей сестры-близняшки, а затем процитировал один из своих любимых рассказов, «Разговор с интервьюером» Марка Твена.
Журналист задал писателю вопрос о его детстве, и Марк Твен рассказал о своем умершем брате-близнеце. Младенцами они были настолько похожи, что им повязывали на запястья ленточки разных цветов, чтобы отличить друг от друга. Однажды детишек оставили без присмотра в ванночке, и один из братьев утонул, причем ленточки развязались. «Таким образом, — заключил Марк Твен, — так и осталось неизвестным, кто из нас умер, Билл или я».
— Это история про вас, — заявила Анна, внезапно став серьезной.
И Филип признал, что она абсолютно права.
Они начали проводить вместе дни напролет. Анна смягчалась, Филип смелел. Еще не став любовниками, они беседовали уже так доверительно и непринужденно, как будто ими были, изумляясь тому, что одна и та же мысль приходит к ним обоим одновременно. Через две недели они надумали поцеловаться. Когда оба оказались на кровати, их тела, казалось, продолжали на языке жестов их разговор, своенравный и естественный, непредвиденный и неизбежный. Каждый признавался, что думал только об этом с момента знакомства. Поэтому оба с большим удовольствием возвращались к этим двум неделям, проживая их снова шаг за шагом, рассказывая, как тогдашние события воспринимались ими в тот момент.
— Ты казался мне таким агрессивным…
— Это потому что я очень хотел тебя…
Ни одной минуты они не думали о том, чтобы хранить свою связь в тайне, что, впрочем, было бы сложно осуществить в таком местечке, как Пойнт Рэйс. Речь шла о любви с первого взгляда, которая требовала отказаться от обычной жизни и делала все прежние обязательства недействительными. Анна открылась своему психоаналитику, затем дочерям, Фил во всем признался жене. Клео огорчилась, но восприняла это известие спокойно и достойно. Она удалилась и безучастно дала согласие на развод, что Фил, полностью погруженный в свои любовные переживания, посчитал естественным. Впоследствии он узнал на собственном опыте, что для американской супруги это не является само собой разумеющимся. Клео оставила мужу дом, поскольку он собирался жить в Пойнт Рэйс, взяла машину, так как она уезжала, и не потребовала алиментов, ибо они оба зарабатывали одинаково мало. Обняв Фила на прощание, она вернулась в Беркли, по дороге насвистывая, чтобы подбодрить себя, марш Интернациональных бригад.
Это была по-настоящему сильная страсть. Когда они расстались на несколько дней, потому что Анне надо было уладить дела с богатыми родственниками покойного мужа, Фил писал ей письма наподобие этого: «Существует непосредственная связь между тем, что я испытываю, разговаривая с тобой по телефону, и тем, что испытывает верующий, когда, в результате воздержания, одиночества и размышлений он, в конце концов, слышит голос Бога. Не считая того, что ты точно существуешь, а вот относительно существования Бога у меня есть сомнения».
Они поженились в апреле, за две недели до конца света, который так и не наступил (тем не менее, когда вечером 23 апреля часы пробили полночь, они оба с облегчением вздохнули). Филип перебрался в большой светлый дом вместе со своим богатством — приемником, коллекциями пластинок, книг, журналов — и начал вести новую для него семейную жизнь. Вначале он демонстрировал трогательное усердие, играя с падчерицами; читая младшей «Винни-Пуха», средней — «Камо грядеши?», а старшей — страшные истории Лавкрафта; участвуя в домашних делах; учась выполнять несложную работу по дому; готовя по утрам завтрак для всех своих дам, а по вечерам — коктейли, которые супруги традиционно пили вместе перед ужином: сухой мартини для нее, калифорнийский «Зинфандель» для него. Филип перестал писать по ночам и перешел на режим работы, принятый в конторе: с девяти до шести с часовым перерывом на обед, который он проводил в беседах с Анной.
Они оба весьма ценили эти полуденные и вечерние беседы. Общаясь, супруги узнавали друг друга и считали искусство разговора некоей формой любовного состязания. В этой области Анна была расположена признать чье-то превосходство не больше, чем в какой-либо другой. У нее имелся диплом психолога, она рассуждала о Фрейде и Юнге так, словно лично их знала, и, естественно, изначально считала свое мнение по какому бы то ни было поводу единственно верным. Но она была сбита с толку и вначале даже повержена манерой Дика, своеобразие которой, как Анна льстила себе, она почувствовала с первого же дня. Подобно тому, как существуют совершенно особенные любовники, Филип был неподражаемым собеседником, которому, для того чтобы раскрыться, не хватало только понимающего партнера. В отличие от Клео, которая была слишком хорошей подругой, слишком искренней и не прибегающей ни к каким уловкам, чтобы сделать свою речь более эротичной, Анна умела многое.
Это было не только вопросом культуры, в конце концов, всегда можно найти человека, способного с одинаковой непринужденностью рассказать о Шопенгауэре, об аборигенах Австралии или о Нюрнбергском процессе. Нет, тут было нечто совсем другое, некая манера одновременно пылко и вероломно подкапывать почву, защищая с одинаковым рвением совершенно противоположные мнения. У собеседника Дика, вне зависимости от того, каким было мнение, которое он защищал вначале, вдруг возникало впечатление, что это Филип его к нему подвел. В споре с Филом ничто никогда не являлось постоянным, окончательным, усвоенным. Самый солидный довод, который собеседник держал про запас, чтобы спутать его, вдруг волшебным образом превращался в свою противоположность и становился аргументом в пользу Дика. Как другие гипнотизируют змей, он гипнотизировал идеи, заставляя их свидетельствовать в пользу того, что он хотел, а добившись желаемого, требовал, чтобы те же самые идеи утверждали обратное, и они снова его слушались. Разговор с Диком походил не на обмен мнениями, а на поездку на американских горках, где собеседник играл роль пассажира, а он — вагона, рельсов и законов физики. А еще он очень любил игру в Крысу.
Филип приучил девочек к этой разновидности Монополии, чтобы сделать вечные покупки недвижимости, от которых они были без ума, менее скучными. Суть этой игры состояла в том, что Банкир, вместо того чтобы довольствоваться ролью арбитра, обладал, подобно Крысе, неограниченной властью менять правила игры. Когда захочет, как захочет, и при этом никто не имеет права потребовать у него объяснить причину этих изменений, а в дальнейшем они его ни к чему не обязывают. Этакий вечный карт-бланш, диктатура в чистом виде, отрицание самой идеи законности. Для того чтобы как следует поразвлечься, в интересах игроков было выбрать Крысой самого порочного и самого изобретательного из них («Фил! Фил!» — радостно кричали девочки). Крыса, достойная этого имени, должна умело распределять мучения, которым она подвергает игроков; позволить им думать, что за ее произвольными решениями стоит некий план, и вырвать их из обычного способа играть в Монополию, используя все средства — от горьких разочарований до обманчивых поощрений, чтобы ввергнуть их в полный хаос; но при этом интерес и напряженность игры не должны ослабевать ни на минуту. Дик был прирожденной Крысой, которая в то время, о котором идет речь, начала раскрываться в полной мере. Недовольный возражениями, он, случалось, в ходе беседы беспардонно отпирался от своих слов, которые все остальные абсолютно точно слышали от него несколькими минутами ранее. Если Филипа пытались пристыдить, он огорченно и смущенно смотрел на собеседника, словно бы спрашивая себя, уж не имеет ли он дело с глухим, извращенцем или сумасшедшим. Анна в таких случаях замолкала, изумленно раскрыв рот. И если впоследствии подобное поведение мужа приводило ее в отчаяние, то поначалу внушало ей нечто вроде уважения.
— Какое счастье, — восклицала она, — что ты не занялся политикой! Ты бы утер нос самому доктору Геббельсу!
Анна полагала, что ее новый муж — гений, хотя он сам этого и не осознавал. Филип считал себя бедолагой и немного сумасшедшим, а свою жену — женщиной умной и чувствительной, которой удалось найти необработанный алмаз, и уж теперь-то она сумеет отшлифовать его и выставить на удивление публики. Анна была убеждена, что с такими особыми дарованиями, о которых свидетельствовали его суждения, когда он чувствовал себя уверенно, Фил станет знаменитым писателем, но для этого нужно, чтобы он работал, причем работал серьезно. Прежде всего, ему следует начать писать настоящие книги, а не разные глупости для подростков, изначально лишающие его всякого шанса однажды получить признание. Эту проблему супруги обсуждали постоянно. Фил был в принципе согласен: все, чего он хотел от жизни, это стать знаменитым писателем. Однако он уже пробовал писать серьезные книги, но безуспешно, и опытным путем узнал, что только глупости позволят ему зарабатывать на жизнь, пусть и не очень обеспеченную. Анна отмела его возражение: раньше, это все было раньше, теперь она все возьмет в свои руки. А финансовая сторона пусть его не беспокоит. Она сама с девочками прекрасно жила на пенсию, выплачиваемую семьей ее покойного мужа. И потом, Фил все-таки может надеяться получить немного денег за свою книгу, которая вскоре выйдет в свет…
Фил тяжело вздохнул и покачал головой: за роман «Порвалась связь времен», сигнальный экземпляр которого он перечитывал в момент их встречи, издатели заплатили меньший гонорар, чем за другие его книги, так как в нем было нечто от серьезной литературы.
— Аванс я уже получил, — объяснил он жене, — а на проценты от продаж надежда слабая.
— Ну что ж, тем хуже, — сказала Анна нетерпеливо, — тогда тебе остается только продать эту грязную нору, где вы раньше жили с Клео, а причитающуюся ей часть выслать позже, когда ты разбогатеешь.
Короче, они сделали подсчеты, и вышло, что у Фила есть два года на то, чтобы, полностью посвятив себя этому занятию, написать серьезный роман, который, во-первых, будет опубликован, а во-вторых, принесет своему создателю большой успех.
Получив от жены директиву, которая расхолодила бы не только его одного, Филип мужественно принялся за работу и в течение двух лет написал не один роман, а целых четыре. Рукопись первого, «Исповедь недоумка» («Confession of a Crap Artist»), он дал почитать Анне несколько месяцев спустя после их свадьбы. Она ждала от него ребенка и, вероятно, была склонна считать эту книгу другим плодом их идиллического медового месяца. Так оно и было, однако Анна никак не ожидала такой книги.
Анна попыталась поверить, когда мужчина, чьей музой она решила стать, вынужденный объясняться, сказал сквозь зубы, что эта чрезмерно тоскливая картина супружеского ада была вовсе не автобиографией, а чистой выдумкой. Но Фил не приложил ни малейшего усилия, чтобы придать своему ответу хотя бы крупицу правдоподобия, он даже не попытался что-то поменять. Вероятно, он был на это просто не способен. Научная фантастика мобилизовала все его изобретательские способности, и, когда Дик начал писать настоящий роман, он буквально, подобно курице, перед которой прочертили линию мелом, следовал советам своего первого издателя, «тетушки Фло». Ограничьтесь тем, что вы знаете; если вы живете в Пойнт Рэйс, описывайте Пойнт Рэйс и его обитателей; если вы, имея любящую и прямолинейную жену, совершили ошибку, влюбившись в деспотичную мерзавку, изложите историю этой ошибки. Не пропускайте ни одной детали. Расскажите, как вы попали в сети к этой сирене: как позволили очаровать себя сладким пением, заманить в красивый белый дом, ввести в заблуждение некоей иллюзией близости, которая толкнула вас на то, чтобы доверить ей ваши самые потаенные мысли, — и как вы всю жизнь потом будете кусать локти из-за того, что дали ей оружие против вас. Не щадите и себя, расскажите о своем ежедневном унижении, поскольку у вашей новой супруги есть деньги, о том, что, даже постоянно работая на износ, вы все равно будете не в состоянии заработать столько, чтобы ее семья могла жить согласно буржуазным стандартам, к которым они привыкли. Расскажите о своей горечи неудачника и невыразимой злобе, о своем желании убить супругу всякий раз, когда она посылает вас в деревню купить ей тампоны «Тампакс»…
Анна не могла понять мужа. К чему такое отчаяние? Откуда взялось это неистовое женоненавистничество? Эта атмосфера тихого кошмара, где каждый жест затягивает еще глубже? Тем не менее Фил кажется счастливым. Он разговаривает с ней, с исступлением занимается любовью. Как внимательный отец возится с девочками. Известие о беременности наполнило его радостью. Филипа явно больше не беспокоила агорафобия, которая, по его словам, отравила ему всю юность. Когда к ним приходят в гости друзья, он с удовольствием играет роль хозяина дома; он водит их на луг, где пасутся их овечки, представляя их одну за другой, и, кажется, сердится, если Анна, добродушно посмеиваясь над мужем, рассказывает, какая разыгрывается трагедия, когда приходится забить одну из них. Конечно, случалось, что они спорили, и, поскольку она была не из тех, кто позволит себя обидеть, атмосфера накалялась. Вполне естественно, что Фил беспокоится о своей карьере, о деньгах, о своем социальном статусе, да и перспектива появления четвертого ребенка также его волнует. Конечно, творческие люди неспокойны, но все же он сотни раз говорил жене, что пишет для нее, что, когда его первая серьезная книга будет опубликована, он посвятит ее Анне и их долгим беседам. И вот, пожалуйста, написать такое!
— Послушай, — заявила она, — если тебя так смущает покупка тампонов, мог бы честно мне все объяснить и отказаться!
Но он уклонился от ответа, отговорившись тем, что это просто книга.
— Ах вот как, просто книга? Ты живешь со мной, ты меня целуешь, ты делаешь мне ребенка, — и все это с ангельской улыбкой и с неизменными заверениями в любви, а когда ты остаешься совершенно один, то пишешь, что ненавидишь меня, что ночью во сне ты считаешь меня своим злейшим врагом…
— Именно, — подтвердил Филип. — Книга — это как сон, она не имеет ничего общего с реальностью. Даже Святая Инквизиция считала, что нельзя согрешить во сне. И только дикари, ты знаешь, я читал об этом у Мирсеи Элиад…
— Да ну тебя к черту!
Лора родилась 25 февраля 1960 года. Как только мать и ребенок вернулись из клиники, пришлось госпитализировать отца — из-за «спазмов привратника», так он сам шутливо называл свои физические страдания, сравнивая их с родовыми муками. Наиболее вероятно, что недомогание было результатом принятия различных пилюль, а он поглощал их с некоторых пор все больше и больше: анксиолитики, чтобы преодолеть тревогу, связанную с предстоящим отцовством, амфетамины, чтобы работать больше и лучше. Вернувшись из больницы, Филип с азартом принялся за новый, весьма злобный роман, выведя на сцену две несчастные супружеские пары из Марин-Каунти: человек, который сделал себя сам и которому в реализации его честолюбивых замыслов мешает жена-алкоголичка; и, уверенная в себе дама, вышедшая из богатого круга, которая не упускает ни единого случая, чтобы унизить своего неудачника мужа. Моделью для первой семьи послужили соседи, а для второй…
— Да нет, уверяю тебя, дорогая, — вяло возражал Фил. — У тебя просто какая-то навязчивая идея. Начнем с того, что меня никогда не лишали водительских прав.
В самом деле, в начале книги у неудачника забирают права, что вынуждает жену стать его личным шофером, так как каждое утро ему нужно ехать на работу в Сан-Франциско. Когда жене наскучило терять время в этих бессмысленных поездках, она устроила так, чтобы получить место в рекламном бюро, где муж работал рисовальщиком, и столь явно выживала супруга оттуда, что начальник его в конце концов уволил. В довершение всех унижений неудачник, став безработным, не придумал ничего лучше, чем изнасиловать жену, чтобы, забеременев, та была вынуждена уволиться и тем самым разрушить свою столь блистательно начатую карьеру. Но муж просчитался. «Это ничего не меняет, — торжествующе сказала жена, — я сделаю аборт».
Именно той осенью Анна снова забеременела. Это получилось совершенно случайно и, если смотреть на вещи трезво, абсолютно не вовремя. Боясь физических последствий пятой беременности, увеличения денежных расходов, а также умонастроений мужа, Анна также решила сделать аборт. Фил яростно этому воспротивился, обвиняя жену в том, что у нее чувств не больше, чем у робота. Анна заявила в ответ, что Фил желает этого ребенка не больше, чем она, просто на самом деле он хочет видеть ее толстой, бесформенной, зависимой, чтобы почувствовать наконец свое превосходство. Война продолжалась несколько дней, затем Анна уехала, вскоре вернулась и сказала беззвучным голосом, что все кончено и что нечего больше об этом говорить. Фил заперся в своем кабинете, хлопнув дверью.
Поскольку невозможно датировать с точностью до одного или двух месяцев 1960 года время написания романа «Человек, который имел абсолютно одинаковые зубы» («The Man Whose Teeth were all Exactly Alike»), то трудно установить, идет ли в нем речь о недавних событиях семейной жизни писателя, или же он предвосхищает их. Есть еще и прежний вариант: Анна, прочитав рукопись, решила воплотить в жизнь ее сценарий. Как бы то ни было, некоторое время спустя после аборта она тоже решила поступить на работу, в надежде пополнить бюджет, а особенно — избежать тяжелой семейной атмосферы. Разумеется, речь могла идти только о более или менее творческой работе. Многие хвалили оригинальные вещи, которые она лепила из глины. Обсудив идею с соседкой, она решила открыть магазин дешевых украшений.
Ничто не могло бы сильнее расстроить Фила, который, как и герой его романа, видел в этом начинании сарказм, подчеркивающий его собственную несостоятельность. По поводу того, что произошло дальше, мнения расходятся. Фил утверждает, что жена, посчитав, что шутка затянулась, решила отвлечь супруга от его неприбыльного призвания и превратить захудалого писателя в успешного бизнесмена. Анна же, напротив, заявляет, что Филип сам захотел сменить занятие и научиться изготовлять бижутерию, чтобы убежать от творческого бессилия, она же, со своей стороны, всячески боролась за то, чтобы муж вернулся к печатной машинке. Одно можно утверждать с уверенностью: когда период первоначального недовольства закончился, Филип приобрел привычку проводить время в мастерской. Он перебирал формы, клейма, пробовал применять их на практике. Даже второстепенные работы, которые ему доверяли, вроде полировки, нравились ему, ибо Филип с детства испытывал склонность к ремеслу. Взвешивая на руке украшения, вынутые из печи, он с грустью сравнивал их элегантную компактность со структурой своих романов, которые казались ему заурядными, ужасно корявыми и расплывчатыми. То ли дело произвести что-то, что имеет свой точный вес и отлито за один прием. Компаньонка Анны показала Филу книги по традиционному японскому искусству, из которых она черпала вдохновение. Там речь шла о некоей точке, где в полном согласии с дао уравновешиваются противоположности; Дик мечтал о книге, обладающей такой гармонией, но не чувствовал в себе достаточно сил не только для того, чтобы написать ее, но даже для того, чтобы хорошенько обдумать замысел. Ему было плохо. И чем хуже ему становилось, тем невыносимее он вел себя дома. Однажды Анна предложила мужу снять хибару, принадлежащую шерифу и находившуюся неподалеку, в десяти минутах ходьбы от них. Там все равно никто не жил, и домик можно будет снять за бесценок. Филип сможет там спокойно работать. Фил засомневался, зная, что если согласится, то пути назад уже не будет. Никакого способа лукавить. Если уж он там не напишет книгу, которая будет действительно чего-то стоить, то он вообще не напишет больше ничего. Эта хибара представлялась ему последним этапом, порогом перед пустотой. Он должен будет выйти оттуда победителем или пусть его лучше вынесут мертвым.
Филип бросил монеты и, едва дыша от волнения, построил гексаграмму. Девять, восемь, семь, семь, шесть, восемь. Ему выпали избыток и изобилие.
«Свет внутри, движение снаружи создают богатство и изобилие. Гексаграмма относится к эпохе высокой цивилизации. Однако, поскольку речь идет о вершине, из этого логически следует, что подобное необыкновенное состояние изобилия не сможет долго сохраняться».
И Дик согласился.
Глава шестая ЧЖУН-ФУ, ВНУТРЕННЯЯ ПРАВДА
Еще в конце XVII века иезуиты, побывавшие в Пекине, привезли в Европу трактат о гадании, который считался самой древней книгой Китая и ключом к его мудрости. Согласно этому трактату, который называется «Ицзин» («Книга перемен»), в основе мироздания лежит действие двух дополняющих друг друга сил, инь и ян, которые можно обозначить по желанию как женское и мужское начало, тень и свет, покой и движение, землю и небо, холод и жару, и так далее. Способ гадания прост: вы шесть раз подряд подкидываете монетку и, в зависимости от того, что выпадает чаще, орел или решка, составляете гексаграмму, отражающую точное соотношение инь и ян в мире в данный конкретный момент. Таким образом, вы получаете подсказку, как следует себя вести и какие предпринимать действия. Бесконечное разнообразие жизни и множество ситуаций, которые постоянно изменяют ее течение, отражают шестьдесят четыре гексаграммы, ни больше ни меньше. «Ицзин» недаром называется «Книгой перемен»: она описывает не застывшие состояния, а тенденции, которые их оживляют. Китайцы уверены, что каждое мгновение нашей жизни — это переход из одного состояния в другое: апогей предвещает закат, а поражение — будущую победу. Тому, кто на ощупь идет в темноте, «Ицзин» сообщает, что свет вернется, а тому, кто ликует под полуденным солнцем, — что сумерки уже надвигаются; человека мудрого учит тонкому искусству позволить ходу мироздания нести себя по жизни, как течение несет пустую лодку.
За двести лет появилось немало различных переводов этого весьма туманного текста, приписываемых Конфуцию и другим авторитетам, которые предлагают свое толкование каждой из гексаграмм. Но к ним проявлял интерес лишь весьма ограниченный круг специалистов по Востоку, и так продолжалось вплоть до 1924 года, когда Ричард Вильгельм, немецкий пастор, влюбленный в Китай, предложил новый перевод, такой толковый и понятный, что древним трактатом заинтересовались очень многие. Карл Густав Юнг входил в число горячих поклонников «Ицзин», и именно одна из его учениц, Кэри Ф. Бэйнс, опубликовала в 1951 году в США английский перевод этой книги (перевода на французский язык Этьенна Пьерро пришлось ждать до 1968 года). В пятидесятых годах книга имела большой успех; поначалу лишь в узких кругах знатоков, но в течение двух последующих десятилетий «Ицзин» получил настоящую известность. Композиторы руководствовались этой книгой при написании музыки, физики — чтобы определять поведение элементарных частиц, и даже хиппи, выкурив несколько сигарет с марихуаной, хоп! — шесть раз подряд бросали монетки на восточный ковер, после чего выходили из затруднения с помощью замысловатых советов вроде «Постоянство полезно. Забота о корове приносит богатство» или «Освободи себя от большого пальца ноги. Тогда товарищ приблизится, и ты сможешь довериться ему».
Дик входил, если можно так сказать, в хвост авангарда. Взбудораженный одной статьей Юнга, он открыл для себя эту книгу в 1960 году и уже больше никогда с ней не расставался. Анна также была в это посвящена. Вскоре весь дом жил в соответствии с уклончивыми советами Оракула, то и дело вопрошая древнюю книгу и доверяя ее суду самые обыденные вопросы.
«Ицзин» одновременно является неисчерпаемым источником мудрости и пособием по гаданию. Можно ждать от нее рекомендаций общего характера — принимать жизнь при любых обстоятельствах такой, как она есть, или точных ответов на вполне конкретные вопросы, например: хватит ли мне бензина, чтобы доехать до ближайшей бензоколонки? Первый подход кажется более фундаментальным и осмысленным, во всяком случае, он доставляет меньше разочарований, чем второй. К несчастью для Дика, меньше всего на свете его привлекала мудрость. Все, чему учит даосизм, который основывается на «Ицзин»: необходимость проявлять гибкость, важность терпения и отречения, в общем, всякое знание о жизни, построенной на испытаниях и аскетизме, оставалось для него пустым звуком. В этом отношении Дик был полностью эзотеристом: веря в существование некоей тайны, спрятанной за видимым, полагал, что человеческий интеллект должен завоевать ее с помощью силы, а не жизнь мало-помалу научить нас этому. Он не ждал от мировой культуры, психоанализа или религии, что они воспитают его, но надеялся, что они снабдят его заветным паролем, который позволит убежать из пещеры, где, если верить Платону, нам показывают только тень реального мира.
Когда Дик был еще начинающим писателем, он очень любил рассказ одного из своих собратьев, лукавого Фредрика Брауна, о том, как ученые всего мира совместными усилиями создают гигантский компьютер. Они вводят туда все данные, составляющие человеческие знания, а также программу, способную их соединить. И вот наступает торжественный момент, когда ученые наконец включают машину и, буквально затаив дыхание, набирают на клавиатуре первый вопрос: «Существует ли Бог?» Ответ не заставил себя ждать: «Теперь существует».
Определенным образом «Ицзин» напоминала этот компьютер, а ее набор из шестидесяти четырех гексаграмм — программу, позволяющую познать и объять мир. Со своим обычным педантизмом Дик объяснял Анне, как в этом сочетании сплошных и прерывистых черточек Лейбниц узнал прообраз собственной двоичной системы исчисления, в которой каждое число выражается исключительно при помощи двух цифр 0 и 1. «Книга перемен» буквально завораживала Дика. Для изобретателя крайних вопросов, постоянно ищущего, кому бы их задать, это был настоящий подарок богов.
«Ицзин» посоветовала ему снять хибару шерифа, чтобы написать там книгу, которая действительно чего-то стоит, или сдохнуть. (Эта драматическая альтернатива, без сомнения, ибо в «Ицзин» никоим образом не могла содержаться подобная формулировка; в случае неудачи, она бы просто объяснила, что время еще не пришло, что вы неосторожно поторопились.) Перевезя в новый дом свой скарб, Дик положил на стол рядом с пишущей машинкой два черных тома американского издания «Книги перемен» и три китайские продырявленные монеты, с помощью которых он строил гексаграммы. Затем он сел и начал ждать. Перед тем как задавать вопросы Оракулу, рекомендовалось прогнать все посторонние мысли, но Филип был не в состоянии это сделать. Образы, идеи, часто обдумываемые по нескольку раз, плавали на поверхности его сознания. Он предугадывал, что некоторые из этих обломков найдут свое место в книге, но не следовало торопить события: пусть пока плывут по течению.
В центре страницы было изображено украшение. Брошь или, может быть, кулон: что-то компактное, что умещалось в ладони. Это было не слишком дорогое украшение, но когда вы останавливались, чтобы посмотреть на него, чтобы взвесить его в руке, вы чувствовали, как в вас происходят положительные изменения. Волнение успокаивалось. Больше не было никаких противоречий, а если какие и оставались, то они уже больше не воспринимались трагически. Спокойствие, ясность. Это украшение должно было быть в книге. Его будущий роман должен походить на это украшение.
Но как этого добиться, если речь в романе пойдет о нацизме, к которому вот уже в течение нескольких месяцев устремлялись все мысли Дика? Он прочел массу книг, совсем недавно — книгу Ханны Арендт о процессе над Эйхманом в Иерусалиме. Фил Дик всегда знал, что, когда он однажды напишет что-то серьезное, это будет произведение, связанное с нацизмом. Никто из живущих на Земле во второй половине XX века не может забыть о злодеяниях фашизма, как он сам вынужден жить с мыслью о смерти своей сестры Джейн. Невозможно об этом не думать, неважно, что это уже далеко от нас, это обязательно должно присутствовать в его книге.
Нет, наверное, понятий более полярных, чем дао и нацизм. Однако японцы, которые боготворят дао, были союзниками нацистов. Если бы они одержали победу… Дик позволил себе какое-то время поиграть с этой мыслью. Такого рода книги по альтернативной истории уже писали, он читал одну из них, в ней Юг выиграл гражданскую войну в США. Дик спрашивал себя, каким был бы мир пятнадцать лет спустя после победы стран «Оси». Кто стоял бы во главе Рейха? Все еще Гитлер или один из его наместников? Изменилось бы что-нибудь, если бы место фюрера заняли Борман, Гиммлер, Геринг или, скажем, фон Ширах? Изменило ли бы это что-нибудь для него, жителя Пойнт Рэйс в округе Марин? И что именно?
У Дика было странное впечатление, как будто он представлял себе не гипотетическое будущее, а другое прошлое. Чем больше он об этом размышлял, тем явственнее становились это прошлое и явившееся его результатом настоящее; они могли бы существовать, и в определенном смысле они существовали, при помощи мозга писателя. Но они могли при этом существовать в тысяче различных форм; выбор был огромен. Каждое мгновение миллионы событий случаются или нет; каждое мгновение переменные величины превращаются в заданные, гипотезы становятся реальностью, и именно таким образом каждое мгновение мир предстает в измененном виде. И что бы литератор ни написал, на своем скромном уровне он неизбежно выполняет подобную работу. Поскольку случиться может все, писатель сам должен принять решение о том, что данное событие произойдет скорее, нежели другое.
Филип Дик почувствовал, что настал момент обратиться за советом к «Ицзин», и ему выпала гексаграмма 60: Цзе, ограничение.
«Озеро, полное воды: изображение ограничения. Так же и благородный человек порождает число и меру и ищет то, что является добродетелью и правильным поведением».
Комментарий: «Озеро является ограниченным пространством; вода неисчерпаема. Озеро может вместить в себя только определенное количество бесконечной воды. Таково его свойство. Так же и человек обретает свое значение, только лишь установив пределы».
«Удивительно, — подумал Дик, — как Оракул всегда точен. Критики древнего трактата подчеркивают, что „Книга перемен“ дает исключительно благоразумные советы, достаточно общие, чтобы подойти в любой ситуации: терпение, умеренность, постоянство — и, в определенной степени, это правда. Да, обычно я и без Оракула, прекрасно понимаю, что роман требует определенных рамок, но поскольку он мне это сказал именно сейчас и поскольку я точно обозначил для себя проблему, я внезапно лучше понял необходимость этих рамок. И теперь вижу, что первым делом следует прочертить границы».
Итак, решил Дик, после сокрушительной победы в 1947 году стран «Оси», их руководители поделили мир. Европа, Африка и восток Америки вплоть до Скалистых гор отошли Рейху. Канцлер Борман, активно продолжая там политику своего предшественника, превратил ощутимый процент населения этих территорий в куски мыла, а Африканский континент в… неизвестно во что, и лучше об этом не думать. На Азию, Тихоокеанское побережье и запад Америки Япония надела более человечное ярмо. Никаких концентрационных лагерей, меньше полицейского террора. Американцы в совершенстве усвоили социальный кодекс завоевателей; как и японцы, они ничего теперь так не боялись, как нарушить этикет и потерять лицо. Они не принимали ни одного решения, предварительно не посоветовавшись с «Ицзин». Теперь калифорнийцы ежеминутно бросают монеты и, зачарованные, наблюдают за образованием гексаграмм, которые, хотя и создаются произвольно, уходят своими корнями в основу мироздания. Чередование сплошных и прерывистых черточек дает каждому ключ, помогающий понять истинное положение дел, ключ уникальный и вместе с тем универсальный, ведь предназначенное конкретному человеку место находится в соотношении с местом каждого живущего или жившего на планете в гармонии со всем миром.
Прежде чем художественно изобразить эту взаимозависимость, Филип Дик решил увеличить число главных действующих лиц, а также разнообразить точки зрения. Вначале это были просто имена: Фрэнк и Джулиана Фринк, Нобусуке Тагоми, Роберт Чилдэн, супруги Сакура… Но стоило спросить про них у «Ицзин», и призраки ожили. При том что эти персонажи вовсе не обязательно были знакомы друг с другом, между ними возникали связи. Например, господин Тагоми, высокопоставленный японский чиновник в Калифорнии, искал ценный подарок для гостя из Рейха. С этой целью он обратился к Роберту Чилдэну, коренному американцу, владельцу антикварного магазинчика: довоенные комиксы, изображения Микки Мауса, пластинки Глена Миллера, кольт времен Гражданской войны, — все те безделушки, от которых была без ума элита победителей и подлинность которых Чилдэн гарантировал. И напрасно: по большей части это были подделки, поставляемые подпольной мастерской, где работал Фрэнк Фринк. Уволенный в результате скандала, он решил попытать счастья в ювелирном магазине. Он был женат на некой Джулиане, которая в самом начале рассказа подавала посетителям гамбургеры в кафетерии в Колорадо. Дик еще не знал точно, что с ней дальше делать, но не волновался об этом. Джулиана нашла средство проложить себе дорогу с периферии в самое сердце книги, и Дик был уверен, что она станет идеальной героиней, а в ожидании этого ему достаточно было просто заставить ее шевелиться, ходить по улицам, принимать душ. «Ожидание на лугу, утверждала гексаграмма 5: вам выгодно, чтобы это состояние продлилось подольше. Никакого осуждения». Без лишнего жеманства писатель признавался самому себе, что он придумал Джулиану для того, чтобы в нее влюбиться.
Дик лихорадочно работал по девять-десять часов в день. Ему казалось, что книга уже где-то существует, и его работа заключается лишь в том, чтобы, следуя указаниям Оракула, вывести ее на свет божий. Когда кто-нибудь из персонажей получал гексаграмму, побуждающую к выбору, противоположному тем неясным планам, которые он построил сам, писатель боролся с искушением отложить все до тех пор, пока вердикт не станет более подходящим. Но он не вмешивался в сюжет, лишь следовал за ходом событий, и история развивалась сама по себе. Вечером ему было все труднее и труднее от нее оторваться. Дик мысленно следовал по грунтовой дороге, которая вела от его хибары меж изгородей к большому белому дому. Изнутри доносились голоса, музыка, звон столовых приборов. Он долго вытирал перед дверью ноги, обутые в грязные армейские ботинки. Снова встречал с некоторым недоверием эту женщину, которой он обещал посвятить свою первую серьезную книгу, но которая не находила в ней своего места, как будто была для романа не достаточно реальным персонажем. Джулиана была брюнеткой, с волосами цвета воронова крыла. Угораздило же его жениться на блондинке, да еще такой яркой! Анна постоянно бранилась и ругалась. Говорят, русские паломники повторяют без конца имя Иисуса, желая сделать его частью своего дыхания. То же самое можно было сказать про Анну, с той лишь разницей, что у нее это были слова «дерьмо» и «черт»; у Дика складывалось впечатление, что из ее рта выскакивают мерзкие жабы. Он присмирел, покорно помогал накрывать на стол, играл со старшими девочками и с малышкой. Потом шел в ванну, чтобы принять различные пилюли, необходимые для поддержания душевного равновесия. Иногда поздно ночью, когда он был уверен, что там никого нет, Дик отправлялся в магазинчик бижутерии. В одиночестве садился перед станком в мастерской. Его пальцы медленно перебирали щетки, пинцеты, ножницы по металлу, машинки для полировки, — все эти миниатюрные и точные инструменты, которыми он так бы хотел уметь пользоваться. Но Дик не испытывал грусти — в этом отношении он все-таки реализовал себя: ведь в книге Фрэнк Фринк также открыл свою мастерскую. Только он производил не прелестные безделушки, вроде тех, что Фил видел сейчас перед собой. Предметы, выходившие из печи Фрэнка, лишенные исторической и даже эстетической ценности, обладали другими, более значительными свойствами, которые никто не стремился придать им сознательно. Эти вещи пребывали в равновесии, в покое, в согласии с дао; достаточно было посмотреть на них, чтобы войти в контакт с реальным миром, который покоился над внешним. В мастерской Анны не имелось похожих предметов, но в книге Дика они были, и в определенном смысле, возможно, одним из таких предметов является и сам роман: творение весьма второстепенное, с точки зрения литературных достоинств, но таинственным образом дающее доступ к истине. И все чаще Филипу Дику казалось: в этом мире, в мире Анны, что-то не так. Книга станет своего рода дырой, прорехой в этом раскрашенном полотне, лазейкой через которую те, кто сумеют ее прочесть, попадут на другую сторону. Но мало кто сумеет это сделать. И уж конечно не Анна.
В результате очередного сложного и естественного круговорота, из которых складывался сюжет нового романа, одно из украшений Фрэнка Фринка оказалось в руках господина Тагоми, высокопоставленного японского чиновника (поиски подарка косвенным образом способствовали увольнению ремесленника и перемене профессии, но при этом оба героя об этом не знали и никогда не встречались). Господин Тагоми также имел повод для беспокойства. Для того чтобы спасти одну жизнь, ему пришлось принести в жертву две, очень неприятная ситуация для буддиста. Обессиленный, он сидел на скамейке в общественном саду в Сан-Франциско, маленький хрупкий человек в черном костюме. Машинально вынув украшение из кармана, он начал его ощупывать, затем разглядывать. Серебряный треугольник ловил солнечные лучи.
Покинув в задумчивости общественный сад, господин Тагоми был удивлен, не увидев ни одного рикши. Затем, выйдя на набережную, он остановился, разинув от изумления рот: огромная бетонная лента тянулась вдоль залива. Она была похожа на чудовищную гусеницу, по которой сновали странные машины. Сначала господин Тагоми решил, что видит сон: он проходил здесь каждый день и никогда не замечал этой удивительной трассы, строительство которой явно должно было бы продолжаться месяцы, даже годы. Но он напрасно моргал глазами, и щипал себя, странное видение не исчезало. Взволнованный, он спросил прохожего, что это такое, и тот ответил, что перед ним автострада Эмбаркадеро. Тон незнакомца при этом был одновременно удивленным и снисходительным, как если бы он имел дело с деревенским простачком. Подобное проявление неуважения со стороны белого человека задело господина Тагоми. Надеясь подкрепиться, он зашел в бар, но ни один из белых, сидевших перед стойкой, не поднялся, чтобы уступить ему место. Японец почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. Куда, в какой кошмар он попал? Серебряный треугольник направил его по ложному пути, вырвал из привычного мира, из его пространства, из его времени. И теперь он блуждал, лишенный ориентиров, в некоей сумеречной и несущей угрозу зоне, даже не зная, существует ли она на самом деле или является результатом какого-то нарушения внутри его собственного организма: острое воспаление внутреннего уха, сомнамбулизм, галлюцинация…
Затем появились рикши: причем американцы крутили педали для японцев. Вновь возник привычный мир. Господин Тагоми, должно быть, отсутствовал не больше десяти минут. Но до конца своей жизни он спрашивал себя, где он провел эти десять минут, и никогда больше не осмелился взглянуть на странное украшение, которое открыло ему туда дверь. Как не набрался он и духу пролистать знаменитый скандальный роман Хоторна Абендсена под названием «Саранча».
Этот Хоторн Абендсен был писателем-фантастом, чья книга, запрещенная Рейхом, ходила более или менее свободно в японской зоне и вызывала горячие споры. Там описывался воображаемый мир, в котором антифашистская коалиция выиграла войну в 1945 году. Подобно тому, как заставляют пройти тест своих близких, Дик предложил роман Абендсена на суд практически всех персонажей своей книги. Некоторые читатели полагали, что он относится к жанру особенно нелепой и бесполезной фантастики, еще более нелепой и бесполезной, чем произведение, предвосхищающие будущее, потому что никто не может поклясться, что то или иное событие не случится. Но если оно уже не случилось, то какой смысл его реконструировать? Другие находили его роман волнующим. «Любопытно, — заметил один из них, — что никому раньше и в голову не приходило написать такую книгу. Она дает пищу для размышлений и содержит нравственный урок. Этот роман поможет нам в полной мере оценить свое счастье. Конечно, не слишком приятно находиться под властью японцев, но все могло быть гораздо хуже…»
Самой живой была реакция Джулианы. Представляя себе эту обольстительную и довольно истеричную брюнетку, Дик не только дал волю своим эротическим фантазиям, но и набросал портрет идеальной читательницы — для него это было одно и то же. И Джулиана его не разочаровала. Она вовсе не находила роман Абендсена странным, отвлекающим или наводящим на размышления, а считала его правдивым.
«Могу поспорить: я единственная, кто об этом знает! Никто, кроме меня, не понял смысла книги „Саранча“. Автор рассказал в ней о нашем мире, о том, что окружает нас здесь и сейчас. Он хочет заставить нас увидеть вещи такими, каковы они есть на самом деле. Мне нужно с ним встретиться».
Когда, чтобы усложнить интригу, Дик ввел в число персонажей этого писателя, который, внутри его романа сочинял свою собственную книгу, он еще не знал, выведет ли он его на сцену, увидят ли его другие персонажи. Возможно, было бы лучше оставить его, что называется, за кадром. Идея вывести на страницах романа писателя соблазняла и пугала Дика одновременно.
Это все равно как посмотреть в зеркало. Прийти на встречу с самим собой и спросить у себя, кто это к тебе приближается. Конечно, всего лишь отражение, простое отражение. Но некоторые люди уверены, что зеркало заключает в себе глубины, что по другую сторону этой поверхности, которая кажется плоской, существует мир столь же полный и реальный, как наш, а может быть, даже еще больше. И этот коридор, часть которого мы видим, продолжается также в зазеркалье. Рассуждая таким образом, человек мало-помалу приходит к мысли, что настоящий мир находится по ту сторону зеркала, а мы сами живем в отражении. Фил понимал это с раннего детства, и даже лучше, чем другие, ведь он-то знал, кто живет в зазеркалье. С этой стороны зеркала, которая, как ему говорили, является реальной, Джейн была мертва, а он жив. Но в зазеркалье все обстояло наоборот. Он был мертв, и Джейн тревожно склонялась над зеркалом, где жил ее бедный братик. Может быть, настоящий мир там, где Джейн, может быть, он живет в отражении, в лимбе. Окружающие искусно изображают реальность, чтобы не напугать его, но он живет среди мертвых. Нужно будет, думал Дик, как-нибудь написать об этом книгу, о том, как некто выясняет, что на самом деле мы все умерли.
Оракул приказал Дику создать роман о мире, скрытом по ту сторону зеркала, и он повиновался, сверяя с ним каждый свой шаг. Он написал книгу, которую там на его месте написал Хоторн Абендсен. Он придумал девушку с черными волосами, являвшуюся полной противоположностью Анны, это скорее была Джейн, как он ее себе представлял, и эта девушка поняла, как поняла бы Джейн и как никогда не поймет Анна, что Хоторн Абендсен говорил вовсе не о другом, воображаемом, мире, а, наоборот, о мире реальном. И вот теперь она мечтала встретиться с писателем. Дику казалось, что на месте Абендсена он страшно хотел бы этого и одновременно страшно боялся, это все равно как встретиться с Джейн или со смертью. Но произойдет встреча или нет, это не ему было решать.
Приближался конец книги. Сочиняя ее, он знал это так же точно, как читатель, который видит, что осталось буквально несколько страниц. Джулиана остановила машину на обочине безлюдной дороги, пересекавшей Скалистые горы. Ее черные волосы были влажными. Ее маленькая и упругая грудь слегка дрожала под красивым новым платьем, подаренным девушке одним нацистом, сонную артерию которого она перерезала бритвой несколько часов тому назад. Джулиана вынула из сумочки два черных потрепанных тома, английский перевод «Книги перемен», и там же, в машине, мотор которой еще не заглох, шесть раз бросила три монетки, предварительно спросив: «Хорошо, что я должна делать теперь? Объясните мне это, пожалуйста».
Выпала гексаграмма 42 — увеличение, которую три прерывистые линии тотчас превратили в гексаграмму 43 — прорыв.
«Необходимо смело довести все до сведения императорского двора. Истина превыше всего. Вас подстерегает опасность».
Дик прикусил губу. Он надеялся на один из тех туманных ответов, которые иногда давал «Ицзин» и которые можно толковать по-своему. Но этот был пугающе ясен. Нужно было отправиться ко двору императора. И Джулиана поехала обратно.
С самого начала говорили, что Абендсен живет в изолированном бункере высоко в горах — отсюда и его прозвище Хозяин высокого замка — но Дику было уже не интересно это его жилище описывать, к тому же он прекрасно знал, что это все неправда. Путешествие Джулианы окончилось на окраине небольшого городка в штате Колорадо, перед просторным белым домом с ведущей в гараж аллеей, вымощенной плоскими камнями. На ухоженной лужайке стоял детский трехколесный велосипед. На первом этаже горел свет, оттуда доносились музыка и голоса: вечеринка, обычная вечеринка.
Джулиана вошла. Еще несколько страниц, — подумал Дик, — напряженный диалог, и все будет закончено: я узнаю «о чем же рассказывает эта чертова книга».
Опасность.
Один из гостей указал Джулиане на хозяина дома. И вот как выглядел Хоторн Абендсен: крепкий высокий тип с бородой, в тот момент он как раз пил виски. Девушка подошла к нему, и они заговорили, хотя гостья и не представилась. Хозяин предложил ей выпить стаканчик, она согласилась. Что? О, стаканчик виски будет в самый раз.
Джулиана объяснила, что привело ее сюда, и задала Абендсену вопрос. Почему он написал эту книгу? Он объяснил ей, что советовался с Оракулом, который все решил за него: какой выбрать сюжет, исторический период, персонажей, и сделал еще тысячу мелочей, необходимых для создания литературного произведения. Абендсен признался, что даже спрашивал его, как книга будет воспринята; Оракул ответил, что автора ждет первый большой успех.
Однако эти объяснения не удовлетворили Джулиану, и она нетерпеливо покачала головой. Она приехала не для того, чтобы узнать, как Абендсен и Оракул написали книгу, об этом она давно догадалась сама. Она хотела знать почему. Почему Оракул решил написать роман, используя Абендсена? И почему именно этот роман? Почему этот сюжет наизнанку, а не какой-нибудь другой?
У Абендсена не было ответа. У Дика тоже. Оставалось только спросить у Оракула. Они достали книгу, три мелкие китайские серебряные монетки, лист бумаги и карандаш, чтобы построить гексаграмму. Затем задали вопрос: «Оракул, почему ты написал книгу „Саранча“? Какой урок мы должны извлечь из нее?»
Дик на мгновение задержал дыхание, затем бросил монеты, шесть раз. Нарисовал гексаграмму.
Выпал номер 61: Чжун-фу, внутренняя правда.
«Ветер дует в горах и вызывает рябь на поверхности воды. Таким образом проявляются видимые воздействия невидимого».
Воцарилась тишина.
— Я поняла, что это значит, — сказала наконец Джулиана.
Абендсен уставился на нее беспокойно, чуть ли не свирепо.
— Что моя книга говорит правду, так?
— Да.
— И на самом деле Германия и Япония проиграли войну?
— Да.
Он закрыл книгу и молча поднялся.
— Даже у вас, — заявила с презрением Джулиана, — даже у вас не хватает мужества посмотреть правде в лицо.
И, сказав это, она ушла.
Дик в смущении последовал за своей героиней. Неужели это и есть конец книги? Да никакому издателю такое не понравится. Потребуют, чтобы он объяснил подобный финал, обосновал. Даже его самого, автора, финал не удовлетворяет. В романе «Распалась связь времен» Дик не захотел удовольствоваться утверждением, что Рэгл Гамм был прав, а разъяснил почему, да он из кожи вон лез, придумывая историю с противоракетной обороной, которая потребовала создания целого искусственного мира, окружавшего героев. Это объяснение входило в обязанности автора перед читателями. И сейчас Дик понял, что, создавая «Человека в высоком замке» («The Man in the High Castle»), он ни разу не побеспокоился об этом, подобно автору детективных романов, ждущему последней страницы, чтобы спросить себя, кто убил, как и почему. Он рассчитывал на «Ицзин», но «Книга перемен» нашла способ самоустраниться. И что он получил в конечном итоге? Только дурацкий коан-дзэн[8]. Предательство тем более вызывающее, думал Дик, что, если бы он взялся за это вовремя, если бы расставил необходимые вехи по ходу повествования, то какое-нибудь открытие подобного рода превосходно нашло бы свое место в книге, речь в которой идет, хотя бы отчасти, о нацизме. Одна мысль особенно поразила Дика, когда он читал Ханну Арендт; а именно цель тоталитарного государства состоит в том, чтобы отрезать людей от реальности, заставить их жить в придуманном мире. И тоталитарные государства придали прочности этой химере о существовании параллельных миров. Нацисты и большевики присвоили себе привилегию, которую Фома Аквинский отрицал и которую Петр Дамиани признавал за Всемогущим; изменять прошлое, делать так, чтобы не было того, что было, переписав историю и навязав собственные апокрифические версии. Троцкий никогда не стоял во главе Красной Армии; Берия исчез из советской энциклопедии, уступив место менее скомпроментировавшему себя соседу по алфавиту, Берингову проливу; ну а что касается менее известных жертв концентрационных лагерей, их пришлось не просто убить, а сделать так, чтобы они никогда не существовали. В книге Арендт есть потрясающая деталь: она описывает большой лист бумаги, на котором гестапо отмечает окружение каждого человека, сочтенного недостойным жить: вокруг символизирующей его точки выстраивается в виде концентрических кругов множество точек, изображающих его семью, близких друзей; затем идут коллеги по работе, просто знакомые; далее следуют люди, которые, не зная этого человека лично, могли о нем слышать, и только ограниченные размеры листа бумаги не позволяют расписать таким образом все человечество. Дик однажды ознакомился с теорией некоего специалиста по статистике, и она ему очень понравилась: якобы все люди на Земле находятся друг от друга не дальше, чем на пять-шесть рукопожатий. «Это означает, — объяснял он Анне, — что ты за свою жизнь обязательно пожала руку некоему человеку, а он другому, а тот еще одному, а этот еще кому-то, а тот — человеку, который обменялся рукопожатием, скажем, с Ричардом Никсоном или с каким-нибудь латиноамериканцем». Этот принцип всеобщего заражения, кошмар и горючее тоталитарной утопии, логически приводит к необходимости отправлять в концлагеря всех, включая исполнителей. Однако, поскольку тоталитарное государство все же существует во вполне реальном мире, его лидерам пришлось найти другое решение, состоящее в том, чтобы стереть исчезнувших не только из документов, но и из памяти тех, кого пока пощадили. И то, что подобная операция возможна, стало одним из самых страшных открытий, которые тоталитарные государства заставили сделать человечество. «Если бы Третий Рейх, — думал Дик, — правил сегодня в Европе, то вполне вероятно, что, в соответствии с его показательной логикой, не только десятки миллионов людей были бы истреблены, но и выжившие, чье горло ежедневно раздражал бы дым крематориев, не знали бы об этом. Когда на кону стоит жизнь, предпочтешь обо всем позабыть».
Он прочел также в одном популярном журнале краткое описание некоего психологического опыта: на черной доске чертят две линии, причем А явно длиннее, чем Б. Затем доску показывают группе из пяти человек и просят их сказать, которая из линий длиннее, А или Б. Как только улеглось всеобщее веселье по поводу столь смехотворного теста, участники исследования начали отвечать. При этом четверо из группы, сообщники экспериментатора, утверждают, вопреки очевидности, что Б длиннее А. И пятый, который является единственным подопытным, в конце концов тоже отказывается верить своим глазам, и присоединяется к общему мнению, хотя это и не проходит бесследно для его психики. Именно такого рода эксперименты проводили тоталитарные государства в большом масштабе. Они развили способность показывать людям стул и заставлять их говорить, что видят стол. Даже лучше: они заставляли людей в это поверить. С этой точки зрения история, которую Филип Дик, направляемый Оракулом, рассказал в своей книге, была не такой уж нелепой. Он даже затронул некую глубинную истину.
«Конечно, — размышлял он, — гипотеза выглядела бы более правдоподобной, развей я ее в обратном направлении. У демократии, даже пораженной „охотой на ведьм“, нет столь серьезных причин поддерживать в головах людей мысль о том, что они живут в тоталитарном режиме; напротив, если бы Германия и Япония выиграли войну, можно было бы без труда представить, что они заставляют верить в обратное американцев, чтобы более уверенно господствовать над ними. Те продолжали бы вести тихую мирную жизнь в пригородах и нахваливать свою конституцию, не зная, что все поголовно являются подданными Рейха. Год за годом миллионы их сограждан исчезали бы бесследно, и никто бы не обращал на это внимания, не задавал бы вопросов, настолько силен в человеке инстинкт незнания, стоит только его поощрить. Но в этом случае именно у Фила Дика, жителя так называемой свободной Америки, а не у Хоторна Абендсена, его вымышленного двойника, возникли бы подозрения, которые и легли бы в основу романа.
Однако именно такой сюжет я только что и набросал.
Спокойно».
Дик тряхнул головой, потянулся, чтобы избавиться от наваждения: что за нелепые рассуждения? Еще раз бегло просмотрел комментарий к гексаграмме, надеясь, что он вдохновит его на создание иного финала.
«Только сердце, свободное от предрассудков, способно принять истину».
Представляя, как он скажет это разгневанному издателю, Дик прыснул. Затем сделал последнюю попытку.
Мон, безумие молодости.
«Это не я ищу молодого безумца, нет, это молодой безумец ищет меня. В первый раз я предоставляю информацию. Если он спрашивает во второй, в третий раз, это уже называется назойливость. Если он слишком назойлив, я вообще ничего не сообщаю. Постоянство полезно».
— Хорошо, хорошо! — воскликнул Дик раздраженно. — Я понял.
Следовательно, рассудил он, Джулиана сказала все, что нужно было сказать. Дик напечатал слово «конец», а затем вернулся в дом к Анне, думая, что неплохо бы прочесть последние страницы книги «Саранча», чтобы узнать, шла ли в ней речь о нем самом и каким образом тот, другой писатель, выпутался из этой непростой ситуации.
Глава седьмая IDIOS KOSMOS
Как и предсказывал Оракул, «Человек в высоком замке» стал первым успехом в карьере Дика: он получил премию «Хьюго», самую значительную награду, на какую может надеяться американский писатель-фантаст.
Несколькими неделями позже пришел толстый пакет, в котором лежали все его одиннадцать серьезных романов, а также письмо от литературного агента, объясняющего, что он сделал все, что мог, но что это никому не нужно, так что, к сожалению, впредь он больше не собирается иметь дело с этим видом творчества господина Дика. Филип был разочарован, но ничуть не удивлен. Он привык к мысли, что некое неизвестное и вместе с тем непреодолимое, как магнитное поле, препятствие отделяет его от этой земли обетованной, серьезной литературы.
Жребий был брошен: он скорее станет царем в своей деревне, чем вторым в Риме. С кармой шутки плохи, полушутя говорил он.
Этот двойной приговор, видимо, сильно ударил как по самолюбию Филипа, так и по самолюбию Анны. Однако одновременно Дик начал понимать, что ему таким образом указали на место, которое принадлежит ему, и что только здесь он сможет развернуться во всю ширь. В том, что он нашел свое призвание, писателя прежде всего убедили пережитое ликование и ощущение мастерства, даже в большей степени, чем премия, от которой он надеялся получить также и материальные выгоды, но безуспешно. При этом в зазеркалье он играл роль Хоторна Абендсена. То, что Дик писал там, что могло пройти только под видом научной фантастики, и только он был в состоянии это написать. Тем хуже, если при этом он должен был оставаться бедным, непонятым или известным лишь в ограниченных кругах; он смирился с этим, и не без причины, ибо догадывался, что отсутствие выбора было его удачей.
С того момента, как древний пятитысячелетний Оракул пообещал ему «внутреннюю правду», Филип Дик методично погружался в лабиринт своего внутреннего мира. В основе его idios kosmos отныне лежала интуиция — и не только потому, что реальность невозможно постичь непосредственно, так как она прошла сквозь субъективное восприятие каждого, но также из-за того, что более или менее общее представление на этот счет основывается на обмане. Все то, что разумные существа, невзирая на различия в понимании и оценке, согласились считать реальностью, на самом деле только иллюзия, видимость, созданная или меньшинством, чтобы обманывать большинство, или некоей внешней силой, с целью обманывать всех. То, что мы называем реальностью, на самом деле таковой не является.
Эта догадка породила мысль о том, что величайшие события современности происходят на побережье Тихого океана, а некоторые искаженные виды сознания являются прямыми путями в Реальности с большой буквы.
В 1954 году Олдос Хаксли опубликовал отчет об опыте употребления мескалина, заглавием которому послужила фраза, заимствованная у Уильяма Блейка: «Если двери восприятия были бы очищены, всякая вещь предстала бы перед человеком такой, каковой она и является: бесконечной». Начав свою карьеру как блестящий сатирик, Хаксли впоследствии удивил и даже поразил большую часть своих почитателей, обратившись к изучению мистицизма и всеобщего опыта, который извлекается из него независимо от религиозных различий. Мескалин оказал на Хаксли ошеломляющее действие. Признав, хотя и с трудом, что то, что происходит с человеком под воздействием наркотика, невозможно сравнить с мистическим озарением, он высказал мнение, что «выход за пределы обыденного восприятия, возможность видеть в течение нескольких безвременных часов мир внешний и внутренний не такими, какими они предстают перед животным, думающим лишь о выживании, или перед человеком, набитым словами и идеями, но такими, каковыми они воспринимаются, прямо и безоговорочно, Сознанием, составляют бесценный опыт, то, что католические теологи называют немотивированной милостью, которая не является необходимой для спасения, но потенциально полезна, так что нужно принимать ее с признательностью, если таковая возникает».
В общем, Хаксли представлял мескалин как средство совершить небольшое путешествие во внутренний мир Будды или Экхарта, то есть в крайнюю реальность. Легкий способ — это было даже немного досадно, — доступный всем, безопасный. Или почти безопасный. Подробно описывая свой опыт, Хаксли не мог не сообщить о пропасти, которую он сам, подопытный кролик, не имеющий особых проблем со здоровьем, видел мельком. Погружение в Реальность характеризует не только мистическое состояние, но также безумие, и, как следствие, стремления, в которых человек не всегда отдает себе отчет, могут привести его как в ад, так и в рай. Вслед за Бергсоном и приверженцами виталистической философии, Хаксли считал мозг механизмом для фильтрования Реальности, слишком богатой для скромных приемников, каковыми мы снабжены. Этот механизм может быть временно деблокирован наркотиком или полностью поврежден психическим заболеванием. И если Реальность позволяет спокойно взглянуть на себя тем, кто, как Хаксли, восхищается, распознавая в складках фланелевых штанов Дхарму Будды, то других она приводит этим в ужас, «вплоть до того, чтобы заставить их истолковать свою непрерывную необычность, свою жгучую силу как проявления людской или космической злой воли, определяя наступающие реакции от смертельной жестокости до кататонии. Однажды ступив на этот ужасный путь, вы уже не сможете остановиться. После плохого начала все, что случается, потом становится доказательством заговора, составленного против вас. Да, с ужасом говорит Хаксли в заключение, думаю, что теперь я знаю, что такое безумие».
Те, кто первыми экспериментировал с ЛСД, созданным в 1943 году Альбертом Хоффманном, и не представляли, что это вещество, имеющее весьма схожее действие, можно использовать для чего-то другого, кроме как узнать изнутри, что такое безумие. Основная масса психиатров считала его «имитатором шизофрении», позволяющим испытывать в течение некоторого времени то же, что и их пациенты. И только впоследствии, под влиянием Хаксли и полуученых, полурелигиозных группок его последователей в Лос-Анджелесе, ЛСД решили использовать для того, чтобы узнать абсолютную Реальность. Некоторые не замедлили обозначить ее самым древним из кодовых имен: Бог.
Когда Дик открыл так называемые «Двери восприятия», у которых в Калифорнии в начале шестидесятых годов было много почитателей, идеи, развиваемые Хаксли, показались ему близкими. Он всегда так думал. Но в то время Дик не принимал ни ЛСД, ни мескалин, он даже не притрагивался к марихуане и был бы сильно удивлен, если бы его сочли наркоманом. Он ответил бы, пожав плечами, что он не относится к числу тех писателей-щеголей, у которых есть время, чтобы, сидя в украшенных картинами мастеров кабинетах, заниматься подобного рода опытами и затем с умным видом рассуждать об этом; нет, он — работяга, прикованный к письменному столу, он должен кормить семью и не имеет ни времени, ни средств на наркотики. Конечно, Дик без конца принимал пилюли: серпасил от тахикардии, семоксидрин от агарофобии, бензедрин для стимуляции мозга, ну и еще по мелочи, чтобы снять побочные действия первых. Разумеется, под влиянием всех этих лекарств он иногда странно себя чувствовал, видел людей и предметы как будто сквозь рентгеновский аппарат, и внутренности людей походили на содержимое радиоприемника или телевизора: сплошной комок проводов, металлических и пластмассовых частей. В этих видениях было мало приятного. Не особенно Филип обрадовался и тогда, когда, из любопытства прочел аннотацию к одному из лекарств, которое он принимал каждый день в течение вот уже нескольких лет в максимальной дозе, и выяснил, что злоупотребление может вызвать «галлюцинации, бред, серьезные сосудистые нарушения, летальный исход». Но Дик уже не мог от него отказаться, от этого зависел ритм его работы. Действительно, он принимал лекарства не ради удовольствия и не для того, чтобы, потратив двести долларов, увидеть Дхарму Будды в складках фланелевых штанов. К тому же он носил только джинсы.
Зато Филип Дик считал себя авторитетом во всем, что касается психических заболеваний, о чем свидетельствует клиническая таблица, хотя и пародийная, но практически исчерпывающая, которую он составил в романе 1963 года «Кланы Альфанской луны» («Clans of the Alphane Moon»). Изначально Альфанская луна служила центром по приему с Земли колонистов, имеющих психические расстройства, однако во время войны связь с метрополией оборвалась, и психически больные, предоставленные на протяжении жизни двух поколений сами себе, создали здесь некое клановое общество, наподобие каст в Индии. Там были маны, маньяки, господствующие и агрессивные, которые властно правили из своего города под названием Высоты Да Винчи; пары, параноики, тонкие политики и стратеги, укрепившиеся в своем бункере Адольфвилл за тысячью защитных систем; депы, маниакально-депрессивные, дрогнущие от холода в своем мрачном городе Коттон-Мэтр; од-комы, одержимо-компульсивные, из них на планете набирали чиновников; поли, полиморфные шизофреники, которые оживляли свой поселок Гамлет-Гамлет с помощью свойственной им капризной созидательной гениальности; шизы, бродячие поэты и фантазеры; наконец, в самом низу социальной лестницы располагались гебы, (страдающие гебефренией), погрязшие в грязи Гандитауна, хотя они насчитывали в своих рядах могущественных святых.
Дик предложил в этом романе сравнить достоинства различных психических расстройств с точки зрения выживания и, как того требовали веяния времени, составил вполне положительный отчет: альфанское общество функционирует в целом неплохо; оно лишь незначительно отличается от нашего, где каждый гражданин, хотя официально и здоров, может быть причислен к той или иной из этих клинических категорий. Впрочем, эта классификация входит в число обязательных таможенных формальностей, когда гости с Земли прибывают на планету, и результаты тестов показывают, насколько так называемые нормальные люди плохо себя знают.
Эта идея вернула Дика к любимой игре его детства. Он начал наблюдать за своими близкими, подмечать их реакции, их ответы на вопросы, которые он старался задавать как можно более естественно, с тем чтобы выяснить, к какому виду психоза склоняется каждый из них. Конечно, Дик не располагал столь же изощренными тестами, как психиатры из его книги, но он полагался на свою интуицию, а также на старую добрую «Ицзин». Падчерицы с энтузиазмом восприняли игру, которую отчим им предложил: «Каким именно сумасшедшим вы являетесь?» Тем, который считает себя мышью? Авраамом Линкольном? Директором больницы для умалишенных? Или еще кем-то? Они без конца играли в эту игру и даже приобщили к ней своих друзей. Она стала хитом сезона и тяжким крестом их школьной учительницы: ее приводил в отчаяние безумный смех, который вызывали у ее учеников бессмысленные диалоги, наподобие этого:
— …Но тигры не едят солому!
— Разумеется нет, но я не уверена, что директриса об этом знает.
Когда выяснилось, что мода на эту игру была положена сестрами Рубенстайн, учительница захотела лично побеседовать с их родителями. Анны дома не было и ее принял Дик. Он продемонстрировал живой интерес к педагогическим теориям и заверил учительницу, что проследит за тем, чтобы умерить воображение девочек. Но он не смог удержаться от того, чтобы, провожая гостью, не принять на какое-то мгновение просветленный вид, который заставлял Лору хохотать — глаза сияли, выражение лица было одновременно сардоническим и восхищенным, — и прошептал:
— Только никому не говорите; но я — Филип Дик, знаменитый писатель.
Учительница с изумлением посмотрела на него. Его лицо вновь приняло выражение образцового родителя, который внимательно слушает, как учительница излагает ему свои жалобы.
— Простите? — пробормотала она. — Что вы сказали?
— Я ничего не говорил, мэм.
Учительница предпочла думать, что ей и правда послышалось.
Анне все эти проделки были не по душе. Она не хотела бы напоминать дочерям, что их отец умер в психиатрической больнице, но не лишала себя удовольствия припомнить Филу его собственное «темное» прошлое. О многом муж рассказал ей сам в начале их знакомства. Вдобавок у Анны были очень развиты родственные чувства, поэтому она регулярно приглашала в гости свекровь. Дороти откровенно рассказывала обо всем невестке, к великому неудовольствию сына: каким хорошеньким он был в раннем детстве, и каким нелюдимым, и что говорили психиатры по поводу смерти его сестры, и до какого возраста он писал по ночам в кроватку. Также охотно она рассказывала о своей собственной сестре по имени Мэрион, которая тоже родила близнецов. В отличие от нее самой, Мэрион не позволила никому из их детей умереть и являлась образцовой женой и матерью. Однако в конце пятидесятых годов, когда Фил был студентом, Мэрион вдруг, без видимых причин, начала страдать от серьезного психического расстройства, переросшего в кататоническую шизофрению. Дороти самоотверженно заботилась о сестре, часто навещая ее в больнице, и даже поселила ее у себя, когда благодаря отъезду сына освободилась комната. Она окружала больную преданной, но эксцентричной заботой, переходя по воле своих прихотей от одного чудесного лечения к другому, испробовав все, от дианетики до учения Райха. Дороти превратила болезнь сестры в нечто скорее романтическое, и, когда Мэрион незадолго до смерти постоянно испытывала ужасные галлюцинации, утверждала, что та наслаждается чудесными видениями. Однажды Дороти торжественно зачитала Анне и Филу надгробную речь, которую она записала в своем дневнике десятью годами ранее, когда Мэрион умерла: «Она больше не хотела жить. Привлекательность другого мира, в котором она жила и который содержит все, что мы считаем сущностью творения, была слишком сильна. Она напрасно пыталась существовать одновременно в этом своем мире и в мире, общем с другими людьми. Но чем дольше я сама живу, тем больше я уверена в том, что каждый имеет свой собственный мир и что никто из нас по-настоящему не принадлежит к реальному миру. Мы странники».
Во время чтения Фил почувствовал себя неловко. Анна подмигнула ему, полузаговорщически, полужестоко, ясно давая мужу понять: «Я вижу, что тебе было от кого наследовать».
(Чтобы закончить эту историю, добавлю в скобках: некоторое время спустя после смерти Мэрион ее муж, как он утверждал, стал получать послания от покойной супруги, приказывавшей ему жениться на Дороти, с которой до этого момента они не очень ладили. Свадьба состоялась в 1954 году, и с тех пор Дороти воспитывала близнецов своей сестры — деталь, которую Фил использовал как вишенку, венчающую торт, когда хотел показать, какой интересный случай он из себя представлял.)
Сразу после «Человека в высоком замке» Дик написал другую книгу, «Сдвиг времени по-марсиански» («Martian Time-Slip»), в которой задал себе вопрос гораздо более серьезный, чем Хаксли, вернувшийся со своей маленькой прогулки с мескалином: что значит страдать психозом?
Это история, начинающаяся с самоубийства, волны которого распространяются от персонажа к персонажу на протяжении всего романа, посвящена спекуляциям с недвижимостью на Марсе. Он превращен в колонию, которой земляне не особо интересуются; там появилась своя знать, враждующие кланы. Чтобы решить, как ему лучше действовать, глава могущественного синдиката водопроводчиков захотел получить возможность заглянуть в будущее. И тут слащавый психиатр изложил ему популярную идею, согласно которой аутизм и шизофрения в целом являются расстройствами восприятия времени. Существование шизофреника отличается от нашего тем, что он воспринимает в данную минуту сразу все, хочет бедняга этого или нет. Вся та кинопленка, которая постепенно прокручивается перед нами кадр за кадром, обрушивается на него целиком. Причинно-следственные связи для шизофреника не существуют, только лишь принцип беспричинного соединения, который Вольфганг Паули назвал «синхроничностью» и с помощью которого Юнг, по его словам, объяснял совпадения, подменяя одну загадку другой. Подобно человеку, находящемуся под воздействием ЛСД, или Богу, насколько мы можем судить о его внутреннем мире, шизофреник погружен в вечное настоящее. Реальность приходит к нему полностью, получается нечто вроде аварии вечного двигателя, которая еще продолжается сейчас и будет продолжаться всегда. Следовательно, в определенном смысле можно утверждать, что шизофреник имеет доступ к тому, что мы называем будущим. Этих объяснений оказалось достаточно, чтобы глава синдиката воодушевился и воззвал к извечному депрессивному герою романов Дика, к бывшему шизофренику, увлекающемуся починкой всякой всячины, от тостера до вертолетов, — умение, весьма ценимое на Марсе, где запчасти в большом дефиците. Он поручил ему собрать устройство, которое позволило бы войти в контакт с мальчиком-аутистом по имени Манфред и получить из его мозга нужную информацию.
Мастер был не в восторге. Он не любил вспоминать о своем собственном прошлом шизофреника, опасался, что такое задание может вновь пробудить в его голове вопрос, который он изо всех сил гнал от себя. Прежде он видел своего начальника в виде искусственной конструкции, состоящей из шестеренок и электрических проводов, и не знал, было ли это галлюцинацией, видением, симптомом психоза, или же образом настоящей реальности, с которой просто сорвали внешнюю оболочку. Однако мастер настолько привязался к юному аутисту, что представлял себе (с тем же оптимизмом, какой испытывала и Дороти по поводу Мэрион), будто «в замкнутом мозгу этого мальчугана наверняка существует некий волшебный мир, чистый, красивый, по-настоящему невинный».
Это была грубейшая ошибка. Вскоре стали происходить странные вещи: пластинка Моцарта, произведения которого исполнял оркестр под управлением Бруно Вальтера, оказалась ужасной какафонией; друзья, с которыми мастер веселился на вечеринке, оказавшись в поле его бокового зрения, тут же рушились и покрывались трещинами, разлагаясь буквально на глазах. Объективный мир, где двигались персонажи, был постепенно захвачен миром Манфреда. Стоило ему только найти благоприятную среду, как ребенок притащил в нее всех тех, с кем он соприкасался в своей реальности. И это оказалась ужасная реальность, истерзанная энтропией, территория смерти. Читая клинические очерки швейцарского психиатра Людвига Бинсвангера, Дик был потрясен введенным им понятием «мир-могила». В «мире-могиле» все уже произошло и одновременно происходит, в нем ничего никогда не произойдет в будущем, шизофреник живет в атмосфере вечной смерти, если, конечно, его существование вообще можно назвать жизнью. И эта могила готова поглотить всех тех, кто к ней приблизится, она готова стать любым существом и любой вещью.
Все стало Манфредом. Из каждого рта доносилось унылое бурчание, которое заменяло ему голос. «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь, кто бы им не был!» — воскликнул в ужасе мастер, и опять именно Манфред заставил его губы шевелиться. Глава синдиката водопроводчиков путешествовал во времени, как он того и хотел, но это было время Манфреда, мертвое время «мира-могилы», и путешествие обернулось сущим кошмаром. Верная секретарша превратилась в предательское чудовище, предметы стали угловатыми, враждебными, кофе — горьким и отравленным. Маска небытия, полного мрака, возникла над нашим героем, опустилась ему на лицо. Он понял, что никогда больше не увидит теплую и живую реальность, что он поступил безрассудно, однажды покинув ее, и что теперь он навсегда погружен в этот страшный мир аутиста, что он умрет здесь. И он действительно там умирает.
Умереть в чужом кошмаре — что может быть ужаснее? Дик избавил беднягу от этой участи, уготовив ему судьбу более милосердную, но одновременно и более ироничную. Чары рассеиваются, он выходит из «мира-могилы». И, едва выйдя, погибает, совершенно глупо, от руки второстепенного персонажа, олицетворяющего слепую интригу. В то время как его, уже умирающего, везут в больницу, он не хочет в это верить. Он смеется. Второй раз он на эту удочку не попадется. Ибо прекрасно знает, что он все еще в одном из этих чертовых шизофренических миров, где умирают понарошку, а затем пробуждаются вновь. Он скоро проснется, в теплой и живой реальности, где подобное просто не может произойти. И, веря в это, он умирает, теперь уже по-настоящему.
«Может быть, так для него и лучше», — подводит итог мастер. Дик считал, что так и в самом деле лучше, по двум причинам: бедняга скончался, не испытывая отчаяния, полагая, что он не умирает, и он умер в реальном мире, а не в какой-нибудь иллюзии, где всё может стать еще хуже.
Дику понравился финал этой книги. Он его ободрил. После того как иллюзия и реальность были строго разграничены, выжившие оказались на твердой земле внешнего мира. Однако у мастера остались сомнения, поскольку шизофреник никогда не станет полностью здоровым. «Если уж человек страдает психозом, — думает он, — с ним больше ничего не может случиться. И я нахожусь на краю такого состояния. Возможно, я всегда был там».
Возможно, и сам Филип Дик всегда был там.
Он уже думал об этом раньше. Это случилось в кинотеатре, в тот самый день, когда юному Филу стало плохо во время показа хроники, потому что там показывали, как американцы сжигают из огнеметов японцев. Дороти рассказала эту историю Анне, чтобы продемонстрировать столь рано развившиеся чувствительность и антимилитаризм своего сына. Но она и не подозревала, что Филип почувствовал в тот день на самом деле. Сидя в кресле, обитом потертым красным плюшем, с пакетом поп-корна в руке, он смотрел на стены этой коробки, внутри которой он был заперт вместе с сотней других, по большей части незнакомых ему людей, на луч света, что, исходя из кабины механика позади него, образовывал конус до самого экрана, на пыль, плясавшую в этом конусе, на клочок плюша под ногами, и вдруг всё понял. Понял, со всей уверенностью, что, кроме этого, ничего нет. Четыре стены, потолок, пол и другие заключенные. То, что, как сам Фил полагал, он знал о внешнем мире и о своей жизни в нем, было лишь складом фальшивых воспоминаний, иллюзией, внушенной его мозгом, по злому умыслу или из жалости, — это невозможно узнать. Он всегда был там, всегда присутствовал на этом фильме, который считал своей жизнью. В какой-то момент Фил, как он думал, покинул кинотеатр, шел со своей матерью по улицам некоего американского города под названием Беркли, вернулся домой, чтобы поставить записи мелодий Шуберта, однако на самом деле ничего этого не существовало; ни матери, ни Шуберта, ни Америки, ни Германии, ни, может быть, даже других зрителей, запертых в зале вместе с ним; возможно, эти статисты были частью фильма. Тогда Фил пообещал сам себе: когда он выйдет, когда будет думать, что вышел, он попытается не быть дураком и постоянно напоминать себе, что на самом деле он всегда находится в зале и что другой реальности не существует. Он предчувствовал, что к тому времени уже не будет в этом так уверен, что эта идея станет для него соблазнительным парадоксом, а не жизненной истиной. Он хотел бы быть тем, кем он станет несколько часов спустя, и вволю кричать, что людям не следует позволять себя обманывать. Чтобы ускорить этот момент и вернуться в мир иллюзии с полной ясностью, Фил притворился, что ему стало плохо во время показа кинохроники. Взволнованная мать, поддерживая, повела сына к выходу. Они оказались на залитой солнцем улице, и какое-то время Филип наслаждался знанием о том, что эта улица, это солнце, эта худощавая женщина с нахмуренными бровями, которая жадно задает ему вопросы, что все это на самом деле не существует, что в реальности он все время находится в зале, что он будет там всегда и всегда там был. И, сумей он постоянно уходить и возвращаться в этот мир иллюзий и играть в нем свою роль, не теряя этой ясности, это было бы… что? Приятно? Вероятно, нет. Но его не интересовало приятное, он хотел лишь одного — знать, не быть обманутым. И Фил уже чувствовал, как грядет то, что он предвидел: иллюзия вступает в свои права, борьба с ней ни к чему не приведет, он уже больше не верит в это. Его последним сознательным желанием было, чтобы ясность когда-нибудь к нему вернулась, пусть даже на несколько мгновений.
Она возвращалась к нему вспышками: при входе в ванную, где он не знал, как зажечь свет; позднее, в другой ванной комнате, одной из тех трех в доме, который он делил вместе с блондинкой, имеющей диктаторский характер. Стоя за запертой на ключ дверью, Фил слышал, как она ходит туда-сюда и ругается. Иллюзия. Новый эпизод фильма. Согласно этому эпизоду, он был тридцатипятилетним бородатым мужчиной, который сочинял научную фантастику. Человеком весьма образованным, любителем головокружительных парадоксов. Он никогда не запирался в туалете без того, чтобы не намекнуть шутливо на Мартина Лютера, которого озарение, как говорят латинские рукописи, настигло именно там. Он знал все формы, которые принимала его интуиция и сохранило культурное наследие: пещера Платона; сон Чжуан-цзы, еще в IV веке до нашей эры спрашивавшего себя, является ли он китайским философом, которому приснилось, что он бабочка, или же он — бабочка, которой снится, что она — китайский философ; и наиболее угрожающая версия, озвученная Рене Декартом в 1641 году: «Откуда мне знать, что в настоящий момент меня не обманывает бесконечно могущественный зловредный демон, который хочет, чтобы я поверил в существование внешнего мира — и моего тела?» Филип Дик сделал теории подобного рода своей профессией, и, с тех пор как к нему вновь вернулось воспоминание о приступе уверенности в иллюзорности этого мира, что он испытал еще в детстве в кинотеатре, он научился оживлять то давнее впечатление по команде. Дику было достаточно, оставшись в ванной, лишь одно мгновение посмотреть в зеркало на свое лицо, свое тело, кафель, мертвого таракана, зацепившегося за занавеску для душа, чтобы эта уверенность с невероятной легкостью освободилась от нереальности всего остального.
Глава восьмая БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ
Литературный прорыв, свершившийся благодаря «Человеку в высоком замке», несмотря на премию «Хьюго», абсолютно не изменил социальное и материальное положение Филипа Дика. «Сдвиг времени по-марсиански», от которого он многого ждал, прошел незамеченным. И, хотя богатые родственники покойного мужа Анны, выплачивали ей неплохое содержание, а сама она начала торговлю украшениями, Дику по-прежнему нужны были деньги, много денег, согласно критериям Беркли, чтобы содержать четырех женщин, пять вместе с младенцем, привыкших вести буржуазный образ жизни. И, чтобы заработать сумму, которую Анна все равно считала недостаточной, ему приходилось чрезвычайно много работать. Благодаря амфетаминам Дик мог писать в таком темпе, что сочинял один роман за несколько недель, и таким образом за два года он опубликовал дюжину, но такая напряженная работа приводила к ужасным депрессиям. Он чувствовал себя недостойным своей задачи, неспособным взять на себя ответственность. Он подурнел. Его бородатое лицо стало бледным и отекшим. В поле его бокового зрения гудели большие черные насекомые. Анна казалась ему теперь врагом. Она наслаждается, думал Дик, доказывая ему, что он — неудачник, закабалив его этим двойным парализующим принуждением: ты должен работать меньше, а зарабатывать больше, именно это и делают другие мужчины. Жена презирала его за то, что он был жалок, но ей был нужен жалкий тип, которого можно презирать, и Фил находил некое пагубное наслаждение в том, чтобы исполнять это ее желание, поступая как жалкий тип. Он, как и обещал, посвятил супруге роман «Человек в высоком замке», но она побледнела от ужаса, увидев, в какой форме он это сделал: «Анне, моей жене, без молчания которой я бы никогда не написал эту книгу». Маленькая идеальная гадость, низкая месть «недочеловека», но она сама напросилась. За ее повадками образцовой американской супруги скрывался настоящий нацист. Жестокость, основанная на абсолютной уверенности, что она всегда права, что на ее стороне закон, обычай, порядок вещей. И, создавая кастовую систему Альфанской луны, Филип спрашивал себя, отнесли бы его к шизам (тут он себе льстил, ибо, несмотря ни на что, они были мечтателями и романтиками) или к депам (погрязшим в депрессии). К сожалению, с каждым днем второй вариант казался ему все более и более правдоподобным, но вот относительно своей жены он не сомневался: она была ман на сто процентов: типичная маньячка, жестокая грабительница, напрочь лишенная сопереживания.
Филип от души развлекался, если здесь уместно говорить о развлечении, превращая свой новый роман в психодраму, описывающую его собственные взаимоотношения с супругой. Главный герой, Чак Риттерсдорф, имел профессию, чем-то похожую на его собственную: программист симулакров для ЦРУ. Работа непрестижная, малооплачиваемая, но Чаку доставляло наслаждение знать, что его фразы, хотя никто об этом и не подозревает, выходили из уст отлично сделанных роботов-гуманоидов, которых ЦРУ использовало в некоторых деликатных ситуациях. Это дарило ему ощущение тайной власти, а также общественной пользы, чего его вздорная жена, разумеется, понять не могла. Она находила эту работу жалкой, нетворческой, недостойной человека, которому она оказала честь, выйдя за него замуж. В общем, она считала Чака жалким и недостойным ее. Она была женщиной соблазнительной и честолюбивой. Специалист по проблемам других людей, которые не вызывали у нее ни малейшего сочувствия, она была убеждена в том, что у нее самой никаких проблем нет вообще. Дик хихикал, печатая эти строки. Он немало повеселился в тот день, когда придумал для нее профессию. Действительно, это была находка: Мэри Риттерсдорф работала консультантом по вопросам семьи и брака. Неутомимая и самоуверенная, без конца цитирующая Фрейда и Юнга.
Благодаря или вопреки этому, муж консультанта по вопросам семьи и брака от нее все-таки ускользнул. Да, Чак убежал, скрылся в грязном отеле, надеясь, что жена не скоро узнает его адрес. Это бегство его героя принесло Дику небольшое утешение. Сколько раз он представлял себя на его месте? Но как же падчерицы и его дочь? А потом еще этот паралич воли, эта вечная дрожь, когда он выходил из дома. Куда идти? Всякий раз, когда он отправлялся в путь куда глаза глядят, кинув в багажник собранный в спешке чемодан, его вылазка неминуемо заканчивалась возле дома его матери, куда Анна приезжала за мужем несколько часов спустя. Филип ждал ее, стоя перед дверью, как преступник ждет полицию, точно зная, что его арестуют. Он не сомневался, что жена отыскала бы его, даже если бы он спрятался получше. И Мэри тоже нашла Чака в первой же главе. Бесполезно объяснять как, женщина такого типа найдет вас всегда и в самый короткий срок. Мэри холодно объяснила супругу, что теперь он должен будет работать по-настоящему, чтобы платить огромные алименты, которые суд не преминет на него наложить. Муж согласен отдать вздорной жене все, что у него есть, но ей этого мало.
— Ты прекрасно знаешь, — начал протестовать Чак, — что я не могу дать тебе больше, чем имею.
— Еще как можешь! Суд вскоре наверняка выяснит то, что я всегда о тебе знала. Ничего, дорогой, ты НАЙДЕШЬ в себе силы обеспечивать бывшую жену и детей.
— Но… я сам должен на что-то жить…
— Прежде всего, — сказала Мэри, — ты должен обеспечивать нас. И хватит прибедняться. Тебе придется платить алименты до конца своих дней. И пока ты жив, мой дорогой, тебе от меня не избавиться. Я всегда буду обходиться тебе дороже, чем ты когда-либо сможешь заплатить.
И с этими словами Мэри улетела на Альфанскую луну, заселенную сумасшедшими, в рамках экспедиции, которая нуждалась в услугах психолога. Дик полагал, что его отношения с Анной были бы такими же, вплоть до мельчайших деталей. И, даже превратив мужа в моллюска, она никогда его не отпустит. Как и Чак, он испытывал страшную потребность в симпатии и сострадании, но не знал никого, кто мог бы ему это дать. Как он был одинок! Заманив его под свою крышу, Анна образовала вокруг него пустоту. Все их друзья были ее друзьями. Все их животные были ее животными. Даже их психиатр был ее психиатром. Если бы Филип мог завести любовницу… Он хотел позвонить Клео, услышать ее голос, ее звонкий искренний смех, который к концу их семейной жизни начал его раздражать, но по которому он теперь тосковал, поговорить с ней. Просто сказать, в какой ад он попал с тех пор, как они расстались. Но Фил не осмеливался. Клео снова вышла замуж, опять за продавца из «Университетской музыки». Должно быть, она сердится на него. Возможно, Клео узнала, что Фил продал их дом, не сказав ей ни слова и забрав все до единого цента себе. Но ведь он не виноват, это Анна толкнула его на такой шаг, она говорила, что они вернут долг, как только поправится их финансовое положение, но Фил прекрасно знал, что они никогда этого не сделают. Он трусливо уступил, трусливо и мерзко. Как всегда, когда Дик чувствовал себя виноватым, он расслаблялся и начинал себя жалеть.
Но ему расслабляться сейчас никак нельзя. Нужно было продолжать печатать, будь что будет, уставившись в календарь. Дик предполагал, что эта новая книга, которую он едва начал, будет закончена через три недели. И срочно требовалось найти способ связать между собой эти две кое-как выведенные сюжетные линии: одну, посвященную войне Чака и Мэри, и другую — о войне между кланами на Альфанской луне.
Руководство ЦРУ приказало Чаку оживить одного из симулакров, входившего в состав экспедиции, в которой также участвовала и Мэри. Она наивно полагала, что у нее будет симпатичный мужественный спутник, тогда как на самом деле речь шла о машине, которой управлял ее муж. Чак вскоре понял, как можно воспользоваться этим сомнительным положением. Ревнивец попытался бы соблазнить свою собственную жену и потом ужасно мучился бы, занимаясь с ней любовью в чужом обличье, но Чак не был ревнивцем, он был мужем ненавистной жены, опрометчиво роющей себе яму, и ему представилась возможность ее убить. Он скажет, что робот вышел из-под контроля; его, безусловно, будут подозревать, но ничего доказать не смогут.
Однажды появившись, эта мысль больше уже не покидала его. Чак только об этом и думал, и Фил тоже. Приблизительно около десяти дней домашние видели Дика в прекрасном настроении, что было необычно для него в момент написания книги, когда он постоянно поглощал пилюли и почти не спал. «Ты решил изобразить идеального мужа, да?» — спросила его Анна. На самом деле Фил играл другую роль: робота, задуманного по его образу и подобию, который должен убить Анну. В то же время он изображал программиста, который, запуская программу «Идеальный муж», искал подходящий случай, чтобы при помощи робота нанести удар. Это придавало остроту даже самым скучным занятиям, и Фил с воодушевлением вытирал посуду, которую мыла Анна. Он смотрел, как жена двигается, слушал, как она болтает, произносит свои любимые «дерьмо» и «черт», и радовался тому, что знает то, чего не знает она: что в какой-то момент он, возможно, ее задушит.
Спустя две недели они с Чаком, изможденные, закончили военный поход плечом к плечу. Они превратили планету сумасшедших в груду трупов, при этом так и не коснувшись, с помощью робота или без него, той единственной цели, которая имела для них значение. И теперь, укрывшись в глубине траншеи, оба обдумывали свое поражение, пытаясь отыскать в нем смысл. «Может быть, когда-нибудь, — сказал Чак, — когда все это уже не будет иметь значения, я смогу оглянуться назад и увидеть, что я должен был сделать, чтобы избежать всего этого кошмара: Мэри и я, валяющиеся в грязи, пытающиеся убить друг друга в этом мрачном месте, на чужой планете, где мы проведем остаток нашей жизни».
Мэри и Чак в самом деле остались оба на Альфанской луне среди психически больных. Следовательно, оба должны были пройти тест, чтобы узнать, к какой клинической группе они относятся. Это событие вывело Дика из отупения, в которое его погрузили резня, описанная в предыдущей главе, сумбур, царивший в романе (сюжет, увы, повсюду трещал по швам), а также ощущение собственной бездарности и горечь от своего собственного неудачного брака. Писатель доверил самой Мэри как психологу провести эти тесты, а за Чаком оставил право объявить результаты. Ко всеобщему удивлению, Мэри, которая искренне полагала, что она одна тут нормальная, и которую ее муж считал маном, оказалась депом, совершенно депрессивной особой, обреченной гнить в Коттон-Маэтр. Что же касается склонного к меланхолии Чака, которого жена обвиняла в гебефренических наклонностях, не стоит и говорить, что он не страдал ни от какой патологии. Чак был абсолютно нормальным. Единственный в своем роде, он вскоре основал клан норм, со столицей Джефферсонбург, и выразил желание содействовать выздоровлению остальных. Так что теперь жена смотрела на него с уважением и признательностью. Конец.
Трудно представить более подходящую иллюстрацию того, что по-английски называется wishful thinking (принятие желаемого за действительное), нежели эта триумфальная концовка. Но самым странным во всем этом было то, что к мнению Дика и впрямь присоединился психиатр, причем в реальности, а не только в его романах.
В течение двух лет Фил и Анна по очереди ездили в Сан-Рафаэль, северное предместье Сан-Франциско, на консультацию к некоему доктору Флайбу, который играл в их спорах роль третейского судьи. Супруги стремились не столько понять друг друга, сколько убедить его каждый в своей правоте. Анна, более давняя пациентка доктора Флайба, рассчитывала как на преимущество старинного знакомства, так и на очевидную, как ей казалось, обоснованность своих жалоб. Ее муж отказывался брать на себя ответственность, вел себя по-мальчишески упрямо, не имел никакого чувства реальности. У Дика было множество комплексов: эдипов («Доктор, вы бы видели его мать!»), неполноценности, вины, и комплексы эти делали жизнь с ним просто невыносимой, а возможно, даже опасной. Со своей стороны Фил также не скупился. Он обвинял Анну не только в том, что в глубине души она скрывала за милой и добропорядочной внешностью агрессивную натуру, но и в том, что она была способна перейти к действиям и даже уже перешла. Дик был убежден, что она, бог знает как, убила своего первого мужа и что теперь приближается и его черед. Она упрятала в больницу беднягу Рубенстайна и то же самое сделает и с ним. И это еще в лучшем случае. Скорее всего, Анна не будет обременять себя такими сложностями и убьет мужа своими руками. Однажды, пятясь назад на машине по аллее, она пыталась его задавить. Другой раз она угрожала ему ножом. Когда врач говорил Филипу, что он отличается повышенной нервозностью и подозрительностью, пациент печально смеялся. Конечно, появятся тут нервозность и подозрительность, если твоя жизнь в опасности! Возможно, он действительно параноик, но ведь и параноиков тоже, случается, убивают. В один далеко не прекрасный день его найдут мертвым, погибшим в результате утечки газа или утонувшим в ванной; следствие придет к выводу, что это был несчастный случай; но доктор Флайб тогда припомнит эти его слова, пожалеет, что ничего не предпринял в свое время.
— Не слушайте его! — кричала Анна, когда взволнованный доктор Флайб пересказал ей то, что осторожно назвал «намеками». — Этот человек — демон! Он способен заставить любого поверить невесть во что!
У нее появилась возможность убедиться в справедливости своих слов, когда однажды осенним вечером 1963 года к ним домой, в самом разгаре семейного ужина, заявился шериф, тот самый, у которого они снимали домик. В руках он держал предписание о помещении миссис Дик на три дня в психиатрическую лечебницу для обследования. Приступ истерики, охвативший Анну в тот момент, когда она увидела в самом низу официального документа подпись своего психиатра, окончательно убедил шерифа в том, что его несчастный квартирант и правда, как он постоянно жаловался, женился на буйной сумасшедшей.
Последовала весьма тяжелая сцена. Анну пришлось уводить силой. Девочки плакали. Фил заботился о них с печальной серьезностью ответственного родителя, который продолжает готовить обед, несмотря на то что небо только что обрушилось ему на голову.
Три дня обследований вылились в две недели. Фил с девочками каждое утро к открытию отправлялись в больницу. Шок от принудительной госпитализации был ослаблен большими дозами транквилизаторов, так что Анна принимала посетителей спокойно, как если бы они навещали ее после операции по удалению аппендикса. На ней был розовый халат, пуговицы которого она тупо и непрерывно теребила. Ее движения были замедленными, а взгляд — пустым.
Дик, однако, угрызений совести не испытывал, поскольку искренне верил, что его жизнь подвергалась опасности, но ему было не по себе, казалось, будто мир перевернулся. И, хотя он считал себя правым, ему казалось, что он воплотил в жизнь одну из тех кошмарных историй, когда безумные получают власть и надевают смирительные рубашки на персонал клиники. Классическая сцена: лжедиректор сумасшедшего дома приглашает полицейского, встревоженного странными слухами, посетить их заведение, и, проходя мимо палаты с обитыми войлоком стенами, говорит: «О, рекомендую вам посмотреть, это один из наиболее любопытных случаев. Представляете, несчастный утверждает, будто является директором и что его якобы заперли здесь взбунтовавшиеся больные, которых возглавил я. Поразительно связный бред, держу пари, он бы и вас смог убедить. Ха-ха-ха».
Теперь, когда Анна, отупевшая от лекарств, не могла больше навредить ему, Филип уже не был так уверен в своей правоте. В отсутствие врага, против которого они бы могли быть направлены, его доводы теряли свою остроту. По прошествии нескольких дней Дик надумал все-таки пойти к психиатрам и объяснить им, что все это ужасное недоразумение, что на самом деле это его нужно было запереть в сумасшедшем доме. Он страдал от шизоидальных наклонностей, его мать уморила его сестру голодом, когда им было шесть недель от роду; кроме того, он проходил тестирования, согласно которым у него обнаружили то-то и то-то… Психиатры, напуганные этим ходячим трактатом по патологии, довольно бесцеремонно отправили Дика к его лечащему врачу.
Однако доктор Флайб однажды имевший слабость поверить Филу и встать на его сторону, теперь уже не так ему доверял. Психиатр, со своей стороны, начал опасаться, уж не совершил ли он ошибку, и приход Дика с его беспокойными заявлениями и недоверчивым видом только усилил опасения врача. Но он не осмелился отступиться и, за неимением другого выбора, предпочел ободрить своего колеблющегося пациента. В том, что Филип винит себя, нет ничего ненормального; напротив, зная его, доктор бы удивился обратному. Однако следует посмотреть в лицо печальной реальности, вместо того чтобы избегать ее и подменять вымыслами.
Как только Дику говорили, что он просто не смотрит реальности в лицо или воспринимает ее в искаженном виде, он моментально успокаивался. Можно было заставить этого человека признать, что его ошибкой, его непростительной ошибкой было непонимание того, что сам он нормальный, тогда как состояние здоровья его жены безнадежно. Он вел себя как человек, пытающийся завести машину, не имеющую мотора, и обвиняющий себя в том, что ему это не удается.
— Вся проблема в том, — повторял доктор Флайб с вкрадчивой убедительностью, — что там вообще нет мотора. И вы ничего не можете сделать. Вы ни при чем. Это не ваша вина. Ваша ошибка, напротив, состоит в том, что вы искренне верите в свою виновность. Вот это действительно ошибка. Я называю это отказом смотреть в лицо реальности. Больна ваша жена, а не вы, и именно с этим вы должны смириться. Не принять это было бы безумием.
От доктора Флайба Дик вышел практически убежденным. Не особо в это веря, он все-таки надеялся, что однажды Анна также признает правоту этих слов. Он рисовал в своем воображении картину, как жена признается ему, с жалкой улыбкой, как Мэри в последней сцене «Кланов Альфанской луны»: «Я деп. Тесты показали, что у меня очень глубокая депрессия. Постоянные упреки, которыми я осыпала тебя из-за денег, должно быть, были следствием моего беспокойства, моего искаженного видения, что все идет не так, что нужно что-то сделать, иначе мы обречены».
Перечитывая эти строчки, Дик чувствовал неудержимый прилив нежности по отношению к Анне. Слезы подступали к его глазам. Он снова видел ее, такую хрупкую, такую беспомощную в своем розовом халате. Каким безумцем он был, когда принял маленькую несчастную девочку, испуганную, нуждающуюся в защите, за жестокую мегеру, которую следует сокрушить! Он думал теперь только о том, как заключить жену в свои объятия, ободрить ее, сказать Анне, что никогда ее не оставит, что он поплывет, чтобы спасти ее, вернуть к берегу разума. Да, он вырвет жену из ледяного и безутешного мира безумия, из его острых колючек. Силой терпения и любви он заставит Анну вновь обрести мягкое тепло реального мира.
Анна вернулась домой, превращенная в зомби неким мощным псиолептиком, который, как сказал доктор Флайб, она теперь будет принимать до конца жизни. Фил должен был следить за тем, чтобы жена глотала таблетки. Поскольку лекарства еще не лишили ее окончательно ясности ума и она не перестала желать восстановить ее в полной мере, Анна пыталась хитрить, выплевывать таблетки. Подозревая это, Фил ходил вокруг нее, ждал, пока она проглотит лекарство, обыскивал цветочные горшки. Он очень жалел себя: какое несчастье быть связанным с настолько тяжело больной женщиной. Однажды Анна услышала, как он, разговаривая с матерью по телефону и беспрерывно жалуясь, признал, что, «вероятно, Анне тоже тяжело». Несмотря на свою заторможенность, она едва не задохнулась от ярости.
Филип спрашивал себя, что он будет делать, если состояние Анны не улучшится. Разведется и будет искать другую жену? Или всю свою жизнь он будет тащить эту ношу? — христианин сказал бы, нести этот крест.
Пока Анна находилась в больнице, Филипу на помощь пришла привлекательная и странная женщина. Шведка по происхождению, атлетического телосложения, любящая выпить, эта Марен Хаккетт, инспектор полиции, водитель большегрузных машин и член общества, куда принимали только людей с необычайно высоким IQ, была совсем не похожа на ханжу, как Дик их себе представлял. Тем не менее она также была активным членом католического епископального прихода в Инвернессе, деревушке, где она жила, недалеко от Пойнт Рэйс. По ее совету Филип начал читать Послания апостола Павла, особенно места, касающиеся милосердия, в котором он признал то, что сам до того момента называл сопереживанием и, как и апостол, считал самой великой из добродетелей. В конечном счете Филип прекрасно чувствовал себя в роли мужа безнадежно больной женщины, с удивительным самопожертвованием заботящегося о ней, приносящего ей в жертву свою блестящую жизнь и увлекательные любовные похождения, которые, без сомнения, стали бы в противном случае его уделом. Герой романа, написанного Диком той осенью, «В ожидании прошлого» («Now Wait for Last Year»), столкнувшись с похожей дилеммой, обретает мужество и получает поддержку у робота-такси, как сам писатель получил ее со стороны Марен Хаккетт.
— Скажите, ваша жена когда-нибудь тяжело болела?
— У меня нет жены, сэр. Автономные механизмы не сочетаются браком.
— Хорошо, предположим, если бы вы были на моем месте и ваша жена заболела бы тяжело и неизлечимо, без малейшей надежды на выздоровление, вы бы оставили ее? Или же остались бы с ней, даже если бы знали, что и через десять лет нарушения, вызванные повреждением позвоночника, останутся необратимыми?
— Это означало бы, что единственной целью вашего существования станет забота о ней?
— Да.
— Я бы остался, — сказал робот.
— Но почему?
— Да потому что жизнь состоит из таких вот структур реальности. И если я покину больную жену, то получится, что я не могу выносить реальность такой, какова она есть.
— Пожалуй, я согласен с вами. Я думаю, что останусь с ней.
— Господь благословит вас, сэр. Вы честный человек.
Глава девятая РЕАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Как-то в один из ноябрьских дней 1963 года ближе к вечеру Дик брел по пастбищам, из-за бесконечных дождей превратившимся в трясину. В ложбинах из воды торчали ветви деревьев; вскоре, чтобы добраться от дома до хижины шерифа, понадобится лодка. Это наводнение напомнило Дику одно из мест в «Винни-Пухе», но даже воспоминание о любимой книге детства не смогло повысить настроение. С тех пор как Анна прекратила принимать лекарства, прописанные доктором Флайбом, она стала как прежде и даже хуже, чем раньше, потому что она смертельно ненавидела мужа, так что Филу приходилось по новой терпеть злобную жену, вместо того чтобы представлять себе, как он ее спасает. На вопрос, следует ли при подобных обстоятельствах уйти или остаться, «Ицзин» дала ему неутешительный ответ: Ку, работа над тем, что испорчено.
Гексаграмма являла собой блюдо, на котором кишели черви. Это весьма соответствовало его состоянию духа, его браку, вообще его жизни. Вывод, казалось, напрашивался сам собой: любой нормальный человек, в котором есть хоть капля инстинкта самосохранения, пнет такое блюдо и убежит со всех ног, прежде чем его мозг растопится окончательно и ему придется провести остаток жизни, глядя, как черви пожирают друг друга. Но, согласно «Ицзин», ничто не является окончательным, все меняется, торжествующие гексаграммы содержат зародыши упадка, а наиболее удручающие, как та, что ему только что выпала, — зародыши обновления. «В этом застое, — говорилось в комментарии, — одновременно содержится и то, что необходимо, чтобы положить ему конец. То, что испорчено из-за ошибки одного человека, может быть исправлено работой людей. Полезно пересекать большие воды».
Другими словами, вместо того чтобы бежать, вырваться из зыбучих песков, куда его тащила Анна, нужно было попытаться спасти их брак. Может быть, пересечение больших вод ведет его к намеченной цели. Было бы слишком глупо опустить руки в последний момент, подобно тому как Христофор Колумб, отчаявшись, всего за несколько кабельтовых от берегов Америки вдруг повернул бы назад. С другой стороны, можно потратить долгие годы понапрасну или даже погубить жизнь, упорствуя в своем заблуждении, ибо невозможно заранее узнать, плывешь ты к земле или к смерти.
И тут над ним прокричала какая-то птица. Филип поднял голову.
Вместо неба над ним было лицо: огромное, металлическое, страшное; склонившись, оно разглядывало его.
Испугавшись, Дик закрыл глаза. Перед его мысленным взором все еще стояло видение, но не само лицо, а его выражение, невероятно безобразное, как если бы в нем сосредоточилось все мировое зло, в этом взгляде, который сочился из щелей, расположенных рядом с носом, или тем, что должно было быть носом. Филип понял, что всю жизнь боялся увидеть именно это. И так напугавшая его в детстве глупая шутка отца с противогазом тоже предвещала это. И вот теперь он увидел. Теперь он никогда этого не забудет. И никогда больше не сможет уже спать спокойно.
Филип медленно открыл глаза. Поскольку он стоял, опустив голову вниз, то первое, что увидел, были его ботинки, его большие армейские ботинки, сильно испачканные размокшей землей. Филип с облегчением смотрел на них: ботинки были тяжелые и вполне реальные. Он поднял глаза.
Лицо все еще было там, поджидая его.
На этот раз он не зажмурился в испуге, а открыл рот и попытался что-нибудь сказать.
— Я тебя не боюсь. Ты не существуешь. — Голос его дрожал. Филип и сам не узнал его, но поскольку он хотел договорить, то он заставил себя продолжить: — Ты не существуешь. Ты — галлюцинация, порожденная моим мозгом. Я был слишком несчастен в последнее время. Слишком одинок, слишком удручен, в этом вся причина. Но ты не существуешь.
Лицо, казалось, ухмылялось. Не было ничего, кроме ухмылки, смерти и ухмылки. Дик бросился бежать. Он бежал до дома не останавливаясь, никого не встретив, не пытаясь обогнуть лужи, грязь из которых летела ему на одежду, не глядя на небо над головой, поскольку он даже не надеялся, что лица там больше нет.
Несколько дней подряд страшное лицо на небе играло с ним в прятки, исчезая, когда Фил набирался смелости поднять глаза, чтобы посмотреть, там ли оно, и проникая в поле его зрения в тот момент, когда он этого меньше всего ждал. Все, что можно увидеть глазом, включая фосфен[9], несло его в себе или предвещало его.
Будучи на грани нервного срыва, Дик отправился в Сан-Рафаэль к доктору Флайбу. Тот спросил пациента с недоверчивым видом, не пробовал ли тот случайно новый галлюциногенный наркотик, о котором сейчас повсюду говорят и пишут. Рассказывали (и эта информация особенно заставила доктора призадуматься) о курсах лечения ЛСД, которые самые модные психоаналитики Лос-Анджелеса предлагали наиболее элитным своим пациентам по двести долларов за сеанс. Актер Кэри Грант признался «Тайм мэгэзин», что он вот уже целый год раз в неделю принимает ЛСД, и что эта привычка совершенно изменила его мировосприятие и его манеру играть комедийные роли. Узнав об этом, доктор Флайб специально сходил посмотреть последний фильм с участием этого актера, надеясь заметить изменения, и в самом деле, будучи предупрежденным, он их заметил. Увлечение коснулось не только эксцентричных голливудских актеров, но и затронуло наиболее уважаемые академические круги: один гарвардский профессор по имени Тимоти Лири был уволен за то, что превозносил усиленное употребление этого наркотика перед студентами. Он говорил, что под воздействием ЛСД пережил потрясающие мгновения…
Дик в ответ лишь пожал плечами: да, он слышал разговоры об этом, читал Хаксли, который излагал примерно то же самое, но сам никогда не принимал ЛСД. Сами понимаете, такие вещи не продаются в Пойнт Рэйс, да и его опыт явно не походит на пережитое профессором из Гарварда. Тут в восторг приходить не от чего. Если бы профессор увидел то же самое, что и Дик, это ужасное лицо в небе, ищущее, кого бы сожрать, он не стал бы убеждать студентов последовать за ним. Если только он не был последним мерзавцем, лакеем Сатаны, загоняющим добычу для своего хозяина. Если хорошенько подумать, такое вполне возможно. Возможно, хотя и ужасно. И если этот тип действительно так поступал, то Адольф Гитлер был по сравнению с ним мальчиком из церковного хора…
— Спокойно, спокойно, — сказал доктор Флайб, которого его пациент заставлял нервничать все больше и больше.
Полагая, что отступает на более твердую почву, он объяснил галлюцинацию усталостью, беспокойством, помещением Анны в больницу, но Дик этим не удовлетворился. Во-первых, его мало радовало то обстоятельство, что этот кошмар существовал скорее в его мозгу, чем в реальности, — хорошенькое утешение. Во-вторых, он очень хорошо знал, что с ним происходит: и это не называется галлюцинацией, это нечто прямо противоположное. По различным причинам, из-за усталости, приема амфетаминов, семейной трагедии и, возможно, определенной внутренней предрасположенности, его физический механизм, который должен фильтровать реальность, заедает. Экран, который закрывает ее и позволяет ее выдерживать, разорвался. Он видел реальность, и теперь его проблема заключалась в том, чтобы выжить с этим видением.
— Вы знаете, — спросил он психиатра, — что сказал Джон Колье? Мировоззрением управляет некий тип, который наливает пиво в стакан. Пиво дает много пены, и наш собственный мир — всего лишь пузырек среди этой пены. Случается, что некоторые сквозь пузырьки мельком видят лицо этого типа, ну, который наливает пиво. И если они однажды такое увидят, то для них ничто уже не будет как прежде. Именно это со мной и произошло.
— Вы хотите сказать, — рискнул спросить доктор Флайб, — что вы видели Бога?
Из Сан-Рафаэля Дик отправился прямиком в Инвернесс, где находилась церковь, которую посещала Марен Хаккетт. Это было милое деревянное сооружение, расположенное на краю фьорда, которое, хотя и являлось католическим, но олицетворяло собой, как и Марен Хаккетт, нордическое суровое спокойствие. Филип вошел, попросил его исповедовать. Священник показался ему разумнее психиатра, по крайней мере, он слушал то, что ему говорили. Несколько раз священник печально поморщился, как если бы прекрасно понимал его. Он был похож на старого охотника, который некогда сталкивался с чудовищным волком и полагал, что избавил мир от него, вплоть до того дня, когда один напуганный юнец не рассказал, что его противник, оказывается, вернулся и что ему снова придется дать бой. В конце исповеди священник просто сказал:
— Вы повстречали Сатану.
Этот диагноз ободрил Дика. Церковь восприняла его всерьез, она знала о его проблеме. Но они дешево отделались, думал Филип, отказавшись считать возможным, что он встретил самого Бога, что этот кошмар был Богом, а не зловредным подпевалой. Действительно ли мир, в конечном итоге, настолько хорошо сделан, чтобы можно было без проверки приписать эту заслугу благосклонному божеству? Сформулированная таким образом гипотеза еще больше огорчила священника, но не удивила его. Казалось, ничто не может его удивить. Самое неистовое богохульство заставило бы этого человека лишь печально покачать головой, как опытного врача — тревожный, но банальный симптом. Это раздражало, но вместе с тем успокаивало. Теперь Филип был уже не один перед этим металлическим лицом, заполнявшим небо. Другие, даже не видя его, знали, что оно существует, и молились вместе с ним, молились за него.
Реакция Анны, когда Филип объявил жене о своем желании войти в лоно католической церкви, удивила его. Клео наверняка рассмеялась бы, да и весь Беркли вместе с нею; несколько месяцев назад он и сам бы рассмеялся. Но Анна была взволнована. Она крепко обняла супруга. И прошептала, что окрестится вместе с ним, и девочки тоже. Несчастье ослабило чувство нелепого, оно обратило Филипа к Богу, для этого, согласно христианам, оно и существует. Дик понял, что в глазах Анны это обращение было последней попыткой спасти их брак или перенести их разрыв. Он пообещал себе не разочаровывать ее.
Чтобы подготовиться к крещению, супруги посетили несколько занятий по катехизису. Оба они не получили религиозного воспитания, но незнание Анны нравилось священнику больше, чем расплывчатые и многочисленные теологические представления Фила, постоянно склонявшегося к воскрешению ересиархов и к предпочтению апокрифов Евангелиям, еще до того, как он их прочел.
Девочки не очень хорошо понимали принцип причастия. Он повергал их в шок. То, что Иисус увещевал есть его тело и пить его кровь, казалось им отвратительным, чем-то вроде каннибализма. Анна, чтобы успокоить дочерей, сказала, что речь идет об образном выражении, ну все равно как «глотать слова», но Фил запротестовал: не стоило труда становиться католиками, чтобы пошло рационализировать все таинства.
— Но также, — возразила Анна, — не стоит труда становиться католиком лишь для того, чтобы превращать религию в одну из твоих научно-фантастических историй.
— Именно к этому, — сказал Фил, — я и веду. Если принимать всерьез все, о чем говорит Новый Завет, придется поверить, что, спустя без малого две тысячи лет с момента ухода Иисуса, который оставил нам Святой Дух, человечество подверглось некоей мутации. Может быть, так не бывает, но это так: если ты мне не веришь, стало быть ты не христианка, вот и все. И это не я сказал, а апостол Павел. Так что не моя вина, если христианство и в самом деле похоже на научную фантастику. Таинство евхаристии является действующей силой этой мутации, и не преподноси его бедным крошкам как своего рода глупое ознаменование. Послушайте меня, девочки. Я расскажу вам историю про кошку и антрекот. Как-то раз одна женщина ждала к ужину гостей. Она купила и поставила в кухне на буфет великолепный антрекот весом в пять фунтов. Когда пришли гости, хозяйка пригласила их в гостиную. Все выпили по бокалу или по два мартини, затем она извинилась и проскользнула на кухню, чтобы приготовить антрекот… И вдруг заметила, что он исчез. И что же она видит — ее кошка сидит в углу и спокойно облизывается?
— Все ясно. Кошка съела антрекот, — торжественно сказала старшая из девочек.
— Ты думаешь? Ты очень не глупа, но не будем торопиться.
Подходят гости. Обсуждают. Пять фунтов антрекота испарились, а у кошки весьма довольный и сытый вид. Взвесим кошку, предложил один из гостей. Они все немного выпили, и идея показалась им превосходной. Они пошли в ванную, поставили кошку на весы. Она весила ровно пять фунтов. Все столпились вокруг весов. Один из гостей сказал: «Это точно она, вес сходится». Все были уверены, что теперь знают, что произошло, ведь у них имелось неопровержимое доказательство. И тут другой гость, терзаемый сомнениями, заявил: «Но ведь получается, что мы взвесили лишь антрекот. Где же в таком случае сама кошка?»
Наступило Рождество. Дожди прекратились, лицо в небе исчезло. Фил и Анна положили друг другу под елку набожные произведения. Старшая из девочек получила в подарок куклу Барби, а в придачу множество различных нарядов, аксессуары для создания причесок и макияжа. В комплект входил также приятель Барби по имени Кен. Поначалу Фил лишь снисходительно улыбался — такой рефлекс вызвали у уроженца Беркли эти идеально карикатурные персонажи, воплощавшие американскую мечту, но вскоре Барби и Кен очаровали его. Он представил себе археологов будущего, или марсиан, реконструирующих нашу цивилизацию, имея только лишь этих двух кукол. Подобно ученому, склонившемуся над миниатюрой, он не упускал ни одной детали, выясняя, насколько они соответствуют действительности. Фен Барби казался более сложным и в целом более реалистичным, чем фен Анны. Бюстгальтер куклы застегивался и расстегивался не быстрее, чем настоящий, но груди не имели ни сосков, ни ареол, и если, пользуясь тем, что Анна повернулась к мужу спиной, отважиться приспустить ее трусики, то там, хоп, не окажется волосков, вообще ничего, и археологи будущего будут мучиться, выясняя, как размножались люди в XX веке. Но, возможно, археологи будущего ничуть и не удивятся, поскольку они сами будут выглядеть точь-в-точь, как Кен и Барби. Возможно, эти две куклы предвосхищают завтрашнее человечество, призванное нас заменить. Или даже — почему бы нет? — они являются авангардом инопланетного вторжения.
Эта тема соблазняла Дика, но он уже неоднократно ее использовал, в частности, в рассказе, написанном накануне самого первого Рождества, проведенного вместе с Анной и падчерицами. Речь в нем шла о таможенниках, тщательно проверяющих целую серию игрушек, которыми коварный Ганимед намеревался заполнить земной рынок. На первый взгляд, это вроде бы были мирные и развивающие игрушки, но, зная о легендарном экспансионизме жителей этой планеты, таможенники их остерегались. Они опасались, что обитатели Ганимеда изобрели какой-нибудь новый хитроумный способ вторжения, подобно тем, что они уже использовали, чтобы без боя завоевывать другие планеты. Самым простым было бы, конечно, вообще запретить ввоз чего бы то ни было с Ганимеда, но это противоречило законам. Поэтому следовало смотреть во все глаза, чтобы распознать потенциального троянского коня. Всего тестированию подлежали три игрушки. Причем если с первыми двумя все было сразу ясно, то относительно третьей игрушки таможенникам пришлось поломать голову. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы с отвращением отвергнуть костюм для игрушечного ковбоя, сделанный так, чтобы «изменить» внешний вид того, кто его носит, и тем самым способствовать раздвоению личности. Или чтобы пропустить совершенно глупый и ничуть не воинственный вариант Монополии. А вот третья игрушка представляет из себя странную крепость, оснащенную маленькими роботами-солдатами, чьей задачей, по-видимому, является ее осада; а кроме того, каждые три часа опускается подъемный мост, один из солдат приближается, проходит по нему, после чего мост опять поднимается, и солдата уже больше не видно. Невозможно открыть крепость, но ее можно взвесить и установить, что ее вес не увеличился ни на миллиграмм, даже после того как она поглотила дюжину солдат. Таможенники не понимали, в чем состоит игровой и воспитательный смысл этой сложной и в то же время не обладающей явной конечной целью системы. В чем заключалась опасность, если предположить, что эта опасность вообще существовала? Таможенники спрашивали себя, что могла содержать эта таинственная крепость и что произойдет, когда больше не останется ни одного солдата, поскольку казалось, что другого предела у «игры» нет? Чтобы узнать это, нужно было подождать и пока тестирующие, не без легкого беспокойства, ждут, я предлагаю вернуться к нашей истории, произошедшей четыре года спустя. (Чем закончилась история с игрушками с Ганимеда, вы узнаете в конце главы.)
Теперь у Дика возникла другая, связанная с Марсом, идея, как использовать Барби и Кена. Он уже переносил действие двух или трех романов на Марс, всякий раз описывая эту планету как особенно враждебную колонию, куда по доброй воле никто не эмигрировал. Подземные норы, разбросанные по пустыне, где самыми привлекательными существами являются орды шакалов-телепатов, дают приют несчастным колонистам, погрязшим в тоске, одиночестве и тесноте. Понятно, что любая форма развлечения, в широком смысле, как ее понимал Паскаль, включая туда и религию, была бы в подобных условиях воспринята с радостью, что открывало широкий рынок сбыта для земных производителей, способных это обеспечить. Опиумом для народа на Марсе стал комплект под названием «Кукла Пэт».
Кукла Пэт и ее приятель Уолт, клоны Барби и Кена, как предполагалось, живут на Земле, в Калифорнии. Можно было достать множество миниатюрных аксессуаров, помогающих с максимальной подлинностью изобразить их завидное существование. Собрав основные элементы — дома, сады, автомобили, модную одежду, включая купальник, газонокосилку, обитатели нор, подстрекаемые парой местных диск-жокеев, нанятых компанией по производству игрушек, беспрестанно расширяли и улучшали мир своих кукол: появлялись соседние дома и улицы, кафетерий, парикмахерская, бывшие подружки, чтобы Пэт было с кем поболтать, торговый центр, пляж, окаймленный пальмами, психоаналитик со своим кабинетом, в котором имелись диван, трубка и переплетенные книги Фрейда — превосходная и очень востребованная вещь. Официально предполагалось, что колонисты испытывают ни с чем несравнимое приятное чувство, включая автоматическую систему для открывания миниатюрного гаража, которой производители снабдили его за большие деньги, или сажая куклу Пэт за руль новенького «форда» с откидным верхом и заставляя ее опустить в миниатюрный счетчик на миниатюрной парковке миниатюрную игрушечную монетку достоинством в один доллар, купленную за десять настоящих, так как тонкая работа и транспорт дорого обходятся. На самом деле потребители далеко не идиоты и верят в то, что эти игры перемещают их на Землю не больше, чем белые бедняки из колониальных романов, нюхая старый билет метро, верят в то, что они оказались в родном Париже. Однако комплекты под названием «Кукла Пэт» были лишь легальным прикрытием незаконной торговли, на которую, впрочем, власти закрывали глаза. Корпорация некоего Лео Булеро, который выпустил игрушки на рынок, продает вместе с ними наркотик, ганимедский лишайник дэ-лисс, который обеспечивает всем, кто его примет, иллюзию того, что они, покинув свои бедные несчастные тела, в реальности являются одной из этих блистательных кукол — Пэт или Уолтом. Люди все это время сидят неподвижно в углу своей грязной марсианской норы, вцепившись пальцами в пластиковую куклу, лишенную лобковых волос, тогда как их дух вырывается и улетает. В худшем случае у них остается только смутное воспоминание о личности, которой они были, — нечто вроде интуиции, унаследованной от предыдущей реинкарнации. Освободившись от жалкой оболочки, можно в образе Пэт или Уолта получать вместе со своими партнерами абсолютно все что угодно, причем никакой моралист вас за это не осудит. Прелюбодеяние, кровосмешение, убийство — ограничений тут нет. Все ваши мечты и желания воплощаются в жизнь, правда, в другом измерении. Несколько иначе (трудно сказать, лучше или хуже) обстоит дело, когда сразу несколько человек принимают наркотик, после чего оказываются в одном и том же теле, ощущения которого разделяют. Итак, в одной из первых сцен новой книги (Дик написал ее той зимой), речь идет о шести обитателях одной норы, принимающих участие в долгом поцелуе, которым обмениваются на залитом солнцем калифорнийском пляже Уолт и Пэт. «Два их загорелых тела давали приют шестерым. Два в шести, шесть в двух. Вечная тайна».
Сталкиваясь с этой тайной «перемещения» каждый раз, когда они принимали дэ-лисс, колонисты разделились на «верующих» и «неверующих». Последние считали кукол всего лишь символическим изображением мира, из которого они были изгнаны, а идентификацию с Пэт или Уолтом — иллюзией, помогающей им перенести этот удар судьбы. «Верующие» же, напротив, считали реальностью тот священный момент, в который миниатюрные элементы кукол и прилагаемых к ним комплектов перестают изображать Землю, чтобы стать Землей.
А что евхаристия, является ли она всего лишь обрядом или же действительно вызывает реальное присутствие Спасителя? Несколькими неделями ранее Дик счел бы этот вопрос предлогом для занятного спора, разграничительной линией между двумя различными мировоззрениями. Но этой зимой он с содроганием задавал себе другой вопрос: что было бы, окажись реальное настоящее настоящим того существа, которое он видел в небе и наличие которого там не любил слишком часто проверять?
«Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, останется во мне и я в нем» (Евангелие от Иоанна, 6:56). А вот случится ли то же самое с теми, кто, не желая ничего дурного, съедят плоть и выпьют кровь Палмера Элдрича?
В рассказах Лавкрафта, которые Филип Дик в детстве читал запоем (и которые, как мне нравится думать, определили его призвание, поскольку именно так произошло со мной самим), речь постоянно идет о столь ужасных вещах, что автор отказывается их описывать. Среди многочисленных эпитетов, которые Лавкрафт традиционно употребляет, чтобы оправдать эту напыщенную и в то же время эффективную отговорку, есть один, более выразительный, чем обязательные eerie мрачный, uncanny сверхъестественный и hideous ужасный: это эпитет eldritch жуткий. В глазах Дика это прилагательное воплощало в себе то, что Фрейд вкладывал в слово unheimlich, зловещий, однако в то же время к этому добавляется еще оттенок паники. Было в этом эпитете что-то неискреннее, коварное, притворно знакомое, но таилось в нем также и неистовство, ужас, который заставляет кричать, чтобы проснуться; однако хуже всего то, что вы уже проснулись, но спасения нет: вы здесь, внутри комнаты.
Дик знал, начиная эту книгу, куда он в конце концов придет. Но он боялся туда идти, ужасно боялся. Между Рождеством и Новым годом он написал сто первых страниц: описал место действия на Марсе, норы колонистов, куклу Пэт, наркотик дэ-лисс. Дик поставил во главе предприятия по производству игрушек и наркоторговли, которую они прикрывают, симпатичного разбойника по имени Лео Булеро, а ему в помощники дал некоего Барни Майерсона, жуткого меланхолика, склонного к самобичеванию и вечно сожалеющего о том, что в решающий момент на жизненном перекрестке свернул не в ту сторону. Дик вполне мог бы на этом и остановиться, сыграть на этих двух персонажах. Благодаря парадоксам, вызываемым «перемещением», у него совершенно точно было достаточно материала для романа. Но он также распустил повсюду тревожные слухи о возвращении Палмера Элдрича.
Палмер Элдрич был авантюристом, который десять лет назад отправился в систему Прокс и о котором больше никто ничего не слышал. Его считали мертвым или даже хуже, зомби. И вот появились свидетели, которые говорили, что видели его, что Палмер Элдрич вернулся. Его можно было опознать по трем протезам: искусственной руке, сияющим металлическим зубам и по маленьким щелям-бойницам вместо глаз, снабженным панорамными камерами. Из своего путешествия за пределы известных миров Элдрич — или, как окружающие не замедлили заподозрить, некто занявший его место, — привез новый наркотик, призванный заменить старый добрый дэ-лисс. Этот наркотик, он называется ка-присс, Элдрич его распространяет под рекламным лозунгом: «Бог обещает вечную жизнь, а мы ее раздаем».
На десятый день Дик написал сцену, в которой Лео Булеро прибывает на Луну, чтобы встретиться там с Палмером Элдричем. Он собирается, вот наивный, заключить с ним торговое соглашение. Дик встает из-за машинки, так как уже пора ужинать, зная, что он заставит своего героя попробовать ка-присс, когда он вновь сядет за нее. Ложась спать, Фил спросил себя, что будет, если он вдруг ночью внезапно умрет, как Элдрич выпутается без него. Но он не умер, он в ту ночь даже не заснул. Потихоньку встал, чтобы дописать. В ванной, прежде чем открыть шкафчик, в котором хранились лекарства, Филип долго разглядывал себя в зеркале, чтобы вспомнить позднее свое лицо. Затем он оделся и вышел. Когда Фил направлялся к домику, на лугу едва слышно заржала лошадь и подошла к изгороди. От ее влажной морды поднимался пар. Он погладил ее, затем ушел в ночь. Филип двигался с некоторым оцепенением. К нему вернулись обрывки детского сна, в котором он строил тобогган, карабкался наверх по ступеням, и вот наступал момент, когда нужно было скатиться вниз, слететь, спуститься все быстрее и быстрее по беззвездному небу, там внизу его ждал Палмер Элдрич, чтобы сожрать.
Лео сидел на стуле в пустой комнате с белыми стенами. Из чемодана, стоявшего рядом с ним, доносился голос Элдрича, объявляющего о своем намерении завоевать Солнечную систему, но особым, доселе небывалым способом. Лео усмехнулся. Он пришел побеседовать о делах, посмотреть, есть ли возможность договориться или же придется сражаться насмерть против конкуренции этого внеземного страшилища-мутанта. Он занервничал.
И тут вдруг комната сверкнула ему в лицо.
Лео обнаружил, что находится на покрытом травой склоне. Рядом с ним маленькая девочка играет, запуская волчок. Все нормально и одновременно странно. Атмосфера примерно такая же, как в «Алисе в Стране чудес», но нет, здесь что-то другое, гораздо более неприятное.
Элдрич.
Каким-то очевидным, но необъяснимым образом эта маленькая девочка была Элдричем. И трава на газоне была Элдричем. Волчок, воздух, который Лео вдыхал, были наполнены Элдричем. Тогда Лео понял, что он «там, куда отправляются, приняв ка-присс», который его, должно быть, заставили проглотить без его ведома. Возможно, в той самой и пустой комнате с белыми стенами, куда его заточили на Луне. Но, может быть, эта пустая комната с белыми стенами уже была частью галлюцинации. Неужели все началось еще до того, как он высадился на Луне? Или еще раньше? Ведь нет такого момента, когда ничто не свидетельствовало о том, что это уже не началось и что Элдрич не развлекался, заставляя Лео верить, что тот живет своей собственной жизнью в нормальном мире, как жестокий рыбак позволяет поплескаться рыбе, которую он подцепил на крючок, прежде чем резким движением выдернуть ее из воды. Именно это Элдрич и делал. Он явился сам, со своими тремя протезами, на перекресток лабиринта, куда заманил Лео, и очень вежливо, как рыбак, излагающий рыбе золотые правила ловли на удочку, объяснил ему в деталях преимущества «аутентичного продукта», по отношению к которому дэ-лисс был всего лишь заменителем.
— Прежде всего, когда мы вернемся в наше прежнее тело, — вы, пожалуйста, обратите внимание на употребление слова прежнее, которое ни в коем случае не применимо к дэ-лисс — вы убедитесь, что время не изменилось ни на секунду. Мы могли бы оставаться здесь пятьдесят лет, и все равно ничего бы не изменилось. Мы бы обнаружили себя на Луне, как будто бы ничего не произошло; сторонний наблюдатель, находящийся рядом с нашими телами в этот момент, был бы неспособен обнаружить малейший признак потери сознания.
— И что определяет длительность нашего пребывания здесь? — спросил Лео.
— Наша добрая воля.
— Это неправда. Вот уже несколько часов, как я пытаюсь отсюда выйти.
— Да, но ведь это не вы создали то место, где мы находимся. Это сделал я. Все, что здесь есть, принадлежит мне. Даже ваше тело.
— Мое тело? — с ужасом переспросил Лео.
— Вы существуете в этом мире таким, какой вы есть, лишь по моей доброй воле. И что самое важное, речь идет о подлинном мире, а не о галлюцинации.
— Многие люди говорят то же самое о дэ-лисс. Они свято верят в то, что действительно были Пэт или Уолтом и жили на Земле.
— Фанатики, — презрительно сказал Элдрич. — Но поверить мне в ваших же интересах. Иначе вы не выйдете отсюда живым.
— В галлюцинации не умирают. Я возвращаюсь к себе.
И, направившись к лестнице, порожденной только волей, Лео покинул полный ловушек мир Элдрича. Он находился на Земле, в собственном офисе, в окружении своих сотрудников. Возбужденный, он начал им рассказывать о том, как попробовал конкурирующий наркотик, который, по его словам, уступал по качеству дэ-лисс.
— Никакого реализма. С самого начала известно, что вы находитесь в галлюцинации. Относительно этого нет ни малейшего сомнения… Что такое, мисс Фьюгэйт? Почему вы на меня так смотрите?
— Извините, Лео, — пробормотала мисс Фьюгэйт. — Но под вашим столом что-то есть.
— Интересно что? — Лео нагнулся. Действительно, что-то глядело на него. Нечто бесформенное. Темное и ухмыляющееся.
— Все ясно, мисс Фьюгэйт, — вздохнул Лео. — Я считаю бесполезным рассуждать далее о мерах, которые следует предпринять в связи с появлением на рынке ка-присс. Потому что в действительности я говорю сам с собой. Я один в мире, в котором Элдрич меня запер. Если бы не это поганое создание, призванное показать мне, насколько он меня контролирует, я мог бы продолжать бесконечно. Жить целый век в этом заменителе мира, из которого я не знаю, как выйти.
Господи Боже мой, я пропал.
Господи, помоги мне! Если Ты сделаешь это, если Твое могущество простирается до этого мира, я сделаю все, что Ты захочешь.
Крещение, запланированное несколько недель назад, состоялось на следующий день.
Семья явилась в церковь нарядная и в полном составе. Фил был при галстуке, он облачился в твидовый пиджак с кожаными заплатами на локтях, который придавал ему, если верить Анне, вид настоящего писателя. Насколько Филип мог об этом судить, не имея привычки участвовать в религиозных обрядах, все прошло нормально. Священник произносил успокаивающие слова литургии. Девочки, Анна и Марен Хаккетт, которая предложила стать их крестной, приняли сосредоточенный вид. Лора вела себя хорошо. В маленькой деревянной церкви было уютно, Филип чувствовал себя в безопасности. И в то же время вся сцена производила на него впечатление кощунственной пародии. В любой момент, тайно или явно, Элдрич мог обнаружить свое присутствие. Он мог переместить крошечный элемент убранства, который взял Фил или священник, и разбить его вдребезги о стену. Превратить воду для крещения в купорос. Или просто подмигнуть Филипу, как близкому другу, так чтобы никто этого не заметил. Воспользовавшись для этого глазом священника. Дик боялся встретиться с Элдричем взглядом и признать в нем того, чье лицо видел на небе.
Пели 138-й псалом:
Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня, И полагаешь на мне руку Твою. Куда пойду от духа Твоего, И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там; Сойду ли в преисподнюю, и там Ты.По возвращении из церкви Фил принял мефистофелевское выражение лица, которое так веселило девочек, и объявил, что видел за баптистерием удирающего чертенка с рогами и длинным раздвоенным хвостом, явно обеспокоенного их посещением. Но он сказал это так, для смеха. И, что бы там ни было, он все-таки принял крещение.
Опять погрузившись в написание романа, Филип Дик обнаружил потребность в новом герое. Нужен был свидетель его крещения, посланник любящего Бога, в котором он только что возродился водой и духом, чтобы сопровождать Барни, его второе «я», ибо отныне этот человек вышел на первый план. Хотя было немного поздно вводить новый персонаж, Дик заставил Барни встретить во время поездки на Луну молодую, недавно обращенную христианку по имени Анна, искреннюю и честную, убежденную в том, что грязная реальность лучше, чем самая возбуждающая из иллюзий, и что обращение к наркотикам свидетельствует о духовной жажде колонистов, об их устремлении к тому, что им может дать только Церковь. Увы, если кого Дик совершенно и не умел описывать, несмотря на самые добрые намерения, так это положительных героев и героинь, а уж святых… Едва ступив на Марс, галактическая миссионерка мигом сникла и в спешном порядке проглотила дозу дэ-лисс, чтобы ускользнуть от отчаяния, которое буквально подступает ей к горлу. Ибо на этой планете нет ничего другого: лишь наркотики и мрак. И Анна понимает, что молитвы не помогут, что она не выдержит, когда столкнется с гораздо более страшным искушением — ка-присс, а оно заставит себя ждать. Ее уже привлек лозунг Элдрича «Бог обещает вечную жизнь, а мы ее раздаем». Однако она знала, что это ложь, а если вдруг и правда, то это еще хуже.
«Если некто прибывает из системы Прокc, чтобы предложить нам то, что мы просим в течение тысячелетий, ну что в этом в принципе плохого? Сложно сказать, но я это чувствую. Может быть, потому что нас ждет полное порабощение Палмером Элдричем. Отныне он постоянно будет внутри нас, он проникнет в нашу жизнь. Так будет всякий раз, когда мы станем входить в перемещение, и, может быть, зайдя внутрь однажды, мы уже никогда оттуда больше не выйдем — мы будем видеть там не Бога, а Элдрича».
Именно это и начало вскоре происходить. Барни попробовал в свою очередь ка-присс и, поскольку сам автор отождествлял себя скорее с Барни, чем с его патроном, вся книга с этого момента целиком подпадает под власть Элдрича. Барни много трудится, постоянно спотыкается, барахтается в кромешном аду вереницы миров, постоянно обновляемых и абсолютно непокорных, в которых достаточно на мгновение довериться какому-либо существу, чтобы его знакомая внешность покрылась трещинами, чтобы появились глаза-щели, металлические рука и челюсть: недаром роман называется «Три стигмата Палмера Элдрича» («The Three Stigmata of Palmer Eldritch»). Даже если Барни вынырнет из кошмара, он увидит у изголовья кровати неохристианку Анну. Блеск ее зубов, молчаливая ухмылка лишают его иллюзий: ничего не закончилось. Принявший ка-присс навечно поселяется в Палмере Элдриче. Войдя в него однажды, выйти уже невозможно: движение одностороннее. Самое ужасное, что все бьются в его сетях, и, оказавшись там, невозможно никого предупредить. Снаружи никто ни о чем не подозревает. Элдрич пожрет все живое, всех людей, одного за другим. Он станет планетой и всеми обитателями этой планеты одновременно. Он будет душой их цивилизации и душой каждого из них. Он будет их цивилизацией и всеми людьми одновременно, но больше не будет ничего, а может быть, уже сейчас нет ничего, кроме Палмера Элдрича. Может быть, и эти безумные мысли, волнующие Барни Майерсона, которые литературно записал Фил Дик и пересказал я, мысли прокладывающие себе дорогу в то место, что вы считаете своим мозгом, существуют только лишь в сознании Палмера Элдрича, а он пользуется нами, неопределенными созданиями, для того чтобы оживлять свой вечный театр марионеток.
И возможно, только мысленно, пребывая под контролем Палмера Элдрича, Барни, Анна и марсианские колонисты, веря, что перемещение закончилось, обмениваются своими впечатлениями. Все посчитали пережитое просто чарующим, но согласились, что там было нечто, как бы это лучше сказать… нечто странное, смущающее, «что-то вроде стелющегося присутствия, как тень на столе»…
— Эта тень, это нечто, — сказал Барни, — имеет имя, которое вы узнали бы, если бы я вам его назвал. Хотя ясно, что эта тень никогда и не мечтала о таком названии. Мы сами дали ей это имя. Рано или поздно мы должны были с ней встретиться.
— Вы хотите сказать, это — Бог? — выдохнула Анна. — Бог… который причиняет зло?
— Это всего лишь один аспект, подсказанный нашим субъективным опытом.
Дик был католиком. Новоявленным и на свой манер, но католиком. Напечатав этот обмен репликами, он подумал, что не может вот так закончить роман, и добавил теологический спор между Анной и Барни, довольно красивый и весьма странный. Они оба знают, что в настоящий момент, пока длится то, что они считают своей жизнью, а может быть, и после, Элдрич будет жить в них. Кажется, что все вернулось к нормальной жизни, но он еще тут, он всегда будет тут. Может быть, этот кошмар — это и есть Бог. Однако оба знают также, что есть разница между его присутствием и «тем, кто посетил нас за две тысячи лет до него». Разница состоит в том, что Элдрич только воспроизводит наше человеческое желание увеличивать, вместо того чтобы уменьшать, жертвовать, вместо того чтобы быть принесенным в жертву, олицетворяет наши ограниченные, животные предпочтения, наше стремление завоевывать, этот Бог-грабитель является совершенно по-глупому естественным. Тогда как другой, тот, что пришел две тысячи лет назад, мягкий и скромный, стремился только убавлять, давать, вместо того чтобы брать, вплоть до того, что пожертвовал ради людей своей собственной жизнью, знак того, что Он существо сверхъестественное и, парадоксальным образом, более реальное, чем Элдрич.
Филип Дик был католиком, но также он был и Диком Крысой, а потому не мог удержаться от того, чтобы как следует не закрутить сюжет, кстати, именно из-за этого ему стоило больших трудов заканчивать свои книги. Было неплохой идеей связать книгу о Палмере Элдриче с Христом. Но как только глава была написана, у автора, должно быть, возник соблазн: несмотря ни на что, оставить последнее слово за Элдричем. Это объяснялось одновременно собственно философским страхом делать заключения и давнишней склонностью, детской и порочной, к историям о провале, к риторике фильмов ужасов. Кажется, все заканчивается просто замечательно, чудовище мертво, жизнь продолжается, все с облегчением вздыхают, как выжившие, так и зрители, за исключением самых сообразительных из них, потому что они-то как раз в курсе, что, если режиссер знает свое дело, он приготовил для них ужас из ужасов, заключительный эпизод, который все перевернет и пригвоздит вас к креслу. Да, Дик был католиком, но последнее слово у него неизбежно выпадает на долю чудовища, олицетворяющего мрак и ужас. Лео, находясь в ракете, летящей на Марс, замечает, что у всех пассажиров, включая его самого, внезапно появилось по три стигмата Палмера Элдрича, и понимает, что чума побеждает даже без помощи наркотика. «А если зараза, — волнуется он, — уже добралась до мозга? Вдруг мы олицетворяем не только внешний облик этого чудовища, но также его рассудок, выходит, тогда все наши планы ее уничтожить уже изначально обречены?»
На этом Дик и остановился. Финал истории об игрушках, приведенный несколькими страницами раньше, кажется мне более оригинальным и изящным. После того как все солдаты игрушечной крепости пропали, сама таинственная крепость становится неподвижной. Она не взрывается, не превращается в нечто иное, с ней вообще больше ничего не происходит. Игра кажется оконченной. А загадка остается, неразрешенная и обманчивая. Пребывая в сомнениях, таможенники запрещают ввоз этой игрушки на Землю, также как и костюма ковбоя, распространителя шизофрении. Напротив, они пропускают безобидный вариант Монополии, про которую вскоре становится известно, что в нее играют по принципу «кто теряет, выигрывает». Игра приобретает сказочную популярность среди молодежи. Молодые земляне позволяют околдовать себя этой игрой, изменить себя этим правилом, которое отныне определяет их поведение. Оказывается, загадочная крепость, и костюм ковбоя, искусственно вызывающий безумие, служили лишь прикрытием; настоящая же опасность таилась именно в этой игре. Когда Ганимед решит попасть на Землю, ее жители не окажут сопротивления: они просто подставят другую щеку, станут жертвами неслыханного способа завоевания, который состоит в полном превращении их в христиан, в баранов, готовых к закланию. И призыв к смирению исходит не от любящего Бога, как мы предполагаем, а от воинственных завоевателей. Получается, что Иисус, если это так, также является всего лишь агентом Палмера Элдрича.
Глава десятая КО, ПЕРЕВОРОТ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Весной Филип Дик сбежал от жены и вернулся обратно в Беркли. Вновь появившись там после тошнотворного перерыва, вырвавшись из мрачных застенков несчастного брака, Дик обнаружил, что в его отсутствие мир изменился и что эти изменения ему нравятся. Прозябая в глуши, он даже толком не знал о том, что происходило в стране в начале шестидесятых годов. Он слышал разговоры о первых студенческих демонстрациях против расовой дискриминации, о Кэрил Чессман, о Мартине Лютере Кинге, о новых наркотиках, в употреблении которых его подозревал доктор Флайб; он плакал, узнав об убийстве Джона Кеннеди. Но все это, казалось, происходит только в радиоприемнике, из которого доносился гнусавый и пронзительный голос двадцатилетнего гения Боба Дилана: «Времена изменились». У Филипа Дика возникло впечатление, что речь шла о других временах параллельного мира, театра настоящей жизни, на сцену которого он никогда не попадет. Его освобождение опровергало это утверждение, пьесу не сыграют без него, он найдет в ней подобающую роль.
Один мой знакомый унтер-офицер делил подсудимых, а следовательно, и все человечество, на два абсолютно противоположных лагеря: славных малых и плохих парней. Я считаю подобную классификацию исчерпывающей, и, думаю, нетрудно догадаться, кто входит во вторую категорию. Тем, кто еще не догадался, я советую бросить взгляд на портрет Боба Дилана на обложке пластинки, упоминаемой несколькими строчками выше: хрупкий, надменный, упрямый, с девичьими ресницами; вся его поза говорит о решимости заявить «нет», о чем бы его ни спросили — вот что характеризует плохого парня во всей его красе. В результате великих перемен, которые превратили подобных людей в героев того времени, недостатки Дика стали козырями. Он так и не закончил образования? Тем лучше, тогда любили бросивших учение, тех, кто отрицал систему и ее ценности. Дик был на контроле ФБР? Это стало знаком отличия. Он писал в непонятном, пролетарском жанре? Достойный восхищения отказ льстить зомби в галстуках от литературной элиты. Ему не удалось стать славным малым? Из него выйдет блестящий плохой парень.
Робкий подросток, скромный буржуа, чувствующий себя не на своем месте, в 1964 году Дик весьма удивился, обнаружив, что находится в полном согласии с духом времени. Он, постоянно чувствовавший себя на обочине, совершенно выпал из этой жизни на несколько лет, в течение которых обочина, оказывается, превратилась в центр мира, так что теперь он без труда внедрился на обочину этой обочины, в небольшое сообщество авторов научной фантастики, живущих на побережье Мексиканского залива. Все они отпускали длинные волосы, украшали себя изделиями народных промыслов и курили «травку». В довершение всего, это сообщество было весьма эндогамным. Романист Авраам Дэвидсон только что полюбовно разошелся со своей молодой женой Гранией, которая восхищалась Диком и, несмотря на серьезные проблемы с весом, была не лишена привлекательности. Они вместе обратились за советом к «Ицзин» и им выпала гексограмма Пи, солидарность, союз. Связанные своего рода любовной дружбой, Филип и Грания решили поселиться вместе в домике, который стал сборным пунктом для живущих по соседству фантастов. После ссылки в Пойнт Рэйс, после душной семейной клетки, этот пылкий социальный инстинкт восхищал Дика и льстил его самолюбию, которое Анна, благоговевшая перед «большой» литературой, испытывала в течение пяти лет. Теперь он наслаждался, живя в настоящем: сидя по-турецки или валяясь на старых диванах, при том что никто не переживал, что они запачкаются, среди равных ему людей, которые считали научную фантастику королевской дорогой, а его самого — ее самым смелым землемером. Дик перестал подстригать бороду. Несмотря на то, что в «Университетской музыке» он отказывался продавать что-либо другое, кроме пластинок с классической музыкой, и воспринял первые произведения рок-н-ролла с презрением юного старика — для Элвиса было сделано исключение, так как у того тоже была сестра-близнец, родившаяся мертвой, — он стал экспертом в том, что начали называть поп-музыкой. Щелкая пальцами, трясясь, Филип Дик всем своим тяжелым телом выражал страстное желание расслабиться. Жизнь, думал он, наконец началась.
Публика, которая окружала Дика отныне, открыла в нем талант комедианта. Про него ходили небольшие легенды, и он считал своим долгом не опровергать их. Используя в качестве источника информации его книги и редкие выступления на публике, а также исходя из того, что, живя в Пойнт Рэйс, он отказался от многих приглашений, окружающие считали Филипа Дика наркоманом, параноиком, гением. Он без труда сочетал в себе все это.
Его новые приятели проводили свободное время, нанося друг другу визиты, но Дик постоянно подчеркивал, что он — агорафоб, и не двигался с места. Моя машина, говорил он, соглашается ездить только от дома до приемной моего психиатра; любое другое направление сбивает ее с пути, ведет прямо к аварии. Друзья взяли за правило навещать его. Эта позиция Горного Старца, хозяина места встреч и учредителя правил игры льстила Крысе, живущей внутри него.
Что касается того, был Дик на самом деле или нет параноиком, то его страхи казались, на первый взгляд, обоснованными. Он затеял бракоразводный процесс, который продвигался с трудом, и все, кто пережил подобное испытание, а таких было немало, понимали, что он постоянно настороже, ибо опасается дать оружие в руки женщины, которую новые друзья Дика считали гарпией, в юридическом конфликте, сменившем партизанскую войну. Именно из этих соображений, хотя они с Гранией и делили вместе крошечный дом, Дик предпочитал скрывать их связь — вернее, объяснять всем, насколько ему необходимо ее скрывать. Друзья также соглашались верить в то, что Анна наняла частного детектива, чтобы следить за мужем, и поставила его телефон на прослушивание. Во всяком случае, они с ним не спорили. Но когда, увлекшись, Филип начинал искать микрофоны в кошачьей подстилке и, не найдя их, приходил к заключению, что он имеет дело с более сильными соперниками, чем Анна со своими старыми врагами из ФБР или с неонацистами, которые поклялись погубить писателя с момента выхода в свет «Человека в высоком замке»; когда любой позвонивший ему по телефону подвергался тестированию с целью выяснить, точно ли это Рэй Нельсон или Джек Ньюком, верный друг, а не какой-нибудь самозванец; когда разговор, ставший возможным благодаря положительному результату тестирования, постоянно прерывался ругательствами в адрес невидимых шпиков («Эй, приятели, я знаю, что вы нас подслушиваете, но не имеете права мне отвечать. Поэтому я могу сказать вам; идите к черту. Идите к черту, ребята!»), — так вот, в таких случаях его собеседник говорил себе, не зная, смеяться ли ему или пугаться, что это совершенно в духе Фила Дика, такого же сумасшедшего, но при этом такого же интересного, как и его книги.
И, поскольку Дик был незаурядной личностью, в конце концов все успокаивались. К услугам его навязчивых идей было воображение артиста, постоянно находящееся в возбуждении. Во время разговора с этим человеком могло случиться все, что угодно. У него не было какой-то одной надоевшей окружающим навязчивой идеи, как у типичного среднестатического параноика. Его враги, их методы, их цели, а в особенности уровень серьезности их намерений постоянно изменялись в зависимости от обстоятельств, вдохновения, собеседника. Внутри Дика сидел хамелеон, комедиант, умеющий почувствовать свою публику, предугадать ее желания, и если иногда он сбивался с пути, то только потому, что слишком усердно старался их исполнить. Сегодня он был жертвой планетарного заговора, а на следующий день уже совершенно забывал об этом или с непринужденностью ссылался на этот факт, как на свидетельство своей легендарной паранойи, удивляясь, неужели его бред приняли всерьез — а если вы приняли его всерьез, значит, или вы сами параноик, или у вас есть веские причины верить в то, что он был прав, а следовательно, вы заодно с его врагами.
Во всем, что не касалось его работы, которую Дик, впрочем, старался сделать побыстрее, до того как она начнет вызывать у него отвращение, Филип был время от времени просто патологически непоследователен. Он торжественно показывал Грании маленький пистолет, которым он обзавелся, чтобы защищаться от Анны, если та вдруг на него нападет. Он объявил, что в крайнем случае застрелит бывшую жену и застрелится сам. Грания, очень обеспокоенная, рассказала об этом их друзьям. Те опасались худшего. И вот однажды воскресным утром Анна появилась на пороге с маленькой Лорой на руках. Она хотела поговорить с Филипом. Дик, прежде чем открыть дверь, буквально обезумев, метался из стороны в сторону, размахивая пистолетом, который он держал в одной руке и, как в водевиле, заталкивая другой Гранию в шкаф. Бедняжка провела там несколько часов, боясь услышать выстрел. Но она не услышала ничего, кроме лепета Лоры, потрескивания яичницы с беконом, которую жарил Фил, напевая своим красивым низким голосом романсы Шуберта, а также обрывков мирной семейной беседы за накрытым столом. Поздний завтрак продолжался до полудня. Когда Анна с дочкой ушли, героическая Грания, полузадохнувшаяся и с переполненным мочевым пузырем, наконец вылезла из шкафа. Фил, казалось, очень удивился ее появлению: почему она не вышла поздороваться? Возмущенные протесты Грании заставили Дика признать, что память, должно быть, его подводит, и что наркотики, которые он принимал, тоже сыграли в этом свою роль. На следующий день он, когда разговор зашел об Анне, вновь принялся размахивать пистолетом и подвергать своих друзей изощренным тестам, чтобы узнать, не являются ли они шпионами — состоящими на жаловании у ФБР, нацистов и т. п.
Через несколько месяцев Грания нашла себе более мирного приятеля и съехала. Надеясь удержать любовницу, Фил сделал ей предложение, но это не помогло. Поскольку Фил не выносил одиночества, после отъезда Гранин он пригласил пожить у себя пару друзей. Они продержались три недели, и именно в это время Филип Дик впервые в жизни попробовал ЛСД.
Дик следил по газетам за развитием истории, случившейся в Гарварде некоторое время назад и напоминавшей ему научно-фантастический сценарий пятидесятых годов, в стиле «Вторжение осквернителей тел». Уважаемые преподаватели университета запустили исследовательскую программу по наркотику, считающемуся полезным в области психиатрии. С первых же дней эксперимента коллеги и близкие участников эксперимента стали находить, что все они изменились: расширенные зрачки, исступленный и одновременно таинственный вид и, несмотря на то что этих людей знали как энергичных материалистов, они говорили теперь только о любви, об экстазе, о слиянии с божеством. Если у них пытались узнать подробности, участники эксперимента уклонялись от прямых ответов: это нельзя описать, это можно узнать только опытным путем. Те, кто из любопытства присоединялись к эксперименту, также претерпевали изменения. С ними можно было поговорить, только последовав их примеру. По кампусу распространялись слухи, все больше и больше людей приходило постучаться в дверь небольшого кабинета, который занимал доктор Тимоти Лири, чтобы попросить посвятить их в это, все больше и больше появлялось людей, поющие голоса которых, их сияющие глаза и ошеломляющие речи приводили в отчаяние декана. Это становилось похоже на эпидемию.
Лири, которого окружающие раньше считали безобидным эксцентриком, начал говорить в полный голос, давать конференции, объяснять журналистам, что близится решающий момент в истории человечества. И не случайно Альберт Хоффман открыл ЛСД в то же время, когда Энрико Ферми осуществил цепную ядерную реакцию. Человек получает, с одной стороны, способ уничтожить свой род, с другой — возможность подняться на более высокую ступень эволюции. Если он примет второй дар, согласится нырнуть в неисследованные океаны, которые таит в себе его мозг, он перешагнет ступень homo sapiens, вступит в мудрое и радостное общение с космосом, узнает Бога; в определенном смысле, он сам будет Богом.
Сами по себе эти речи не смогли бы убедить многих. Но, в отличие от других ясновидцев, Лири имел средство, официально созданное учеными и позволяющее проверить его утверждения на практике. В самом деле, всякий, кто испытывал на себе потрясающее действие ЛСД, выходил в худшем случае растерянным, но чаще всего убежденным. Его прозелитами стали интеллектуалы высокого полета, артисты и бизнесмены. Тюремное начальство официально разрешило подвергнуть лечению ЛСД заключенных государственной тюрьмы Конкорд в Массачусетсе. Поглощение нового таинства наполнило этих закоренелых преступников мистическим вдохновением, которое так изумляло надзирателей.
Напуганные тем, что поручились за столь мало совместимые с настоящей наукой опыты, руководители Гарварда уволили Лири и тем самым подтвердили его призвание пророка. Он называл своих недоброжелателей «гробами пова́пленными», цитируя формулу Нильса Бора, согласно которой новая истина восторжествует не благодаря преследованию своих противников, но потому, что ее противники в конце концов умрут и их заменит новое поколение, а для его представителей эта истина будет сама собою разумеющейся. В одном загородном доме, предоставленном неким меценатом, Лири создал общество своих последователей: они под его руководством отдавались методичному исследованию миров, которые открывал ЛСД, среди дыма фимиама и звуков индийской рага. Гидом в этих путешествиях им служила «Тибетская книга мертвых», «Бардо Тодол». Этот настоящий путеводитель по внутренним мирам был прощальным подарком Олдоса Хаксли новому поколению: говорят, он просил, чтобы ему читали эту книгу на смертном одре, а за несколько часов до смерти велел сделать себе укол ЛСД, не из трусости, но, напротив, чтобы в полной мере воспользоваться своим переходом от жизни к смерти.
Согласно Лири и его последователям, этот предваряющий церемониал вскоре должен был распространиться повсеместно. Они считали себя «антропологами XXI века, живущими во временной капсуле в темные шестидесятые XX века», но при этом не сомневались, что всеобщее обращение близко. Их арифметика была проста: если в 1961 году существует двадцать пять тысяч потребителей ЛСД, то это означает, что в 1969 году их будет уже четыре миллиона, то есть возникнет критическая масса, после чего общество просто не сможет не измениться. Сторонники Лири не сомневались, что к середине семидесятых годов ЛСД станет употреблять сам президент Соединенных Штатов, что международные саммиты будут проходить под действием нового наркотика и что мир, конечно, только выиграет от этого.
Эта фантастическая перспектива казалась в 1964 году даже более правдоподобной, чем мысль о том, что спустя двадцать лет очередной обитатель Белого дома признается, что курил марихуану, пытаясь оправдаться тем, что дым он глотал. Газеты вторили россказням Лири. Слово «бардо» пользовалось особой благосклонностью, говорили об экспериментах в духе бардо, о музыке бардо, о фильмах бардо. Множество людей, далеких от мира искусства науки или светского общества, которые, заметьте, ни в коем случае не считали себя наркоманами, пробовали ЛСД и признавали, что он и в самом деле открывает «двери сознания». Согласно распространенному мнению, этот наркотик стоил трех лет посещений психоаналитика. Стандартная доза в двести пятьдесят микрограммов совершенно легально продавалась в Беркли за десять долларов. Друзья Дика регулярно принимали ЛСД и всячески его расхваливали. В общем, Филип не смог уклониться.
Тем более что он считался опытным охотником на этой новой территории. Когда появились «Три стигмата Палмера Элдрича», все читатели увидели в нем великий роман ЛСД, и этот слух, передаваемый из уст в уста, сильно повлиял на репутацию писателя. Поскольку Дик терпеть не мог кому-то возражать (и ему был неизвестен довод создателя комиксов Госсини, согласно которому Обеликсу, чтобы стать сверхсильным, вовсе не требовалось было пить магическое зелье, так как он упал в чан, еще когда был маленьким), он позволял считать себя экспертом по психоделическим средствам и с видом умудренного человека давал советы, исходя из своего старого опыта. На самом деле он боялся ЛСД и оказался прав.
Поскольку, как и следовало ожидать, все закончилось просто скверно. Спустя почти час после того как Дик принял дозу, он утратил всякий контакт со своими приятелями и очутился «там, куда отправляются, приняв ка-присс», в мире Палмера Элдрича. Филип увидел темный туннель, полный враждебных теней; ледяной пейзаж с острыми краями; катакомбы; римский амфитеатр, где ему предстояло подвергнуться казни в числе первых христиан; бедняга почувствовал уверенность в том, что он потерялся, что у него нет ни единого шанса когда-нибудь отыскать выход. Дик пробовал подбодрить себя при помощи доводов разума: «То, что со мной происходит, вызвано тем, что я проглотил сильнодействующий наркотик, это продлится в течение девяти или десяти часов, так они сказали, по истечении которых я буду свободен». К несчастью, Филип не был уверен, что через девять или десять часов он все еще будет жив, и, в любом случае, с ужасом понимал, что девять или десять часов официального времени могли продлиться несколько веков в его субъективном опыте, то есть в единственно доступной ему реальности. В детстве Дик верил, что, когда отправляешься к дантисту, это действительно длится вечность, и в подобных рассуждениях было рациональное зерно. Он здесь навсегда. Он всегда здесь находился. А остальное было всего лишь иллюзией, и ему, как и Лео Булеро, оставалось лишь молиться, чтобы его милосердно вернули в эту иллюзию. Снаружи те, кто столпились вокруг него и чье присутствие он больше не ощущал, слышали, как Дик вдруг заговорил по-латыни. Латыни никто из них не знал, и из всей этой глоссолалии сохранилась лишь формула «Libera те, Domine!»[10]. Филип беспрерывно повторял ее, и по его искаженному от ужаса лицу стекали крупные капли пота.
Когда по прошествии установленного срока, доставив массу беспокойства своим нянькам, Дик вернулся в roinos cosmos, после чего проспал целый день, он так подвел итог своему путешествию: «Дети мои, я был в аду и потратил две тысячи лет на то, чтобы выкарабкаться оттуда».
Его друзья наивно удивились. В тот период всеобщей эйфории неудачные вояжи были редкостью. Обычно человек плавал в океанах радужного света, у него возникало ощущение, что он все знает и все умеет. Там было хорошо всем, независимо от характера и пристрастий. Склонным к созерцанию мир ЛСД казался безмятежным богоявлением, полотном Вермера Делфтского, мягко пульсирующим в такт их собственной нервной системе; людям активным он представлялся гигантским электрическим бильярдом, доходящим вплоть до небесного свода, бильярдом, где можно сколько угодно играть бесплатно. Дик единственный очутился в кошмарном мире своих книг и впоследствии постоянно задавался вопросом, видел ли он крайнюю Реальность или только отражение собственной души — не многим более утешительная гипотеза.
Верный своей бинарной логике, Филип Дик в конечном итоге пришел к мысли, что существуют два рода сознания: для первого реальность реальности есть свет, жизнь, радость, а для второго — смерть, могила, хаос; одни видят в самом основании Христа, другие, как Свидригайлов у Достоевского, представляют себе вечность в виде грязной ванны, затянутой паутиной; первые, несмотря ни на что, верят в бесконечную любовь и милосердие, другие же испытывают врожденный ужас ко всему, несмотря на голубое небо и радости жизни. Безусловно, структура психики данного конкретного человека, которую безжалостно обнажал ЛСД, во многом объясняла ту или иную реакцию. Но не могло быть и речи о борьбе мнений или характеров, истина неизбежно должна была быть в первом лагере, а не во втором. Компромисс невозможен. Пользуясь христианской терминологией, которая с недавних пор стала и его собственной, одно из двух: или Христос воскрес, или нет.
Филип Дик знал, во что он хотел верить, но он знал также (и ЛСД это подтвердил), во что верила его душа. И, прекрасно понимая, к какому лагерю, независимо от своих желаний, он принадлежит, писатель дорого заплатил бы за то, чтобы выяснилось: он ошибся, и за то, чтобы знать это наверняка.
Дик выбрал не лучший момент для того, чтобы попробовать ЛСД (если предположить, что у него вообще были такие моменты). Жизнь холостяка в его глазах не много стоила. Даже живя с Гранией, Филип не мог удержаться от того, чтобы не волочиться за каждой юбкой, оказывавшейся в поле его зрения. Оставшись один, Дик почувствовал себя свободным, и к легендам о нем добавились жалкие анекдоты. Обычно платонически (но никогда тайно!) он влюблялся почти во всех женщин, которых встречал. Ввиду узости круга лиц, с которыми Дик общался, как правило, все они оказывались женами его друзей. Одни мужья сердились из-за этих назойливых ухаживаний, другие забавлялись, справедливо полагая, что им нечего бояться подобного соперничества. Каким бы великолепным писателем и удивительным собеседником Филип ни был, этот большой бородатый ребенок отличался слишком большими эмоциональными запросами, чтобы вызывать какие-либо иные чувства, кроме умиления и любопытства. Четыре или пять жен писателей-фантастов получали в течение зимы 1964 года страстные, смехотворные, жалостливые письма, в которых Дик рассказывал им о своей умершей во младенчестве сестре Джейн, переписывал метафизические стихотворения Елизаветинской эпохи или ноты «Зимнего путешествия» Шуберта, чтобы продемонстрировать, насколько сильны его одиночество и меланхолия. Он также звонил женщинам, преимущественно в пьяном виде и ночью, и удивлялся их нежеланию выслушивать его монологи, не говоря уже о реакции мужей. Вместе с тем этот романтический воздыхатель в обществе мог вести себя как законченный грубиян, назвать feme Geliebte[11], которая мягко ставила его на место, вздорной бабой, бросить ее ради вновь прибывшей гостьи, потрепать третью даму за колено. После подобных выступлений, протрезвев, Дик осознавал, что выставляет себя на посмешище и превращается из подозрительного гения в живописного чудака. Но, пытаясь исправить положение, он не придумывал ничего лучше, нежели чем писать новые письма, столь же неуместные, как и предыдущие, и вновь названивать женщинам по ночам. Порой он отстаивал свое право на подобные выходки и старался смело навязать окружающим образ огромного бородатого распутника вроде Фальстафа, который вечно стремится нанести удар, но которому, однако, это никогда не удается.
Понимая, что в обществе писателей-фантастов подругу он себе не найдет, Дик начал расширять круг своих связей. Он внимательно просмотрел записную книжку и в итоге возобновил старое знакомство с Марен Хаккетт, с которой он последнее время общался в Пойнт Рэйс. Именно Марен Хаккетт, если помните, приобщила его к чтению Посланий апостола Павла и ввела в лоно епископальной церкви. Она вышла замуж за некоего алкоголика, а потом бросила супруга, однако при этом две его дочери от предыдущего брака остались жить с мачехой. Старшая, Нэнси, только что вернулась из Франции, где она изучала психологию, но в основном лечилась от анорексии. Это была робкая, нежная, хрупкая девушка девятнадцати лет, с еле слышным голосом, с лицом, вечно скрытым длинными прямыми волосами. В те моменты, когда на нее не смотрели, Нэнси доставала из кармана джинсов свою фотографию и долго ее разглядывала, чтобы убедиться, что она действительно существует. Дик в течение трех недель навещал свою старую знакомую, сам толком не зная, ради кого из трех очаровательных хозяек он приходит: все еще аппетитной мачехи или одной из падчериц. В конце концов Филип остановил свой выбор на Нэнси и расписал ей не только, как сильно он ее любит, но и в какой кошмар превратится его жизнь, если девушка ему откажет. «Я буду принимать все больше и больше таблеток, я перестану есть, спать, писать и вскоре я умру». Поначалу Нэнси лишь смущенно молчала и нервно улыбалась, но затем под натиском его доводов уступила: она согласилась стать музой Филипа и весной 1965 года переехала к нему жить.
Глава одиннадцатая ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Годом ранее, когда Дик, будучи на грани нервного срыва, покинул Пойнт Рэйс, ему выпала гексаграмма 49: Ко — переворот, преобразование. И вскоре он действительно увидел, как они осуществились в обществе, которое его окружало, а затем и в его собственной судьбе. В ходе этих перемен Дик, хотя страдал сам и заставлял страдать других, тем не менее искренне полагал, что в настоящий момент в его судьбе начался новый, более благоприятный этап.
Каждый день Филип радовался тому, что порвал с пораженческой логикой, определявшей ранее его личную жизнь, женившись на этой женщине-ребенке, которую он должен защищать и которая, со своей стороны, любит его таким, какой он есть, не пытаясь изменить. Их брак олицетворял собой гармоничное равновесие полов: Филип — бородатый, дородный, творческая личность — был ян; а хрупкая, неуверенная, тихая Нэнси была инь; дао покровительствовало им. Они вместе смеялись, подшучивали друг над другом, давали друг другу нелепые и слащавые прозвища. Подобно тому как в романе Томаса Манна «Волшебная гора» любовники обменивались не фотографиями, а рентгеновскими снимками легких, Фил и Нэнси рассказывали друг другу о своих фобиях и диагностировали свои психиатрические симптомы, восхищаясь полным взаимопониманием. Филип постоянно сравнивал душевную теплоту Нэнси, ее безудержный смех невинно-порочного ребенка с холодом, который изведал раньше; сравнивал милый беспорядок маленького домика возле воды в Сан-Рафаэль, куда они только что переехали, с неестественно безупречной белизной виллы в Пойнт Рэйс. Его мать, полная абсурдных принципов о здоровье детей, слишком мало его трогала; его сестра умерла; чувственность Анны выражалась приступами эротического неистовства, которые его скорее пугали; тогда как Нэнси дергала мужа за уже седую бороду, залезала к нему в ванну, чтобы вместе поплескаться, и считала его пузо уютным. Это новое располневшее и постаревшее тело, на которое Дик вот уже в течение нескольких лет смотрел с ужасом, под пальцами Нэнси становилось чем-то мягким и теплым, чем-то любимым, а стало быть, чем-то достойным любви. Итак, Филип был умиротворен, окружен заботой, любовью и друзьями, которые восхищались талантом Дика и с готовностью позволяли ему поражать себя невероятными теориями, так что после года неплодотворного безделья он вновь вернулся к своим прежним привычкам. Филип снова начал писать и, поскольку Нэнси открыла ему истинную человеческую натуру — нежную, соболезнующую, ранимую, — он не мог не воспеть ее.
Дик был так устроен, что, прежде чем воспевать человека, он должен был вначале дать ему определение, а также найти его антипод. Но антипод человека — это не животное, не предмет, а симулакр, робот. С момента своего появления и даже раньше, если вспомнить Голема и чудовище Франкенштейна, научная фантастика превратила это доставляющее беспокойство существо в самого лукавого врага своего создателя. Напрасно улыбающийся Айзек Азимов старался в пятидесятых годах подчинить роботов и оживляющих их писателей кодексу нравственности, исключающему тему бунта как научную нелепицу и художественный прием (и то и другое в одинаковой мере предосудительные), — ничто не помогало. Беспокойство росло по мере того, как фантастика, казалось, обосновывалась в реальности и виртуальное существование «думающих машин» приводило в волнение не только горстку мечтателей, но и научное сообщество. Слово «кибернетика», придуманное Норбертом Винером, произвело фурор, а то, что оно обозначало, порождало два связанных между собой вопроса. Можно ли себе представить, чтобы машина, созданная человеком, однажды начала думать, как он? Что значит думать как человек? Или, если хотите, что в нашем способе мыслить и в нашем поведении можно квалифицировать как присущее только человеку? Начались споры об искусственном разуме, в которых столкнулись и сталкиваются до сих пор сторонники материализма, убежденные, что, по крайней мере, в теории все мозговые операции могут быть разобраны на составляющие и, как следствие, воспроизведены, и сторонники спиритуализма, заявляющие, что всегда существует какой-то остаток, сопротивляющийся алгоритму, остаток, который, в зависимости от направления, именуется фантомом, рефлексивным сознанием или просто душой.
Дик следил за этими спорами, как человек, с одинаковым интересом читающий богословские сочинения и научно-популярную литературу. И вот однажды, листая некую антологию, он открыл сильно повлиявшую на него статью, написанную в 1950 году английским математиком Аланом Тюрингом. Личность Тюринга, кратко описанная в предисловии, очаровала Дика. Это был один из создателей современной информатики, человек, внесший свой вклад в победу во Второй мировой войне, так как изобрел вычислительную машину, способную расшифровывать закодированные послания гитлеровских ВВС. Его изобретением вовсю пользовались британские секретные службы. Тюринг умер при весьма странных обстоятельствах, покончив жизнь самоубийством. Но, главное, этому человеку удалось так сформулировать проблему думающих машин, что его положения актуальны до сих пор.
В своей знаменитой статье Тюринг первым делом рассмотрел старые, новые и потенциальные будущие аргументы в пользу идеи о невозможности создания искусственного разума: машины делают только то, на что их запрограммировали, у них есть своя специализация, но нет ни пристрастий, ни капризов, они не могут страдать и т. д., и т. п. Затем, посчитав все эти доводы недостаточными, Тюринг предлагает ограничиться одним-единственным критерием, для того чтобы решить, может ли машина думать как человек: способна ли она заставить человека поверить в то, что она думает как он.
Феномен сознания может быть замечен только изнутри. «Я-то знаю, что у меня оно есть, но вот что касается вас, ничто об этом не свидетельствует. Зато я могу сказать, что вы испускаете сигналы, в основном мимические и вербальные, и, поскольку они сходны с моими, я прихожу к выводу, что вы думаете и чувствуете так же, как я». Теперь, говорит Тюринг, предположим, что в будущем, далеком или близком, окажется возможным запрограммировать машину таким образом, чтобы она адекватно отвечала на всевозможные сигналы, и в этом случае нам волей-неволей придется засвидетельствовать у нее наличие мыслительной деятельности.
Тест, который Тюринг положил в основу этого критерия, состоит в том, что в трех разных комнатах изолируют человека-экзаменатора, человека-испытуемого и машину-испытуемого. Экзаменатор общается с каждым из испытуемых с помощью компьютера (если он располагает системой голосового обобщения, то может также использовать телефон) и засыпает их обоих вопросами, с целью установить, кто из них человек, а кто — машина. Вопросы могут касаться вкуса черничного пирога, детских воспоминаний о Рождестве, эротических предпочтений или, напротив, это могут быть вычислительные операции, которые человек, как предполагается, осуществляет не так хорошо и не так быстро, как машина. Нет запретных тем, вопросы могут быть самыми интимными и самыми нелепыми, коан дзэн является классической техникой запутывания. Со своей стороны, оба испытуемых делают все возможное, чтобы убедить экзаменатора в том, что они являются людьми, один — совершенно искренне, другой — прибегая к тысяче хитростей, которые заложены в его программу, например, намеренно ошибаясь в вычислениях. В конце экзаменатор выносит свой вердикт. Если он ошибся, то машина выиграла. И придется признать, согласно Тюрингу, что она думает, а если некий твердолобый спиритуалист все-таки придерживается мнения, что она думает не по-настоящему, не как человек, то бремя доказательства отныне падает на него.
Тест Тюринга стал одним из коньков Дика. Он, который хвастался тем, что может облапошить любого психиатра, просто мечтал сыграть роль машины, и во время своих экстравагантных телефонных разговоров, когда нужно было доказать, что собеседник — тот, за кого себя выдает, а не самозванец, буквально засыпал друзей вариациями на эту тему.
В новом романе, который Филип Дик написал во время медового месяца с Нэнси, рассказывалось о том, что колонизация Марса способствовала развитию создания андроидов до такой степени, что в 1992 году там существовало столько же моделей роботов, сколько моделей машин было в США в шестидесятые годы. Некоторые из них были весьма примитивны, простые инструменты с человеческим лицом, или же представляли из себя целые соседские семьи, предназначенные для живущих изолированно колонистов. За скромную сумму можно поселить недалеко от своего дома семейство Смитов или, скажем, Скраггзов в полном составе. Джордж, отец, читает газету и подстригает газон; Фрэн, мать, с утра до вечера печет пироги с черникой; дети Боб и Пэт, немецкая гончая Мертон; в общем, каждый выбирает кому что нравится. Можно говорить что угодно, но, даже если у каждого из них заложено в программе не больше дюжины реплик, это все равно уже компания; мало того, убеждают продавцы, ваше общение с настоящими людьми, живущими по соседству, вряд ли было бы осмысленнее.
Однако здесь речь идет лишь о самом дешевом товаре, к которому владельцы столь совершенных моделей, что их невозможно отличить от настоящих людей, относятся с презрением. Пока все эти великолепные имитации вели себя в соответствии со своим статусом, все шло хорошо. Но некоторые из них, своего рода бунтовщики, убегают, желая жить свободно. И поэтому становятся опасными. Специальные чиновники занимаются их уничтожением. Эти чиновники называются blade runners[12] (с тех пор как Ридли Скотт снял фильм «Бегущий по лезвию бритвы», роман, чье оригинальное название «Мечтают ли андроиды об электроовцах» («Do Androids Dream of Electric Sheep?»), стал также известен под этим именем). Опознать андроида достаточно сложно, поэтому blade runners постоянно заботятся о том, чтобы не допустить промаха и случайно не уничтожить лазером человека. Дабы свести подобный риск к минимуму, они подвергают подозреваемых тестированию, при этом неизменно опасаясь, что их тесты окажутся устаревшими, ведь производители тоже не дремлют и неустанно обновляют программы.
Эти тесты напоминают, с одной стороны, семинары по психологии для первокурсников, с другой — детектор лжи, этот смехотворный и возмутительный миф. («Ваш зрачок сузился, следовательно, вы виновны». В момент написания данной книги, в мае 1992 года, некий подозреваемый был приговорен к электрическому стулу на основании подобного утверждения.) Но Дик в основном интересовался критериями дискриминации.
Он исходил из того, что наиболее усовершенствованные андроиды образца 1992 года будут способны успешно пройти тест Тюринга — что делает его бессмысленным, да и другие тесты тоже, если верить самому ученому: ведь никого не заставляют всю жизнь подвергаться экзаменам, которые однажды были сданы. Тем не менее Дик не спешит принять андроидов в человеческое сообщество, как ему следовало бы это сделать, по мнению Тюринга. Дабы избежать этого, писатель осуществляет то, что математик считал жульничеством, одной из тех мерзких штучек, что в ходу у спиритуалистов: он вводит новый критерий. Но что это за новый критерий? Вопрос сей волне мог бы стать тестом для читателей данной книги, позволяющим выяснить, насколько внимательно они ее читают.
Разумеется, способность к сопереживанию. То, что апостол Павел называл милосердием и считал самой главной из трех теологических добродетелей. «Caritas»[13], говорил Дик, вечный педант. Agape[14]. Соблюдение золотого правила «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Способность поставить себя на место другого, желать ему добра, страдать вместе с ним и, в случае необходимости, вместо него.
Само собой, применение этого критерия с целью отличить человека от симулакра заставило бы Тюринга усмехнуться, и вполне справедливо. Ученый наверняка заметил бы, что существует достаточно много людей, лишенных чувства сострадания, и что теоретически ничто не мешает включить в программу машины такое поведение, которое у людей считается проявлением милосердия.
Но Дик был не из тех, кто, очертив границы, спокойно усядется, чтобы любезно обсудить все с гуманистами или набожными людьми. Его призвание, напротив, состояло в том, чтобы без конца их, границы эти, перемещать, затрагивая по ходу дела различные щекотливые вопросы, что превращало научно-фантастический триллер, каковым является «Бегущий по лезвию бритвы», в кибернетическую теологию, от которой, честно говоря, просто голова идет кругом.
Если антиподом человека является симулакр, то что является антиподом сопереживания? Жестокость, надменность, презрение? Это всего лишь внешние проявления. Источник всякого зла, полагал Дик, это сосредоточенность в себе, уход в себя, что на языке психиатров называется шизофренией. Вот и первая проблема: это волнующее сходство между личностью андроида и личностью шизофреника, которого Юнг описывал как постоянно скупого на чувства. Шизофреник думает больше, чем чувствует. Его понимание мира и своей собственной речи является исключительно интеллектуальным, абстрактным, атомистическим сведением к совокупности составляющих, которые никогда не образуют не только настоящей эмоции, но даже настоящей мысли. Шизофреник, скорее, скажет: «Мне нужна скорость, для того чтобы поддерживать беседу», чем: «Я получаю сигналы, исходящие от соседних организмов. Но я не смогу производить собственные сигналы, пока не перезаряжу свои батареи». (Дик утверждал, что однажды слышал эту фразу, и я не исключаю того, что он сам ее и произнес.) Шизофреники относятся к тому типу людей, которые всегда хранят в памяти, как герой «Исповеди недоумка», тот факт, что они на девяносто процентов состоят из воды, а то, что они называют своим телом, является в реальности модулем для выживания генов. Шизофреник согласует не чувства по отношению к миру, не мысли, необходимые, чтобы уловить эти чувства, не фразы, описывающие эти мысли, не слова, составляющие эти фразы, нет, он неустанно соединяет знаки: 26 букв (или сколько там в алфавите его родного языка), если это человек, или две цифры, 0 и 1, если это вычислительная машина. Шизофреник верит не в то, что он думает, а в то, что движутся его нейроны; он верит не в то, что его нейроны движутся, а в то, что они подчиняются законам органической химии, и, вероятно, именно так думает (или верит, что думает), искусственный интеллект. Во всяком случае, это именно тот образ мысли, который можно поместить в андроида, снабдив ярлыком «рефлексивное сознание». В целом мысли шизофреника похожи на мысли машины. И, я думаю, Дик был бы рад узнать, что одним из первых воплощений искусственного интеллекта, способных успешно пройти не слишком сложную версию теста Тюринга, стала программа Массачусетского технологического института, названная «Пэри», которая имитирует параноика. Это не очень сложно: подобно психоаналитику, она отвечает на все вопросы другими вопросами или просто повторяет их; некий шутник даже предложил смастерить в том же духе безупречную программу, имитирующую кататоника.
Проблема, делающая подобные тесты не очень надежными, а профессию blade runner — мучительной, заключается в том, что шизофреники, хотя они и думают, как машины, все же являются людьми. Дик, сам разрывающийся между страстным стремлением к сопереживанию и сильными параноическими склонностями, знал это лучше, чем кто-либо другой. Эти два полюса в его сознании представляли добро и зло, доктора Джекила и мистера Хайда, и опытным путем писатель убедился в правоте апостола Павла, по словам которого мы творим не добро, которое хотели бы сделать, а зло, к которому испытываем отвращение.
Дик радовался тому, что нашел в Нэнси сопереживающую супругу, которая мягко возвращала его к теплу, к радости, к вниманию Другого, а также испытывал облегчение, что ускользнул от жены-шизофренички, настоящей машины для ненависти, которая превращала в шизофреника и человеконенавистника и его самого, запирала их обоих в кошмаре собственного недоверия. Честность, с одной стороны, вынуждала Филипа признать, что и он был не безупречен, он не был безответной жертвой сумасшедшей; мало того, возможно, именно он и пробудил в Анне безумие. С другой стороны, она страдала не меньше и даже больше, чем он, отчасти по вине мужа. Предположив, что из них двоих безумной была все-таки Анна, Фил должен был, следуя призыву милосердия, которое он так ценил, поставить себя на ее место и оказать несчастной женщине помощь, вместо того чтобы проклинать и громить ее. Церковь говорит о том же: грех — это болезнь разума, а больным нужно помогать. Христос пришел, чтобы искупить наши грехи, но прежде всего, чтобы нас вылечить. И если шизофреник страдает, то вполне возможно, что андроид тоже. Пользуясь терминологией Тюринга, если его программа позволяет имитировать страдания, что позволяет нам не верить в то, что эти страдания реальные, то что тогда позволяет нам не сострадать ему? Вот так вопрос.
Кризис в романе происходит в тот момент, когда герой, скорее по эротическим, нежели христианским или научным соображениям, начинает испытывать сочувствие по отношению к одной из своих жертв.
Эта профессиональная ошибка облегчается и одновременно отягощается тем, что производители сыграли особенно коварную шутку с новейшим типом андроидов, вложив в их программы искусственную память, которая заставляет их верить в то, что они люди. У них имеются детские воспоминания, присутствуют ощущение дежа вю, эмоции, как у людей. Андроиды ничем не отличаются от людей — не только снаружи, но и изнутри. Они попросту не знают правды. И когда их начинают подозревать и подвергать тестированию, они приходят в ярость, как это сделал бы любой из нас. «Вы скажете мне правду, так? Если я андроид, вы мне это скажете?»
Любопытно, что из-под пера научного фантаста, и к тому же неважного стилиста, вышли столь памятные пассажи, которые не только бросают читателей в дрожь, но и создают уверенность, что вы прикоснулись к чему-то важному, к чему-то основополагающему. Что вы мельком увидели бездну, которая является неотъемлемой частью нас самих и которую еще никто не исследовал. В «Бегущем по лезвию бритвы» есть удивительный эпизод, когда андроид, узнав о том, кто он на самом деле такой, кричит от ужаса. От абсолютного безысходного ужаса, от которого нет ни лекарства, ни утешения, после которого все на свете становится чудовищно возможным.
Если человек определяется по способности к сопереживанию, то ведь и андроидов можно ею наделить. Если это религиозный опыт, то андроиды поверят в Бога, ощутят Его присутствие в своей душе и будут, перебирая четки, читать молитвы изо всех своих плат. У них появятся чувства, сомнения, страхи. И кто тогда скажет, идет ли речь о реальном сопереживании, о реальной набожности, реальных чувствах, сомнениях, страхах, желаниях или же об убедительных имитациях? Если страшный крик андроида, выяснившего, что он является таковым, — это всего лишь простое свойство программы, предусмотренная реакция на определенные вербальные стимулы, осуществляемая усердной активацией определенным набором бит, — описание, которое полностью соответствует функционированию человеческого мозга, хотя он и состоит из органических клеток, а не из металлических или пластиковых деталей, то, спрашивается, что это меняет? Варианты ответов: а) всё; б) ничего; в) что-то, но не ясно, что именно.
Выберите свой вариант.
(Замечу в скобках: лучшим прикрытием из всех возможных для андроида было бы сделаться blade runner.
Или же писателем, научным фантастом.)
Глава двенадцатая АВТОПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА-ЕРЕСИАРХА
Должно быть, в то время все было новым: течения, границы, романы; все меняло свои имена и названия, и ироничные старые ворчуны по обе стороны Атлантики, зажав в зубах трубку и подняв очки на лоб, без труда высмеивали цирюльников, ставших парикмахерами. Именно эта всеобщая тенденция и подтолкнула научную фантастику (science-fiction) поменять свое незамысловатое название на более респектабельное «умозрительная фантастика» (speculative fiction), которое не несло в себе особого смысла и не добавляло ничего нового и по большому счету не означало вообще ничего, но произносилось с большим нахальством.
Самым ярым приверженцем и популяризатором этой «новой» литературы в США был Харлан Эллисон, в недавнем прошлом весьма захудалый поклонник научной фантастики, а ныне, словно по мановению волшебной палочки, ставший разносторонним писателем-виртуозом и мастером общения с публикой. Эллисон смотрел далеко вперед и решил роскошно обставить превращение жанра, считавшегося глупым и отупляющим читателей, годным лишь на то, чтобы заставить мечтать ограниченных вояк и недовольных жизнью мелких служащих, в епархию экстравагантных и в некотором роде ясновидящих изобретателей, мятежных разрушителей, короче, в передовой отряд, штурмующий дряблую буржуазную литературу, так же чуждую потрясениям современности и будущих времен, как исполняющий классическую музыку пианист молодежной поп-музыке. По мнению Эллисона, «Опасные Видения», его манифест-антология, должен был перевернуть американскую литературу. Звезды истеблишмента, скажем, Гор Видал или Томас Пинчон, если ограничиться упоминанием только кандидатур, достойных внимания, придут вскоре молить как о величайшей милости о возможности быть рядом с фантастами Норманом Спинрадом или С. Делани. Эта мечта о революции в литературе не была реализована, но она освящала жизнь этих одиночек в течение нескольких лет, когда все казалось возможным, и наивная гипотеза о том, что рассказы, действие которых происходит в будущем, неизбежно образуют литературу будущего, была полна смысла. Искренне веря, что они завоевывают себе места в пантеоне, тридцать два писателя, которых Эллисон собрал вместе для собственного развлечения, сочиняли свои рассказы, с таким чувством, словно бы они позируют для потомства. Сам Эллисон написал к произведению каждого длинное неровное вступление в достаточно странном стиле, и, как если бы этого было недостаточно, попросил каждого литератора снабдить свой рассказ послесловием, чтобы сказать, что ему нравится, или же поблагодарить старших, держа себя при этом скромно или, наоборот, без ложной скромности, в общем, представить себя в лучшем виде.
Ни один писатель не устоит перед таким соблазном. Когда энтузиаст Эллисон в конце 1965 года связался с Диком, тот был рад узнать, что без него в этом отряде опасных мечтателей никак не обойтись, и с огромным удовольствием начал набрасывать автопортрет.
Те, кто прочел его, открыли радушного затворника, окруженного заботой, любящего нюхательный табак и галлюциногены, Хайнриха Шютца и рок-группу «Grateful Dead», покоряющего необразованных хиппи занимательными разговорами, поглядывающего на всех проходящих мимо девушек под снисходительным взглядом его очень юной, очень робкой и очень привлекательной жены. Несчастный, неуравновешенный человек, который в Пойнт Рэйс верил, что потерял разум, попав под власть Анны и Палмера Элдрича, казалось, к сорока годам превратился в своего рода благодушного гуру, пристрастившегося к психоделическим наркотикам, чтобы проверить непосредственно на практике как собственные теологические гипотезы, так и гипотезы своих знаменитых предшественников, которых он отныне изо всех сил цитировал, превращая самый скромный научно-фантастический роман в лоскутное одеяло из эпиграфов, заимствованных у Боэция, Мэтра Экхарта или святого Бонавентура. Хотя после того единственного и ужасного опыта Дик ни разу больше не принимал ЛСД, он считался ветераном в этом деле и, как и Тимоти Лири, придерживался мнения, что «в XX веке вести религиозную жизнь без ЛСД, — это то же самое, что изучать астрономию невооруженным глазом». Он любил рассказывать, как однажды Лири позвонил ему из гостиничного номера Джона Леннона в Канаде, где «Битлз» были на гастролях. Да, торжественно повторял он, наслаждаясь дрожью полунедоверия, полублагоговения, которую он вызывал у слушателей, из номера Джона Леннона! Лири и Леннон, оба совершенно пьяные, только что прочли «Три стигмата Палмера Элдрича» и пришли в полный восторг. «Это как раз то, что нужно! Именно то!» — икал Леннон, ползая по ковру. Он заявил автору, что по его книге необходимо снять фильм, психоделический фильм, который будет соответствовать по стилю их новому альбому «Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Застигнутый врасплох, Дик не имел времени подумать о тесте, позволившем бы ему установить, что его собеседники были именно Ленноном и Лири, а не парочкой шутников, желающих сойти за этих двух олимпийских божеств, но когда на следующий год альбом вышел, он узнал его название, так же как и название песни во славу ЛСД, о которой Леннон ему тогда говорил — «Lucy in the Sky with Diamonds». После этого эпизода стремление Дика похваляться знакомством с известными людьми возросло, и у него появилась мысль о том, что он оказывает на окружающих некое тайное, почти оккультное влияние. Действительно, в определенных кругах, эпитет «филдиковский» стал обозначать странные ситуации, некий искривленный, но точный способ видеть мир, а также служило паролем. Молодые люди, зачастую вовсе не будучи поклонниками научной фантастики, как, например, критик рок-музыки Пол Уильямс или авторы комиксов Роберт Крамб и Арт Шпигельман, говорили в своих дешевых журналах о Филипе Дике как об одном из скрытых гениев современной эпохи.
Эта роль вполне подходила Дику. Он держал на расстоянии то, что его так напугало, превратив опасную навязчивую идею в профессиональный, как бы мы теперь выразились, бренд и мировую легенду. Как тогда говорили, Бог был его коньком. Никто не соперничал с Филипом Диком в этой области, никто не упрекал его в том, что он отважился затронуть подобную, хотя он и был при этом, согласно тогдашним убеждениям, бунтовщиком, не уважающим и подрывающим неизбежно застывшие традиции. Дик не любил вспоминать ни то время, когда он писал «Три стигмата Палмера Элдрича», ни отвратительный страх, в который его погрузил ЛСД. Но ему льстило то, что об этой книге говорили как о «черной мессе», что ему подарили пластинку с леденящей сонатой Скрябина, носившей это название, что ему то и дело повторяли, мол, родись он на несколько веков раньше, инквизиторы давно бы уже сожгли его на костре. Открыв Борхеса, который только что получил всемирную известность наравне с Толкиеном и М. С. Эшером, Дик восхищался лукавым и шаловливым дилетантизмом, заставляющим аргентинца говорить о теологии как об одной из ветвей фантастической литературы, как об обольстительном и несерьезном интеллектуальном развлечении. Он подражал его парадоксам («Америка, — любил говорить Дик, — поддерживает два суеверия: что Бога нет и что марки сигарет отличаются друг от друга»), его игривому педантизму и даже пытался было подражать его манере писать, взявшись, в соавторстве с другим «интеллектуалом» от научной фантастики, Роджером Желязны, за создание запутанной религиозной фантазии, которую они сочиняли целых десять лет, и в итоге у них получилось произведение «без начала и конца».
Однако в действительности Дик не был столь особенным, каким он сам хотел бы казаться. Литературный ересиарх сочетался в нем с прилежным прихожанином, страшащимся ада, прообраз которого ему представил ЛСД. Если в его присутствии библейский апокалипсис сводили к аллегории, которую следует воспринимать буквально не в большей мере, чем бытие, Филип удрученно качал головой, как человек, которому выпало несчастье знать, что люди убаюкивают себя наивными сказками. Он очень хотел любить Бога, но еще больше боялся дьявола. Дику охотно прощали эту готическую религиозность, когда ему хотелось ее выразить. Она считалась занимательной провокацией, очередным чудачеством, своего рода отклонением от нормы. В этом обществе агностиков, отчасти увлекающихся буддизмом, многое считалось отклонением от нормы, так что не было никакой необходимости становиться атеистом или сектантом, вполне достаточно было быть просто католиком. Нэнси понадобилось некоторое время, чтобы понять: Филип не шутит, когда сожалеет о том, что вынужден жить с ней во грехе, поскольку его церковный брак с Анной не был расторгнут, и что он не может из-за этого подойти к святому престолу. Отлучение от евхаристии, как казалось Дику, служило даже большим, чем развод, наказанием за его святотатство, за то, что он высмеял это таинство в своей «черной мессе», и лишало его единственной эффективной защиты в войне, которую он вел. Ностальгия по привычной жизни заставила Дика изобрести различные заменители, самым любопытным из которых, единственным, не связанным с наркотиком, является «ящик сопереживания» Мерсера, вокруг которой вертится побочная интрига «Бегущего по лезвию бритвы» (при всех его многочисленных недостатках Дик был все-таки весьма сострадательным человеком).
Этот «ящик сопереживания», орудие тайного культа в полицейском обществе, где помимо прочего практикуются облавы на андроидов, выглядит как маленький телевизор с ручками. Тот, кто берется за ручки и склоняется над телевизором, тотчас оказывается участником сцены, повторение которой является основой культа: некий старик (про него известно только, что его имя — Мерсер) с трудом карабкается по склону горы, и во время подъема его закидывают камнями. Но приверженец культа не просто присутствует при этой сцене, он в ней участвует. Это его ноги волочатся по неровной земле, это в его тело летят камни, это его душа в предчувствии близкой смерти полна горечи, но при этом испытывает необъяснимое просветление. При помощи загадочного прибора человек растворяется в Мерсере и в то же время во всех тех, кто одновременно с ним держится за ручки своих «ящиков сопереживания» на Земле и на планетах-колониях. Он чувствует, что вокруг него есть другие люди, которые, как и он, страдают и ликуют. Он объединяется с ними в единое целое. Слияние с Мерсером, общий крестный путь и поклонение одним и тем же святым — это прямая противоположность перемещению под контролем Палмера Элдрича: оно не изолирует, а объединяет, не губит, а спасает. Добравшись до вершины горы, Мерсер падает в агонии; когда его несут в склеп, он оживает. «Каждый раз, — восхищается герой, — он обязательно воскресает, и мы вместе с ним. Что делает нас тоже бессмертными».
Все это очень не нравится светской власти, которая, провозгласив культ незаконным, преследует его приверженцев и ведет против них мощную идеалогическую кампанию. Ящик против ящика, ибо орудием властей является, как было бы логично предположить, телевидение. Известный ведущий Дружище Бастер каждый вечер высмеивает мазохистское увлечение, заставляющее последователей Мерсера покидать реальность, чтобы страдать сообща. Если бы речь шла о том, чтобы неплохо провести время, это еще можно понять, но добровольно подвергаться побиванию камнями и разделять несчастья с тысячами незнакомцев, тогда как настолько просто механически свести свое настроение к постоянному веселью или даже к старой доброй хандре, — такое просто в голове не укладывается.
К концу романа Дружище Бастер наносит решающий удар, приводит убедительные доказательства того, что культ Мерсера — это обман, опиум для народа, сбываемый правительством, которое вероломно затеяло борьбу против него только для того, чтобы подогреть интерес. Сцена с горой снимается на киностудии и распространяется по каналу, устроенному по аналогии с телевизионным. Сам Мерсер, последователи которого задавались вопросом, является ли он по своему происхождению человеком или неким архетипом, привнесенным в земную культуру непостижимой космической волей, так вот, этот самый Мерсер был всего лишь третьесортным комиком, алкоголиком, до этого снимавшимся в провальных сериалах. Играя роль всей своей жизни, побиваемый резиновыми камнями и истекающий кетчупом, во время съемок он страдал разве что от нехватки виски.
Казалось бы, после пошлых шуточек и разоблачений Дружище Бастера у зрителей должна была пропасть всякая религиозность. Однако ничего подобного. В действительно великолепной сцене, которую Дик изобразил необычайно талантливо, Мерсер появляется перед одним из своих учеников, blade runner, сидящим без сил перед «ящиком сопереживания», который отныне заполняют помехи, какие бывают по окончании вещания, и спокойно объясняет ему: да всё, что сказал Дружище Бастер, — правда, всё, включая и виски, без которого ему, старому актеру-алкоголику, и в самом деле тяжело обходиться, но это ничего не меняет. Абсолютно ничего. «Потому что ты здесь, и я здесь».
С помощью этого символа веры, отчаянно сопротивляющегося очевидному, Дик обозначил свою позицию в споре, который так волновал тогда общественность, по меньшей мере, ту ее часть, которая интересовалась религиозными вопросами. Находка в 1947 году рукописей Мертвого моря наделала много шума, и в результате распространилась идея, что, если значительная часть учения, приписываемого Иисусу синоптическими Евангелиями, отражена в документах, появившихся еще до его рождения, то это учение, возможно, не так уж оригинально, как полагали, а тот, кто его распространял, — всего лишь проповедник, каких тогда было много в Палестине. И даже, если принять во внимание, во что верят и верили миллиарды людей, простой обманщик. Атеисты, вступившие в полемику, полагали, что обрели весомый аргумент против христианства. Церковники заволновались. Некоторые даже считали, что их вера пошатнулась под действием этих открытий, и среди них был епископ Калифорнийской епархии англиканской церкви Джеймс А. Пайк.
Господин Пайк был тогда важной общественной фигурой, этаким образцом современного прелата. Бывший адвокат, выдающийся оратор, он сражался за гражданские права, участвовал в знаменитом марше в городе Селма бок о бок с Мартином Лютером Кингом, был другом клана Кеннеди. Ему американцы были обязаны введением рока в культовые церемонии и возведением в Сан-Франциско собора, витражи которого, наряду с удачно стилизованными святыми, весьма реалистично изображали Альберта Эйнштейна или, скажем, астронавта Джона Гленна. Фотографии Пайка красовались на обложках «Тайм» и «Ньюс-уик». Он участвовал в весьма популярном телевизионном шоу. Особую пикантность имиджу Пайка придавало то, что против него только что был начат процесс: прелат занимал откровенно еретическую позицию по отношению к Святомуо Духу, который, по его мнению, исчез из обращения со времен апостолов.
Осенью 1965 года Марен Хаккетт, бывшая активисткой феминистического движения, познакомилась с Пайком и стала его любовницей. Спустя некоторое время Нэнси с Диком были приглашены к ужину в квартиру, служившую тайным убежищем для этой пары, поскольку епископ, хотя уже и не жил со своей супругой, официально был все еще женат. Дик побаивался этой встречи на незнакомой территории с человеком, чья известность его пугала. Однако все прошло замечательно. К концу вечера он сидел, развалившись на диване, смеялся, вел непринужденную беседу, восхищенный любовником своей тещи. Понятно, что, когда встречаются два человека, страстно увлеченных религией, они без конца говорят об отцах-пустынниках и Армагеддоне. Между Филом и Джимом — так они стали звать друг друга в первый же вечер — началась трехлетняя дискуссия. Оба они, будучи интеллектуалами до кончиков волос, любили ученые споры и часто подкрепляли свои аргументы цитатами. Оба, подобно средневековым реалистам, верили, что слова материальны, а всякая идея, которую можно облечь в словесную форму, обязательно имеет реальный аналог. Оба они, бесконечно уважая печатное слово и не обращая внимания на то, что книги противоречат друг другу, верили во все, что читали, и обладали даром убеждать в этом других. Много читая, они часто меняли свое мнение, что порою смущало других людей, но не их самих.
В их состязаниях Джим имел то преимущество, что он привык к кафедре и публичным выступлениям, к тому же в его распоряжении был самый полный теологический арсенал. Но Фил не зря был Крысой, самой экстравагантной из церковных крыс. Джим только изумленно ахал, попадаясь в ловушки, которые ему подстраивал этот непонятный писатель, неуклюжий и плохо одетый, однако при всем том способный дать фору синоду. Любители парадоксов и противоречий, они терпеть не могли соглашаться и подталкивали друг друга к ереси. В случае с епископом это увлечение вело к более серьезным последствиям, к тому же он оказался если не более изощренным, то более страстным спорщиком.
Увлеченный эсхатологическими учениями, распространенными на Ближнем Востоке в начале нашей эры, епископ прочел Дику целый курс по теории гностицизма, утверждая, что нам совсем немного не хватило, чтобы стать гностиками, а не христианами, и что, с точки зрения истины, мы, возможно, от этого проиграли. Пайк с жаром излагал эти вычурные экстремистские доктрины, столь успешно замалчиваемые христианским православием, что многие из них были известны лишь благодаря критическим комментариям святого Иеронима. Христианство уже само по себе является диссидентством, а гностики — это диссиденты диссидентства, великолепные проигравшие, совершенно плохие парни, которые всегда очаровывают партизан от религии. Дик не мог не полюбить этих духовных учителей — Валентина, Василида, — все учение которых основывалось на предчувствии, что в мире что-то не так, как должно быть. Наш мир, утверждают они, это одновременно тюрьма и иллюзия, ошибка и злая шутка, которую с нами сыграл жестокий демиург. Однако тот, кто это знает и прилагает усилия, чтобы остаться в сознании, сможет возвыситься до света настоящего Бога, в тени которого нас держит в плену демиург. Слыша и читая это, Дик понял, что всю свою жизнь он был гностиком, сам того не сознавая. Всеми фибрами своей души жителя мира-могилы Дик присоединяется к этой констатации, но он также хочет верить и в существование лекарства. Однако это средство, эта дорога в истине и жизни, разве это и не есть Христос?
На этой стадии дискуссии епископ принимает раздосадованный вид человека, который не решается раскрыть глаза ребенку, все еще верящему в Санта-Клауса. Каждые два или три месяца он отправлялся в Лондон в компании Марен, чтобы встретиться там с Джоном Аллегро, представлявшим Великобританию в международной команде исследователей, задачей которых являлось изучение и публикация рукописей Мертвого моря. Он возвращался из каждой поездки одновременно удрученным и чрезмерно возбужденным, привозя с собой скандальные истины. Как-то раз, узнав последним новости, Пайк сообщил с ужасом и в то же время с наслаждением, что Евангелия, по-видимому, были подделкой, а Иисус — последователем секты ессеев, вокруг которой сборище злых евреев выстроило колоссальный обман.
Перед лицом таких открытий («Научных», — настаивал епископ, подняв указательный палец) Дик оказывался в роли защитника догм, которая очень подходила ему, если учесть его дух противоречия и самые сильные чаяния. На все выпады своего друга он отвечал, как Мерсер:
— Очень хорошо, но даже если это правда, это ничего не меняет. Вы напоминаете мне одного профессора, который утверждал, что «Гамлет» был написан совсем не Шекспиром, а другим человеком. Если кто-то верит, что Христос был сыном Божиим, что Он воскрес и победил смерть, то можно сколько угодно говорить ему и доказывать, приводя любые аргументы, что Он был всего лишь слабоумным приспешником или даже что Его вообще не существовало, но это абсолютно ничего не изменит. Вы совершенно правы, занимаясь поисками истины, но вам следовало бы знать, что истина — это Он. Другими словами, ваши речи означают, что вы в Него не верите, что вы — непосвященный.
После этого заявления Пайк был вынужден признать, что он и правда уже не так крепок в своей вере. И что это его тревожит.
Но сильнее всего епископа обеспокоило вот что. Как-то раз Пайк вернулся из Лондона с совершенно секретной информацией, которую доминиканцы надеялись, как он сказал, навсегда сохранить в секрете и которую не осмеливался обнародовать даже отважный Аллегро. Члены секты, учение которой Иисус или те, кто его придумал, только вульгаризировали, выращивали в своих пещерах над Мертвым морем некий гриб, из которого они готовили что-то вроде хлеба и бульона. Они ели этот хлеб и пили этот бульон, в этом обычае нетрудно увидеть прообраз святого причастия. А еще было установлено, что этот гриб является галлюциногеном. Anamita muscaria, объект культа плодородия, восходящего к глубокой древности, употреблявшийся также сибирскими народами, чьему истреблению он, впрочем, широко содействовал. Таким образом, христианство оказалось всего лишь весьма поздним проявлением этого культа, а Новый Завет, который извратил его в угоду светским и религиозным властям, являлся криптограммой криптограммы.
— И я должен, — жаловался епископ, — каждое воскресенье причащать верующих, зная, что вся религия этих людей состояла в том, чтобы совершать психоделические путешествия…
— И что Иисус, — перебивал его Дик, прежде чем разразиться громовым хохотом, — был наркоторговцем. — Затем, успокоившись, он добавлял: — Заметьте, я давно это подозревал, я даже это в той или иной степени описал. Но это ни на йоту не уменьшило моей веры в него.
В феврале 1966 года двадцатилетний сын Пайка застрелился из охотничьего ружья. Его поступок объясняли разными мотивами: отец узнал о его любви к мачехе, юноша узнал о своих гомосексуальных наклонностях, покончил с собой под влиянием ЛСД.
Именно тогда Дик написал Пайку письмо, в котором был следующий пассаж:
«Я верю, что после смерти Реальность наконец откроется нам. Карты будут перевернуты, партия закончена, и мы ясно увидим то, о чем раньше только подозревали, что мы мельком видели в тусклом зеркале. Как раз об этом говорят апостол Павел и Бардё Тодол. И даже Винни-Пух утверждает, что мы все однажды снова окажемся на другом краю леса, там всегда будут играть маленький мальчик и его медвежонок. Я верю в это. На самом деле, это единственное, во что я верю. И даже если я ошибаюсь и прав Лукреций („Мы ничего не почувствуем, потому что нас уже не будет“), тем хуже: меня не будет, и я не смогу разочароваться. И все же я останусь в выигрыше. Однако это не пари: у меня нет выбора, и у вас тоже».
Но епископ не мог ждать этого момента, чтобы раскрыть карты, и он уже не доверял ни апостолу Павлу, ни Винни-Пуху; Пайк хотел получить сведения из первых рук. Готовые на все, чтобы избавиться от чувства вины, епископ и Марен сошлись со спиритами, и приблизительно через полгода после смерти Джима-младшего начали рассказывать о том, что он вернулся. Покойный говорил с ними, он их простил, он хотел, чтобы они были счастливы. Пайк, для которого существовало лишь то, о чем было написано в книге, или то, что послужило материалом для ее создания, даже подписал договор с издательством, обязуясь представить книгу, в основу которой должен был лечь его опыт общения с потусторонним миром. Он продолжал интересоваться вопросом подлинности христианства; «подлинность» — это слово, которое он сам употреблял, и которое Дик находил нелепым, неполновесным, слишком современным и относящимся к битве, что разворачивалась в душе его друга. Епископ рассчитывал, что Джим-младший поможет положить конец его сомнениям. Находясь на той стороне, он сможет сказать ему, является ли Иисус сыном Божьим, или он был всего лишь проповедником, распространяющим идеи секты наркоманов.
«Какое безумие! — подумал Дик. — Какое трогательное безумие: использовать своего собственного умершего сына в качестве справочника, чтобы уладить исторический вопрос!» Но в глубине души он знал, что, оказавшись в подобной ситуации, он сделал бы то же самое, что он всю жизнь искал именно такой справочник и что речь идет о чем-то большем, нежели об историческом вопросе, речь идет о вере или об ее утрате, другими словами, о жизни и смерти епископа. Потерять Христа означало для Пайка потерять все, даже если он уже и говорил, с серьезной невозмутимостью бизнесмена, предвидящего реконверсию, о возможном отказе от духовного сана и о переходе в частный сектор — он так и говорил: «в частный сектор».
Пайк убедил Дика и Нэнси поприсутствовать на одном из сеансов с участием женщины-медиума, которую ему рекомендовали. Филип нехотя согласился, ему было тяжело видеть, как столь блестящий и столь близкий ему по духу человек под властью страха погружается в верование, которое сам Дик считал нелепым. «Подумать только, — размышлял он, — епископ так же свято верит в посмертные заявления своего сына, как апостолы или я сам уверовали в воскресение Христа. Да кто я такой, чтобы осуждать его плохо обоснованную веру и пожимать плечами, когда существует подобное же отношение к моей собственной вере?»
Женщина-медиум жила в Санта-Барбаре. Это была старая ирландка. Она утверждала, что посылает все свои доходы от этой деятельности в ИРА. Во время сеанса Фил и Нэнси делали записи, которые должны были помочь епископу при написании его будущей книги.
Совершенно очевидно, что медиумы, ясновидящие, парапсихологи в целом опираются на сведения, которые им неосознанно предоставляют сами клиенты, на широко известные факты, которые, будучи представленными в нужном свете, могут произвести впечатление откровения, и наконец на интуицию — если промахнулся, быстро переходи к другому, если нет, ты выиграл. Однако всякий, кто хоть раз общался с ними (если нет, то ему действительно не повезло), знает: даже если вы во всем разобрались с точки зрения логики, все равно остается некий необъяснимый осадок, какая-то мелочь, необязательно значимая, о которой парапсихолог, по идее, не должен бы знать, и совершенно непонятно, как это могло стать ему известным. Это волнующе, но не настолько, чтобы изменить ваше мировоззрение или хотя бы заставить вас поставить ржавый гвоздь на какую-либо форму оккультизма. В тот вечер тень Джима Пайка-младшего при посредстве старой покровительницы ИРА намекнула на некую ритуальную, но сугубо личную шутку, которую Фил и Нэнси сыграли с хозяином одного из ресторанов в Беркли, заподозрив, что тот работает на КГБ. Впоследствии в течение нескольких недель Фил пытался найти рациональное объяснение тому факту, что медиум из Санта-Барбары смогла узнать об этом. И в конце концов решил, что хозяин ресторана действительно был из КГБ, да и медиум тоже, после чего забыл об этом деле. Впрочем, эта деталь прошла незамеченной для Пайка и Марен, которые были слишком взволнованы встречей с душой Джима-младшего, вновь повторившего родным, что он их прощает и желает им счастья. Что же касается «подлинности» христианству, увы, на этот счет душа хранила молчание.
Несколько недель спустя, несмотря на великодушное прощение Джима-младшего, Марен, которая страдала от рака и которую епископ собирался бросить, тоже покончила жизнь самоубийством. Марен использовала для этого коктейль из таблеток, в употреблении которых она (как Дик и как, впрочем, и сам епископ), была столь опытна. Секонал, амитал, дексамил — сколько раз Филип тайком брал их из аптечки своей тещи и епископа?
Трагическая судьба Марен сильно потрясла Дика еще и потому, что в самом начале их знакомства эта женщина казалась ему непоколебимой скалой, воплощением силы и надежды, которые дарили христианские добродетели. Услышав о ее смерти, Филип понял, что колесо повернулось, положив конец благоприятному циклу, короткому промежутку времени, когда он и его соратники были счастливы. Черная завеса простерлась над пылкой беспечностью шестидесятых годов, которые он так любил. С тех пор как ЛСД запретили, стали рассказывать все больше и больше историй о неудачных психоделических путешествиях, как если бы Палмер Элдрич, используя запрет, встал на перекрестке Хейт-Эшбери, колыбели невинной цивилизации хиппи. Приверженцы ЛСД организовывали процессии на улицах, в парке Золотых Ворот, колотя в барабаны и повторяя мантру «ОМ», в надежде прогнать плохие вибрации. Но все было тщетно. Теперь появились и покойники. Говорили, что мафия взяла под свой контроль рынок наркотиков и без стеснения сбывала всевозможную отраву. Окружающие вели себя так, как будто ничего не произошло, но Филип Дик знал, что червь уже заполз в плод.
Однако никогда его собственный мир не казался таким стабильным. Внешне сорокалетие добавило ему веса, мудрости, осмотрительности. Никаких бурь. Женщина, которую он любил, ждала от него ребенка. Они переехали в более просторный дом. Филип Дик становился известным, его все чаще переводили на другие языки. Благодаря приличным гонорарам, он смог осуществить заветную мечту — мечту ребенка и вместе с тем остепенившегося человека — и заказал огромный бронированный, огнеупорный металлический шкаф, в который собирался сложить все те богатства, что таскал за собой с тех пор, как ушел от матери: рукописи, письма, редкие пластинки, коллекции марок, иллюстрированных и научно-фантастических журналов, которые уже давно стали раритетами.
Однако, когда ему наконец доставили этого монстра, который, без ящиков, весил триста пятьдесят килограммов и должен был занять целую стену в его кабинете, радость Филипа была омрачена приступом тоски. Купив такую вещь, вы уже не сдвинетесь с места, все кончено, якорь брошен. Затем Дик вспомнил, что дракону Фафниру из оперы Вагнера «Кольцо Нибелунга» предсказали смерть и рассеивание его сокровищ, и его стало одолевать противоположное чувство: теперь он боялся не пресыщенности, а утраты. Желая помочь грузчикам, Дик заработал грыжу, что он расценил как знак божественного неодобрения. Не приобретайте богатств. Все, чем, как вы думаете, вы владеете, будет у вас отнято.
Мин-и, сказала «Ицзин», поражение света.
Именно тогда Дик получил изданную наконец антологию Эллисона. В маленьком мире научной фантастики говорили только о ней. Вступление, которое описывало его как гениального наркомана, сочинявшего свои шедевры под действием ЛСД, заставило Филипа улыбнуться. Эллисон, как всегда, преувеличивал, но Дик вынужден был признать, что ему удавались подобные вещи. Затем, взволнованный, он перечитал свой собственный рассказ, «Вера наших отцов» («Faith of Our Fathers»).
Действие происходит в одном из тех тоталитарных миров, создание которых входило в число специализаций Дика. На это его вдохновляли Джордж Оруэлл, Ханна Арендт и реальность. Мир, в котором телевизор служит не для того, чтобы его смотрели, а чтобы с его помощью следить за гражданами. Позади каждого экрана расположена камера, способная удивить наших современных операторов, вооруженных специальными приборами для определения числа слушателей радио- и телепередач. При помощи этой камеры власти проверяют усердие, с которым зрители смотрят телевизор, и их восприимчивость к пропаганде, распространяемой Гидом, чье высочайшее лицо ежедневно показывают по телевидению. Так продолжается вплоть до того дня, когда главный герой, проглотив некое запрещенное вещество, вдруг видит вместо этого лица нечто ужасное, запредельный кошмар, перевоплощение Палмера Элдрича. Галлюцинация, сказал он себе, и, конечно, не мог задаться вопросом, а не является ли эта галлюцинация на самом деле видением крайней реальности. В дальнейшем его догадка подтверждается. Войдя в контакт с подпольной организацией сопротивления, герой узнает, что наркотик, который вызвал его видение, вовсе не галлюциноген, а напротив, антигаллюциноген. Настоящий галлюциноген подмешивают в водопроводную воду, и все население постоянно принимает его, ничего не подозревая, и именно под действием этого наркотика люди каждый вечер видят одни и те же гармоничные черты Гида. Только те, кто принимают противоядие, «люциноген», если хотите, видят Гида таким, каким он является на самом деле, то есть каждый раз по-разному ужасным. Потому что в действительности Гид — это Бог, капризный и жестокий. В итоге герой встретился с ним лицом к лицу, и нет ничего ужаснее и опаснее, чем это видение, на котором рассказ и заканчивается в чудовищно уклончивой манере.
Это был страшный рассказ. Создавая его, Дик им очень гордился. Однако, когда он перечитал рассказ год спустя, после смерти Джима Пайка-младшего и Марен, впечатление было иным. Оно осталось страшным, но по-другому. Хуже.
Все было словно выставлено на показ, своего рода коммерческий капитал, которым писатель, составляя свой автопортрет, с наивным удовлетворением кичился, как если бы собирался использовать его всю свою жизнь: тоталитаризм, idios kosmos, koinos kosmos психоделические наркотики, крайняя реальность, Бог. Маленький мир Филипа К. Дика.
Единственные, кого не хватало — это андроиды, симулакры. И не без причины: весь рассказ был уже сам по себе симулакром. Если бы ловкий мастер подделок захотел написать произведение под Дика, если бы программист решил составить программу, способную сочинять как Дик, результат оказался бы примерно таким.
Однако это произведение написал именно он, Филип Дик. И рассказ был действительно создан в его манере, не совсем безупречной, но реальной, настоящей: автором и впрямь был Фил Дик, а не андроид, занявший втайне от всех его место. В этом писатель был уверен.
С другой стороны, если бы он был андроидом, он бы тоже был в этом уверен. Он рассуждал бы точно так же. Это даже, по правде говоря, типичное рассуждение для андроида. И, поняв это, андроид бы испугался, потому что был бы на это запрограммирован.
Это ничего не доказывало и ничего не опровергало, однако сам Филип Дик тоже испугался.
Глава тринадцатая ГДЕ ЖИВУТ МЕРТВЫЕ
Весной 1967 года Нэнси родила девочку, которую окрестили по-вагнеровски Изольда Фрея, но звали исключительно Изой. Рождение дочери усилило напряженность между Диком и его женой, возникшую из-за стремления последней к независимости. Пока жена оставалась дома, читая книги, которые он выбирал для нее, слушая музыку из его коллекции и терпеливо ожидая, когда супруг наконец выйдет из своего кабинета, Филип изумлялся тому, насколько их вкусы совпадают, и провозглашал Нэнси самым отзывчивым и душевным человеком в мире. Но когда жена нашла себе работу на неполную рабочую неделю, перестала проводить все дни дома и заботиться о супруге (сперва сильно удивляясь тому, что его это удивляет, а затем и возмущаясь тем, что его это возмущает), Дик начал спрашивать себя, не является ли она тоже, как и Анна, шизофреничкой. Рождение ребенка должно было бы изменить эту унизительную для него ситуацию, когда жена считала Филипа неспособным ни заработать достаточно денег для содержания семьи, ни заменить молодой женщине целый мир, однако по отношению к дочери он оказался просто невероятно ревнивым. Дик боялся одновременно, что Иза вытеснит его из сердца Нэнси, а Нэнси — отберет любовь Изы. Он привык относиться к жене как к ребенку и свысока поучал ее, ссылаясь на свой педиатрический опыт, состоявший в основном из воспоминаний о рано умершей от голода сестре; не проходило и дня, чтобы Филип не вспомнил об этой трагедии. Нэнси кормила ребенка грудью. С одной стороны, Дик это одобрял, так как его собственная мать ничего подобного не делала, с другой стороны, он чувствовал себя обделенным, поскольку не мог соперничать с Нэнси, и дошел до того, что начал считать каждую порцию материнского молока провокацией. Ему давали понять, что он лишний. Чтобы восстановить равновесие, Филип вооружился бутылочками со смесью и тайком скармливал их Изе, прижимая дочку к себе, повторяя, что он ее папа, что он ее любит и никогда не бросит. Реакцией ребенка на этот двойной режим питания и эти беспокойные слова поддержки явилась голодовка, которая, разумеется, взволновала родителей.
— Слишком много суеты вокруг малышки, — объявил врач, не подозревая, что его благоразумный диагноз погрузит отца в тоскливое состояние выбора между чувством вины и злобой.
— Я параноик, — жаловался Филип Дик, — а затем добавлял: — И к тому же я женился на ненормальной.
Надеясь успокоиться, Филип начал шарить в аптечном шкафчике и принимать таблетки. Он делал это для того, чтобы придать себе сил, поднять моральный дух, встретиться лицом к лицу с Другим; чтобы работать и отдыхать; чтобы засыпать и просыпаться. Дика называли наркоманом, и не зря, но он боялся ЛСД, как черта, хотя и много рассуждал о его достоинствах, курил марихуану только из-за социальных условностей и предпочитал лекарства. Ему нравилось и то, что они созданы на научной основе, а также относительное постоянство их действия. Еще в «Бегущем по лезвию бритвы» Дик снабдил американские дома будущего компьютерами, которые, будучи соединенными с нейронами пользователей, давали тем возможность выбирать настроение из на редкость богатого каталога. Аппарат настраивался таким образом, чтобы человек радостно просыпался, подобно героям рекламы матрасов или напитков для завтрака. В случае супружеской ссоры можно было выбирать между депрессантом, успокаивающим гнев, и стимулятором, позволяющим выйти победителем в споре. Сомневающийся мог обратиться к программе «Дух решения», которая помогала ему. Некоторым особо продвинутым пользователям предлагались пиратские программы вроде «Депрессия и бесплодное самобичевание», которую затем можно было изменить с помощью программы с громоздким названием «Открытие множества возможностей, которые таит в себе будущее, что позволяет вызвать новый прилив доверия к жизни».
Итак, Дик принимал таблетки. Горсть амфетаминов превращала его на время вечеринки в блистательного гостеприимного хозяина, а имея целую коробку медикаментов, подобную той, что он однажды стянул в ванной епископа, Дик мог, не тратя времени на отдых и сон, написать роман за две недели. Он знал, что за эту повышенную работоспособность ему придется впоследствии заплатить долгими периодами депрессии и даже более серьезными симптомами: проблемами с восприятием, потерей памяти, попытками суицида — но благодаря различным седативным и транквилизирующим средствам ему всякий раз удавалось выкарабкаться. Дик знал, что Палмер Элдрич ждет его, притаившись в глубине подобных психопатических состояний, но это было одним из правил игры, контрактом, который не обсуждался. Писатель знал, по крайней мере, догадывался, что все предусмотреть невозможно, что контракты такого рода всегда содержат параграфы, напечатанные мелким шрифтом, которые ему придется однажды прочесть, но будет уже слишком поздно. Он превратил свой организм в шейкер для коктейлей из таблеток, и проблема состояла только в том, чем же его наполнить, так чтобы противостоять жизни, все обстоятельства которой, какими бы благосклонными они ни казались, отныне требовали вспомогательных средств, а также различных снадобий для того, чтобы избавиться от побочных эффектов.
Дик посещал с полдюжины врачей, которым он, точно зная, рецепт какого именно препарата хочет получить, уверенно перечислял нужные симптомы. А еще он менял аптеки, посылая туда Нэнси, которая, часто находясь под действием марихуаны, описывала вокруг их дома все более и более широкие круги. Но и этого было недостаточно: жене Дика приходилось также прибегать к услугам уличных торговцев, знающих о том, что подсевшие на «спид» (так назывался наркотик из группы стимуляторов), наряду с героиноманами, являются самыми зависимыми из наркоманов и потому наиболее уязвимыми, и им легче всего впарить под видом наркотика муку или сухое молоко. Неуверенность в качестве продукта ставила под сомнение умение Дика составлять различные смеси, которым он так хвастался. Именно этот факт, по его мнению, служил причиной довольно тяжелого стиля его письма, столь поразившего автора. Когда он год спустя перечитал «Веру наших отцов». Он даже начал с подозрением относиться к фантастике в целом, как к старой веревке, которую невидимый враг пытается ему всучить, чтобы всем бросилось в глаза то, что ему самому показалось трагически очевидным, — Филип Дик стал уже конченным автором, сделался собственной тенью или симулакром. Он также страдал от параноидальных приступов, повторявшихся все чаще и чаще, и видел причину во все тех же некачественных наркотиках и в происках все тех же врагов, которые ему подробно о них рассказывали. По крайней мере, именно так Дик объяснял все в моменты просветления, но это мало что меняло теперь, как заметил доктор из его любимой истории одному пациенту, сказавшему: «Доктор, я думаю, что кто-то добавляет мне в пищу средство, делающее меня параноиком».
Как известно, даже у параноиков могут быть вполне реальные враги, и, как в период бракоразводного процесса с Анной, у Дика появились проблемы. Какими бы скромными ни были его доходы, он умудрился нарушить налоговое законодательство, и известие об этом было подобно грому среди ясного неба. Для человека, который опасался властей в любом виде и которого терзал неизлечимый комплекс вины, это была настоящая катастрофа. К тому же власти проявили интерес к его доходам весной 1968 года, вскоре после опубликования в левом журнале «Рэмпартс» петиции, которую Дик подписал вместе с сотнями других американских писателей и издателей и которая призывала граждан США отказаться от уплаты налогов: все равно все деньги тратятся на войну во Вьетнаме. Было то простым совпадением или нет, но этого оказалось достаточно для того, чтобы разбудить его прежние страхи. Приближаясь к Филипу Дику под видом сотрудников налоговой инспекции, ЦРУ, ФБР, лично Эдгара Гувера, они хотели заполучить его самого. Или даже хуже, его душу. Дилеры, у которых он покупал «спид», также работали на них, как, вероятно, и врачи. Его подвергали, без его ведома, промыванию мозгов. По-видимому, вскоре он изменится: начнет думать правильно, будет любить Большого Брата, которого на тот момент олицетворял его старый враг Ричард Никсон, от всей души ненавидеть маргиналов, будет верить не в Бога, а в политических деятелей или в звезд Голливуда, но самое страшное — он будет совершенно счастлив. Превратится в человека уравновешенного и вполне здорового, — словом, в полную противоположность тому ничтожеству, каковым он являлся на сегодняшний момент, и у него даже не останется ни единого воспоминания — ни о себе, ни о своих близких, потому что их тоже заменят. А может быть, его уже заменили, а сомнения оставили специально, для придачи большей достоверности, чтобы он продолжал верить в то, что он — это он. То, что, как Дик думал, исходило из глубины его сердца, о чем он писал свои книги, на самом деле было заранее запрограммировано пропагандой, которая пользовалась ими, чтобы контрабандой протащить свое сводящее с ума послание. Возможно, на подсознательном уровне его книги, без ведома автора и без ведома читателей, говорили только одно: вперед, парни, убивайте косоглазых, сбросьте тонны напалма, перережьте им глотки, изобличайте уклонистов, наркоманов, неблагонадежных граждан! Это объяснило бы отвращение, которое внушали Дику его последние произведения. Но могло быть и так, что преследовали, хотели его нейтрализовать, потому что Дик, сам того не зная, совершенно случайно, просто дав волю своему воображению, открыл и описал в книге какой-то жизненно важный секрет, разглашение которого поставило бы под угрозу господство власть имущих.
Дик начал рыться в своих законченных творениях, представляющих кучу дешевых книжек с кричащими обложками, разыскивая секрет, разоблаченный его прозорливым незнанием. Тщательно все изучив, он остановился на двух романах — на «Вере наших отцов» (там, если помните, говорилось о добавляемом в водопроводную воду галлюциногене, благодаря которому граждане не знают, какое чудовище ими управляет), а также на «Предпоследней истине» («The Penultimate Truth»), — книге, написанной несколькими годами ранее. В нем беженцев, работающих в недрах Земли, заставляют верить в то, что на ее поверхности идет химическая война, тогда как на самом деле кучка бессовестных правителей, владельцев телевизионных симулакров, просто хочет спокойно пользоваться этим жизненным пространством. «А ведь и правда, — рассуждал Филип Дик, — где доказательство, что эти картинки из Вьетнама, которые показывают по телевизору, на самом деле не сняты на студии, с помощью холостых патронов, муляжей и кетчупа? Где доказательство, что сам Вьетнам существует? Что вообще что-то существует за пределами этой комнаты, где я нахожусь, вне этого толстого, рано постаревшего тела, которое я с ужасом вижу в зеркале и должен называть собой?»
Доктор, мне кажется, что я схожу с ума. У вас есть лекарство против этого?
А как оно на меня подействует? Сделает меня нормальным, да? Вменяемым? Благонадежным? Таким, как надо? Поглотит мою душу? Я вас знаю, я знаю ваши методы. Представьте себе, я проделал то же самое со своей бывшей женой. Ну уж нет, я не вчера родился, вы не заставите меня проглотить эту гадость.
И все же, доктор. Мне что-то нужно принять. Я не могу оставаться вот так. Я превращусь в сумасшедшего. Умру. Умереть сумасшедшим, даже не будучи уверенным, что ты действительно умираешь, это еще хуже. Увидеть крайнюю реальность, которую, как уверяет апостол Павел, видят после смерти, не будучи уверенным в том, что это не иллюзия.
Мне страшно, доктор.
В одной из своих книг Филип Дик придумал слово gubble: оно обозначало состояние разложения, грязи и хаоса, к которому стремится каждая вещь под действием энтропии. И теперь его собственная жизнь на полной скорости неслась к этому самому gubble. «Его жизнь», впрочем, что это значит, если он уже вообще ни в чем не уверен, — ни в том, что она действительно его, ни в том, что он жив?
А это еще означает печатную машинку, нажатые клавиши, ЙЦУКЕНГШЩЗХЪ. Нужно начать писать очередную книгу, тридцать вторую или тридцать пятую, этого Дик уже не знал, но знал, что нужно это сделать, чтобы заработать денег, а иначе — что? Его собственный стиль, настолько сухой, что Дик боялся, как бы слова на бумаге не рассыпались и не превратились в пыль, внушал ему отвращение. Бедный синтаксис, изобилующий повторами, построенный исключительно на логике, — синтаксис андроида. Все более и более абстрактный словарь, лишенный тепла и сюрпризов, ничего чувственного, ничего, что напоминало бы о телесной сущности мира. Жизни нет, только фразы, ничего, кроме фраз; даже не фразы, а слова, и даже не слова, буквы, которые механически высыпаются на страницу и соединяются скорее рефлекторно, нежели при помощи замысла, они сбиваются в колонны, эти термиты из окуриваемого гнезда, которые, даже в агонии, воспроизводят движения, заложенные в них на генетическом уровне.
Приведенные в движение этой внутренней рутиной и несколькими таблетками «спида», термиты собираются не для того, чтобы породить персонажей, а чтобы дать имена зомби. Подобрать имена, затем придать им неровные движения, чтобы оживить, — все это уже было, это такой способ тронуться с места. Дик даже развил теорию, согласно которой герой весьма выиграет, если будет иметь многосложное имя, а вечно депрессивный бедолага, напротив, всегда довольствуется двумя слогами: по одному на фамилию и на имя. Например, Фил Дик. На этот раз персонажей его нового романа звали Глен Рансайтер и Джо Чип. Первый был патроном, а второй — его нищим подчиненным, которому вечно не хватало денег: он не пил по утрам кофе, в холодильнике у него всегда было пусто, да и собственным домом он тоже не обзавелся, а потому с утра пораньше вынужден был вести переговоры с несгибаемыми домашними роботами, выпрашивая кредит. Прекрасный прием, чтобы охарактеризовать кого-то, им не стыдно пользоваться на протяжении всей книги. Достаточно одной такой мелкой детали, чтобы книга начала писаться сама по себе, термиты сами активизируются. Еще можно было добавить в их программы инструкции вроде: опишите одежду каждого персонажа, в том числе и второстепенного, не забывая при этом, что действие происходит в 1992 году. Результат: облегающие штаны из синтетической вигоневой шерсти, жилет из кожи вуба, инкрустированный обломками метеорита, сари паутинного шелка, футболки из марсианской конопли, украшенные портретами Бертрана Рассела… словом, все эти глупости, из-за которых Анна приходила в бешенство, и которые, в целом, объясняли глубокое презрение, испытываемое образованными читателями по отношению к научной фантастике.
«Защитите свой внутренний мир. Не подстерегает ли ваши мысли посторонний? Точно ли в вашем мозгу нет никого, кроме вас? Остерегайтесь телепатов, а также провидцев. Возможно, ваши действия предписаны кем-то, кого вы никогда не встречали. Чтобы положить конец всем тревогам, свяжитесь с ближайшей службой защиты, где вам сообщат, являетесь ли вы жертвой физических проникновений, и нейтрализуют их за умеренную плату».
Вот образец рекламного объявления Ассоциации Рансайтера, лидера на процветающем рынке физической защиты. Телепаты, провидцы, антителепаты, антипровидцы, — есть из чего сплести интригу, которая поразила бы образованных читателей; карма Дика требовала, писатель полностью отказался от логических доводов и заставил своих термитов маршировать, плести невероятные интриги и бомбардировать Джо Чипа, «испытателя псионического поля» (профессия будущего, не так ли, моя дорогая?) Кроме тестирования псионических полей и поиска денег на мелкие расходы Джо Чип также занимался организацией отряда нейтрализаторов, настоящей элиты технократии, который должен был отправиться на Луну, чтобы очистить заводы одного бизнесмена, наводненные разнообразными и в высшей степени зловредными психами. Описание процесса вербовки тех и этих, всех в той или иной степени шизофреников, могло бы занять несколько страниц, да еще и выглядеть вполне разумным, если вспомнить широко разрекламированные фильмы, вроде «Семи наемников», который целиком посвящен тому, как набирается отряд, а что до его миссии, она изображена в картине лишь эпизодически: перед заключительными титрами несколько сцен боевых действий исключительно для проформы. Однако Дик добросовестно отослал свою небольшую группу психов на Луну, где власти и их противники должны были сойтись, согласно техническим требованиям. Он набросал на клочке бумаги своим все более и более неровным почерком несколько строк, развивая сюжет дальше: там неясно вырисовывался некий образ коварной девушки с черными глазами, какие нравились ему самому и Джо Чипу, который, как выяснилось, был способен вернуть всех в прошлое, в параллельный мир, откуда нельзя выйти, а если и можно, то только на его условиях и не будучи уверенным, куда в итоге попадешь, такова специализация компании.
Казалось бы, термиты, выполнив раз десять похожие операции, должны были без особых проблем справиться и теперь. Но с Диком вдруг что-то случилось: внезапно он понял, что на одиннадцатый раз это не проходит. Кончено. Бесполезно настаивать. Попытки громоздить одни слова на другие, подобно тому как в детстве он играл в конструктор, больше ни к чему не приведут. Тогда с упрямой враждебностью, которая леденила его сердце, рушились кубики, теперь точно так же себя вели слова и буквы. Они были даже не враждебны, а инертны. Мертвы. И его зомби будут навсегда заблокированы на Луне, дрожа от холода в своих одеждах из кожи вуба. Термитник, не без помощи таблеток, дернувшись несколько раз напоследок и подарив ему слабую надежду на повторный запуск, застыл окончательно. Термиты были мертвы. Говорят, что клетки мозга начинают умирать еще с рождения, тысячами каждый день. Возможно, его собственные уже все были мертвы. Возможно, он сам был мертв.
Остатки мыслей плавали в мозгу Дика как рыбы в банке с затхлой водой. Хмурая неприязнь, смутные опасения, воспоминания о болезненных воспоминаниях. Когда они случайно начали вырываться наружу, его затопил приступ ледяного страха, мгновенно распространившийся по всему телу, хотя нервная система уже почти не функционировала. Приблизительно те же ощущения Филип испытывал, будучи ребенком, в приемной у дантиста: в тот момент, когда ассистент открывал дверь, мальчику казалось, что наступило мгновение, которого он боялся всю свою жизнь.
Возможно, именно это и чувствуют люди в момент смерти.
Однажды Дик прочел в одном из журналов статью о достижениях криогеники: покойников не хоронят, а замораживают, с тем чтобы воскресить их в тот момент, когда наука достигнет невероятных успехов. Уолт Дисней, как говорят, рассчитывал на это, надеясь стать бессмертным. Также можно было заморозить человека непосредственно перед наступлением клинической смерти, с тем чтобы сохранить минимальную мозговую активность, что, безусловно, повышало шансы на то, что он сможет однажды пробудиться. Неподвижно сидя перед печатной машинкой, Дик рисовал в своем воображении черный экран монитора, помещенного у изголовья замороженного тела, на котором в тишине отражается электроэнцефалограмма, почти прямая линия, но не совсем. Что могло соответствовать этим едва различимым вибрациям в мозгу человека, замороженного полуживым? Сны, обрывки мысли, плавающие во тьме образы? Остатки сознания? Нечто такое, что смутно продолжает воспринимать себя как «я» и существовать в пространстве, во времени в своем прежнем виде? Возможно, в глубине этой комы кто-то или что-то, недавно бывшее кем-то, видит себя в образе писателя научной фантастики с растопленным мозгом, преследуемого налоговой полицией, терзаемого энтропией, сидящего перед некрополем букв, которые отказываются заниматься судьбой Джо Чипа и его товарищей. В конечном итоге, им тоже придется умереть. Никто не будет сожалеть о них, а недостатка в таких возможностях у героев романа не будет, если лунные заводы действительно так полны опасностями, как он заявлял. Будет достаточно любого пустяка, чтобы поставить в книге последнюю точку, скажем, на странице 80. Например, пригласивший их владелец заводов явится, чтобы поздороваться с гостями и, не переставая приветливо улыбаться, поднимется, подобно огромному шару, к потолку.
А этот шар окажется гуманоидной саморазрушающейся бомбой.
И она взорвется.
Занавес.
Когда дым рассеялся, все герои начали ощупывать себя, удивляясь, что до сих пор еще живы. Только Рансайтер, шеф, оказался тяжело ранен. Джо Чип и другие, с удивительной легкостью выскользнув из мышеловки, вынесли его, добрались до своего корабля, поместили умирающего Рансайтера в холодильник и направились к Земле, а точнее, по направлению к Мораториуму Возлюбленных Собратьев, где Рансайтера мигом заморозят. Покончив с делами Джо и его спутники тщетно пытаются понять, что с ними произошло, в чем же тут подвох. Казалось, что они удачно выпутались, но именно это, странным образом, больше всего наших героев и беспокоило. «Со стороны все выглядело так, — думали они, — так, как если бы некая злая сила сыграла с нами шутку, позволив нам удрать и потом радостно пищать, как безмозглым мышам. Все наши усилия, наше беспокойство и различные гипотезы развлекают эту силу. Когда ей надоест, она сожмет кулак и швырнет наши бесформенные останки на конвейер».
В разгар дискуссии Джо достает из пачки сигарету. Она, рассыпавшись, буквально проходит сквозь пальцы.
— Как странно, — вздыхает Венди, девушка, которую Джо любит. — Я чувствую себя старой, я старая, ваши сигареты старые. Мы все старые из-за того, что произошло.
Чтобы ободрить Венди, Джо приносит ей кофе. Но кофе имеет привкус пепла. Беловатая противная плесень плавает на поверхности. Автоматы не принимают деньги, что лежат у них в карманах, а вместо знакомого лица Уолта Диснея на них изображение Джорджа Вашингтона, такие монеты вышли из обращения лет тридцать назад. И вскоре они находят в глубине платяного шкафа тело совсем еще недавно живой, нежной и пылкой Венди, — сморщенное, мумифицированное, закутанное в лохмотья. Явно происходит что-то ужасное, но хуже всего то, что в событиях нет логики. Было бы ужасно, но понятно, если бы речь шла о последствиях взрыва, которому группа подверглась на Луне. Но тогда они должны были бы стать единственными жертвами, однако, судя по всему, мир вокруг них тоже пострадал. Все старело, но одновременно и регрессировало, возвращалось в прежнее состояние. Странный процесс, лишенный какой бы то ни было логики, безразлично стремящийся превратить предметы в конечную пыль или в начальную субстанцию, живое существо — в труп или эмбрион, по ту или по эту сторону жизни. Молодая женщина превращается в мумию, сигарета — в пыль, но при этом монеты оказываются старинными, телефонный справочник — устаревшим, телевизор трансформируется в радиоприемник довоенного образца. «Может быть, это оно и есть, — думает Джо, — это ощущение неуверенности вплоть до распада, знак овладевающей смерти. Не только энтропия, но и непоследовательность. Как если бы некая ужасная лабораторная крыса, решив отомстить за все то, что перенес ее род, развлекалась бы, мучая нас бесконечной сменой правил игры. Куда бы вы ни поставили ногу, выясняется, что местность заминирована, но везде по-разному. Тут ускоренное старение, там регресс, а иногда совсем ничего. Вы заходите в лифт, в суперсовременный лифт, а он может запросто превратиться в агломерат из расплавленного металла и пластмассы, в старый лязгающий механизм прошлого века, запускаемый лифтером, который странным образом похож на вас в детстве, или же лифт может начать спускаться, и при этом вы не способны его остановить, на много этажей вниз, десятки, сотни, и остается только догадываться о том, что ждет вас внизу. Не исключено, что там обнаружится нечто такое, что вы предпочли бы, чтобы спуск продолжался вечно.
Нет, это просто невыносимо! Неужели не существует никакого противоядия? Убежища? Некоей силы, более могущественной, чем та, что нас терзает? Любящего Бога над этим демиургом-садистом?
Libera те, Domine!»
И вот наступает кульминация романа. Нечто проявляется. Нечто или, скорее, некто. Внезапно на монете возникает изображение Рансайтера. И Джо слышит голос Рансайтера, который и находится в своей морозильной камере в Мораториуме Возлюбленных Собратьев, голос, доносящийся сквозь потрескивание, через пока еще существующий телефон. И, сопровождая в туалет одного из своих товарищей, умирающего буквально у него на глазах, Джо внезапно замечает над писсуаром надпись (он узнает почерк Рансайтера):
Я ЖИВ, ЭТО ВЫ УМЕРЛИ
Джо наконец понимает, что на самом деле на Луне умер не их шеф. Умерли он и его товарищи. Это их привезли на Землю на последнем издыхании. Это их тела находятся сейчас в Мораториуме. От их сознания не осталось практически ничего, за исключением некоего отблеска, почти незаметного биения. Со стороны это выглядит как долгий сон, прерываемый смутными видениями. А сами замороженные действительно испытывают смутные видения, пребывают в кошмаре, в котором их жизни, а может быть, и не только, угрожает нечто ужасное. Вот что непостижимым образом понял Рансайтер. Выживший Рансайтер, который, склонившись над неподвижными телами своих подчиненных, изо всех сил старается войти с ними в контакт и помочь им.
Чтобы обосноваться в блуждающем мире полуживых, все средства хороши. Расстроенный из-за смерти товарища Джо включает телевизор в номере отеля, где он укрылся, и тут же натыкается на рекламу некоего нового препарата, который с энтузиазмом настоящего профессионала расхваливает лично Рансайтер:
— Устали от объедков? Ваши продукты имеют вкус заплесневевшей капусты? Вашу жизнь портит запах гнили? «Убик» это изменит! — Тут на экране вместо Рансайтера появился ярко раскрашенный аэрозольный баллончик. — Одно распыление «Убика» в экономичной упаковке, и вас покинут навязчивые ощущения, будто весь мир вокруг превращается в свернувшееся молоко, в устаревшие телевизоры, в разваливающиеся лифты, не говоря уже о других возможных проявлениях упадка, которые еще впереди. Знайте, что подобные повреждения являются обычным делом для большинства полуживых, особенно в тех случаях, когда произошло слияние нескольких систем памяти, что можно видеть на примере вашей группы. Но все изменилось с появлением новой, более эффективной, чем раньше, формулой «Убика!»
И Рансайтер исчез с улыбкой продавца на устах. Итак, Джо занялся поиском чудесного распылителя, единственного средства против энтропии. Увы, когда ему удалось найти «Убик», тот уже не действовал и был абсолютно бесполезен. Страшная ирония: субстанция, способная остановить регресс, оказалась сама ему подверженной.
Эта мысль напугала Дика в то самое мгновение, как пришла ему в голову. Потому что эта чудесная субстанция, которую он представил читателям с помощью подходящего парадокса как чудодейственное средство широкого употребления, являлась, в его глазах, не просто таблетками, способными восстановить власть над происходящим, но чем-то большим, некоей силой, спасающей нас от безжалостных челюстей энтропии, от извращенности демиурга, от смерти.
Он развлекался и, как мог, развлекал своих термитов, размещая в качестве эпиграфов к каждой главе книги рекламные слоганы, расхваливающие, подобно Рансайтеру, многочисленные достоинства чудесного изобретения:
«Убик» — это лучший способ заказать пиво.
Растворимый «Убик» обладает всей полнотой аромата свежемолотого фильтрованного кофе.
«Убик» поставит вас на ноги в мгновение ока.
Вас беспокоят ваши долги? Посетите банк «Убик».
С бюстгальтером «Убик» ваша грудь станет самой прекрасной в мире.
Неприятный запах изо рта? Не стоит беспокоиться, есть простое решение:
пользуйся зубной пастой «Убик»!
Однако ближе к концу романа Дик отказался от стиля рекламы и начал подражать святому Иоанну (а также в некоторой степени первой поэме Тао-то Кин):
Я Убик.
Я был до того, как появился мир.
Я создал солнца и миры.
Я создал живые существа и расселил их там, где они обитают.
Они идут, куда я хочу, они делают то, что я говорю.
Я имя, и имя это никогда не произносилось.
Меня называют Убик, но на самом деле меня зовут иначе.
Я есть и я буду всегда.
Дик неотступно размышлял об евхаристии. Он воспринимал слова «Кто ест мое тело и пьет мою кровь, будет иметь жизнь вечную» абсолютно серьезно. Способность сказать, что кусок хлеба — это тело Христово, и сделать так, чтобы этот кусок в то же мгновение им стал (хоть и не материально, но несомненно), эта возможность казалась Филипу Дику величайшей перспективой из всех, что только может получить человек, хотя ему самому, по-видимому, этого не дано. Именно поэтому Дик так сожалел о том, что епископ Пайк отказался от своего сана и перешел, как он сам выражался, «в частный сектор». Некоторым второстепенным, мирским образом Филип Дик сам славил именно это таинство невидимого Царства, по крайней мере, в лице своего двойника, героя романа «Человек в высоком замке», который изображал мир, непохожий на тот, что видели его современники, утверждая, что он и есть настоящий. И в этом Абендсен, хотя и непостижимым образом, но совершенно точно был прав.
Дик упрекал себя, полагая, что, создав образ отрицательной евхаристии в «Трех стигматах Палмера Элдрича», он совершил святотатство. Ему казалось, что, сделав это, он вооружил плохого демиурга. Создавая роман «Убик» («Ubik»), Филип Дик растерялся, так же, как и его персонажи, потому изобрел, чтобы спасти им, а быть может, и себе тоже жизнь, некий анти-ка-присс, положительную евхаристию, то есть, евхаристию, попросту говоря, единственную в своем роде, даже если она и предстала в виде смехотворного пульверизатора. Но Дик все-таки остался неисправимой Крысой и, стоило ему только построить убежище, как он мигом проделал в самой его середине подземный ход и предоставил место сопернику. «Убик» существует, он спасает от смерти и от энтропии, но тот, кто распоряжается смертью, может подвергнуть действию энтропии само спасительное средство.
Дик в панике заканчивает книгу. Теперь сюжет сводится уже лишь к безумному бегству, среди смертей и ужасных превращений, в ходе которого Джо Чип пытается одновременно ухватить флакон с неиспорченным «Убиком» и понять, что за силы соперничают за лимбы. «Я не верю, — думает он, — что мы уже встретились лицом к лицу с нашим Противником, как, впрочем, и с нашим Защитником».
Дик задавался вопросом, какой облик придать Защитнику, представителем которого был Рансайтер. Молодые женщины, готовые помочь, проходили сквозь мир полуживых, принося с собой «Убик» и слабую надежду, а затем испарялись. Воспоминания о них были смутными. Напротив, на что похож Противник, писатель представлял себе довольно ясно. Он часто видел во сне его беспокойный и жестокий взгляд психа. В «Убике» Дик дал ему имя Джори. Слабый болезненный ребенок, которого в раннем детстве полуживого поместили в Мораториум Возлюбленных Собратьев. Наделенный, благодаря своей молодости, энцефалической энергией в большей степени, чем другие замороженные, Джори пользуется смешением их мысленных потоков для того, чтобы буквально пожрать их, как более мощный радиопередатчик пожирает своих соседей, работающих на той же частоте. Он обустраивает мир, в котором пребывают их сознания, чтобы, по воле своей фантазии, мучить всех остальных, заставлять блуждать, завлекать их в угол огромного холста, который Джори создает специально для них. Будучи мертвым, он продолжает жить и увеличивает силу смерти, поглощая то, что остается от жизни у мертвых.
Этот ребенок, между прочим, был одним из близнецов.
Писателю никак не удавалось закончить роман. У Дика вообще всегда возникали с этим проблемы, потому что его истории были бесконечны. Автор не мог решить, кто же победит, «Убик» или Джори. Он этого попросту не знал.
«Ицзин», хоть и пользовалась заслуженной репутацией мудрой книги, не давала ответ на подобного рода вопросы. Будь Филип правоверным христианином, он сказал бы, что в конечном итоге без сомнения победит свет. Он хотел в это верить, он отдал бы жизнь, а возможно, и свою бессмертную душу, за веру в это. Но что-то внутри него помимо его воли верило в вечную тьму, в триумф, нет не небытия, а живой смерти. Не существовало ничего, что ободрило бы его, но было что-то или кто-то, являвшееся, и именно к этому подсознательно тянулась часть его самого с рождения.
Как только было написано заданное число слов, по достижению которого программа прекращает работать, Дик вышел из сложившейся ситуации при помощи старого трюка Крысы, — прибегнув в финале к внезапной перегруппировке, что позволяло поставить точку, не закончив роман. Если раньше казалось, что Джо и его оставшиеся в живых товарищи с середины книги пребывают в лимбе, а живой Рансайтер во «внешнем» мире стал практически нереальным и подчиняется как капризам поедателя душ Джори, так и спасительному влиянию «Убика», то в последней главе мы видим Рансайтера в холле Мораториума. Он достает из кармана монету, чтобы купить себе кофе, но автомат отказывается ее принимать. Рансайтер внимательно разглядывает монету и видит на ней изображение Джо Чипа.
В том же 1968 году на экран вышел фильм Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Дик тоже посмотрел его и был просто потрясен сценой, в которой космонавт отключил компьютер, пораженный смертельным безумием. Синтетический голос, такой холодный и степенный, становился все ниже и ниже, как бывает, если пластинку поставить не на ту скорость, и странным образом делался все более и более человеческим, патетическим, по мере того как разрушались его схемы. Сначала компьютер, понимая, что происходит, угрожает человеку и умоляет пощадить его. Мало-помалу огромный электронный мозг, внутри которого космонавт выполняет свое смертоносное дело, теряет связь со своими собственными составляющими. Рефлексивное сознание, которое позволило бы ему пройти без проблем тест Тюринга, исчезает, однако то, что остается, считается исключительной принадлежностью человека и совершенно недоступным для машины: страдание. Затем пропадает и страдание, или же компьютер теряет возможность его выразить, слышны только бессвязные фразы, обрывки песенок, вырывающиеся из разрушенных блоков памяти. Затем — вообще ничего.
Именно об этом заставляли задумываться читателей книги, которые Дик написал в конце шестидесятых годов.
В романе «Лабиринты смерти» («А Maze of Death») мы видим, как несколько человек, заблудившихся на враждебной планете, убивают друг друга. В последней главе мы узнаем, что эти люди — пассажиры космического корабля, называющегося «Персус-9», который из-за ошибки в программе обречен на бесконечное путешествие, поэтому им суждено жить вместе до самой смерти. Чтобы вынести течение времени, чтобы вынести друг друга, они, не покидая своих коек, убегают в искусственные полиэнцефалические миры, которые специально для них создает бортовой компьютер. Планета, на которой происходит действие романа, является всего лишь одним из таких миров, последовательно переносящим данные реального мира, то есть дрейфующего корабля (покамест точно не известно, является ли он реальным; может быть, это еще одна предпоследняя реальность). Сам компьютер представлен в виде отвратительного существа, нечто вроде местного сфинкса. Он отвечает на вопросы афоризмами наподобие «Ицзин» и в итоге взрывается, когда один из персонажей, которому это непонятно почему вдруг приходит в голову, спрашивает, что означает «Персус-9». Дик всегда пытался сформулировать тот единственный вопрос, что заставит взорваться Бога или вынудит Его открыться, но теперь он стал всего лишь манией, надоевшим циклом в программе, который повторяют термиты. То же самое касается теологической структуры книги. Надеясь придать смысл миру, где находились герои романа, бортовой компьютер, взяв за основу разнообразные верования пассажиров, создал некую синтетическую религию, однако она была, в сущности, итогом разговоров, которые чуть ранее вели между собой в течение нескольких месяцев Дик и епископ Пайк.
Было то простым совпадением или же синхроничностью Юнга, но о смерти Пайка Дик узнал, когда работал над «Лабиринтом смерти». Бывший прелат, подавленный смертью своих близких, вернулся к светской жизни; после того как его предполагаемый бестселлер об общении с потусторонним миром потерпел фиаско, Пайк создал, совместно с калифорнийскими деловыми кругами, Фонд религиозного преобразования. Епископ полагал, что близится новая эра, эра всеобщей религии — зрелой, вобравшей в себя все лучшее из различных культов, существовавших до нее. Но чтобы узнать, кто будет допущен за стол переговоров, нужно было решить вопрос о «подлинности» христианства, который до сих пор оставался открытым. Поэтому Пайк отправился непосредственно на место действия, в Израиль, надеясь узнать у вади в Кумране, культовом месте ессеев, можно ли считать так называемого Иисуса Христа помазанником и Сыном Божьим, и, стало быть, может ли христианство участвовать в настоящем «преобразовании». Пайк рассчитывал получить ответ с помощью галлюциногенного гриба, который, возможно, до сих пор все еще растет в пещерах, нависающих над Мертвым морем. На следующий день после своего приезда в Иерусалим, а это было в сентябре 1969 года, епископ взял напрокат машину и направился в Иудейскую пустыню, имея при себе две бутылки кока-колы и дорожную карту. Спустя неделю ее, развернутую, нашли валяющейся на правом переднем сиденье автомобиля. А еще через несколько дней обнаружили и его самого. Пайк умер в песках от голода и жажды. Во время поисков епископа были организованы специальные молельные группы, которые взывали к Богу, Джиму-младшему и медиуму Эдгару Кэйсу. Как заметила в своей статье, посвященной покойному епископу, писательница Джоан Дидион, это была «самая душераздирающая троица из всех, о которых я когда-либо слышала».
Немногим ранее умер от рака Энтони Бучер. Хотя Дик не видел его в течение вот уже десяти лет, он искренне оплакивал этого доброго и сострадательного человека, которого считал своим учителем. Бучер показал юному Филипу, что можно одновременно быть писателем-фантастом, ревностным католиком, меломаном и справедливым человеком. Затем произошло множество всяких событий. Умерли оба кота Дика. Ловкач Никсон пролез в Белый дом, а Тим Лири попал в тюрьму. СМИ были заполнены сообщениями о негативных последствиях употребления ЛСД и росте преступности. И когда 9 августа 1969 года объявили о кровавой трагедии, в результате которой погибли Шарон Тэйт и ее друзья[15], все были потрясены, но не удивлены, нечто подобное должно было случиться.
Зимой Дик попал в больницу из-за чрезмерного употребления амфетаминов. Там выяснилось, что у него серьезные проблемы с почками и поджелудочной железой. Едва выйдя из больницы, Дик вновь принялся за старое. Он начал новый роман, название которого позаимствовал у своего любимого композитора Джона Дауленда, чьи исполненные меланхолии мелодии и пьесы для лютни стали самым печальным выражением Елизаветинской эпохи, «Пролейтесь, слезы» («Flow My Tears, the Policeman Said»). Действие романа начинается с пробуждения некоего человека, лишенного своей личности. Никто не признает беднягу, хотя еще накануне он был знаменит, его документы ничему не соответствуют, всякое упоминание о нем исчезло. Он теперь никто.
В самом начале лета 1970 года Дик забросил этот роман. Он сотни раз с ужасом думал, что это вот-вот случится, и оно случилось: он больше не мог писать. Ни единого слова, ни буквы. Термитник опустел.
Оставшись без средств, Дик потребовал социальное пособие.
Нэнси не могла больше выносить вечные кризисы мужа, его пристрастие к наркотикам, боязнь сойти с ума. Она чувствовала, как к ней самой возвращается старая депрессия. В сентябре Нэнси уехала, забрав Изу с собой. Трехлетняя малышка смотрела сквозь заднее стекло, как отец бежит вслед за машиной, а затем они повернули за угол, и больше она его никогда не видела.
Глава четырнадцатая НАРКОМАНЫ
Дик понял, что если он не будет постоянно находиться среди людей, то никогда не избавится от мыслей о самоубийстве, поэтому он старался заманить в свой опустевший дом всех, кто был не против там пожить. Сначала вместе с ним поселились два приятеля, брат Нэнси и муж ее сестры, от них обоих, как и от самого Дика, только что ушли жены. Создание этого трио брошенных мужей положило начало мрачному кутежу. Они напивались и наслаждались музыкой Вагнера; приводили девушек с улицы; перестали мыть посуду и выносить мусор; пылко, но путно доказывали, что это и есть удовольствие, свобода. По прошествии нескольких недель оба гостя, изнуренные и напуганные своим хозяином, предпочли более умеренную разновидность холостяцкой жизни.
Поскольку дверь дома Филипа Дика осталась открытой и распространился слух, что в доме 707 по Гасиенда-уэй имеются в изобилии наркотики, к нему начали тянуться все токсикоманы Сан-Рафаэля, несовершеннолетние правонарушители, сбежавшие из дома подростки, те, кого раньше называли хиппи, а теперь стали именовать наркоманами, хотя в последнее время это слово уже не так пугало обывателей. Уйдя от Анны, Дик покинул мир благоустроенных домов, подстриженных газонов и добросердечных отношений с шерифом; средний возраст его приятелей значительно снизился. Нэнси была младше мужа лет на двадцать, и друзья у нее были соответствующие, и даже писатели-фантасты с побережья Мексиканского залива принадлежали в основном к следующему поколению. Епископ Пайк, Марен Хаккетт, Тони Бучер умерли. В сорок два года Дик оказался в мире мальчишек, мире, строго поделенном на наркоманов (нас) — и на обычных (них); причем каждый, кому было за тридцать, автоматически причислялся к обычным, то есть являлся по определению врагом. Дик и сам, скорее в силу своего хамелеонства, чем из мазохизма, разделял эту точку зрения. Он искренне предпочитал общество молодых и их жаргон старым бойцам из Беркли пятидесятых или даже только что завершившихся шестидесятых годов, которые казались его новым друзьям чуть ли не доисторическими временами. Несмотря на разницу в возрасте Дик прекрасно себя чувствовал по эту сторону барьера, рядом с наркоманами, а молодые сразу же приняли в свой круг этого странного здоровяка, такого грустного и при этом такого забавного. Они прозвали Филипа Отшельником, потому что он никогда не выходил из дома. В любое время можно было постучать к нему в дверь — казалось, что этот человек никогда не спит, — и найти там внимание, наркотики, алкоголь, музыку, беседу, любовь — последнюю Фил иногда предлагал слишком уж настойчиво, что являлось единственным его недостатком в глазах девушек.
В один прекрасный день Филип Дик познакомился с Донной. Тут следует сразу оговориться, что имена всех тех, о ком пойдет речь в этой главе, изменены. Но, хотя в жизни эта девушка носила другое имя, однако в книге, которую Дик написал спустя несколько лет и которую внимательно изучил я сам, ее звали Донна. У нее были черные волосы, черные глаза, она носила черную кожаную куртку и обращалась со всеми с презрительной агрессивностью. Донна поссорилась со своим приятелем, здоровенным типом с татуировкой, и он уехал без нее. Не зная, куда пойти, девушка воспользовалась гостеприимством Дика.
В первый же вечер он дал ей послушать свою любимую мелодию «Пролейтесь, слезы». Писатель не считал нужным скрывать свое образование, и его гостям очень нравилось слушать увлекательные рассказы о монахах III века, которые ели кузнечиков в египетской пустыне, или безумно сложные разглагольствования о Боге. Им также пришлись по вкусу странные пластинки, которых у Дика было невероятно много, и я легко могу себе представить, как одна из едва достигших тогда восемнадцатилетия девиц, которой теперь под сорок (за спиной два развода; безупречный макияж; престижная работа в солидной адвокатской конторе в Бойсе, штат Айдахо), как она теперь слушает иногда по вечерам, выпивая второй бокал вина, пластинку с мелодиями для лютни Джона Дауленда. Эта музыка напоминает женщине молодость и заставляет ее плакать.
Много лет спустя одна из девушек-завсегдатаев на Гасиенда-уэй, вспоминала: «Это был безумный и опасный период, но тем не менее, если бы мне предложили выбрать, с кем я хочу провести вечность, я выбрала бы Фила».
Им всем тогда и впрямь казалось, что это будет длиться целую вечность, что они так и будут сидеть здесь и слушать пластинки, курить «травку» и проводить дни в покое вдали от мира взрослых. В то же время их девизом вполне могло бы стать: «Бери все от жизни сейчас, потому что завтра ты будешь мертв». Их оскорбляло, когда им говорили, что они постареют.
Они постоянно находились под действием галлюциногенов. Различаться могут как вкусы, так и настроения. Тому, кто, развалившись на диване, хихикая, курит одну папиросу с гашишем за другой, сложно следить за ходом мысли своего приятеля, набитого амфетаминами; их, образно выражаясь, кинопленки прокручиваются с разной скоростью. Однако все понимают, что живут в одном фильме, где каждый является одновременно зрителем, актером, сценаристом и режиссером. И этот фильм казался наркоманам более увлекательным, неожиданным, волшебным, чем тусклый коллективный документальный фильм, которым довольствуются обычные. Частенько внутри группы пленки крутились синхронно, конечно, не полностью, но несколько кадров точь-в-точь соответствовали друг другу. Некое шестое чувство подсказывало, что они видели и понимали все одинаково, одновременно думали об одной и той же нелепице, и тогда наркоманы начинали хохотать, каждый знал, в чем причина. Возвращаясь из туалета, расположенного в конце коридора, кто-нибудь произносил в сторону, что все же, если хорошенько подумать, архитектор, его строивший, был точно под кайфом. Это замечание заставляло всех смеяться, во-первых, потому что было верным, а, во-вторых, потому что свидетельствовало, что отпустивший его тоже не в себе. А залы ожидания, усердствовал другой, смеясь до слез. Можете ли вы поверить, что существуют такие вещи, как залы ожидания?
Однажды они отправились всей компанией в кинотеатр, где показывали одновременно все серии «Планеты обезьян». Тогда было снято всего лишь три эпизода, но Фил, вдохновленный сигаретой с марихуаной, циркулировавшей по залу, придумал для своих приятелей сценарий всех последующих вплоть до восьмого эпизода под названием «Сын возвращается на планету обезьян», где происходит встреча со всеми историческими знаменитостями — Юлием Цезарем, Шекспиром, Линкольном, — которые на самом деле оказываются обезьянами. Дик изображал каждого из них, чесался под мышками, издавал пронзительные звуки. Остальные от смеха опрокидывали пакеты с попкорном.
После кино они погнали на автомойку и умудрились залезть в машину и проехать под вращающимися щетками в туннеле из пены, рокот которой походил на шум при землетрясении. Как только автомобиль останавливался, они вновь бросали монеты. По всеобщему мнению, это оказалось даже лучше, чем в кино. Тем более что Фил, будучи в тот день в ударе, продолжал свой монолог, стараясь перекричать грохот мойки.
— Знаете, о чем меня заставила подумать эта история об обезьянах? О том, что существуют не только самозванцы, но и ложные самозванцы. Я видел по телевизору одного парня, заявившего, что он является самым знаменитым самозванцем в мире. Он притворялся попеременно то великим хирургом с факультета, то физиком из Гарварда, то финским романистом, получившим Нобелевскую премию, то президентом Республики Аргентина, вышедшим в отставку и женившимся на кинозвезде…
— И его поймали?
— Нет, я ж тебе сказал, это был ложный самозванец. Парень работал дворником в Диснейленде до того дня, пока не прочел статью о некоем знаменитом самозванце. Тогда он сказал себе: «Черт, я тоже могу сойти за всех этих известных типов. — А затем он подумал еще немного и добавил: — А впрочем, стоит ли так стараться? Мне вполне достаточно только притвориться самозванцем». И, может статься, теперь кто-то выдает себя за него.
Чего только ни вытворял Филип Дик и его приятели. Судите сами.
Однажды кто-то предложил покрасить в черный цвет стекла всех окон в доме, чтобы не знать, день на дворе или ночь. Тем более что наркоманы не часто открывали ставни. Другой внес предложение также закрасить черным все надписи на пластинках, чтобы не знать, что ставишь, и таким образом музыка окажется сюрпризом. Но Фил воспротивился этому.
Однажды соседка Дика (она была из обычных) попросила помочь ей убить огромное насекомое, забравшееся на кухню и напугавшее женщину. Когда Дик выполнил ее просьбу, соседка пояснила: «Если бы я знала, что это безопасно, я бы убила его сама». Эта фраза долго служила наркоманам для негативной характеристики обычного ума. Достаточно было произнести первые несколько слов, чтобы все расхохотались, гордые от того, что, несмотря на все неприятности, они непохожи на обычных.
Однажды кто-то принес книги Карлоса Кастанеды, которые все с интересом читали. Среди наставлений чародея наркоманам особенно приглянулось следующее: каждый должен найти свое место. Как в мире, так и в этой комнате, у каждого есть свое особое место, которое ему подходит, которое является его местом. В течение нескольких недель поиски своего места были неким ритуалом и служили темой для шуток. Тот, кто занимал лучшее место, защищал его, говоря «это мое место». И хотя эта фраза, сказанная в обычной манере, казалось, вобрала в себя всю собственническую мелочность его мира, однако она приобретала иной смысл, если произнести ее правильным тоном.
Однажды речь зашла о том, чтобы серьезно заняться наркоторговлей. Но, благодаря марихуане, беседа вскоре свернула в другое русло.
— Когда таможенники спрашивают, есть ли у тебя предметы, подлежащие обязательному декларированию, ты не можешь им ответить: «Ну да, у меня есть наркотики». И знаешь, что лучше всего сделать? Берешь огромный тюк гашиша и придаешь ему форму человеческого тела. Затем приделываешь к нему небольшой механизм на пружине с мини-кассетой и ставишь его впереди себя в очереди, а в тот момент, когда ты подходишь к таможеннику, ты поворачиваешь ключ у него в спине. Когда таможенник спрашивает, не хочет ли этот господин что-нибудь задекларировать, тюк гашиша отвечает. «Я? Нет, совсем ничего», — а затем проходит дальше. И спокойно оказывается по ту сторону границы.
— А знаете, можно было бы использовать солнечную батарею вместо пружины. При этом тюк мог бы идти годами. И никогда бы не остановился.
— Это точно, он дошел бы до края земли и забрел бы в какую-нибудь эскимосскую деревню. Только представьте, вдруг появляется двухметровый тюк гашиша стоимостью в… Сколько бы он стоил, как думаете?
— Миллион долларов.
— Больше. Два миллиона. И вот эскимосы, как обычно, вырезающие себе наконечники из костей, видят этот тюк гашиша стоимостью в два миллиона долларов, который топчет снег, повторяя: «Я? Нет, совсем ничего».
— Дьявол, вот уж они удивятся! Это станет у эскимосов легендой.
— Представляешь, как ты рассказываешь внукам: «Я видел своими собственными глазами, как двухметровый тюк гашиша стоимостью в два миллиона долларов выскочил из тумана, повторяя: „Я? Нет, совсем ничего“». Они наверняка решат, что дедуля выжил из ума.
— Да, но через несколько веков эскимосы будут рассказывать такую легенду: «Во времена наших дедов пришел к нам в деревню тюк первосортного гашиша, высотой в два метра и брызжущий огнем, который кричал: „Эй, вы, эскимосские собаки!“ Однако нашим храбрым охотникам удалось убить его острыми костяными наконечниками».
— Дети снова в это не поверят.
— В любом случае, дети уже все равно ни во что не верят. Тяжело рассказывать о чем-то ребенку. Недавно один малыш спросил меня: «А ты помнишь, как появился первый автомобиль?» Черт, за кого он меня принимает, я же родился в пятидесятом.
Все их разговоры более или менее смахивали на этот. Так проходили дни. «Bela jaj», — говорил Дик, что в переводе с бенгальского означало: «Время проходит». И все веселились, повторяя: «Bela jaj».
Однажды Донна попросила Дика, чтобы он не верил ни единому ее слову, поскольку она все время лжет. Он объяснил подруге, что она не первая, кто утверждает это, и в ответ рассказал парадоксальную историю про критянина, уверявшего, что он — лжец, заключив заверением, что сам он продолжал верить в то, что она говорит.
В другой раз она заявила, что не может с ним спать, поскольку должна следить за своими половыми органами, так как собирается пересечь канадскую границу с фунтом коки, спрятанной внутри. И, в любом случае, она не любит, когда ее трогают.
Поскольку Филип сильно огорчился, Донне захотелось утешить его при помощи так называемой перегрузки. Она заключалась в том, что человек сильно затягивался сигаретой с марихуаной, а затем выпускал весь дым изо рта в рот своему соседу. Помимо того что это давало двойной эффект, Дику нравилось чувствовать губы подружки рядом со своими, ощущать, как теплый дым переходит из ее рта в его. Перегрузки в исполнении Донны остались одним из самых приятных эротических воспоминаний его жизни.
Однажды некий человек, которого писатель в своей книге называет Бэррисом, объявил, что сможет снабжать всю их компанию кокаином, по смехотворной цене — восемьдесят четыре цента за грамм. В супермаркете он купил за эти деньги баллончик с солнцезащитным средством. Вернувшись домой, парень превратил свою кухню в небольшую химическую лабораторию, пытаясь выделить кристаллы кокаина, смешанные с другими веществами.
— Вот посмотрите, — объяснял он, тыча пальцем в баллончик, — в состав входит также бензокаин, один грамм. Только информированные люди знают, что это специальный коммерческий код, обозначающий кокаин. Естественно, если бы они писали на баллончике «кокаин», люди мигом бы все просекли и начали бы делать, как я.
Стоя у кухонной раковины, они рисовали в своем воображении грузовики-самосвалы, въезжающие задним ходом на территорию завода в Кливленде, где производили это средство. Тонны чистого, без примесей, кокаина соединялись там с маслом и прочей дрянью, затем полученным средством наполняли тысячи баллончиков, раскрашенных в яркие цвета. И ведь таких баллончиков — целые полки в супермаркетах и аптеках. Кто-то предложил купить оптом сразу самосвал, вместо того чтобы заниматься мелочью, подобно Бэррису. Забрать весь груз, возможно, семьсот или восемьсот фунтов. Или даже больше. Сколько кокаина поместится в самосвал?
Они строили догадки до самого вчера. Тогда как проверить опытным путем, конечно, не смели. И только на следующий день один из наркоманов вполне логично заметил, что вряд ли бы стали продавать за восемьдесят четыре цента средство, содержащее в себе один грамм кокаина стоимостью в сто долларов.
Однажды Пол Уильямс, молодой человек, пишущий статьи в журнале, посвященном року, пришел в гости к Филу Дику, чьи книги он обожал. Он познакомился с фантастом в 1968 году благодаря художнику Арту Шпигельману, и они провели вместе приятный вечер, покуривая то, что они считали ТГК[16], основой марихуаны, тогда как на самом деле это было успокоительное для лошадей, ФЦП[17], широко распространившееся в течение следующего десятилетия под названием «ангельской пыли». Пол Уильямс, хотя ему доводилось видеть немало наркоманов (несмотря на молодость, он считался ветераном контркультуры), был поражен изменениями, произошедшими в Дике, его положением некоего гуру среди вечно обкуренной молодежи. Уильямс находился под сильным впечатлением до тех пор, пока кровавая трагедия, спровоцированная Чарлзом Мэнсоном[18], не потрясла его до глубины души и не заставила забыть про Дика.
Однажды некая девушка, которая жила с ними в течение недели, впала в кому во время психоделического путешествия. В больнице, куда встревоженный Фил ее отвез, поставили диагноз: общее сужение сосудов. Половина сосудов, которые питают мозг, были заблокированы и, похоже, произошли необратимые изменения. Врач даже не спросил, что произошло, они сталкивались с подобными случаями каждый день. Девушка выжила, но ее головной мозг был навсегда поврежден.
Другая девушка, спустя какое-то время, заперлась в шкафу, а когда наконец вылезла оттуда, то попыталась отрубить себе руку топором. Ей это не удалось, и ее тоже поместили в психиатрическую больницу.
Однажды Фил забыл шифр сейфа в своем кабинете. Из предосторожности он его нигде не записывал, так как в мире наркоманов часто воровали. В принципе, все, что имело хоть какую-то ценность, было украдено изначально, именно это и являлось критерием их ценности. Но у Фила сохранились от прежней жизни несколько вещей, которые были ему дороги. Он полагал, что в сейфе они находятся в безопасности. «Ничего, теперь, когда даже я сам не могу открыть сейф, мои сокровища еще в большей сохранности», — утешал он себя.
Дика беспокоили эти провалы в памяти. Ему очень хотелось, чтобы кто-то вспомнил об их жалких сгоревших жизнях, о моментах радости, которые они пережили вместе, как в день просмотра «Планеты обезьян» и поездки на автомойку. Нельзя, чтобы их забыли, надо, чтобы их след остался до наступления лучших дней, когда люди поймут их.
Однажды некая девушка из их компании серьезно поругалась со своим любовником, который одновременно был ее поставщиком героина. Коварный возлюбленный спрятал два пакетика с порошком в ручку ее утюга и сделал анонимный звонок в полицию. Но красотка обнаружила героин и тут же ввела его себе в вену — руки ее были все исколоты — так что, приехав на место, полицейские ничего не обнаружили. Перекупщик в злобе поколотил ее. Она испугалась, как бы парень ее не убил, и поговорила об этом с Филом. Тот решил найти ей охранников — двух киллеров и, если этот тип не отстанет по-хорошему, убить его. К ней приставили двух крепких негров, которые несколько дней подряд не отходили от девушки ни на шаг. Она терялась в догадках: охранники ли ее обманывают, или Фил, или негры обманывают Фила, кладя себе в карман то, что он дает им в обмен на услугу, которую они, будучи приперты к стенке, конечно, ему не окажут. С другой стороны, чего только в жизни не бывает? Девушка так и не узнала, были ли это настоящие киллеры, или ее разыграли, поскольку вскоре переехала в другой город.
Однажды некий тип, которого Дик впоследствии в своей книге вывел под именем Джерри, начал мыть волосы, чтобы вывести вшей. Вшей у бедняги не было, но говорить ему об этом было бесполезно. Он часами стоял под струей горячей воды в душе, но затем снова находил у себя в голове вшей. Вскоре они начали копошиться по всему его телу и даже внутри него. Их укусы причиняли несчастному невыносимые страдания. Джерри накупил всевозможных средств против паразитов и распылял их по всему дому, так что остальные страдали от удушья. Он целые дни кричал от боли и торчал в душе. В конце концов пришлось вызвать психиатров. Уходя, он продолжал орать, а через несколько месяцев покончил жизнь самоубийством.
В течение этого года Фил сопровождал в психиатрическую лечебницу или навещал там по меньшей мере дюжину своих знакомых. Все признавали у него это достоинство: Дик никогда не бросал людей, даже если уже ничем не мог им помочь. Его самого три раза помещали в больницу из-за депрессии или приступа паники. Для человека, поглощающего по тысяче таблеток метедрина в неделю и по сорок миллиграммов стелазина в день, не считая средств для устранения побочных эффектов, которые также не были безобидными, он чувствовал себя весьма неплохо.
Однажды кто-то сообщил Дику о смерти их общей знакомой. Фил в ответ сказал не: «Глория покончила с собой», а: «Сегодня Глория покончила с собой».
Как если бы это в любом случае, рано или поздно, должно было произойти.
Однажды Дик чуть не слетел в кювет, потому что руль его машины ходил из стороны в сторону. Это случилось с ним не в первый раз. Ничего серьезного, но он знал, что самой эффективной формой саботажа является нанесение ущерба, криминальное происхождение которого невозможно доказать. Изучив свечи зажигания, можно во всем разобраться. Но когда случается целая серия мелких инцидентов, растянутых во времени, явно происходящих по причине износа, тогда человек теряет всякую способность реагировать. Он сомневается в самом себе, а окружающие полагают, что у него паранойя. Его машина барахлит? Подобные вещи случаются сплошь и рядом. Да, именно так думают его друзья: все происходит только в его голове. И это действует на беднягу гораздо сильнее, чем любая агрессия, причину которой можно установить.
Однажды, когда Фил пил свой кофе, ему пришла в голову интересная мысль: а ведь кто-то мог положить ему в чашку особо крепкий наркотик, заставляющий без конца прокручиваться в его голове страшный фильм, фильм, который будет длиться всю жизнь. Если кто-то сердится на него, что неизбежно в мире наркоманов и что постоянно доказывают различные происшествия, то он мог запросто проделать с ним такое. Или вколоть ему во время сна крепкий коктейль из героина и стрихнина (вполне достаточно, чтобы убить его, но не до конца). И тут результат был бы тем же: вечный фильм ужасов. Его существование будет зависеть от шприца и ложки, он станет биться головой о стены психиатрической больницы, где будет день и ночь пытаться избавиться от вшей и задаваться вопросом, почему он больше не может поднести вилку ко рту.
Все дилеры, вероятно, боятся этого, и все полицейские из отдела по борьбе с наркотиками тоже. Граница между ними очень расплывчатая. Все знают, что полицейские машины в кварталах, похожих на тот, где он жил, это старые фургончики фирмы «Фольксваген», покрытые психоделическими рисунками и управляемые бородатыми наркоманами. Все знают, что агенты из отдела по борьбе с наркотиками иногда становились дилерами и продавали гашиш и даже более сильные наркотики, что позволяло им в конце месяца сводить концы с концами. Все знали, что некоторые из этих агентов также принимали наркотики и, оставаясь на службе в полиции, превращались не только в процветающих дилеров, но и в наркоманов. Все знали, что некоторые из дилеров, то ли потому, что хотели свести старые счеты, то ли потому, что они чувствовали, что готовится облава, становились полицейскими осведомителями. Так-то оно так, но ему от этого не легче. Все — полицейские, дилеры, покупатели — меняли роли в зависимости от обстоятельств или от того, кем они считали окружающих их людей. Фил растерялся и потерялся.
Однажды Дик решил, что Донна из полиции. Он сказал подружке об этом. Она ответила, что прекрасно понимает, почему Фил так думает. В мире, где они живут, такие вещи выглядели совершенно правдоподобно.
Однажды, вернувшись из кино, наркоманы решили, что в их отсутствие в доме кто-то побывал, возможно, полицейские. Не исключено, что среди них завелся стукач. В любом случае, кто-то приходил, достаточно было посмотреть, с какой тщательностью он уничтожил малейшие следы своего пребывания. Наркоманы видели в одном фильме, как полицейские вынимали все ящики, чтобы убедиться, что ничего не приклеено к дну, отворачивали подставки у ламп, чтобы проверить, не посыплются ли изнутри таблетки, осматривали туалеты в поисках маленьких пакетиков из туалетной бумаги, спрятанных хитрым образом: в случае тревоги было достаточно просто спустить воду, чтобы они исчезли. Но также вполне вероятной им представлялась и другая версия: полицейские приходили не для того, чтобы найти наркотики, а для того, чтобы самим их спрятать. Тогда обитателей дома могли бы прижать в случае необходимости. Наркотики могли быть спрятаны где угодно: в телефонном аппарате, в розетках, под плинтусами. В течение нескольких часов наркоманы прочесали дом вдоль и поперек. И, хотя они ничего не нашли, это их не успокоило.
Однажды Дик убедил себя в том, что его дом круглые сутки находится под наблюдением, а телефон прослушивается. Он опасался этого, и элементарная предусмотрительность требовала принять меры предосторожности. Никто никогда не звонил от него по делам, связанным с наркотиками. Даже звоня из автомата, его приятели пользовались шифром, например, в десять раз уменьшали необходимое количество, так как полицейские не интересовались незначительными дозами. Но прослушивание телефона еще полбеды, Дик был уверен, что дом напичкан микрофонами и камерами.
Он спрашивал себя, как полицейские будут все это просматривать. Может быть, к дому 707 по Гасиенда-уэй приставлен специальный человек, и он проводит целые дни, просматривая множество экранов, на которых отображается происходящее в каждой комнате? Смотрит ли он, слушает ли он всё? Все эти бесконечные разговоры, в которых погрязли наркоманы? Километры пленки с одним и тем же фильмом? Конечно, агент просматривал их в ускоренном режиме. Но тогда он мог запросто пропустить какой-нибудь важный момент, серьезную сделку или информацию, которую он упорно искал, которая и была причиной слежки. Шпик должен был постоянно этого бояться. Было что-то адское в его работе.
С другой стороны, Фил хотел бы оказаться на его месте. Иметь возможность опознать своих врагов. Знать, что происходит в его отсутствие в доме или в тех комнатах, где его в данный момент нет. Есть ли шум от падающего дерева в лесу, если некому это услышать? Как ведет себя Донна, когда он на нее не смотрит? Что она говорит о нем? С кем она спит? Что она скрывает? А кот? Фил представлял себе, как тот засовывает в наволочку ценные вещи, из вредности царапая все подряд, зажигая сигареты с марихуаной, названивая по междугородному телефону, расхаживая по потолку… А он сам? Если бы он увидел себя со стороны, на этих пленках, интересно, сильно бы он удивился? Когда он встает ночью, чтобы сходить в туалет, что он делает на самом деле? Свой собственный голос в записи кажется чужим, когда слышишь его в первый раз, наверное, видеозапись произведет тот же эффект. Филип Дик считает себя огромным бородачом, а увидит тщедушного очкарика. Нет, он все равно узнает себя, по одежде или просто методом исключения. Если это живет здесь, но при этом не является ни Донной, ни Люком, ни Бэррисом, ни собакой, ни кошкой, то это наверняка он сам.
А что, вполне логично.
Глава пятнадцатая «ПРОЛЕЙТЕСЬ, СЛЕЗЫ»
Однажды вечером, вернувшись к себе, Дик открыл входную дверь, включил свет и от ужаса уронил пакет с продуктами. Увиденное повергло его в шок. Груда разбросанных в беспорядке бумаг, растоптанные вещи на полу. Исчезла стереосистема. Окна были распахнуты, огромный сейф взломан с помощью взрывчатки, дом разграблен. Его первой мыслью было: «Хвала Господу! Все-таки я не параноик».
В течение двух недель он ждал, не произойдет ли что-нибудь еще. Машина работала все хуже и хуже. Какие-то люди звонили ему и угрожали. Однажды ночью у Донны, разбуженной очередным звонком, началась истерика, она кричала, что на них вот-вот нападут. Дик тоже испугался, он вообще легко впадал в панику. Фил купил револьвер и начал патрулировать по ночам собственный дом, зажав в руке оружие, выискивая, не прячется ли кто в темных углах или за опущенными шторами. Он измучил своих друзей, описывая им опасности, которым подвергается, а также просил защиты у полиции. Но в полиции ему отказались помогать, а друзья уже привыкли к постоянным жалобам. Все знали, что Фил вечно создает вокруг себя атмосферу своих собственных книг, герои которых верят в то, что их преследуют невидимые враги. И роль друга такого героя заключалась в том, что он должен говорить ему: «Что за глупости, помилуй, выдумываешь ты все, это существует только в твоей голове». Поэтому друзья Дика обычно находили объяснения происходящему. Впрочем, в своих книгах он всегда доказывал, что в реальности прав был герой, несмотря на очевидность обратного. И вот реальность согласилась играть свою роль. Она уступила, стала филдиковской в этой борьбе, которая столкнула жизнь и книги друг с другом.
Не будет преувеличением сказать, что, вызывая полицию, Дик находился буквально в состоянии эйфории, как маленький мальчик, который любил пугать всех волком. И вот наконец волк и правда сожрал обманщика, и тот, сидя у хищника в брюхе, боится, что никто не придет на помощь, но при этом ликует, думая об угрызениях совести, которые вызовет у окружающих его смерть. В полиции уже просто бросили трубку, едва Дик начал говорить: мифоман с Гасиенда-уэй, из этого притона наркоманов, только его и не хватало, у них и без того много дел. В конце концов пришли два инспектора, без особого энтузиазма, зафиксировали размер нанесенного ущерба, а один из них, уходя, спросил у хозяина, какого черта он все это устроил. Другие полицейские, вероятно, отнесутся к его делу с тем же наглым высокомерием. Дик задрожал от ужаса, представив себе такую перспективу, и начал объяснять неожиданно высоким голосом, что он даже не застрахован. На следующий день, когда писатель принес в местное отделение полиции список похищенных и поврежденных вещей, там сперва отказались его зарегистрировать, а затем долго медлили с регистрацией под предлогом, что в этом районе не было ни одного заявления об ограблении. Наконец один полицейский полуотеческим, полуугрожающим голосом объяснил Филу, что в Сан-Рафаэле бунтовщики вроде него не нужны, так что будет лучше, если мистер Дик сменит место обитания, пока с ним не случилось чего похуже.
Филип потерял тогда практически все дорогие его сердцу вещи, которые он хранил в сейфе, а также стереосистему и, главное, ощущение безопасности, которое и без того было поколеблено. С другой стороны, он приобрел уверенность в собственной правоте и пищу для бесконечных размышлений. Вплоть до того дня, когда три года спустя с Диком случилось нечто более серьезное, он беспрестанно грыз и обсасывал эту кость: кто ограбил его дом 17 ноября 1971 года и почему?
Дик сразу отмел мысль о том, что это могло быть «обычное» преступление, совершенное местными подонками или кем-то из его прежних гостей. Использование взрывчатки полностью снимало в его глазах подозрение со всех этих мелких сошек, тем более что осведомитель Дика, о котором он лишь с таинственным видом сообщал, мол, это бывший фэбээровец, сказал, что такую взрывчатку использовали только в армии. Здесь целью никак не могло быть банальное ограбление, нет, известного фантаста хотели запугать, или же у него в доме что-то искали.
В силу одного из тех незначительных совпадений (которое Дик, вероятно, счел бы весьма важным — прекрасный пример синхронничности Юнга) меня самого ограбили именно в тот момент, когда я начал писать эту главу. Благодаря чему я узнал подробности от полицейского, явившегося запротоколировать акт кражи, что каждый, кто обращается в полицию с подобной жалобой, почему-то уверен, в основном безосновательно, что вор действовал не наобум, он хотел найти нечто конкретное. Пострадавших смущает, что грабители взяли какую-то безделушку, оставив при этом более ценные вещи, и они ломают голову, пытаясь найти некое логическое объяснение этому факту, тогда как в большинстве случаев все объясняется спешкой или незнанием.
Однако на Дика это подействовало просто угнетающе. Если кто-то решил взорвать его сейф, рассуждал он, то стало быть внутри находилось нечто особо ценное или компрометирующее. Во всяком случае, у взломщиков наверняка имелись подозрения, что такое возможно. Но что бы это могло быть? Вновь возникла идея, что в одном из своих романов он случайно открыл некую опасную истину, сам того не подозревая.
В предисловии к последней книге, «Лабиринт смерти», Дик упомянул о своих теологических дискуссиях с покойным епископом Пайком. А тот, в свою очередь, в своем исследовании, посвященном контактам с потусторонним миром, благодарил Фила и Нэнси за помощь. Тогда эта благодарность тронула Дика, но в настоящий момент он осознал, насколько все опасно. Книга Пайка вызвала скандал, и, вполне возможно, что религиозные фанатики, члены какой-нибудь фундаменталистской секты, подозревали, что Филип Дик продолжает еретический труд своего покойного друга или, по крайней мере, обладает документами, позволяющими его продолжить. Например, разоблачения, касающиеся наркоторговли, в которую был замешан Иисус Христос…
Была у Фила и другая гипотеза. Она уводила его гораздо дальше в прошлое, к книге, которую он начал писать, но бросил после ухода Нэнси, «Пролейтесь слезы». Там речь шла о новом наркотике, способном подавлять нервные центры, отвечающие за ориентацию во времени и пространстве. Таким образом, человек, употребляющий его, оказывается в мире, лишенном каких бы то ни было ориентиров. Никто не читал эту книгу, ее незаконченная рукопись лежала в сейфе его литературного агента, но однажды вечером Дик внезапно вспомнил, как пересказал сюжет одному весьма подозрительному типу, который в течение нескольких дней жил у него дома. Тот парень уверял писателя, что в ФБР и правда осуществляли подобные опыты с неким производным от ЛСД, носящим кодовое название «мелло йелло». Некоторое время спустя — но это было еще до ограбления — другой, не менее подозрительный тип, пришел к Дику и наплел, что якобы работает в санитарно-эпидемиологической службе и изучает распространение некоего вьетнамского вируса. Описанные им симптомы весьма походили на те, что вызывает мелло йелло. Вернувшись домой, человек думает, что ошибся дверью, он не узнает никого и ничего; хуже того, его самого тоже никто не узнает или же ему это просто кажется.
А ведь именно это и случилось в книге Филипа Дика: знаменитый телеведущий Джейсон Тавернер проснулся однажды утром в незнакомой комнате, приговоренный отныне жить анонимом. Никто никогда не слышал о его шоу, которое еще накануне смотрели тридцать миллионов американцев. Никто не узнаёт Тавернера, хотя еще неделю назад его лицо украшало обложку «Тайм». Его любовница, его агент, его секретарь — все выпроваживают беднягу. У него нет никаких документов и вообще не существует ни единого доказательства его существования — ни в полицейских досье, ни в памяти его современников.
Когда, год спустя после того как Дик забросил эту книгу, ему рассказали про мелло йелло, он поверил только наполовину. Конечно, это было весьма занимательно, но слишком уж похоже на бред безумного или наркомана. Совпадение, безусловно, показалось бы писателю более убедительным, если бы тот тип сообщи ему об эксперименте ФБР до того, как Дик пересказал ему сюжет своей книги, а не после. Но теперь ограбление вором сейфа с использованием армейской взрывчатки уничтожили его скептицизм. Теперь Дику казалось вполне правдоподобным, что агенты элитного подразделения, работающие на военно-индустриальный комплекс, перерыли его бумаги, чтобы выяснить, не знает ли Дик больше, чем это кажется по его болтовне. Они искали рукопись, но не нашли ее. Однако представители секретных служб не остановятся на этом. Вероятно, они вспомнят и о его литературном агенте. Дик чуть было не позвонил ему, дабы выяснить, не был ли взорван и его сейф тоже, не появилась ли в офисе новая секретарша или же не поступали ли ему в последнее время заманчивые предложения от людей, именующих себя издателями, но затем передумал, боясь, что его звонок вызовет подозрения. Также он опасался услышать в ответ что-нибудь вроде: «Но Фил, вспомни, ты же сам просил переслать тебе рукопись еще на прошлой неделе»?
Он хотел бы перечитать рукопись, чтобы лучше оценить ее пагубное воздействие. Потому что это была не просто история про новый наркотик. На самом деле речь шла о параллельном мире, куда попал Джейсон Тавернер, о тоталитарном обществе, где все контролировалось всемогущей полицией. В принципе, не из-за чего особо беспокоиться, авторы научной фантастики увлекались подобными картинами в стиле Оруэлла, и ни один цензор в свободном мире ни разу не заинтересовался ими. Но он-то говорил именно о свободном мире. Действие его романа проходило в Америке. Там упоминалось имя президента. Дик понимал, что для публикации его следует изменить, и он даже подыскал замену: Феррис Ф. Фремонт, сокращенно ФФФ. В этом был скрытый смысл, так как F — шестая буква английского алфавита, а 666 — число зверя в Апокалипсисе. Но в черновике-то черным по белому было написано настоящее имя тирана — Ричард Мильхауз Никсон!
Уже давно Филип Дик имел свое особое мнение о бывшем губернаторе Калифорнии, об этом бандите с волосатыми пальцами, за восхождением которого писатель следил по мере того, как сам погружался все глубже и глубже. Дик доказал свою теорию столь же уверенно, как связь фирмы «Мальборо» с Ку-Клукс-Кланом — еще одна мистическая история. В случае с «Мальборо» Фил исходил из того, что линии на пачке, отделяющие красные сегменты от белых, образуют три буквы К: спереди, сзади и сверху. Что касается Никсона, тут он опирался на латинский афоризм «Is fecit cui prodest»[19]. А кому могли быть выгодны убийства сначала Джона, а затем Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, покушение на Джорджа Уоллэса? Лишь второстепенному персонажу, безобразному и коварному, как Ричард III, как Сталин, и, подобно им, также способному убрать с дороги всех более достойных соперников, стоящих между ним и вожделенной целью! Да, Никсон пришел к власти, используя сталинские методы и опираясь на те же самые силы. Поскольку он сумел повсюду внедрить соглядатаев, его поддерживали ЦРУ и ФБР; но и Советы его также поддерживали, поскольку Никсон работал на них. Вернее, на самом деле он был одним из них.
Когда Дик добирался до этого аргумента, все начинали хохотать. Никсон — комми! Фил как всегда в своем репертуаре! Надо же такое выдумать! Но Фил настаивал на этом, он утверждал, что стоит только рассмотреть эту теорию, как ее истинность станет очевидной. С самого начала Никсон состоял в коммунистической партии и, пользуясь как прикрытием своей репутацией консерватора, приобретенной им во времена маккартизма, он старался превратить свободную страну в этакую тайную колонию Советского Союза. Все американские граждане находились под наблюдением, поощрялись доносы, а наивысшим достижением было то, что средний американец, в отличие от советского гражданина, не осознавал, что живет в тюрьме. Благодаря этому преимуществу диктатура Никсона приблизилась к идеалу, достичь которого нацисты не смогли из-за нехватки времени, а русские — из-за своей варварской отсталости.
Дик прочел если не самого Солженицына, то статьи о нем, которыми пестрели газеты после присуждения ему Нобелевской премии. Дик восхищался этим человеком, хотя и полагал, что в России подобная задача была не такой уж сложной, по крайней мере, Солженицыну верили. Ни один здравомыслящий человек просто не мог ему не верить. Тогда как его американского коллегу, писателя, задумавшего разоблачить преступления Никсона, как Солженицын разоблачал преступления Сталина, даже не требовалось помещать в психиатрическую больницу, потому что все и так считали его сумасшедшим, и никто к нему не прислушивался. Филип Дик считал свое описание тоталитарной Америки в романе «Пролейтесь слезы» скорее обобщением, но чем чаще он об этом размышлял, тем больше эта книга представлялась ему своего рода новым «Архипелагом ГУЛАГ», откровением пророка, тем более что оно показывало невидимую, неприемлемую реальность. Впрочем, те, кто знал правду, настоящие государственные преступники, не обманывались на его счет. Они подвергали крамольного писателя тщательному контролю со стороны налоговой полиции, преследовали его, а потом и ограбили. В случае необходимости они бы не колеблясь уничтожили его физически.
Как и его советский коллега, Дик отныне жил в страхе. Его враги уже нанесли удар и нанесут еще раз. Его друзья, считая дом Отшельника проваленной явкой, а некоторые, возможно, и потому, что рыльце у них было в пушку, испарились. Что же касается полиции, она относилась к Дику скорее как к преступнику, нежели чем к жертве. В любую минуту его могли арестовать. И тогда о нем больше уже никто не услышит. Если его не убьют на месте, он окажется в концентрационном лагере где-нибудь на Аляске.
Разбирая то, что осталось от его писанины в опустевшем доме, в полной тишине, не включая музыки, ибо теперь малейший шорох заставлял его подскакивать, Дик наткнулся на приглашение на Конференцию фантастов в Ванкувере, которое должно было состояться в феврале месяце. В обычное время он нашел бы повод уклониться. Но в эти черные дни статус почетного гостя, убежище за границей, да еще и с оплатой всех расходов, выглядело неплохой перспективой. Нужно было написать речь, которую Филип Дик решил превратить в свое завещание. Возможно, он вскоре погибнет, но перед этим скажет во весь голос то, что думает, как Солженицын в Стокгольме.
В первый раз за полтора года Дик сел за пишущую машинку. Вскоре к нему вернулась Донна, то ли желая поддержать, то ли потому, что ей некуда было больше пойти. Эта женщина стала его вдохновительницей и даже дала себя уговорить поехать вместе в Канаду. Донна представляла поколение молодых бунтарей, надежду Америки, в честь которой он собирался произнести похвальное слово.
В тоталитарном обществе (а именно такой режим, по его мнению, потихоньку устанавливался в Соединенных Штатах) сопротивление могли оказать только наркоманы. Политическая оппозиция, как обычно, пойдет на сделку или же позволит собой манипулировать. Старшее поколение, преисполненное осознания собственной значимости, хочет лишь одного — любить Большого Брата, чтобы тот обменял их грешную и ранимую человеческую сущность на уверенность андроида, этого примерного гражданина всех тоталитарных режимов. Итак, если еще оставался шанс на то, чтобы быть свободным, то он заключался в порочном сознании самых молодых, которое побуждало их: «Вперед! Обманывайте, лгите, ездите без билета, будьте не как все, подделывайте документы, бросайте ЛСД в городские резервуары, устанавливайте у себя в гаражах электронные устройства, которые превзойдут те, что используют власти. Если за вами следят с экрана собственного телевизора, сделайте так, чтобы полицейский прихвостень, которого поставили следить за вашей гостиной, разглядывал вместо этого свой с дом. Оплачивайте штрафы фальшивыми монетами, чеками без обеспечения или ворованными кредитными картами. Если судья выносит вам обвинительный приговор, подмените противозачаточные таблетки его дочери, подсунув вместо них аспирин. Подпишите его на порнографический журнал. Используйте номер его кредитки для бесконечных телефонных звонков в далекие города, на другие планеты».
По сценарию Дика, Донна должна была присутствовать на конференции, и в конце своей речи он собирался обратиться к ней и пригласить на сцену. Представительница бунтарской молодежи в кожаной куртке, кожаных ботинках, с падающими на глаза черными волосами, пересечет заполненный слушателями амфитеатр университета и встанет рядом с оратором. На глазах у всех Донна поцелует Фила в губы и протянет ему сигарету с марихуаной, которую он зажжет под громкие аплодисменты. Сценарий немного сглаживал неприятное ощущение от постоянных отказов: подруга больше не желала проводить время в его постели.
Увы, в день отъезда Донна не пришла на место встречи, она продала купленный Филом для нее билет и исчезла. Таким образом, Дик уехал один, с чемоданом, в котором лежали одежда, Библия и текст его речи, казавшаяся ему теперь нелепой.
Нам, тем, кто, добродетельно став демократами, стыдится того, что в юности мы считали жандармерию — СС, а бедного Помпиду — диктатором, речь Дика кажется нелепой. Но публику, привыкшую постоянно выслушивать подобные высказывания из уст американских радикалов, она нимало не удивила. В том же году Лири предлагал соотечественникам «сопротивляться осуществляемой роботизации» и считал, что «выстрел в полицейского робота, занимающегося геноцидом» (а он считал таковыми обычных полицейских), является «священным актом». Поэтому Дик был встречен овациями, подобно французскому мэру, нахваливающему разнообразие сыров и ругающему брюссельских бюрократов во время сельскохозяйственной выставки. Этого оказалось достаточно, чтобы ободрить его. У Дика брали интервью, его фотографировали, ему показали город, который он нашел весьма красивым, ему представили юных поклонниц, которых он нашел еще более прекрасными. Его повели танцевать в какой-то ночной клуб. Филип Дик ни на минуту не оставался один. Донна, ограбление, угроза фашизма — все это казалось далеким и нереальным. Он нашел надежное убежище, новых друзей, которые недоверчиво, хотя и с энтузиазмом встретили решение, принятое им в первый же вечер: остаться жить здесь, в Ванкувере. Они напились, отмечая это событие. Каждый дал писателю свой адрес и номер телефона, уверяя, что Фил всегда будет желанным гостем. Дик принадлежал к тому типу людей, что воспринимают всерьез любые, даже весьма туманные приглашения. После того как конференция закончилась, а с нею и оплата его номера в гостинице, Филип нашел прибежище у одного журналиста, который брал у него интервью, и чья юная жена, Сюзан, обожала его книги. Сначала фантазия и чувство юмора гостя восхищали их. Он заставил обоих смеяться до слез, разыграв некоего свидетеля Иеговы, позвонившего в их дверь. Тот, вероятно, до конца своих дней запомнил огромного бородача с блестящими глазами, который беседовал с ним об энтропии, о законах термодинамики и о переселении душ. Но в квартире было только две комнаты, и присутствие такого верзилы, занимавшего диван в гостиной, вскоре стало хозяевам в тягость. Сюзан, которая была тогда студенткой, корпела дома над учебниками, тогда как ее муж отправлялся на работу. Дику казалось, что в подобных условиях девушка будет только рада чьей-то компании. Он не так уж и торопился, как утверждал, подыскать себе жилье, и соглашался поехать посмотреть предложенную квартиру только при условии, что Сюзан отправится вместе с ним. Все остальное время он бродил взад-вперед по гостиной, читал Библию, слушал музыку и каждые пять минут стучал в дверь комнаты, где занималась Сюзан, чтобы узнать, не слишком ли громко играет музыка, не хочет ли она кофе, интересно ли то, что она сейчас учит. Фил жалобным голосом напевал Сюзан песню Дауленда, которую он сделал своим, образно выражаясь, музыкальным гербом:
Flow, my tears, fall from your springs. Exiled for ever, let me mourn…[20]Сначала Сюзан была весьма тронута, ей льстили столь романтические ухаживания, однако юная женщина совершенно не выносила критику в адрес мужа. Раздосадованный полученным отпором, Дик стал агрессивным, подозрительным манипулятором. Отвечая в отсутствие хозяев на телефонные звонки их друзей, он взял привычку жаловаться последним. Сюзан и ее муж с превеликим трудом выставили Дика за дверь, а пришедший к ним спустя несколько лет биограф писателя записал их достаточно тягостные воспоминания о человеке, которым супруги все еще восхищались. Муж сдержанно подвел итог: «Фил жил гораздо более интенсивно, нежели другие, и непременно хотел, чтобы и мы тоже последовали за ним в его мир. Однако для нас это было неприемлемым».
Неприемлемым это оказалось и для множества девушек с черными волосами, которые, пребывая в эйфории после конференции, заставили Филипа Дика пообещать позвонить им в случае, если он останется в Ванкувере или приедет сюда еще раз. Сидя в номере невзрачной гостиницы, Фил сначала обзванивал тех, чьи номера были записаны в его книжке, а затем переключился на городской телефонный справочник. Но все тщетно. Он познал горечь жандарма, который все лето провел в должности инструктора по плаванию, волочась за всеми красотками подряд, а теперь, вернувшись по окончании сезона в Париж, безуспешно пытается возобновить пляжные знакомства. Все девушки, как выяснилось, имели мужей, любовников или просто не собирались тратить на Фила свое время. Многие, казалось, смущались, поняв, кто им звонит, как если бы с момента их знакомства на конференции они успели узнать о нем нечто нелицеприятное — естественно, Дик подозревал Сюзан. Некоторые даже не вспомнили или сделали вид, что не вспомнили, кто он такой: ну просто ситуация из романа «Пролейтесь, слезы».
В очередной раз что-то пошло не так. Дик верил, что нашел новые силы, nel mezzo del cammin di nosta vita[21], чтобы начать другую жизнь, а в результате остался один в чужой стране. В лучшем случае о нем никто не вспомнит, а в худшем… В худшем его специально заманили сюда, чтобы покончить с ним здесь, вдали от дома. Тот полицейский, в Сан-Рафаэле, посоветовал ему пойти повеситься где-нибудь в другом месте, и он послушался.
За несколько дней до своего отъезда, когда Дик еще думал, что это будет их отъезд, он заметил Донне:
— В конечном итоге я его послушался, того полицейского, я подчинился. А если вдруг в последнюю минуту передумаю и никуда не поеду? Нарушу ли я тем самым их планы?
Хорошо знавшая любовника Донна произнесла фразу, которая его потрясла:
— Если ты туда не поедешь, поедет кто-нибудь другой, выступит на конференции вместо тебя, и с этого момента он станет Филипом К. Диком.
Возможно, и впрямь произошло нечто подобное. Может быть, он — это уже не он, а какой-нибудь агент или андроид, играющий роль писателя Филипа К. Дика. На конференции он блестяще справился со своей задачей, поскольку в него вмонтировали фальшивые воспоминания, и он верил в то, что он — Фил Дик, писатель-бунтарь, любитель теологии, закоренелый наркоман. Но затем он решил остаться. Было ли это решение частью его программы? Или же наоборот, приняв его, он вышел за ее пределы, к полному изумлению своих создателей, которые пытаются теперь вот уже несколько недель подряд вернуть себе контроль над андроидом, с тем чтобы его уничтожить или же отправить в мастерскую, пусть там выяснят, что же случилось. Официально он покинул Ванкувер, как это и предполагалось изначально. Неудивительно, что все делают вид, как будто его здесь нет. Отважившись проникнуть в ту часть реальности, где он был единственным обитателем, он превратился в призрак.
Я не хочу здесь ничего экстраполировать. Если бы я писал роман, я бы всенепременно это сделал, попытавшись описать, как прошли те две недели, которым посвящена эта глава. Но в биографии моего героя эти четырнадцать дней образуют своего рода «черную дыру», и я думаю, что это в общем-то нормально для романиста. Чем плохо последовать за Агатой Кристи в ее таинственном бегстве, в Эрменнонвиль за Робеспьером, где он укрылся накануне термидора, или в пустыню вслед за Христом. Подобные моменты, которые абсолютно некому засвидетельствовать, обладают своеобразной романтической притягательностью. И я считаю полной несправедливостью, хотя ее редко замечают, что одни люди имеют доступ к этой роскоши — оказаться на какое-то время, когда они сами того захотят, среди незнакомых людей и, таким образом, жить незамеченными, а другие вынуждены всю жизнь быть привязанными к своим близким.
Гленн Гулд утверждал, что для каждого из нас существует свое соотношение (часто неизвестное даже самому человеку), между тем временем, что он проводит в одиночестве и тем, что проходит в компании себе подобных. Ему самому требовалось несколько дней, чтобы очиститься после часа, проведенного в обществе. Дик же, напротив, панически боялся одиночества. В идеале он хотел бы иметь возможность в любой момент, когда ему этого захочется, запереться у себя в кабинете, чтобы работать, но при этом какая-нибудь женщина должна была сидеть и ждать его в соседней комнате. Вот почему, несмотря на то что рискованно предполагать, что именно происходило в голове писателя, восстановить все события его жизни не так уж сложно: тут главное знать, с кем конкретно Дик был в ту или иную минуту. Пять супруг и десятки друзей готовы выступить в роли свидетелей. Именно поэтому те две недели, что прошли незамеченными, окутаны таким туманом таинственности.
Так же как существует множество людей, которых ограбили, существует и множество тех, кто в одиночестве прожили несколько дней в чужом городе. Вполне возможно — хотя ничто не позволяет утверждать это наверняка, — что Дик стал жертвой банального ограбления, подобно тем, которые десятками регистрируются каждый день в полицейских участках. Также вполне возможно, что март 1972 года он провел в Ванкувере, бесцельно слоняясь по городу, смотря телевизор в гостиничных номерах, глотая пригоршнями таблетки, беспрестанно названивая девушкам, которые посылали его к черту и чьи имена по воле судьбы так и не стали известны его биографам. Но свидетелей нет, даже Филип Дик сам ничего не говорил об этом периоде своей жизни; эти две недели, казалось, исчезли из его памяти, едва закончившись.
23 марта Дик вновь нашелся. Как герой его книги, Джейсон Тавернер, он лежал на кровати в грязном номере отеля. Дик позвонил Сюзан, юной жене журналиста, чтобы объявить ей, что он собирается «погасить свет». Но та нетерпеливо бросила трубку, не поняв смысла его намека на текст «Пролейтесь слезы»:
Down, vain lights, Shine no more…[22]Однако Дик вообразил, что Сюзан все прекрасно поняла и что ее отказ означал: «Можешь сдохнуть». Что он и решил осуществить, проглотив семьсот граммов бромида калия. Фил уснул. Проснувшись чуть позже, он заметил у себя на левой ладони номер телефона, который, должно быть, намарал в какой-то момент правой рукой. Фил на ощупь набрал его. Это был номер скорой помощи.
Следующие несколько дней Дик провел в больнице. Ему быстро оказали необходимую помощь, но встал вопрос, что с пациентом делать дальше. Он клялся, что ему некуда пойти, что едва оказавшись за пределами больницы, он повторит свою попытку, что он токсикоман.
— Неужели в Канаде нет реабилитационных центров для токсикоманов?
— Да, конечно, существует лечебница под названием Экс-Кэлэй, но только не стоит тешить себя иллюзиями, это не праздничная вечеринка: полный отказ от наркотиков, никаких лекарств для смягчения ломки, постоянное наблюдение.
— Прекрасно, — заявил он, — это именно то, что мне нужно.
— Да, но в Экс-Кэлэй лечат только героиноманов.
— Без проблем, я и есть героиноман.
Врач скептически разглядывал плотное тело своего пациента, который, казалось, действительно испробовал на себе все виды наркотиков, кроме этого. Однако, факт остается фактом: весящий около ста килограммов Дик сумел уговорить медицинский персонал и попал в центр Экс-Кэлэй, специализирующийся на наркоманах, то есть на ходячих скелетах; причем люди, принявшие его туда, были профессионалами, но и они не завернули толстяка Фила.
За исключением того, что порог такого рода заведений люди переступают добровольно (а в случае Дика пациенту еще и пришлось упрашивать, чтобы его согласились взять), церемония поступления в реабилитационный центр «строгого режима», вроде, мало чем отличается от того, что происходит при поступлении в тюрьму. Вместо гражданской одежды выдают пижаму и войлочные тапки; вместо официальной фамилии дают произвольно выбранное имя; запрещено говорить о своем прошлом и, в принципе, о том, что происходит снаружи; всячески подавляется воля пациентов. Отныне можно делать только то, что разрешено, и все это под строгим присмотром.
Вся его жизнь была полна парадоксов, и Дик почувствовал необычайное облегчение, попав в заведение, напоминавшее концентрационный лагерь, при том что он так сильно боялся, что его туда отправят. Ревностно относящийся в другое время к своей свободе, теперь Фил хотел только одного: чтобы о нем позаботились. За него все решали другие: когда вставать, когда ложиться, когда работать, когда отдыхать. Какое облегчение! Да к тому же он, считавший себя жертвой преследования со стороны полиции, только что выяснил на собственном опыте, в какое ничтожество превращается человек, когда на него никто не смотрит. В отсутствие свидетелей он просто перестал существовать. Фил догадывался об этом в последние месяцы, проведенные на Гасиенда-уэй, когда он боялся, а на самом деле, надеялся на то, что полиция установила в его доме скрытые видеокамеры. Даже если бы он никогда не смог посмотреть эти пленки, даже если бы никто их не стал смотреть, Дику было достаточно просто знать, хотя бы подозревать, что они где-то существуют. Что где-то под грудой столь же бесполезных и необходимых архивных документов покоится свидетельство о том, как он жил, минута за минутой, в течение всех тех дней и ночей, о которых сам уже и не помнил. Конечно, пленка сохраняет лишь жесты и слова человеческой машины по имени Фил Дик. Его мысли ей неподвластны, но Дик дорого заплатил бы за то, чтобы узнать, подписывал ли он некоторые чеки, о которых впоследствии не мог вспомнить. Действительно ли он отвечал грубо на телефонные звонки благонадежных граждан, которые впоследствии его в этом упрекали. Должно быть, какой-то наркоман, живший в доме, обозлившись, выдал себя за хозяина, пытался оправдаться Дик, но чувствовал, что ему не верят, да он и сам сомневался. И конечно, ключевым моментом этого фильма стало бы ограбление, в котором он сам обвинял полицию Никсона, а полиция и некоторые благонадежные граждане, упоминавшиеся чуть выше, считали, что это его рук дело. Он-де хотел таким образом уничтожить документы, которыми интересовалась налоговая полиция, или же пытался привлечь к себе внимание, или же совершил все в приступе безумия… Кто же виноват: Никсон или он? Если предположить, что такая пленка существует и что ее невозможно изменить, то эти кадры помогли бы установить истину, и Дик молился, чтобы когда-нибудь ему представилась такая возможность.
В Экс-Кэлэй не было видеокамер, но Дик ни на минуту не был предоставлен сам себе. Пациенты спали в общих спальнях, в душ ходили группами, в туалете дверь должна была оставаться полуоткрытой.
В первую неделю туалеты стали его миром. Их уборка считалась самым подходящим занятием для новичков. Когда Дик поступил в центр, новеньких было двое. Им предписывалось убирать три туалета, по одному на каждом этаже, что не позволяло делать эту работу кое-как. Как сказал надзиратель, вручая им ведро, тряпку и швабру: «Неважно, что ты делаешь, важно, чтобы ты сделал это хорошо и мог собой гордиться». Дик чистил сортир с усердием реставратора. Он научился погружаться в это дело, не теряясь в нем; по истечении часа или двух, посвященных одному унитазу, он умел остановиться, сочтя, что сделал уже достаточно, и перейти к другому. Подобное уравновешенное поведение было редкостью в Экс-Кэлэй. Например, напарник Дика никогда не мог ничего закончить. Если ему поручали мыть кафель, он начинал действовать так, как ему показали, но через несколько минут натыкался на какое-то невидимое препятствие и возвращался к исходному пункту. Он начинал все сначала и вновь на что-то натыкался, в том же самом месте, как игла на поцарапанной пластинке. Так мог пройти весь день. Дик и хотел бы ему помочь, но не знал, как. Он мог доделать за напарника работу, но был не в состоянии исправить его мозг, полностью разрушенный наркотиками. Туда невозможно было внести ничего нового, потому что мозг уже был мертв, даже если сам человек с биологической точки зрения был все еще жив. Руки, глаза, язык наркомана все еще функционировали, но личность, которая ими пользовалась, исчезла. Остался механизм с рефлексами, повторяющий как попугай последние инструкции: «Вытри еще, вытри еще». Обычно считается, что попугаи не понимают смысла фраз, которым их обучают, и Джерри, один из бывших жильцов дома на Гасиенда-уэй, посчитал остроумной идею обучить своего попугая фразе: «Я не понимаю ничего, из того, что меня заставляют произносить». Но по какой-то причине птица, в остальном весьма послушная, так и не смогла или не захотела повторить это заявление. Нечто подобное произошло и здесь, когда напарник Дика как-то посмотрел на него своими пустыми глазами и, вместо того чтобы повторить последнюю услышанную им фразу, жалобно спросил: «Почему у меня не получается?».
Дик был потрясен случившимся. Это походило на полные тепла и надежды сцены из фильмов про инвалидов, как например «Чудо в Алабаме», когда внезапно выясняется, что глухой слышит, а паралитик может ходить. Но когда Дик попытался поговорить с напарником, тот вновь повторил: «Почему у меня не получается?», так что Фил задумался, уж не произнес ли он сам, забывшись, эту фразу в его присутствии. Да и в любом случае, что можно ему ответить? «У тебя не получается, потому что твой мозг уничтожен наркотиком?» С тем же успехом можно было просто спустить воду.
Для человека, у которого еще был шанс избавиться от пристрастия к наркотикам, лечение в Экс-Кэлэй имело свои плюсы: например, оно уничтожало всякого рода романтические иллюзии. Неизлечимо больные являлись живым примером для остальных, которые в истерической ненависти открещивались от тех, в кого их почти превратило собственное пагубное пристрастие. Многие выздоровевшие, боясь вернуться во внешний мир, оставались в Экс-Кэлэй надзирателями и отличались особой жестокостью. Персонал, состоящий исключительно из бывших пациентов, вероятно, считал, что борется с грехом, а не с грешником, но, поскольку грех полностью поглотил многих из грешников, они обращались с ними с решительной враждебностью, начисто лишенной сентиментальности: приблизительно такие чувства, что испытывал профессор Ван Хельсинг по отношению к людям, превращенным в вампиров. Конечно, человек достоин сострадания, но следует учитывать, что, вопреки внешнему облику, человека здесь может уже и не быть: есть только вампир, и он должен быть обезврежен.
Этим миром правила ненависть к наркотикам, подобно тому, как жажда его заполучить правит миром, в котором жил Дик с момента ухода Нэнси. Будучи хамелеоном, Фил моментально приспособился к новой системе ценностей, став самым красноречивым оратором, настоящим чемпионом во время сеансов публичных высказываний. Каждого пациента просили описать, что происходит у него в голове, и в основном все мрачно обменивались оскорблениями. Дик ничуть не смутился от того, что его, как и прочих, считают отребьем, дерьмом и подонком. Выпады в сторону сестры он воспринял более болезненно, его обидчики это поняли и удвоили свое усердие. «А ты целовал свою сестру, ну-ка, признавайся?» Но Фил решительно обозначил границы дозволенного, ответив некоему приставшему к нему дебилу: «Ничего страшного. Я зайду в четверг». Его реплика заставила смеяться тех, кто был в состоянии это сделать и понял, что это был намек на ранее рассказанную историю. Некто однажды пришел в гости к своему старому приятелю. Людям, стоявшим перед домом, он сказал, что хочет повидать Леона. «К сожалению, Леон умер». — «Ничего страшного. Я зайду в четверг».
Впоследствии, когда кто-нибудь в Экс-Кэлэй не понимал, что ему сказали, или не хотел отвечать, или не находил рулон туалетной бумаги, за которым его послали, он говорил: «Ничего страшного. Я зайду в четверг», — и авторство этой, отныне культовой, реплики, было по сути приписано Дику. Когда как обычно в конце недели составили список вкладов, которые сделал каждый пациент во время коллективных сеансов, заслугой Фила было признано то, что он привнес в них юмор. По словам врача, Дик, несмотря на свое плачевное состояние, сохранил дар видеть вещи с забавной стороны. Ему аплодировали. А он благодарил всех, повторяя, как попугай: «Ничего страшного. Я зайду в четверг».
Глава шестнадцатая ЗИМА ДУШИ
По прошествии двух недель было решено, что Дик уже достаточно долго чистит туалеты, и поскольку принцип трудотерапии состоял в том, чтобы использовать возможности каждого как можно лучше, его посадили за пишущую машинку. В резюме подобная работа называется пиар, связи с общественностью. Он составлял отчеты о деятельности Экс-Кэлэй, разбирал газетные вырезки, посвященные проблемам наркомании, составлял письма, взывающие к щедрости возможных жертвователей. В свободное время Фил разрабатывал теорию, согласно которой центр служил прикрытием для тайной лаборатории по производству героина. Одна и та же рука раздавала яд и противоядие, для того чтобы создать новый тип человека: послушного, сумасшедшего, этакого гражданина-андроида из общества будущего. Организация превращала человека в раба, сначала сажая на наркотик, а затем, самым изощренным способом спасая от наркотика, учила беднягу одновременно ненавидеть этот наркотик и любить хозяина, который единственный мог его защитить. И он, Дик, стал одним из винтиков этой организации, заняв наилучший пост для наблюдений.
Одетый в белую рубашку, он непринужденно бродил взад-вперед по коридорам и открывал все двери подряд в надежде наткнуться на секретную лабораторию. Однако подозрения не мешали Дику каждый раз, когда он встречал кого-нибудь из персонала, искренне выражать медикам свою признательность. Впервые в жизни Фил почувствовал себя полезным, он нашел свою семью и, если бы ему разрешили, с удовольствием навсегда остался бы в Экс-Кэлэй и трудился бы во благо бедных наркоманов, своих братьев.
Эту программу искупления через работу Дик описывал в восторженных письмах к своим друзьям, тем, с кем он общался до того, как обосновался на Гасиенда-уэй. Однако эти письма только сбивали с толку, поскольку приходили приблизительно через месяц после настоящих призывов о помощи, написанных в самые тяжелые минуты канадского разочарования, а те, в свою очередь, добрались до адресатов сразу после сообщений о триумфе Дика в Ванкувере. Несколько ответных писем окольными путями достигли Экс-Кэлэй. Так, известная писательница Урсула Ле Гуин, хотя и выразила искреннее сожаление по поводу бедственного положения Филипа, решительно сказала «нет» на его просьбу пожить у нее. Даже не зная Ле Гуин лично, Дик написал ей письмо еще в тот момент, когда он жил на квартире у журналиста и его жены. Он подробно описывал свою несчастную жизнь и просил пустить пожить если не в качестве гостя, то хотя бы как скромного квартиросъемщика. В заключение Дик пытался развеять слухи о том, что он — несносный параноик, которые, как он подозревал, ходят на его счет. Другие патетические просьбы о помощи, адресованные людям, которых он видел один или два раза в жизни, но чьи координаты были записаны в его книжке, так и остались без ответа. Филип уже и сам не помнил точно, кому он писал. Поэтому Дик был весьма удивлен, получив письмо от некоего Макнелли, профессора, увлекающегося научной фантастикой, который некогда в прошлом приглашал писателя на встречу со студентами университета в Фуллертоне, что в Южной Калифорнии. Макнелли, с одной стороны, был весьма опечален, узнав, что его любимый писатель испытывает затруднения, с другой стороны, обрадован и немного удивлен, поскольку тот обратился к нему с просьбой о помощи. И тут же послал ответ. Да, разумеется, университетское сообщество и небольшой научно-фантастический кружок Фуллертона примут Дика с распростертыми объятиями. Возможно, он окажет честь их библиотеке, предоставив им оставшиеся у него после ограбления рукописи… И два студента, а точнее, две студентки, его поклонницы, которым Макнелли прочел его письмо, были готовы предложить писателю свои услуги.
Это предложение в одно мгновение сделало уже не столь радужной в глазах Дика перспективу посвятить всю свою жизнь мытью ног больных и сочинению статей о борьбе с наркоманией, тем более, в такой холодной стране как Канада. За тот месяц, что Филип не принимал наркотиков и при этом усердно трудился, он, в целом, значительно поправил свое здоровье. В день, когда Дик получил письмо от профессора, он отнес в прачечную пижаму, получил обратно свои вещи, подписал необходимые бумаги и улетел в Лос-Анджелес, пообещав вернуться в четверг.
В аэропорту он напоминал провинциала, сошедшего с поезда, который тащился по инерции до самого вокзала. Человек, выбитый из привычной колеи, движимый исключительно благодаря остаточному чувству самосохранения, исчерпавший все свои возможности — таким Дик предстал перед встречающей его группой студентов, состоящей из двух девушек, увы, не очень красивых, тех самых, что откликнулись на его призыв о помощи, и одного симпатичного молодого человека по имени Тимоти Пауэрс, начинающего писателя-фантаста.
У Дика не было с собой багажа, за исключением помятого чемоданчика, перекинутого через руку макинтоша и Библии, которую он держал в руке, — это было все его имущество. Чтобы несколько сгладить неловкость, вызванную столь явной бедностью Дика, Пауэрс пошутил о преимуществе путешествий налегке. Дик бросился объяснять своим глуховатым голосом, что его обокрали, что у него забрали все, и тому подобное. Затем, уже сидя в машине, Филип начал разглядывать бесконечные автострады, тянущиеся на юг от Лос-Анджелеса. Когда они проехали информационный щит, возвещающий о том, что далее начинается территория округа Оранж, вотчины Никсона (что было для жителя Беркли символом почти сверхъестественной политической низости), Дик ухмыльнулся. Он и не представлял, что ему предстоит провести здесь последние десять лет своей жизни.
В течение нескольких недель с ним обращались как с вернувшимся с фронта солдатом, который все еще не оправился от перенесенного шока. Как только Дик оставался один, его охватывала паника. Каждая машина, которая чуть замедляла ход, проезжая по их улице, казалась ему подозрительной; он разглядывал радиоантенны, пытаясь определить, где находится передатчик; запрашивал у «Ицзин», не является ли кто-нибудь из его новых друзей агентом властей, готовящим его гибель. К счастью, Филип редко оставался один. Как это часто бывает, после того как он перестал писать, его слава только возросла: сегодня Дика назвали бы культовым автором. Благодаря профессору Макнелли, он попал в общество служителей этого культа, которые даже не мечтали о том, чтобы вот так запросто общаться с автором «Человека в высоком замке». Хотя эта группа также состояла из совсем молодых людей, она никоим образом не походила на общество наркоманов, собиравшееся на Гасиенда-уэй. Наркотики появлялись здесь исключительно в виде сигарет с небольшим добавлением марихуаны, которые заставляли присутствующих хихикать и позволяли лучше воспринимать музыку. Разговоры были непринужденными, но вместе с тем весьма культурными. Молодые люди ходили друг к другу в гости, готовили импровизированные ужины из всего, что попадется под руку. Все были бедны, но эта бедность не имела ничего общего с грязной нищетой наркоманов. Это была милая, доверчивая богема, состоявшая из студентов или начинающих артистов. Атмосфера могла бы напомнить Дику Беркли в эпоху его юности, если бы в то время он не был столь нелюдимым. Большинство людей именно в молодости тяготеет к существованию в группе, в компании себе подобных, однако Дик познал эту сторону жизни гораздо позже, и для него она обернулась кошмаром. И теперь, в сорок четыре года, ему было приятно узнать, что существует и другая разновидность подобного образа жизни: мирная и согретая солнцем, заполненная походами в кино, поездками на машине и поисками пластинок в комиссионных магазинах.
Для того чтобы окончательно встать на ноги, Филипу не хватало только женщины. Окружавшие его юноши и девушки легко образовывали пары, но при этом не были распущенными. Он один оставался не пристроенным. Вскоре после приезда Дик познакомился с некоей Линдой, чье имя и пухлые детские щечки напомнили Филипу его нового идола, певицу Линду Ронстат, которую он забрасывал письмами через фирму грамзаписи. Все считали, что Дик «входил» с Линдой, но здесь этот глагол имеет буквальное значение: то есть они вместе ходили в кино, болтали допоздна, и девушка выполняла роль его шофера, так как Фил еще не обзавелся своим автомобилем, что в Лос-Анджелесе было большим недостатком.
Линде едва исполнился 21 год, и ей, как и Нэнси в свое время, тоже пришлось пережить сложный подростковый период. Девушке льстило внимание со стороны столь блестящего и образованного человека, который по возрасту годился ей в отцы и которого обожали все вокруг. Было видно, что Фил много пережил и много чего повидал. Даже несмотря на свое пузо, Дику, вероятно, было бы не так уж сложно соблазнить Линду, использовав свой богатый опыт, в наличии которого она не сомневалась. Но Филип сам все испортил.
Однажды он повел Линду поужинать вместе с Харланом Эллисоном и еще одним писателем-фантастом. Это было своего рода собрание взрослых, и девушка была очень рада, что ее тоже пригласили. Перед входом в ресторан Фил торжественно вручил Линде письмо, сказав, что от ее ответа зависит его жизнь. В течение всего ужина он обменивался со своими приятелями грубоватыми шуточками, которых одних было вполне достаточно для того, чтобы привести в замешательство столь робкую и застенчивую девушку, да в добавок кавалер еще совершенно не обращал на нее внимания. Линда, чуть не плача, вышла в туалет и вскрыла там конверт. Лежавшее внутри него письмо привело ее в замешательство. Оказывается, Филип любил ее, он хотел жить вместе с ней, жениться на ней. Если Линда откажет ему, он умрет. Мир вокруг него просто разрушится, как в «Убике» (пользуясь тем, что его окружали восторженные поклонники, Дик имел обыкновение цитировать свои собственные произведения, полагая, что все их читали). Да, для него Линда была своего рода благодетельным «Убиком», олицетворяла его путь, его истину и его жизнь. Неужели Линда хочет его смерти? Вообще, в целом, она за жизнь или за смерть?
«Смотри, говорит Вечность. Я кладу перед тобой смерть и жизнь. Выбирай». (Второзаконие, 30:19).
Выбирай, Линда.
Линда, растерянная, вернулась к столу. Никто не обратил на девушку внимания. Но когда они сели после ужина в машину, Дик важно посмотрел на нее и спросил: «Ну что, Линда?» Бедняжка что-то бессвязно пробормотала. Филип сделал вывод, что ответ был отрицательным, и внезапно начал издеваться над спутницей: неужели она настолько глупа, что восприняла его письмо всерьез? Она как-то сказала ему, что никто никогда не делал ей предложения, и вот теперь это произошло. Чудесная шутка, не правда ли?
Остаток пути они проделали в тягостном молчании. Линда высадила Фила перед домом, не сказав на прощание ни слова. Однако они не перестали видеться. Дик вновь, как будто ничего не произошло, продолжил ухаживать за ней, подобно подростку, который может быть то высокомерным, то умоляющим, что казалось Линде мрачной комедией, поскольку Филип был уже зрелым мужчиной с седой бородой. Не зная, что он рассказывает о ней другим, Линда вдруг заметила, что стала предметом разговоров в их небольшом сообществе, что ее считают кокеткой. Растерявшись, Линда дошла до того, что винила себя и говорила, что она еще не доросла до того, чтобы получать открытки, где под сердцем, пронзенным стрелой и украшенным их инициалами, было наклеено вырезанное Диком из словаря определение мастурбации. Филип не только сумел убедить ее ходить на сеансы семейной терапии — и это при том, что между ними ничего не было, — но и умудрился выставить бедную девушку виновницей всех проблем их «пары». Не говоря уже о тех неприятностях, которые Линда якобы доставляла ему лично. Послушать Фила, так нужно было действительно сильно любить ее, чтобы выносить все эти неврозы и этих сумасшедших, рядом с которыми он оказался по милости Линды, он, который никогда в жизни и не думал, что ему придется однажды обратиться к психиатру! (Когда спустя годы Линда узнала, что впервые Дик консультировался у психиатра в четырнадцать лет, и что даже многие из поклонников считали его ненормальным, она почувствовала облегчение: значит, она не была сумасшедшей.)
Мучения Линды закончились в тот день, когда Дик познакомился с Тессой, согласившейся остаться у него на ночь, а затем и окончательно перебраться к нему. Вначале Филип решил, что она так легко согласилась, поскольку работает на его врагов. Если так, то они неплохо разбирались в женщинах: Тесса была небольшого роста, с длинными черными волосами; тело тонкое и гибкое, натренированное кун-фу. Девушке только-только исполнилось восемнадцать лет, и она мечтала стать писательницей. Дик никогда не встречал столь эмоциональную личность.
Лишенный литературной отдушины, Филип сосредоточился теперь на двух сюжетах: ограблении, для которого он каждый день находил какое-нибудь новое объяснение; и своей личной жизни, где, по его мнению, сталкивались два тропизма. С одной стороны, Дика постоянно тянуло к властным женщинам, даже тиранам, шизофреничкам, если вспомнить Анну; с другой — его притягивали хрупкие и нежные девушки с длинными черными волосами. Увы, многие из них в итоге также оказывались властными шизофреничками, как Нэнси или Линда. «Но теперь все будет по-другому, — повторял он, посоветовавшись с „Ицзин“, — на этот раз повторения не будет». После долгих лет блужданий он наконец обрел тихую гавань в лице Тессы, этой образцовой девушки с длинными черными волосами, а все те, кто так долго обманывали его, оказались всего лишь подделками. Тесса была пылкой и человечной, готовой полюбить мужчину таким, каким его сотворила природа, и не пыталась переделать Фила на свой лад. Он любил внимательно следить, как она делает свои упражнения, наблюдать за медленными и точными движениями жены, слушать ее ровное дыхание. Филу нравилось ходить вместе с ней в магазин, смотреть телевизор, слушать музыку. Он читал ей вслух «Дон-Кихота», которого им подарил Тим Пауэрс. Филу нравилось, что Тесса подавала ему завтрак прямо в постель в те дни, когда он не хотел вставать. И он не любил, когда жена хоть на минуту покидала его.
Осенью Тесса забеременела. Чтобы посвятить ей какую-нибудь книгу, а также немного подзаработать, Дик решил закончить роман «Пролейтесь, слезы». Поскольку он больше не принимал амфетамины, то писал уже не так быстро, как раньше, поэтому работа заняла у него несколько месяцев. И в это же самое время некое ограбление, совершенное прошлым летом в Вашингтоне, привело к совершенно неожиданным последствиям.
С самого начала это дело казалось обычным: очередное разоблачение, какие неизбежно происходят во время предвыборной кампании, и даже если взломщики, арестованные в штабе Демократической партии, имели какое-то отношение к Комитету по выборам президента, это не помешало Никсону в ноябре быть переизбранным на второй срок. Дик с отвращением выключал телевизор каждый раз, когда речь заходила о политике. Однако он вновь ею заинтересовался в начале следующего года, во время процесса по так называемому Уотергейтскому делу над семью взломщиками, которых все журналисты, с легкой руки «Вашингтон пост», называли теперь не иначе как «водопроводчиками»[23]. Это слово стало весьма популярным, оно угрожающе банально обозначало все то, что Америка узнала в ходе самого процесса, а затем слушаний комиссии Эрвина, транслируемых телевидением, о методах работы собственного правительства. Прослушивание телефонов; незаконные обыски; использование секретных фондов; провокации, организованные ФБР против тех, кого вице-президент Спиро Агню называл политическими мерзавцами; незаконная деятельность ЦРУ на территории США. Мало-помалу стало ясно, что с конца шестидесятых годов гражданские свободы, гарантированные лучшей в мире конституцией, находились под угрозой.
Каждое новое разоблачение укрепляло авторитет Дика среди его друзей в Фуллертоне, ведь именно об этом он и говорил! А окружающие сдуру над ним смеялись, считали его параноиком. Снисходительно улыбались, когда Фил в сотый раз возлагал ответственность за ограбление своего дома на службы столь секретные, что никто о них даже не слышал. Теперь же о них услышали все, повсюду только о них и говорят, и необходимо признать, что Дик был абсолютно прав.
Ко всеобщему удивлению, сам Филип Дик почти не злорадствовал. Дон-Кихот сердится, когда другие продолжают видеть ветряные мельницы там, где, по его мнению, находятся вооруженные рыцари, но он недоволен еще больше, когда окружающие вдруг без предупреждения заявляют, что он прав. Дику также никогда не нравилось, если в ходе дискуссии собеседник внезапно соглашался с ним, в таком случае он тут же изменял свое мнение. Чем больше друзья воздавали должное его проницательности, тем уклончивее и таинственнее Фил становился, словно бы думал, что теперь, когда окружающие считали, что пелена спала с их глаз, они на самом деле видели еще меньше, чем раньше. Когда друзья с жадностью начинали расспрашивать Дика о новом романе, полагая, что он станет настоящей бомбой, направленной против Никсона, писатель лишь пожимал плечами и отвечал, что это старая история, а его привлекают более насущные проблемы.
Весной 1973 года Филип Дик принялся за то, что должно было стать величайшим произведением его жизни: там будет собрано все, что он пережил в этом мире распутства и предательства, в котором оказался после ухода Нэнси. Все, что он писал раньше о наркотиках, теперь казалось Дику наивным. В то время он ничего не знал о настоящих наркоманах. Но теперь, когда он покинул их общество, он может о нем написать.
Он приступил к сочинению нового романа, находясь в состоянии, сходном с тем, в котором Достоевский начал писать «Бесов», извлекая урок из террористической утопии, которая чуть было не закончилась для великого русского писателя эшафотом и в конце концов привела его на каторгу. Книга должна была быть посвящена Донне и его приятелям с Гасиенда-уэй и из Экс-Кэлэй, из которых одни к тому времени уже были мертвы, другие превратились в овощи или в чурбаны, наполненные вечным страхом. После того как Дик много лет изображал бунтовщика-токсикомана и перещеголял самого Лири, у него сложилось настолько противоречивое мнение относительно наркотиков, что он решил добавить к этой компании министра юстиции Ричарда Клиндинста, в знак признательности за его борьбу с наркоторговлей. Но эта идея была встречена в штыки его друзьями, и Дик довольствовался тем, что, когда Клиндинст был отправлен в отставку вместе с Дином, Хальдеманом и Эрлихманном, наиболее близкими советниками Никсона, писатель послал ему письмо в поддержку, которое, если дошло до адресата, вероятно, сильно того удивило.
Дик писал по ночам, пока Тесса спала. К нему вперемешку возвращалось все, что он пережил: бесконечные разговоры, радость быть вместе, недоверие, затягивающиеся шутки, безумный смех, притворные улыбки и идиотское кудахтанье, рассеянность, приступы страха, часы, проведенные в поисках лежащей под носом ерунды, страх полиции, провалы в памяти, ощущение, что он смотрит фильм, разматывающийся виток за витком, с небольшими, но волнующими изменениями, которые можно лишь ощутить, но не зафиксировать. Дик постоянно слушал в наушниках пластинки Линды Ронстат и «Пролейтесь, слезы» Дауленда. Фил не испытывал потребности в амфетаминах, как он того боялся. Но частенько по утрам Тесса находила мужа неподвижно сидящим за столом, с открытыми глазами, полными слез.
Филип Дик знал, что он должен и что хочет сделать: написать и продать научно-фантастический роман. Поскольку речь шла о столь реалистическом материале, это его немного сковывало, но, с другой стороны, и вдохновляло на новые открытия.
Его герой, Боб Арктор, наркоман из грязной развалюхи, в которой обитает большая часть персонажей книги, на самом деле работал под именем Фреда в полицейской бригаде по борьбе с наркотиками. Кто такой он был на самом деле, полицейский, поглощенный своей маской, или же наркоман, ставший осведомителем, трудно сказать, но такое встречается настолько часто, что полиция, с целью защитить своих помощников от агентов наркосиндикатов, внедренных в их собственные ряды, обеспечивает их анонимность с помощью специального «запутывающего» костюма. Это супертонкая мембрана, которую полицейский надевает во время каждого контакта с начальством; она связана с компьютером, чья память содержит несколько миллионов физических характеристик. По мере того как компьютер просматривает память, он программирует цвет глаз, волос, форму носа, зубов, внешний вид так, что на мембране в доли секунды появляются новые очертания, которые тут же сменяются другими. То же самое происходит и с голосом. Все это делает невозможным описание, опознание, фотографирование обладателя запутывающего костюма: благодаря постоянной смене облика, он превращается в идеального «первого встречного».
Интрига книги завязывается в тот момент, когда начальство приказывает Фреду собрать сведения о некоем Бобе Аркторе, не подозревая, что это одно и то же лицо. Арктор послушно забивает свой дом камерами и магнитофонами, которые постоянно ведут запись. Это было мечтой Дика, но не только его: 16 июля 1973 года, во время одного из самых зрелищных поворотов в Уотергейтском деле, выяснилось, что президент Никсон в течение нескольких лет записывал все свои разговоры без ведома собеседников. Как только в Овальном кабинете начинал звучать чей-то голос, тут же включались магнитофоны. Вся Америка была напугана подобным поведением президента, но Дик ничуть не удивился, он даже почувствовал нечто вроде симпатии к своему старому врагу. То, что остальные считали техникой шантажа, он воспринимал как признак беспокойства, столь знакомого ему самому. По его мнению, Никсон хотел сохранить свидетельство не столько того, что говорил тот или иной посетитель, сколько того, что мог сказать сам. Он шпионил не только за другими, но и за собой. Прослушивал ли Никсон когда-либо эти пленки, или ему было достаточно знать, что они существуют? Включалось ли записывающее устройство в тот момент, когда он их прослушивал? Подражал ли он Арктору, который каждые два или три дня надевал свой запутывающий костюм и устраивался перед камерами, отдавая себе отчет в том, что происходило и происходит в его доме? Проблема состоит в том, что каждый день необходимо просмотреть двадцать четыре часа пленки, и даже если бы он смог, не ложась спать, оставаться перед экранами сутки напролет, этого было бы все равно недостаточно, поскольку он считался исполнителем одной из главных ролей в этом фильме и, соответственно, должен был добрую часть своего времени проводить на экране, а не перед ним. Арктор полагал, что ему удалось найти выход из этой ситуации: он решил просматривать пленки не целиком, а выборочно, с помощью быстрого просмотра, как это обычно делают в случае, когда необходимо найти тот или иной эпизод на видеокассете. Например, нет ничего страшного в том, чтобы из трехчасового разговора наркоманов прослушать минуты две, ничего нового они все равно не скажут. Именно так в полицейском государстве осуществляется прослушивание телефонных разговоров: записывают все, но, поскольку в спецслужбах не хватает персонала — ведь нельзя же всех нанять, — прослушивание осуществляется, что называется, наудачу. Но это соображение оказалось для Арктора недостаточным. А если он таким образом пропустит важную информацию? Он мучился еще и от того, что эта информация касалась не кого-нибудь, а лично его, и этот подозреваемый все больше и больше возбуждал его любопытство.
Что делает Боб Арктор, спрашивал себя Фред, когда остается один, без свидетелей? Не окажется ли он, как подозревают некоторые, куда более серьезным звеном в цепочке людей, связанных с наркоторговлей, чем это выглядит на первый взгляд?
Вероятно, Ричард Никсон тоже задавался вопросом, что делает президент. Работает ли он на Москву? Финансировал ли он ограбление в «Уотергейте»? Подделал ли он пленку, которая это доказывает? Существует ли пленка, на которой снято, как он подделывает первую пленку?
Филип К. Дик спрашивал себя: что делал Филип К. Дик во время ограбления его дома в Сан-Рафаэле?
Чем больше Филип об этом думал, тем менее невероятной ему казалась версия полиции о том, что он сам же это все и подстроил. Дик не мог вспомнить ничего подобного, но он прекрасно знал, что это ничего не доказывает. Его друзья, которые вначале были согласны с полицией, теперь слишком уж единодушно отвергли это подозрение. У Дика не было пленки, и он не мог получить ее где-нибудь; он решил, что истина так и остается скрытой от него. Его интересовало, в первую очередь, на что указывает способность спокойно рассматривать подобную гипотезу с точки зрения состояния его умственного равновесия. Сделал ли он еще один шаг по направлению к безумию или, напротив, достиг ясности, позволяющей ему трезво оценивать свои прошлые безумства?
Зная, что это также ничего не означает, Дик, тем не менее, чувствовал себя здравомыслящим как никогда. Так как теперь паранойя стала одной из наиболее распространенных страстей в Америке, он отбросил свою собственную, подобно тому как эстет отказывается от ставшей повсеместно распространенной изысканности, и, сведя ее к простому нервному расстройству, пытался установить его причины. Дику казалось, что он не только смог определить, почему до встречи с Тессой его отношения с женщинами постоянно заканчивались одинаково плачевно, но и выяснил, что определяло его интеллектуальную и психическую жизнь.
Филип Дик априори совершенно искренне отвергал идею о том, что все происходящее с ним может быть результатом случайного стечения обстоятельств, своего рода танца электронов, лишенного хореографического замысла, произвольных комбинаций. С его точки зрения, все должно было иметь смысл, и он вновь проживал и изучал собственную жизнь в соответствии с этим постулатом. Однако от мысли, что все на свете имеет значение, легко дойти до идеи о том, что за всем стоит некий умысел. Если вы воспринимаете свою жизнь как рисунок, то незамедлительно понимаете, что он выполнен в соответствии с некоторым планом, и тут же начинаете интересоваться, кто его автор. Это смутное чувство-подозрение, которое все мы испытываем в большей или меньшей мере, оказалось полностью реализовано: в религиозной вере и в мировоззрении параноика. Поскольку Дик не понаслышке знал и то, и другое, он все больше и больше сомневался, что между ними вообще есть разница.
Ошарашенный, Дик не хотел больше верить в то, что реальность скрывает за собой что-нибудь другое, некий ковер, у которого мы видим лишь изнанку, но чья лицевая сторона однажды предстанет пред нами. Он слишком долго слушал болтовню апостола Павла и Винни-Пуха: «В настоящее время мы видим все лишь в тусклом зеркале, но однажды мы увидим, и нас увидят лицом к лицу…»; «Мы все снова окажемся на другом краю леса, там всегда будут играть маленький мальчик и его медвежонок…» Пришло время согласиться с суровой мудростью Лукреция: «Мы ничего не почувствуем, потому что нас уже не будет». Там не будет никого, чтобы встретиться лицом к лицу при свете дня, и то, что мы считаем смутным видением в зеркале, на самом деле является искаженным отражением нашего страха перед смертью и перед бессмысленным страданием. Хотя сей материализм считается в современных агностических обществах официальным выражением здравого смысла, Дик не сомневался, что в глубине души в это мало кто верит. Несмотря ни на что, людям хочется верить, что во всем этом есть некий смысл. Дик узнал на собственном опыте, куда это ведет, и теперь считал своим долгом предупредить себе подобных.
Когда у него брали интервью, он щеголял этой новой теорией относительно реальности, согласно которой все теории о реальности пустые, ложные и чисто симптоматичные. Реальность проста, вся тут, компактная и тупая, как камень. Без какого бы то ни было двойного дна. Мы должны замечать повторения и выводить из них правила, чтобы вести нормальную повседневную жизнь, но этим и нужно ограничиться. Признать, что почти все происходит случайно. С тем же жаром, с каким бывшие сталинисты или священники-расстриги начинают отрицать свои прежние убеждения, Дик приводил тысячи примеров, когда событиям придавался смысл, которого они не имели. Так, одна его знакомая, которую он знал, изучая Библию, пришла к выводу, что Христос жил в центре Земли, в стеклянном кругу, призванном защищать его от волшебников. Да и сам он под влиянием такого уважаемого человека, как покойный епископ Пайк, верил в не менее экстравагантные вещи. Но он избавился от этих заблуждений, так же как и от пристрастия к наркотикам, и теперь может поделиться опытом. Полушутя, полусерьезно Дик предлагал создать группу раскаявшихся в смысле по образцу Общества анонимных алкоголиков и хотел ее возглавить. «По крайней мере, я бы знал, о чем я говорю, в отличие от типов, выступающих против употребления наркотиков, хотя сами сроду их не пробовали и понятия не имеют о том, какое удовольствие они доставляют».
А еще Филипу Дику была знакома дрожь, охватывающая искателей истины в тот миг, когда они верят, в тридцать шестой раз, что приблизились к последнему откровению. Ему случается даже ощущать ее и сейчас, что делает его предостережения более весомыми. Он еще не излечился окончательно, но знал, что близок к этому. Болезнь регулярно возвращалась к нему. Каждый год он становился нервным при приближении 17 ноября (печальная дата, связанная с ограблением его дома), и в этот судьбоносный день, забаррикадировавшись, оставался дома вместе с Тессой. Страх Дика был искренним, но не влиял на надежность его умозаключений: это всего лишь приступ паранойи. Он видел себя со стороны, затаившегося за опущенными шторами и стирающего капли пота со лба, подобно тому как Фред видел Боба Арктора. И, сравнивая себя со своим героем, Дик уточнял диагноз: раздвоение личности.
Как и некоторые другие великие люди, страдавшие психическими расстройствами, Филип Дик ясно осознавал свою болезнь, что позволило ему отныне четко разделять такие понятия, как: 1) сочинение книг о том, что организации вроде Экс-Кэлэй на самом деле являются тайными лабораториями, производящими наркотики, или о том, что Никсон — коммунист; 2) вера в это; 3) вера в то, что это правда. Он считал возможным сочинять подобные произведения, в соответствии с тем, что он — писатель-фантаст, и его профессия состоит в изложении подобных гипотез, но верить в это было бы предосудительным. Дик понял: если он верит во что-то, это не обязательно является правдой, поскольку он не только писатель-фантаст, но и закоренелый параноик, склонный путать реальный мир с миром своих книг. Филип весьма гордился ясностью своего сознания и был полон решимости ее придерживаться, но это не мешало ему, как и каждому человеку, избавившемуся от какого-либо порока, считать, что мир без него был бы мрачным.
В последней главе «Дон-Кихота» герой предстает вылечившимся от своего безумия и умирающим вследствие этого выздоровления. Во время агонии он произносит речи одновременно разумные и волнующие, в которых прославляет здравомыслие Санчо Пансы и проклинает рыцарские романы. Это одна из самых грустных глав в мировой литературе.
К концу 1973 года жизнь Дика в Фуллертоне напоминала заключительную главу «Дон-Кихота». Он не умирал. Он нашел новую жену, которая подарила ему сына по имени Кристофер. У него появились новые друзья. Он вновь начал писать книги. Текущие события, казалось, подтверждали все его предчувствия. Стали появляться первые признаки литературного признания. Но Филип Дик перестал принимать ветряные мельницы за вооруженных рыцарей, и в те моменты, когда он позволял себе двигаться в этом направлении, он знал, что ошибается. Он считал себя Дон-Кихотом разума, чьи не менее выдающиеся приключения закончились, мораль истории выведена. Он достиг последней главы и без спешки и драматизации, наслаждаясь маленькими радостями инвалида, ожидал слова «конец».
Глава семнадцатая ИМПЕРИЯ НИКОГДА НЕ ИСЧЕЗАЛА
20 февраля 1974 года Дик, стеная, бродил по небольшой квартире в Фуллертоне, где он поселился вместе с Тессой и маленьким Кристофером. Накануне ему вырвали зуб мудрости, действие пентотала к концу ночи закончилось, и мир превратился в ужасную боль, постоянно пульсирующую в челюсти. Мысль о том, что когда-нибудь боль прекратится, не помогала. Он хотел только одного: перестать существовать до того момента, как мучения закончатся, ему сказали, что через сутки все пройдет.
Вызванный Тессой дантист выписал обезболивающее и, поскольку и речи быть не могло о том, чтобы Тесса хоть на минуту покинула больного, позвонил в аптеку и попросил, чтобы лекарства как можно быстрее доставили на дом.
Спустя полчаса раздался звонок. Дик, полоскавший зубы чаем, открыл дверь. На пороге стояла девушка с густыми черными волосами, одетая в белый халат фармацевта. На шее у нее висела цепочка с золотым кулоном в виде рыбы. Как загипнотизированный, Дик смотрел на украшение, не в силах произнести ни единого слова.
— С вас восемь долларов сорок центов, — сказала, а, может быть, повторила девушка, протягивая Филу пакет с лекарством.
Дик порылся в кармане, достал купюру в десять долларов и спросил:
— Это украшение… что это?
— Рыба, — ответила девушка. — Символ, который использовали первые христиане.
Дик застыл на пороге с пакетом в руке, уставившись на рыбу, которая поблескивала в полумраке прихожей. Время остановилось. Он забыл о своей боли, забыл, зачем пришла сюда эта девушка и что здесь делает он сам. Тесса перестала сушить волосы и вышла в прихожую. Проследив за направлением взгляда своего мужа, она решила, что его привела в такой восторг грудь девушки. Та, увидев хозяйку, решилась наконец дать сдачу, повернулась и ушла. Тесса закрыла дверь, отпустив какую-то шутку, но Дик не услышал жену, а сама она не запомнила, о чем говорила. Так что никто, кроме Бога, если Он существует, не знает, что именно тогда было сказано.
Один из героев романа «Человек в высоком замке», некий японский бизнесмен, созерцает украшение, созданное в соответствии с дао. И это приподнимает перед ним невидимый занавес и открывает ему доступ в реальный мир. Лишь позже Дику пришло в голову сопоставить пережитое им самим с тем, что он приписал двенадцать лет назад господину Тагоми. И писатель немедленно понял: произошло то, чего он ждал всю свою жизнь.
Момент истины. Debriefing[24]. История болезни.
Вот, наконец, это случилось.
Он знал, кто они, где он, он знал, где он всегда находился.
Этот золотой кулон в виде рыбы на шее сотрудницы аптеки был кодом, специально приготовленным для того, чтобы отключить модуль забвения, заставить заработать программу, которая приведет его к реальности.
И вот он здесь.
ИМПЕРИЯ НИКОГДА НЕ ИСЧЕЗАЛА
Когда в его голове возникла эта странная и вместе с тем знакомая фраза, Дик уже знал, что это и есть истина. Девушка была тайной христианкой, как и он сам. Ее послали, чтобы сообщить ему об этом с помощью условного знака, который способен выпустить наружу его воспоминания.
Но к чему эта таинственность? Зачем нужен этот диалог с подтекстом, эти приемы заговорщиков?
Чтобы усыпить бдительность римлян.
Каких римлян? На дворе 1974 год, мы находимся в округе Оранж, штат Калифорния.
Нет.
Нет. Ничего подобного! Это мы так думаем, а вернее, большинство из нас думает, что живет в 1974 году, в демократической Америке. Точно так же Рэгл Гамм был уверен, что живет в 1950 году, господин Тагоми считал, что мировую войну выиграла Япония, а Джо Чип и его товарищи полагали, что они находятся среди живых. Но это не так, и некоторые об этом знают. Они сражаются. И ты только что вступил в их ряды.
Ты присоединился к невидимому отряду Бодрствующих, тех, кто за голограммой, навязанной толпе под видом реальности, с ее автострадами, электрическими розетками, ресторанами и заведениями фаст-фуда, с ее добродушным и законченным правдоподобием, видят решетки огромной тюрьмы, где Империя содержит своих рабов. Потому что с самого начала ты был одним из них, сам того не зная, а сегодня ты сошелся с тайными участниками сопротивления, носителями света, что шагают во тьме.
Ты чувствуешь это? Что-то внутри тебя готовится вновь заработать. Внутренние часы, которые сообщают тебе точное время, точную дату.
Мы находимся в 70 году от Рождества Христова.
Теперь ты это знаешь, ты знаешь, что это правда, но тебя это не удивляет. В глубине души ты всегда это знал.
Спаситель приходил на землю, но затем ушел обратно. Но Он скоро вернется. Он обещал: еще при жизни этого поколения. Ты увидишь Его. Сомневаешься ли ты в словах Господа твоего? Нет, ты такой же, как мы: ты ждешь Его возвращения. Несмотря на преследования, ты с радостью готовишься к встрече.
Тем, кому дарована благодать знания, негоже отступать перед трудностями. Избранный не должен защищаться от них с помощью успокаивающих объяснений. Например, говоря себе, что, мол, то, что с ним происходит, — это галлюцинация, аллегория, возвращение к прежней жизни. Нет, речь идет об истине буквальной, непосредственной, единственной. Рим находится здесь и сейчас. Средний американец ослеплен, но на самом деле это и есть реальность, лежащая в основании мира, в котором он живет. Империя никогда не исчезала. Она просто укрыта от глаз своих подданных. Подобно тому, как для показа фильмов используют стену тюрьмы, для них был придуман этот вычурный мир, эта наглая фантастика, которую большинство зрителей принимают за подробное документальное кино: девятнадцать веков истории и возникший таким образом мир. Но война продолжается и во время показа. Те, кто отказываются смотреть фильм и верить в реальность происходящего, безжалостно преследуются. Им не позволяют покинуть зал, их убивают в туалете. Некоторые из предосторожности меняют тактику, они остаются сидеть в зале, закрыв глаза и сохраняя разум ясным. Они следуют своим путем и служат другому королю. На них нет доспехов, только обычная одежда, сандалии и, иногда, позолоченная рыба, выполненная в виде браслета или ожерелья, — знак, который позволяет им узнать друг друга. Они образуют тайное общество, сплоченное надеждой и угрозой, общаются при помощи секретных кодов, используют заброшенные каналы, чертят в пыли эзотерические знаки.
Хвала Господу, мы вновь тебя нашли. Ты снова среди нас.
В течение нескольких ночей Филип Дик видел множество снов и понял, что они должны завершить его посвящение. Чаще всего ему снились открытые книги. Если бы он смог их прочесть и запомнить содержание, он нашел бы ответы на все интересующие его вопросы. К несчастью, страницы переворачивались слишком быстро, как перед копировальной машиной. К тому же казалось, что они были написаны на иностранном языке. Филип просыпался разочарованный, но не сомневался, что информация записывается без его ведома в его мозге. Возможно, ее скрывали от него в целях безопасности.
Как это лучше объяснить? Вокруг него стрекотала, гудела некая аура. Она вела себя как живое существо, наделенное разумом, и объединяла знакомые предметы, сообщая им свою энергию. Его голова, его квартира, их маленький мир на троих, были похожи на практически севшую батарейку, которую вдруг перезарядили.
Он смотрел на Тессу, которая, свернувшись на краю дивана, подобно зверьку, лакала свой кофе из чашки с изображением мультяшных персонажей. Он смотрел на Криса, ползающего в ползунках по плюшевому ковру. Он смотрел на кошек. Очевидно, никто ни о чем не догадывался.
Нужно будет, думал Филип, сообщить жене, не открывая ей всей правды, некоторые коды, научить ее элементарным мерам предосторожности. К счастью, он уже приучил Тессу к этому. С такой точки зрения то, что многие другие считали паранойей, на самом деле было благословением, возможно, обязательным условием, от которого зависело его посвящение. Фил давно боялся всего: налоговой службы, агентов из отдела по борьбе с наркотиками, ФБР, но он был прав и совершенно напрасно отвергал этот страх в последние недели. Страх его закалил, но и выработал у него рефлексы, необходимые для подпольной деятельности.
Дик также имел обыкновение говорить странные вещи. Никто никогда не знал, говорит ли он серьезно или шутит, верит ли в то, что говорит, или же проверяет на своем собеседнике очередную нелепую теорию, которая только что пришла ему в голову, а вскоре сменится другой. Было хорошо известно, что беседа с Филипом К. Диком не подчиняется тем же правилам, что обычный разговор, что не стоит ничему удивляться, и по молчаливому согласию ему прощалось многое из того, за что любого другого уже давно объявили бы сумасшедшим. Тем не менее некий риск все же существовал, и следовало быть осторожным.
Дик послал Тессу купить вотивные свечи («Какие-какие свечи?» — «Да просто свечи…»), решив превратить этажерку в спальне в импровизированный алтарь, где они бы постоянно горели перед изображением Богоматери, сделанным на Филиппинах.
Пока Тесса ходила в магазин, проснулся Кристофер и начал плакать. Фил решил приготовить сыну шоколад. Когда отец вошел в комнату, малыш протянул руки к бутылочке. А еще Дик прихватил, сам не зная зачем, кусок хлеба, лежавший на кухонном столе, и вдруг он понял, почему это сделал. Он чуть было не отправился обратно на кухню за водой, но передумал. Если, так или иначе, римляне были в курсе происходящего, соединение хлеба и воды их, безусловно, насторожило бы. Поэтому лучше, чтобы все выглядело естественно. Никто из непосвященных не должен знать, что речь идет о чем-то большем, нежели простая игра отца с сыном. Фил дал Кристоферу кусочек хлеба, а сам взял у мальчика бутылочку и открутил соску, не намного, но вполне достаточно для того, чтобы несколько капель попало на голову ребенку. Дик быстро начертил измазанным в шоколаде пальцем крест на лбу Кристофера и прошептал по-гречески: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Затем он вернул бутылочку мальчику. Пока тот пил, Дик обнял сына и прошептал тому на ухо его тайное христианское имя: Пол. Все это заняло несколько секунд, сторонний наблюдатель ничего бы не успел заметить. Дик инстинктивно действовал решительно и точно, под влиянием некоей превосходящей его силы, которая — в этом Фил был уверен — заботится о его благе и о благе его сына.
Неприятности начались в ту же ночь. Последние несколько дней радиоприемник в их квартире работал круглые сутки. Дик настроил его на радиостанцию, передающую спокойную музыку, и сделал звук потише. Это звуковое сопровождение ободряло Фила и служило для него своего рода ориентиром, когда он внезапно просыпался, не зная, где находится. Таким образом, семья спала под защитой филиппинской Богоматери, окруженной источающими запах ладана, зажженными вотивными свечами, и нежных голосов его любимой Линды Ронстат и других певиц.
Около трех часов утра Тесса внезапно проснулась. Фил сидел, раскачиваясь взад-вперед, зажав уши руками и повторяя дрожащим голосом: «Libera me, Domine!» Испуганная Тесса не смела пошевелиться, но Фил, заметив, что жена проснулась, вдруг заорал, чтобы она это немедленно остановила. Женщина не успела понять, что «это» обозначало радио, когда, измученный, он бросился выключать его сам. Затем Фил с приемником в руках буквально побежал на кухню, оставил его там и, дрожа, вернулся обратно.
Как он объяснил, его разбудил голос Линды Ронстат, исполняющей песню «You’re no good» из своего последнего альбома, которая прежде ему очень нравилась. Но на этот раз в словах песни Дику слышались какие-то посторонние вставки, нечто вроде слов-паразитов, и там также звучало его имя. Это ему, Филу, Ронстат со злостью повторяла: «You’re no good»; ты вовсе не хорош, ты можешь сдохнуть, ты должен сдохнугь. Ронстат или посланцы антихриста, которые использовали певицу, хотели его смерти.
Тесса, как могла, успокоила мужа. Они снова заснули. Но спустя какое-то время выключенное радио заработало вновь. Теперь вместо Ронстат тягучий и глухой голос, вероятно, синтезированный, повторял ребяческие песенки и угрожающие непристойности. Имя «Дик», которое на американском арго означает «пенис», конечно же, прекрасно подходило для грубых шуток, и той ночью Фил прослушал их все, от первой до последней. Они перемежались смертельными угрозами или, скорее, подстрекательствами к смерти, настойчивость которых его устрашала.
Как только Фил набрался смелости, чтобы пойти на кухню, проклятия прекратились. Стоило ему вернуться в спальню, как они возобновились. Тесса тоже проснулась, но, как ни старалась, ничего не услышала. Чтобы покончить с этим, Дик бросил транзистор в раковину, заполнил ее водой и воткнул в уши затычки.
На следующий день в голову Дику пришла новая мысль: случайно проснувшись, он услышал то, что не должен был слышать. Эта программа была направлена на то, чтобы во время сна вложить в него определенные установки. Филип вспомнил рекламный проспект, в котором речь шла об изучении иностранных языков в то время, пока человек спит. Проснувшись и уловив призывы к самоубийству, которые враги хотели вложить в его мозг, он тем самым расстроил их планы. Да, но надолго ли? И сколько раз он уже подвергался воздействию смертоносных волн?
Вот как все выглядело с точки зрения Дика. После того как украшение в виде рыбы разбудило его усыпленный мозг, последний превратился в радиоприемник, ловящий несколько частот одновременно, забитый противоречивой информацией, так что его задачей было различать каналы, определять их происхождение и угадывать намерения врагов.
Игра усложнялась.
И, если уж считаешь себя радиоприемником, то следует добиться того, чтобы он работал как можно лучше. В одном научно-популярном журнале, который они выписывали с Тессой, Дик прочел статью о том, что частое употребление витаминов может улучшить сообщение между полушариями мозга. Хотя в статье речь шла о медицинском эксперименте, проводившемся на молодых шизофрениках, Дик решил испытать этот метод на себе. По три раза в день он глотал пригоршнями таблетки, которые не давали ему уснуть и вызывали непрекращающееся мерцание в глазах, когда он их закрывал. Его мысли расползались, как змеи по темному коридору. Разноцветные пятна плавали в полумраке спальни. Когда Филип наконец засыпал, перед рассветом или после полудня, он видел странные сны. По большей части они касались Древней Греции и Древнего Рима. Он находился посреди Коллизея в закрытой клетке, которую пытались открыть гигантские ящерицы. Или же он видел золотисто-черный сосуд, стоящий на треножнике, а чей-то голос говорил: «Восемьсот сороковой год до Рождества Христова». Согласно «Британской энциклопедии», это был период Микенской цивилизации. Дик тщетно ломал голову, пытаясь понять смысл этого временного сдвига на восемь веков назад от эпохи апостолов, к которой, по его мнению, устремлялись все другие показатели.
Однажды ночью, сидя на кухне и поглядывая в сторону радиопремника, который Тесса вынула из раковины, Фил заметил ошибку в своих расчетах. Таблетки содержали по пятьсот, а не по сто милиграммов витамина С, как он считал. То есть он принимал в пять раз больше, чем было нужно. Он быстро прикинул, что в течение недели принимал по семь граммов сверх нормы в день, не считая других витаминов. Его организм был пресыщен. Дик вернулся в спальню несколько обеспокоенным. Вотивные свечи горели на этажерке перед филиппинской Мадонной. Тесса спала на своей половине, уж не знаю, в сорочке или без, Кристофер — в колыбели под пологом, а кот Пинки на диване в гостиной. Были слышны только их дыхание, гудение холодильника и далекий шум машин, проезжающих по автостраде.
Внезапно разноцветные пятна начали метаться по стене. Быстро, еще быстрее, как будто под действием центробежной силы, устремляясь наружу. «Они достигают края», — думал Дик, и мысль об этом крае пугала его. Мир вывернулся, как перчатка. Лежа неподвижно в своей кровати, Дик шел вперед по коридору света, который постоянно открывался перед ним. Он углублялся, падал, погружался со скоростью света. Ему казалось, что это походит на конец кинофильма «Одиссея 2001 года», когда космонавт покидает Солнечную систему.
Затем пятна стали принимать определенные формы, которые с огромной скоростью следовали друг за другом, менялись местами, трансформировались. Они стали напоминать абстрактную живопись. В течение нескольких секунд Фил увидел около сотни картин Пола Кли. Затем он опознал Кандинского, Пикассо. Так продолжалось несколько часов. Десятки тысяч картин для каждого из представленных художников, гораздо больше, чем они написали на самом деле, и даже больше, чем они могли бы написать, если бы жили несколько веков. Полотна быстро сменяли друг друга, но при этом каждое успевало поразить его разум, запечатлеть в его мозгу свое совершенство. Дик сроду не был эстетом и всегда жаловался на то, что у него отвратительный вкус. В первый раз сейчас он постиг бурную и неуловимую красоту форм, глядя на пылающий костер. Он хотел бы наслаждаться этим чувством без задней мысли, вообще ни о чем не думая, но именно на это он и не был способен. В его душе не было места для радости, только для смысла, и вот он уже пытался найти его в своих видениях. Дик хотел бы, чтобы в его сетчатке имелась камера, чтобы осталась память об этой удивительной коллекции и ее можно было бы исследовать. Ему было недостаточно просто видеть ее, ему нужно было знать, откуда эта коллекция появилась, что она означает. Потому что она должна была что-то означать. Это визуальное наслаждение не могло быть беспричинным, случайным; под видом абстрактных картин, мелькающих у него перед глазами, в него закладывали некую информацию, природу которой он не знал.
Чуть позже проснулся Кристофер, и Тесса, ворча, поплелась на кухню, чтобы приготовить для сына смесь. Дик продолжал лежать, погруженный в остатки ночной оргии. Разноцветные хлопья двигались все медленнее и становились бледнее, а затем исчезли. Фил бодро встал с ощущением того, что он изменился.
Это изменение не коснулось его стремления строить предположения, которое в последующие дни развернулось в полную силу.
В принципе это всегда был один и тот же вопрос: исходили ли послания, которые он получил, от него самого или же от некоей внешней инстанции?
С точки зрения материалистической гипотезы замкнутого круга, не было причин искать слишком далеко. Тем не менее Дик внимательно перечитал статью, касающуюся витаминной диеты, изучил этикетки на флаконах, пролистал медицинский справочник, вечный спутник ипохондрика, и вывел теорию, просто сияющую научным правдоподобием. Кислотность витаминов вызвала в его мозгу резкое понижение гаммааминомасляной кислоты, также называемой жидкостью ГАМК. Надлежащий уровень этой жидкости подавлял, по-видимому, некоторые структуры центральной нервной системы, те самые, что заставляют видеть розовых слонов или выстроенные в цепочку работы Кандинского. Жидкость ГАМК является антиподом ЛСД, и когда ее не хватает, начинаются фантастические видения. Дик удовлетворился этим объяснением: примерно так же человеку, который не силен в технике, в случае, если машина начинает издавать непонятные звуки, вполне достаточно фразы «должно быть, не в порядке зажигание».
Однако параллельное расследование заставило его глянуть на работы Кандинского и Кли, книгу о которых он попросил Тессу взять в библиотеке. В результате Дик выяснил, что масса полотен этих художников находятся в Русском музее в Ленинграде. Эта информация пробудила в нем одно воспоминание. Кто-то говорил ему, еще за несколько лет до этого происшествия, об опытах, проводимых советскими учеными в области телепатической связи. Возможно, он стал объектом подобного эксперимента, состоявшего в том, чтобы заснять абстрактную живопись, хранившуюся в ленинградском музее, а затем на огромной скорости забрасывать ею нейроны некоего обитателя Фуллертона, что в Калифорнии.
Допустим, но зачем это понадобилось русским? И почему выбрали именно его, Фила Дика, а не кого-либо другого? Случайность, или на это есть причины? И почему полотна абстракционистов? Снова случайность, картины выбраны произвольно, просто, чтобы испытать медиума, или же в этом был какой-то смысл?
Откровенно говоря, Филип Дик даже не сомневался, что именно он был мишенью. Он прекрасно осознавал, что отличается излишней подозрительностью, пытаясь найти скрытый смысл, скажем, в том, что продавец пылесосов позвонил в дверь в тот же день, что и свидетель Иеговы, однако факты есть факты. И принцип сохранения энергии, лежащий в основе любого научного объяснения, не позволял предположить, что если на протяжении трех недель с ним связались сначала тайные христиане, борющиеся против Империи, а затем советские телепаты, то между этими двумя событиями не было никакой связи. Оставалось найти эту связь.
Советские ученые, изучавшие телепатию, а не входили ли они в число заговорщиков? Казалось более логичным представить, что они состоят на службе у Империи, чьим самым откровенным, если не самым изощренным, воплощением являлся Советский Союз. Но не стоило забывать о диссидентах; да, не исключено, что с ним, рискуя собственной жизнью, пытались связаться ученые-диссиденты. Может быть, скорее следовало рассмотреть гипотезу, согласно которой советские ученые, вовсе не диссиденты, а напротив, верные слуги Империи, перехватили послание, которое пытались отправить ему тайные христиане, и стремились заглушить информацию. В те времена, когда Дик жил на Гасиенда-уэй, один из наркоманов, ныне покойный, специализировался на следующей шутке: когда кто-нибудь хотел позвонить по телефону, он проговаривал вслух высоким голосом и достаточно быстро другие цифры, какие придут в голову, вследствие чего было совершенно невозможно набрать нужный номер. Если русские проделывают с ним подобный фокус, послание христиан должно просто забить частоту, так что его содержание является совершенно случайным и не имеет смысла. Но не следовало спешить с выводами. Тот факт, что послание сбивает его с толку, еще не доказывает, что оно бессмысленно, что это не то правильное послание, которое Дику хотели передать его невидимые друзья. На самом деле существует вероятность того, что это послание адресовано не его сознанию, а направлено непосредственно в какую-нибудь подкорковую зону, более скрытую и более надежную. И, несмотря на все рассуждения, ничто не могло поколебать уверенности Фила в том, что накопленные внутри него и без его ведома сведения начинают информировать его нервную систему и изменять ее. Возможно, это делается для его же блага и, в любом случае, для того, чтобы восторжествовал свет.
В последующие дни сны стали более яркими и информативными. У Дика создалось впечатление, что он проходит ускоренный курс, сам не зная, по какому предмету. Хотя и подозревал, что видит во сне русские тексты: страница за страницей, сотни технических учебников, набранных кириллицей.
И тогда-то он вновь вспомнил о статье Станислава Лема.
Несколькими месяцами ранее Дику прислали немецкий перевод статьи, опубликованной в одном польском журнале за подписью Станислава Лема. Лем считался великим писателем-фантастом стран Восточного блока, его книги были переведены на многие языки, а режиссер Арсений Тарковский снял по его роману «Солярис», одноименный кинофильм, своего рода ответ на «Одиссею 2001 года». И вот этот известный человек взялся за написание литературоведческой статьи, подробно проанализировав современную американскую научную фантастику. Суть статьи сводилась к следующему: все ничтожества и бездарности, за исключением Филипа К. Дика.
Обвинения польского фантаста не были голословными, но подкреплялись аргументами высоко культурного человека и специалиста, и потому тем больше удивляло сделанное для Дика исключение: его было сложно представить неким небожителем, случайно оказавшимся среди скотоводов. Лем, к тому же, и не пытался это сделать, напротив, он подчеркивал его дурной вкус, неуклюжий стиль и банальные интриги. Однако, несмотря на все это, по мнению Лема, Дика от его собратьев по перу отделяла пропасть, сходная с той, что пролегла между автором «Преступления и наказания» Достоевским и теми, кто сочиняет обычные детективы. Дик в своей наивной манере выражал пророческие истины, касающиеся современного мира, и лучше всего ему это удалось в «Убике».
Дику льстили эти похвалы, хотя они его в то же время и немного беспокоили. Он сам никогда не считал роман «Убик» лучшим своим произведением. Он чаще вспоминал тот ужасный период в его жизни, в который книга была написана, когда все рушилось как в его доме, так и в его голове. И вот спустя всего несколько месяцев многочисленные европейские читатели разглядели в этом сделанном наспех романе глубокий мистический смысл. Осенью Дика посетил его французский издатель Патрис Дювик и торжественно объявил, что считает роман «Убик» одним из пяти наиболее выдающихся произведений в истории человечества.
— Подождите, Патрис, вы, наверное, хотите сказать, одной из пяти лучших научно-фантастических книг?..
— Нет, — настаивал француз, — одним из пяти наиболее значимых произведений в истории человечества.
Дик не смог тогда выяснить ни почему Дювик так считает, ни каковы были остальные четыре книги, но убежденность, с которой издатель произнес эту фразу, заставила его призадуматься.
Дик начал переписываться с Лемом, который хлопотал, чтобы «Убик» был опубликован в Польше. Но дело застопорилось, когда выяснилось что, согласно действующему в социалистических странах законодательству, гонорар можно получить только на месте. Лем любезно заметил, что Дик мог бы совместить приятное с полезным: посмотреть Варшаву и забрать гору злотых. А заодно, почему бы нет, он мог бы также принять участие в конференции. Совершенно неожиданно Дик заупрямился. Он писал сердитые письма своим агенту и издателю, а также самому Лему, которого он обвинял в желании присвоить себе причитающиеся ему, Дику, деньги. Лем-де рассчитывал на то, что американец никогда за ними не приедет. Или же Лем, напротив, хотел таким образом заманить Дика в Польшу с тем, чтобы не выпустить его обратно. Последняя гипотеза представлялась более вероятной, нежели банальное присвоение чужих денег, и Дик провел всю зиму в размышлениях, какими могут оказаться последствия. Но проверить это на практике уже не смог, поскольку предатель Лем больше не отвечал на его письма.
Совершенно очевидно, что секретные службы стран Восточного блока оценили подрывное значение его произведения. Они начали расшифровывать роман, доказательством чего являлась статья Лема, или же, скорее, группы людей, подписывающихся именем Лема. В Дике видели потенциального Солженицына, более опасного, чем первый, потому что он угрожал раскрыть свободному миру, или тому, что от него осталось, секрет, вплоть до сего дня сохранявшийся в тайне: в Америке происходит советизация, не говоря уже о сведениях, касающихся загробной жизни. Ведь недаром на французском телевидении говорили о нем как о писателе, достойном Нобелевской премии? (Дювик любезно передал Дику это мнение одного из его поклонников, высказанное в ходе какой-то передачи, посвященной культуре; из чего Дик заключил, что в Нобелевском комитете существует влиятельное лобби, состоящее из французских интеллектуалов и поддерживающее его кандидатуру. Дик уже задавался вопросом, что он будет делать, когда никсоновская диктатура откажется отпустить своего ныне известного противника в Стокгольм для получения премии.)
И пока дело до этого не дошло, там, на коммунистическом Востоке, пытались обезвредить бомбу. Пытались завязать контакты с Диком, в его сторону запускали пробные шары. Возможно, Дювик также участвовал в этом, и, даже если он сам этого не осознавал, не было сомнений, что все французские интеллектуалы, являвшиеся в той или иной степени марксистами и видевшие в произведении Дика критику капитализма, были игрушками в чужих руках и служили ретранслятором планов КГБ в свободном мире. Пешка, которую выдвинули вперед, чтобы расчистить диагональ для сумасшедшего игрока. И вот когда почва была подготовлена, на сцену выступил Лем и весьма любезно пригласил американского фантаста в Польшу. И если бы Дик позволил заманить себя в ловушку, интересно, что бы произошло в Варшаве? О, он без труда мог это представить: череда проходящих с успехом конференций, торжественные ужины и тосты за его здоровье, но однажды утром он просыпается с больной головой в комнате с белыми стенами, окруженный типами в белых халатах со шприцами в руках. «Это ненадолго, господин Дик, и совершенно безболезненно. Этим же вечером вы сможете присутствовать на конференции». И вечером на очередной конференции народу будет больше, чем обычно, потому что пригласят журналистов из зарубежных изданий, и Дик сообщит им, что собирается остаться здесь, в Польше, в этой свободной стране.
К счастью, он расстроил их планы, на этот раз избежав промывания мозгов. Дик смеялся от души, представляя, как, должно быть, летят головы внутри шпионской группы Лема.
И тут Фил вновь вспомнил фразу, которую он, должно быть, когда-то услышал или прочел, но уже не помнил, где: «Он смеялся, потому что враги не сумели его догнать; но он и не подозревал, что они старались специально дать ему ускользнуть».
Дик испытывал чувство беспокойства, как игрок в шахматы, догадывающийся о том, что готовится сокрушительная атака, но не знающий, откуда именно ее ждать. Попытка Лема, эти страницы на кириллице, эти видения картин, хранящихся в Ленинграде, — всё свидетельствовало о том, что дьявольская русская тема вновь возникнет в симфонии его жизни. И Дик ждал.
Удар был нанесен 20 марта, но началось все еще 18-го. В этот день на имя Филипа Дика пришло заказное письмо, Тесса расписалась в квитанции о получении. Письмо было написано на тяжеловесном английском. Автор, представившись почитателем Дика, просил у него автограф и, если можно, фотографию с его подписью. Классическое письмо поклонника. Дик всегда мечтал о почитательницах своего таланта, но это письмо пришло из Эстонии.
Ему в жизни никто не писал из Эстонии. Дик открыл атлас, без особого удивления констатировал, что Таллин находится рядом с Ленинградом и недалеко от Варшавы. Сеть сжималась вокруг него.
Внезапно Фил произнес фразу, которую не готовил заранее и смысл которой стал ему ясен только после того, как он ее озвучил: «Сегодня понедельник. А в среду придет другое письмо, и оно может меня убить».
Дик отказался объяснять жене что бы то ни было и до самой среды не вставал с постели.
Утром 20 марта он послал Тессу проверить почту. Она вернулась с беспокойной торжественностью. Пришло семь писем, Дик смотрел на них, не вскрывая. Шесть конвертов выглядели вполне обычными: проспекты, счета, конверты с эмблемами, знакомые почерки. На седьмом не упоминалось имя отправителя. Судя по штемпелю, письмо отправили из Нью-Йорка.
— Это оно, — сказал Дик изменившимся голосом.
Он попросил Тессу открыть послание и описать его, не показывая ему. Собственно, это было даже не письмо, а сделанная на одной странице ксерокопия двух критических статей, появившихся в левой нью-йоркской газете «Дейли уорлд». Некая советская писательница, находящаяся сейчас в Соединенных Штатах, поздравляла Дика с тем, насколько блестяще ему удалось описать закат капитализма. Слова «упадок» и «смерть» были подчеркнуты красным. И наконец, закончила Тесса, имя и адрес писательницы были написаны на обратной стороне. По всей вероятности, письмо отправила она.
Дик закрыл глаза. Ситуация казалась обычной: эта женщина, желая привлечь к своему произведению внимание писателя, которым она восхищалась и который пользовался некоторой славой в левацких кругах, хвалит фантаста, надеясь извлечь из этого выгоду. Но Дик очень хорошо помнил, что два дня назад внутренний голос сказал ему, что речь в данном случае идет о чем-то ином. «Божий суд», в буквальном смысле. И от ответа Дика зависела его судьба.
«Смотри, — говорит Вечность. — Я кладу перед тобой смерть и жизнь. Выбирай».
Теперь был его ход. Дик просчитывал последствия каждого своего шага, вплоть до мата. Если бы он хотя бы знал, кто был его противником! Вроде бы ясно, что русские, но это было слишком уж очевидным. И потом, неужели они действительно надеялись, что, отклонив столь заманчивые предложения Лема и его клики, он клюнет на такой явный крючок? А тайные христиане, которые в лучших спиритуалистических традициях расставили искусительные метки вдоль его крестного пути? И опять то же возражение: контакт с советской писательницей никоим образом не мог являться попыткой соблазнить Дика, так как, напротив, все, что исходило от СССР, наводило на него ужас. Этот факт делал тестирование бессмысленным, и те, кто его готовили, должны были об этом знать. Таким образом, это событие должно иметь какой-то иной смысл. Выбор состоял не просто в том, чтобы ответить (проиграть) или не ответить (выиграть). Дик вдруг понял: искушение заключалось не в том, чтобы он ответил, а в том, чтобы он не ответил. Сжечь письмо, засунуть голову под подушку, попытаться больше не думать об этом — вот каких действий ждали от него, но именно так и не следовало поступать! А что тогда? Ответить? Тоже нет.
Два часа спустя после получения письма Дик позвонил в ФБР.
Глава восемнадцатая ПАДЕНИЕ ТИРАНА
В полиции давно привыкли к сумасшедшим: тем, кто признается в несовершенных убийствах; кто видел летающие тарелки, кто раскрыл заговор против президента Соединенных Штатов… Однако известно, что в некоторых из этих нелепых заявлений может содержаться определенная доля истины или же они могут навести на определенный след. Именно так начинались некоторые громкие дела. В идеале следовало бы проверять все сомнительные случаи, но это невозможно из-за недостатка людей и времени. Но в данном случае полиции все было предельно ясно. Звонил некий тип, называвший себя автором научной фантастики, якобы известным во всем мире. Мол, его во Франции даже предлагали номинировать на Нобелевскую премию, а одну из его книг чуть было не экранизировал Джон Леннон, да-да, сам Джон Леннон из «Битлз», которому ее дал почитать Тимоти Лири («Не думайте, что я одобряю Лири, совсем наоборот, я даже написал книгу, направленную против наркотиков, она еще не издана, но я собираюсь посвятить ее бывшему министру юстиции Клиндинсту, чтобы объяснить всем свою позицию, которая, к сожалению, была неправильно понята, по большей части из-за безответственного текста Харлана Эллсона, заявившего, что мои книги написаны под действием ЛСД, а это неправда»). И этот тип не способен произнести ни единой фразы без того, чтобы не пуститься в бесконечные отступления, за двадцать минут он успел дойти в своем рассказе до всемирного потопа, и лишь потом сообщил, что получил письмо из Эстонии, от одного из своих читателей, а спустя два дня, как он и предвидел, ксерокопии статей из газет, которые, хотя и не были коммунистическими, но сильно клонились влево, можно сказать, розовели, так что, без сомнения, речь идет о происках КГБ. Затем этот псих начал, чтобы сделать свой рассказ правдоподобнее, говорить о гонораре, замороженном в Польше, с единственной целью утянуть его за «железный занавес» и подвергнуть там промыванию мозгов… Посетителя терпеливо выслушали, заверили, что все подробно записали, а в конце, когда этот тип спросил, что ему теперь делать, ответили доверительно, назвав его по имени: «Вы и так уже много сделали, Фил. Вы сделали все, что было нужно. Ни с кем не говорите об этом деле. Теперь мы сами им займемся».
Подобные фразы, произнесенные достаточно властно, тоном одновременно серьезным и доверительным, обычно позволяют положить конец разговору. Но не следует тешить себя иллюзиями: успокоенный сейчас, сумасшедший вскоре начинает чувствовать себя обманутым и в девяти случаях из десяти приходит в полицию вновь.
Но Дик не удовлетворился устным рассказом, он еще написал в полицию письмо, в котором обобщил все то, о чем рассказывал по телефону — немного сумбурно, за что он извинялся, — сопроводив свое повествование доказательствами: статьей Лема, перепиской с Лемом, письмом эстонского поклонника и ксерокопиями статей из «Дейли уорлд». Это письмо, первое из четырнадцати, что он послал в ФБР в течение последующих четырех месяцев, единственное удостоилось ответа.
Уважаемый сэр!
Спасибо за Ваше письмо и за приложенные к нему документы, которые мы внимательно изучим.
Если в Вашем распоряжении окажется иная, могущая нас заинтересовать информация, обязательно свяжитесь с нами.
С наилучшими пожеланиями, Уильям А. Салливан,
Федеральное бюро расследований,
Лос-Анджелес
А вот предпоследнюю фразу писать не следовало. Сказать, что в распоряжении Дика оказалась иная информация, значит, не сказать ничего. Она поступала к нему постоянно из различных каналов, он буквально захлебывался в ней. Вероятно, это была не та информация, которая могла бы заинтересовать Уильяма А. Салливана: в том, что сотрудники служб безразличны к теологическим проблемам, Дик убедился в свое время, пообщавшись с Джорджем Смитом и Джорджем Скраггзом. Но мог ли Дик, послав Салливану ксерокопии зловещих статей из «Дейли уорлд», скрыть от него то, что он вдруг понял следующей ночью?
Предугадывая опасность, которую эти статьи таили в себе, без сомнения, только для него одного, потому что у каждого из нас есть своя собственная магическая формула, свой персональный перечень слов, способный убить или воскресить человека, Дик из предосторожности не стал читать письмо сам, а заставил Тессу описать ему его. В тот же вечер он послал ксерокопии в ФБР, так что смертоносное послание провело в его доме всего несколько часов. Но, опуская его в конверт, Дик не смог удержаться от того, чтобы мельком не взглянуть на статьи. Ему в глаза бросились несколько слов. Всё, цель достигнута.
Тщетно Дик пытался отогнать эти слова, забыть их. Не нужно было на них смотреть. Теперь они плясали перед глазами:
АНТОНЕТТИ ОЛИВЕТТИ ДОДД МИД РЕЙНХАРДТ ХОЛТ.
Все это имена собственные, без сомнения, так зовут авторов или издателей. Имена и фамилии, которые ни о чем Дику не говорили и которые, однако, он должен был увидеть.
Всю ночь буквы прыгали перед глазами, разбегались, соединялись, подобно дамам, меняющим во время танцев кавалеров. К рассвету осталась всего одна пара:
ОЛИВ ХОЛТ.
Олив Холт?
Ну конечно!
Няня, которая присматривала за ним в Беркли и без конца рассказывала своему воспитаннику о Советском Союзе, где люди жили так счастливо.
Сколько лет Дик не вспоминал об этом? Сколько времени он считал, что забыл это имя?
Сорок лет назад оно отпечаталось в его мозгу, для того чтобы обеспечить доступ туда в нужный момент, подобно тому, как заранее внедренный предатель открывает ворота вражеского города. Олив Холт играла ту же роль для коммунистов, что и украшение в форме рыбы для христиан, — и, без сомнения, эта рыба, которая появилась в судьбе Дика пятнадцать лет назад, когда он писал «Человека в высоком замке», была инкрустирована в мозг гораздо раньше, также в период его детства. Хвала Господу, рыба возникла прежде Олив Холт. Воспоминания о прошлом оказались в пользу христиан, а не Империи.
О рыбе и о тайных христианах Уильяму А. Салливану лучше было не рассказывать, а вот об Олив Холт — можно. А неделю спустя Дик поведал ФБР о визите, который ему собиралась нанести группа канадских и французских марксистов. Что делать? Принять гостей, чтобы не вызвать у них подозрений? Закрыть перед ними дверь, не подходить к телефону? Отправиться в путешествие? Его безумные письма остались без ответа, и Салливана вечно не было на месте, когда Дик звонил ему, поэтому писатель пришел к выводу, что он должен выкручиваться самостоятельно. Вероятно, еще один тест, ему развязали руки. Сначала Дик хотел сбежать, но, как он и ожидал, машина не завелась. Саботаж! Поэтому Дик все-таки встретился после обеда с марксистами, а на следующий день написал Салливану, что они напрасно потратили время, стоя с микрофонами в руках, он не поручился ни за одну тенденциозную интерпретацию своих сочинений, не попался ни в одну из их ловушек. Прекрасно сыграно, не так пи?
К сожалению, все, что я здесь рассказываю, является чистой правдой. И эта практически односторонняя переписка действительно существует. Она фигурирует в первом томе, относящемся к этому решающему 1974 году, писем Дика, которые некий американский издатель начал недавно публиковать. Пол Уильямс, воссоздавший текст из сохранившихся обрывков, признался, что в какой-то момент даже хотел их уничтожить, чтобы сохранить добрую память о своем друге и пощадить чувства многих еще живущих людей.
Что касается очевидцев и участников событий, их версии происходящего изложены в начале сборника, и, будучи убежден, что не существует истины как таковой, а только лишь различные точки зрения, я вынужден признать, что мнения Станислава Лема или же Питера Фиттинга, руководителя «марксистской группы», все-таки значительно больше похожи на реальность, тогда как Дик сильно смахивает на безумца. Я уже рассказывал, на чем были основаны его жалобы в адрес Лема. А страшная «марксистская группа» состояла из французского преподавателя, автора книги, посвященной научной фантастике, предисловие к которой написал Жан-Франсуа Лиотар, рок-музыканта и его жены; причем все трое являлись образцовыми представителями того общества, членами которого в семидесятые годы пополнялись ряды зарубежных поклонников Дика: классические хиппи, сторонники левых взглядов, безобидные бородачи, — и на них-то он отныне считал нужным писать доносы.
Неотъемлемой чертой обращения является изменение человека, который ему подвергся. Она выворачивается наизнанку, как перчатка. Меняются его мысли, его действия, и часто по иронии судьбы он не просто думает и поступает не так, как раньше, но совершает то, что прежде вызвало бы у него отвращение. Он радуется этим превращениям, тогда как тому, кем он был раньше, была бы ненавистна сама мысль о них. Превращения гарантируют подлинность пережитого человеком и тот факт, что его устами теперь говорит другой. Еще немного, и он хватил бы через край. Интеллектуальный скептик и насмешник, став католиком, охотно усвоит простонародные проявления веры, такие как тихая набожность и чудотворные медальоны. Ученый человек и знаток живописи будет отныне восхищаться простенькими иконами или наивными детерминистами, радующимися жизни.
Бунтарь, плохой парень, противник власти в любом ее обличье, Дик сам бы никогда не подумал о том, чтобы обратиться в ФБР, попросить у них защиты, информировать их о чем бы то ни было. Если бы за несколько недель до получения письма с ксерокопиями статей из «Дейли уорлд» кто-нибудь сказал ему, что он способен на такое, Фил отреагировал бы подобно правоверному мусульманину, получившему предсказание, что он умрет, отравившись колбасой из свинины. Тот, кто вырос в Беркли, никогда не свяжется с полицейскими, а если такое все же произошло, то это уже не он; этого человека подменили, или же им манипулирует кто-то другой. Тот, кто занял его место.
— Точно! — радостно воскликнул Дик. — Именно это со мной и произошло.
И самое главное, меня это радует.
И я уверен, что совершенно прав в том, что радуюсь этому.
Вот два примера обращения.
Савл, молодой благочестивый еврей, ревностный гонитель христиан, пережил нечто странное по дороге в Дамаск, в результате чего он стал апостолом Павлом и удалился, повторяя с заразительной пылкостью: «Это уже говорю не я, а Христос, который живет во мне».
Герой романа Оруэлла «1984» мало-помалу находит в себе силы, чтобы противостоять тирании Большого Брата. Но его арестовывают, пытают, подвергают его ум неким манипуляциям, настолько эффективным, что в конце книги он совершенно искренне «любит Большого Брата».
Между этими двумя историями множество различий. Во-первых, пытка и озарение далеко не одно и то же, хотя в обоих случаях речь идет о насилии над человеческим сознанием. Во-вторых, Оруэлл и его читатели полагали, что герой книги до своего ареста мыслил весьма трезво, а затем был превращен в умалишенного, тогда как автор Деяний Апостолов и большая часть читателей были уверены в том, что Савл от перемены только выиграл. Однако настораживает то, что сами герои, как обращенный в новую веру, так и жертва промывания мозгов, испытывают примерно одни и те же чувства: вот теперь, возлюбив Христа или Большого Брата, они познали истину, тогда как раньше заблуждались. Могу привести доказательство: когда с ними случилось то, чего они так боялись, оказалось, что это наивысшее из благ. Этот разрыв делает общение обращенного со своим окружением столь же невозможным, как и диалог между Дракулой и Ван Хельсингом в фильмах про вампиров. Если люди так боятся быть укушенными живыми мертвецами, то это потому, что они догадываются, что, заразившись, будут этому только рады. Самое ужасное заключается в том, что после от человека останется лишь та часть, которая будет радоваться тому, что она уже иная. Перед этим боится именно он, но после празднует триумф уже другой.
Звонок в ФБР послужил для Дика сигналом к освобождению. С точки зрения психологии, это можно трактовать как облегчение для человека, которого так долго травили, и который, обессилев, сдается и получает от этого двойное наслаждение. По причинам, которые также носили психологический характер, Дик предпочитал объяснять эти события в терминах спиритуализма, как отказ от его старого утомленного «я», трусливого болтуна, в пользу более мудрой сущности, принятие через эту сущность для его же блага инициатив, на которые он сам никогда бы не осмелился. Когда его враги, кем бы они ни были, подготовили ему ловушку в виде ксерокопий статей из «Дейли уорлд», она указала ему тот единственный путь, о котором он сам бы никогда не подумал, но который оказался, по его мнению, самым эффективным: обратиться в полицию. В этом случае он выигрывал при любом раскладе. Если ФБР, несмотря на все злоупотребления периода правления Никсона, сохранило верность своему призванию, то стремление Дика найти там защиту от терзавших его коммунистов было вполне естественным. Если же, напротив, ФБР тайно превратилось в репрессивный аппарат подпольного коммуниста-гауляйтера, то легче всего ускользнуть от этого волка, переодетого ягненком, можно было, бросившись прямо ему в пасть. Притворившись невиновным, Дик навяжет противнику его собственную игру, вынудит того исполнять официальную роль защитника демократии. Наконец вполне возможно, что после того как по Никсону и его банде прозвонил колокол, внутри ФБР началось открытое противостояние между силами добра и зла, и в этом случае писатель поступил правильно, обозначив, на чьей он стороне. Конечно, в идеале, он предпочел бы знать, к какому лагерю принадлежит занимающийся его делом офицер, Уильям А. Салливан, читает ли тот его отчеты с симпатией или с гневом, но сущность, которая в нем находилась, не считала нужным его об этом информировать. Она вела его, не объясняя свой выбор, не комментируя путь. И Дику оставалось только следовать за ней.
В течение весны 1974 года, ни во что не ставя его левые предрассудки, она продолжила наводить порядок в его теле и в его голове с энергией молодой здравомыслящей новобрачной, борющейся со старыми привычками холостяка. Новая сущность заставила Дика подстричь бороду и подрезать торчащие из носа волоски специальными маленькими ножницами, о существовании которых он, как казалось, раньше и не подозревал, но которые, тем не менее, запросто купил в аптеке, как если бы пользовался ими всю свою жизнь. Эта сущность обновила его гардероб, перебрала его аптечку, выкинув оттуда все, что, как она знала, и как он вдруг сам осознал, было вредным для здоровья. Она выяснила, что вино, будучи кислотой, портит его желудок, и со следующего дня Дик с радостью перешел на пиво, которое раньше терпеть не мог. Эта новая сущность уладила его проблемы с налоговой полицией, просмотрела все его контракты, выявила все нарушения, убедила его уволить своего агента. Последнее самому Дику казалось поступком уверенного в себе человека, и он гордо рассказал о своем решении всем друзьям. Агент тут же выбил для его новой книги самый выгодный контракт из всех, что Дик когда-либо подписывал, так что он смог вернуться с повинной в роли победителя, всюду хвастаясь своим бегством.
Наконец, эта новая сущность спасла жизнь его сыну Кристоферу.
Вот уже несколько дней мальчик плохо себя чувствовал. Педиатр ничего не нашел, но ребенок продолжал плакать. Однажды утром Дик размышлял, сидя в кресле и слушая песню «Битлз» «Земляничные поля». После фразы «Going through life with eyes closed…[25]» он на мгновение ослеп от вспышки розового света. Дик понял, что ему только что была передана жизненно важная информация, встал и, пошатываясь, вошел в спальню сына, где Тесса меняла пеленки. Бесцветным голосом он произнес:
— Тесса, у Кристофера врожденная патология.
— Но доктор ничего не нашел…
— У него справа в паху ущемленная грыжа. Она уже спустилась в мошонку. Мембрана не выдержала. Криса нужно немедленно оперировать.
Он был так настойчив, что Тесса в итоге отвезла мальчика в больницу. Криса осмотрел врач по фамилии Цан, что по-немецки означает «зуб», что показалось Дику добрым предзнаменованием, учитывая обстоятельства, при которых у него произошло озарение. И действительно, доктор Цан подтвердил диагноз, поставленный отцом, и ребенка в тот же день прооперировали. Впоследствии Кристофер ни на что больше не жаловался.
Ошеломленная Тесса долго расспрашивала мужа. В первый раз странные заявления, на которые он в последнее время был щедрее, чем обычно, были подкреплены вполне конкретным фактом. Но Дик упорствовал только в случае, когда встречал сопротивление, а если собеседник колебался, он отвечал уклончиво. Свое озарение он объяснял по-разному: сначала утверждал, что узнал о болезни от «Битлз», потом — что якобы услышал, как ребенок бормочет что-то по-латыни, призывая на помощь святого Себастьяна. Какими бы путанными и противоречивыми ни были признания Дика, из них явствовало, что с марта по август 1974 года его вдохновляла некая благосклонная сущность, решившая изменить его жизнь. Он описывал эту процедуру в терминах, знакомых всем пользователям компьютеров. Сезам — рыба — открыла ей доступ в мозг. Сущность установила там программу — и если бы дискета, которой я пользуюсь, могла бы видеть, она, вероятно, описала бы введение в себя новых данных как лавину фосфенов, абстрактных картин, на огромной скорости превращающихся в ослепляющий розовый свет. С тех пор эта программа работает. Ей предоставляются самые разнообразные сведения о жизни Филипа К. Дика, как важные, так и не очень, которые она усердно обрабатывает. Для того чтобы сообщить своему хозяину информацию, на основании которой он будет предпринимать дальнейшие шаги, новая сущность весьма находчиво использует все средства, доступные для обычного (а иногда и необычного) человеческого восприятия: тексты песен, которые слушает Дик, книги, которые он читает, а также информационные щиты, упаковки из-под продуктов, предсказания и советы, которые обычно выпекают на печеньях, подаваемых в китайских ресторанах. Очень часто эти сведения приходят к нему во сне, но, поскольку Дик мало спит по ночам, а в течение дня клюет носом, то границы между сном и явью слишком зыбки и он не всегда способен отличить их друг от друга. Поскольку наиболее важным для Дика является сама информация, он не особо задумывается, узнал ли он нужную фразу во сне или в реальном мире. Впрочем, он подозревал, что книги, которые он читал во сне, существовали и в реальности. Он считал, что сон избавляет его от необходимости рыться в библиотеке. Но иногда Филу случалось заняться подобными изысканиями — в тех случаях, когда его голод оставался неутоленным.
Так, например, в течение нескольких недель подряд Дик видел во сне книгу, которая, как он полагал, содержала ответы на все его вопросы. Страницы переворачивались слишком быстро, и он ничего не успевал прочесть, но с каждым днем выходные данные книги становились все отчетливее и отчетливее. Под ее твердой синей обложкой помещалось не меньше семи сотен страниц. Напечатана она была в 1966 или 1968 году. Название оканчивалось словом «grove», а также в нем присутствовало нечто вроде «budding». Несколько раз Дик видел, как страницы охватывает пламя, из чего он сделал вывод, что речь идет о священном тексте, может быть, именно о нем упоминается в Книге пророка Даниила.
И Фил начал искать это издание в книжных магазинах и библиотеках. В конечном итоге его поиски увенчались успехом. Это, несомненно, была та самая книга. Синяя, толстая, опубликованная в 1968 году, называлась она «The Shadow of Blooming Grove»[26].
Дик открыл книгу, убежденный, что его поиски подошли к концу. Сейчас он узнает все тайны мира.
Это оказалась биография Уоррена Г. Хардинга, двадцать девятого президента США.
Другой на его месте подумал бы, что все это мероприятие было нелепицей, в лучшем случае, что он ошибся. Но Дик решил, что возможно одно из двух объяснений: либо все тайны мира действительно изложены в биографии президента Уоррена Г. Хардинга, но в форме, доступной лишь для подсознательного восприятия, и, несомненно, без ведома автора; либо информирующая его сущность добродушно пошутила. В обоих случаях ее метод действия напомнил ему о чем-то.
Вернее, даже не о чем-то, но о ком-то.
О Глене Рансайтере.
Да, о том самом Глене Рансайтере, который в «Убике» общался со своими служащими, затерянными в лабиринте полужизни, вел их, старался объяснить им, что произошло, прибегая к самым тривиальным средствам. Надпись на стене туалета «Я жив, это вы умерли», если помните, оказалась делом его рук. Рекламные проспекты, слоганы, начертанные самолетами в небе, зашифрованные изображения на пачках с сигаретами — все они передавали инструкции по выживанию. Рансайтер самолично появлялся на телевизионном экране, представляя Убик, единственное действенное средство против энтропии.
Дик начал понимать, на какую книгу указывал его повторяющийся сон: вовсе даже не на биографию Уоррена Г. Хардинга, а на роман, мысль о котором у него непременно должна была возникнуть при виде биографии президента. Он также начал понимать, что имели в виду Станислав Лем и Патрис Дювик. Священная книга, книга, охваченная пламенем, книга, открывающая все тайны мира, — это «Убик»!
Теперь Дику уже не казалась абсурдной мысль о том, что это была одна из пяти самых выдающихся в истории человечества книг, как Библия или «Бардо Тодол», к которым люди обращаются, чтобы узнать тайну своего существования.
С этого момента Дик старался четко разделять «Убик»-книгу и Убик-сущность, помогающую людям бороться с энтропией. Теперь он понимал, что если «Убик»-книга, так хорошо описывала Убик-сущность, то это потому, что последняя написала роман с его помощью. «Убик»-книга была ничем иным, как посланием, которое адресовала людям Убик-сущность, желая открыться им. И совершенно естественным казался тот факт, что в качестве средства откровения был выбран дешевый роман, написанный неизвестным поденщиком. Это вполне соответствовало всему остальному: рекламным слоганам, телевизионным вставкам и настенным надписям. Форма и содержание, посланник и послание прекрасно подходили друг к другу.
Начиная с февраля 1974 года, когда сущность вступила с Диком в непосредственный контакт, он тайно дал ей кодовое название ВАЛИС. Этот акроним, означающий Всеобъемлющая, Активная, Логическая, Интеллектуальная Система, имеет, по мнению Дика, то преимущество, что является чисто описательным и лишен сентиментального деизма как название компьютерной программы. Несколькими годами ранее он вывел ее под именем Убика, которое теперь стало повсеместно известным. И в той или иной мере сознательно Дик, сочиняя слоганы, служившие эпиграфами к главам его бардо-романа, предполагал, что называет этим именем то, что святой Иоанн в предисловии к своему Евангелию назвал Логос, то есть Слово.
Вернее даже — Бог, но Дик избегал употреблять это имя собственное. Он находил его попросту непристойным, испорченным, скомпрометированным различными конфессиями, чьи рамки были слишком ограниченны для обозначения того, что случилось с ним. Как и евреи-мистики, Дик верил, что существует множество более или менее точных имен Бога и что Его настоящее имя известно лишь Ему одному, возможно даже, что это знание является наивысшим атрибутом его божественности. В силу незнания настоящего, приходилось использовать условное имя, и ВАЛИС подходило не хуже других.
Впрочем, сам себя поправлял Дик, оно условно условное, ибо пришло ему в голову по воле ВАЛИСа. Сущность, непознаваемая и невыразимая, сама предстала перед ним под этим именем, так же как раньше — под именем Убик, хотя Дик и верил, что это он придумал оба вышеупомянутых слова.
Но имелось еще нечто, что он должен был идентифицировать, существовал некий заступник, о присутствии которого Дик догадывался, выполняющий в его жизни ту же роль, что Рансайтер в «Убике». Рансайтер был не Убиком, а всего лишь человеком, который пытался достичь оцепенелого сознания мертвых, находящихся в лимбе, каковыми все мы являемся. Пробуждающий, в буквальном смысле слова, представитель Убика, настойчивый в своем желании сбыть любыми средствами чудотворный распылитель концентрированного Логоса. Дик считал, что он сам, в определенной мере, играет ту же роль по отношению к своим читателям. Но кто-то играет ее и по отношению к нему. Ведь некто, от имени Убика или ВАЛИСа, слал ему послания, которые им руководили. И, как и Джо Чип, за туманом неясных и противоречивых знаков, он, казалось, узнавал знакомый стиль.
Дик, как это бывало всякий раз, когда он делал какое-нибудь предположение, восхищался тем, с какой послушностью факты подгоняются под него. С тех пор как своим обращением в ФБР Дик сбил с толку Советы, он перестал видеть сны на русском языке, но все чаще и чаще он видел их на древнегреческом. Однако за всю жизнь Дик был знаком лишь с одним человеком, понимающим этот язык, с епископом Пайком. С другой стороны, Пайк хорошо знал мир вообще и античные религии, к которым, в основном, устремлялись его дневные и ночные мысли. Он питал слабость к справочникам и познавательным играм; последние годы своей жизни епископ посвятил проблеме общения живых с мертвыми; наконец, он подрезал волоски, торчавшие из носа, специальными маленькими ножницами, Дик видел их у Пайка в ванной комнате, когда брал там амфетамины.
Все эти знаки превращали покойного епископа в серьезного кандидата на двойную роль покровителя и духовного наставника. Но имелись и другие, насколько можно было судить по предчувствиям, которыми его снабжали сны, книги, ассоциации. Погружаясь во время и в «Британскую энциклопедию», Дик чувствовал признательность к своим наставникам и руководителям — Сивилле из Кум, Заратустре, Эмпедоклу, гностику Василиду, фараону Ахенатону. Но лучшим из всех гостей его разума был некий Томас, устроившийся там три месяца назад.
О появлении этого неизвестного, стоявшего особняком в списке знаменитых потенциальных покровителей, Дик узнал благодаря тому, что, начиная с марта 1974 года, у него появились мысли, видение мира и даже слова, свойственные весьма образованному эллину-чиновнику I века нашей эры. Древнегреческий, на котором говорил этот человек и который Дику удалось идентифицировать благодаря одному профессору из университета Фуллертона, показав тому образцы текстов из своих снов, оказался не тем классическим литературным языком, что был известен Пайку, а койне, своего рода пиджином, на котором во времена святых апостолов говорил весь Ближний Восток. Это был язык не Платона, а апостола Павла. Как и последний, Томас не знал Христа лично, поскольку принадлежал ко второму поколению христиан, которое подверглось самым жестоким преследованиям. Но, как и все его братья, как он объяснил Дику, Томас знал о тайне воскресения. Жизнь вечная, обещанная Иисусом своей немногочисленной пастве, не была шуткой. Она включала в себя поедание священной пищи, знаменитого гриба, — вспомните Джона Аллегро и епископа Пайка. Христианская облатка была всего лишь его символом, одухотворенным и пресным одновременно. Каждый кусочек этой пищи жизни, равно как и каждое распыление Убика, содержали в себе всю полноту информации, а наш мир был всего лишь ее ипостасью (Дик обожал это слово, «ипостась», которое он узнал от епископа). Почувствовав приближение смерти, Томас съел кусочек этой пищи и начертал где-то в своем мозгу знак рыбы, который должен был помочь ему, когда он вновь вернется к жизни, узнать в нужный момент, кем он является в реальности.
Все пошло, как и было запланировано, за исключением того, что, убежденный в неизбежности второго пришествия Христа, как и все в то время, Томас рассчитывал на промежуток лет в двадцать, тогда как в действительности прошло чуть меньше двух тысячелетий. Почему? Да потому, что после падения Иерусалима в 70 году римляне, завладев священным грибом, уничтожили его, как они уничтожали все атрибуты непонятных им культов, так что живая информация, единственный рациональный элемент в нашем иррациональном мире, исчезла. Империя и тьма взяли верх. Однако не совсем, несколько экземпляров гриба были спрятаны в глиняный кувшин, а кувшин — в пещеру на берегу Мертвого моря. Они покоились там почти две тысячи лет, пока на Земле царствовали заблуждение и варварство. Реальное время оставалось в подвешенном состоянии вплоть до того дня, когда в 1947 году археологи обнаружили поселение в Кумране и вернули свободу пленному Духу. Пайк был прав, когда начал поиски последней истины в этом направлении, но он прибыл слишком поздно, что и привело к его трагической гибели. Дух, Убик, ВАЛИС покинул свое убежище, и теперь он действовал вот уже много лет, направляясь туда, куда ему вздумается. Например, внедряясь в сознание и в подсознание калифорнийского подростка, который был бы весьма удивлен, если бы ему сказали, что в реальности его звали Томасом и что, как и все его современники, он жил в семидесятых годах I века от Рождества Христова. Мало-помалу, без его ведома, Дух воспитал этого подростка, посеял в нем сомнения, тайно поднимая перед его глазами занавес, представляющий видимость. Подросток вырос, начал писать научно-фантастические романы, посредством которых Дух являл себя людям и раскрывал им их положение. Хотя это и не было явным, Империя приглядывала за ним. По некоторым намекам в его книгах был сделан вывод об изначальном знании, которое могло стать опасным. Писатель подвергся преследованию. И однажды пробил его час. Томасу показали рыбу, и он все вспомнил.
Он жил в теле мужчины, которым, как ему казалось, был в течение сорока пяти лет. Тот, в свою очередь, никуда не исчез, и таким образом они вместе сосуществовали в одном теле, что оказалось не так уж и неприятно. Это отчасти напоминало машину из автошколы, снабженную двойным управлением. Томас завершил образование Фила, обучив его древнегреческому языку, а также хитростям ветерана-подпольщика, помогающим избежать ловушек, которые для них готовила Империя. Предупредить полицию, чтобы лучше ее обезоружить, какой прекрасный ход! В обмен Фил руководил действиями Томаса, которому была известна его реальная природа, но не феноменальная обманчивая видимость. Это было самой привлекательной чертой Томаса, эти незначительные промахи, которые выдавали в нем чужого. Время от времени, играя роль Дика, он ошибался, приходилось подсказывать ему нужные реплики. Именно так хозяин тела объяснял себе странности в поведении, которые он до того приписывал чрезмерной усталости или же повышению артериального давления, из-за которого Дика минувшей весной даже госпитализировали. Он ошибался насчет кличек и пола кошек, сбивал безо всякой видимой причины привычные установки на пишущей машинке, не справлялся с управлением автомобиля и, подобно Рэглу Гамму, тщетно искавшему ламповый шнур, не мог удержаться от попытки найти несуществующую кнопку включения вентиляции. Однажды Тесса услышала, как муж изумленно бормочет, стоя перед открытым холодильником: «Пива больше нет, хотя я был уверен, что оставалась одна…» Затем: «Но я не пью пиво». И наконец: «Да это не мой холодильник!» Все то, что раньше не давало Филу покоя, теперь, казалось, нашло свое объяснение благодаря Томасу. Когда Дик прямо спросил того, уж не он ли это был на его месте, Томас расхохотался и подтвердил правильность догадки. Они оба славно повеселились.
Больше всего в этом симулакре мира, созданном Империей для того, чтобы удерживать пленных, Томасу нравился телевизор. Он смотрел его сутки напролет. Нужно сказать, что именно тогда в прямом эфире показывали падение Империи и что узники, знали они или нет о своем положении, с жадностью следили за развитием событий. Передаст ли Никсон судье Сайрику пленки с записями, касающимися «Уотергейта»? Сперва президент вроде бы не собирался этого делать, хотя затем все-таки отдал их, но лишь после того, как половина записей была стерта. Осмелится ли палата представителей выдвинуть обвинение против президента? Да, и не одно: в препятствовании правосудию, в уничтожении улик, в подстрекательстве к даче ложных показаний, в использовании ЦРУ, дабы спастись от скандала, в нарушении конституционных прав сограждан, в противозаконном установлении наблюдения и даже в неуплате налогов.
Последнее особенно порадовало Дика. Сидя на диване с банкой пива в руке, он слушал новости с возгласами спортивного болельщика. Томас, со своей стороны, вел себя скорее как тренер, чья команда выигрывает. Он комментировал спектакль тоном знатока и объяснял своему хозяину всю подноготную происходящего. Фил понял, что существует некая непосредственная, хотя и таинственная связь между его духовным опытом и провалом этого Антихриста из Белого дома. В феврале месяце, после многочисленных стараний и ошибок, он наконец совершил прорыв и достиг реальности. Дик понял, что, несмотря на свидетельство наших обманутых чувств, Империя никогда не исчезала, а второе пришествие Христа было совсем близко. Оно случится, как и было предсказано, прежде чем окончится первый век. И Святой Дух вернется, чтобы уничтожить симулакр, опрокинуть железные стены тюрьмы, прогнать демиурга, который в Деяниях апостолов назван Симоном-волхвом, а в его книгах — Палмером Элдричем или Феррисом Ф. Фремонтом, а также Ричардом М. Никсоном, который являлся его последним образом в мире иллюзий, в Америке 1974 года. Дух воспользовался им, Филипом К. Диком, иначе называемым Томасом, для того чтобы восстановить реальный мир.
Когда 8 августа Никсон вышел в отставку, Дик повернулся в Томасу и сказал: «Ну, вот, дело сделано, мы выиграли». Но Томас не ответил. Он исчез. Филу стало грустно, он почувствовал себя осиротевшим. Спустя несколько дней Дик смирился, поняв, что Томас выполнил свою миссию, и теперь он, Фил, должен был просто попытаться понять, а затем и рассказать остальным, что же, собственно, произошло.
Глава девятнадцатая ТО, ЧТО НАШЕЛ БОЛЬШОЙ ДРУГ ЛОШАДЕЙ
После исчезновения Томаса Дик попытался написать книгу, рассказывающую о том, что он пережил. Ему казалось, что он нашел нужный ракурс, когда ему предложили поучаствовать в издании собрания романов, приписанных вымышленным авторам, вроде Себастьяна Найта у Набокова или Килгора Трута у Курта Воннегута-младшего. Дик вновь взял в руки перо, решив выступить под именем Хоторна Абендсена, автора знаменитого романа «Саранча».
Отныне каждый раз, когда Дик перечитывал одну из своих книг, он оценивал ее с точки зрения собственного дара предвидения. В 1960 году он придумал, что украшение может открыть доступ в реальность и что роман, описывающий явно вымышленный мир, таинственным и неоспоримым образом открывает спрятанную от всех истину. Когда «Ицзин» заверила Дика в том, что он, придумав это, сказал правду, он повторил все за Оракулом, не понимая смысла этих слов. Четырнадцать лет спустя он понял: Хоторн Абендсен — это он сам. И не удивительно, что теперь Хоторн Абендсен должен логически замкнуть круг: сказать «да, это все правда» и убедить в этом целый мир.
Мысль о том, что следует написать продолжение «Человека в высоком замке», лежала на поверхности. И, так как речь шла о самой знаменитой его книге, единственной, за которую фантаст получил премию, он вполне мог выиграть. Абендсен поначалу вроде бы исчерпал все свои возможности. Брошенный женой и детьми, бедный, больной, ограбленный, преследуемый скрытым тоталитарным режимом, о существовании которого он не переставал заявлять, не встречая ни малейшей поддержки («глас вопиющего в пустыне», как говорит в Евангелии Иоанн Креститель). Но затем он даже перестал кричать. Он ушел в подполье. И именно тогда…
Что?
Тогда-то все и усложнилось, и с романом случилась заминка. Потому что Дик очень быстро понял, что существует принципиальная разница между «Человеком в высоком замке» и его триумфальным продолжением, которого так долго ждали. В первом случае он сочинял (или верил, что сочиняет) историю. Он был (или верил, что был) свободным. Теперь же следовало рассказать правду и не ошибиться.
Поэтому Дик начал делать пометки, чтобы обнаружить истину. И, однажды начав, он уже не успокоился до самой смерти. Он забросил роман и ненавистную печатную машинку, и проводил ночи напролет, без конца обращаясь к «Британской энциклопедии» и слушая Джона Дауленда и Оливию Ньютон-Джон, включив громкость на полную мощность и надев наушники. Дик вдохновенно создавал то, ради чего его сотворил Господь, — гипотезы.
Это занятие поглотило оставшиеся восемь лет его жизни. Некоторые из своих записей Дик уничтожил, но осталось порядка восьми тысяч страниц. Никто не читал их все целиком, даже он сам. Даже Лоуренс Сатин, скрупулезный биограф Дика, который, по его собственному признанию, использовал социологические методы, для того чтобы составить подборку наиболее показательных отрывков. Эти фрагменты дают понятие о рассматриваемых темах, но, само собой разумеется, дробят то, что часто представлялось единым целым. Потоки сознания по пятьдесят-шестьдесят страниц, плоды ночных размышлений, прервать которые могла лишь нечеловеческая усталость.
Подобно тому, как Дик нашел слово для имени сущности, которая им руководила, он подобрал название и для того, что мы назвали бы совершенно неподходящим, с его точки зрения, словом, «записками» или «дневником» (точно так же мы бы назвали «борделем» или «логовом» то, что узница из Пуатье, зная, о чем она говорит, именовала бы «дном Малемпья»). И название это было Экзегеза.
В теологическом словаре это слово имеет точное значение, которое было известно Дику. Оно означает записанное доктринальное толкование священного текста. Священный текст, если признать, что таковой существует, — это текст, имеющий признанное божественное происхождение, продиктованный или, по крайней мере, внушенный Святым Духом, — это допустимое отступление, предоставляющее небольшую свободу действий, а значит, и возможность допустить ошибку, редактору-человеку. На этом основании и с этой оговоркой в каждом его слове содержится истина. Католики провозглашают подобный текст каноническим, а еврей-мистик, в свою очередь, уверен (и это приводит к радикальным последствиям) в том, что в Торе нет ничего случайного. Для каббалиста каждая буква открывает дверь к Тому, Кто Существует.
Для того, кто интересуется религиозной литературой, утверждал епископ Пайк, нет ничего увлекательнее, чем следить за установлением канона, то есть за процессом, в ходе которого текст провозглашается священным. Кто, когда, как написал Пятикнижие? Кто, когда, почему признал Евангелия от Марка, Матфея, Луки и Иоанна каноническими, объявив все остальные апокрифическими, выкинув их в приграничную сумеречную зону, являющуюся любимым местом игр для Пайков всех времен?
Дик полагал, что наплыв информации, захлестнувший его с февраля 1974 года, имел божественное происхождение. Бог, которого он стыдливо называл ВАЛИС, говорил с ним, как Он говорил с Моисеем, Магометом и некоторыми другими избранными. На этот раз Он обратился к писателю, чтобы с его помощью записать Свои слова в современном виде, который, по Его мнению, лучше всего подходил для этой цели: в виде научной фантастики. Эта вера в его профессиональные качества приводила Дика в замешательство. Он изо всех сил хотел записать, но что именно? На какой канонический свод текстов будет опираться его Экзегеза?
Существовало множество книг, которые Дик видел во сне и из которых он запомнил отдельные слова, конкретную информацию, как в случае болезни сына. Были еще его собственные книги и то, что он обнаруживал, перечитывая их. Также существовали внезапные озарения, ослеплявшие Дика, вспомним, например, его уверенность в том, что он живет в 70 годах I века и что он прогнал Антихриста из Белого дома. Однако были и другие, ослеплявшие его не меньше, но при этом плохо согласующиеся с предыдущими, и соединить их вместе было так же трудно, как в свое время сочинить один роман из двух уже написанных рассказов. С тех пор как Томас исчез, все смешалось. После того как Дик лишился поддержки этого призрака, своего сверхъестественного alter ego[27], сотканное им полотно начало распускаться. Кусочки головоломки уже не подходили друг к другу так же хорошо, как раньше. Предоставленный самому себе, Дик плохо понимал, почему после его озарения и падения Никсона мир, восстановленный, согласно божественному замыслу, явно больше не меняется. Возможно, успокаивал себя Дик, его Экзегеза призвана приручить это изменение, как радикальное, так и незаметное. Возможно, его новая сущность хотела, чтобы он продвигался вперед в неизвестности, озаряемой вспышками, и полностью отдавшись работе во славу Господа, верил в то, что он сбит с толку, что он недостойный своей миссии, бесполезный слуга. Дух в нужный момент сделает свой выбор, продиктует трактат, собственно, настоящее откровение, которое обратит в истинную веру все человечество. Ему только и нужно было, ожидая, записывать все свои сомнения и предположения, считая каноном все, что он пережил и переживает теперь, все, что видел во сне, все, что проносилось в его голове, всю эту информацию, полученную и обработанную программой, именуемой Филип К. Дик.
Обо всем, что с ним случилось, Дик говорил с величайшей осторожностью, поверяя свои мысли только Тессе и еще некоей корреспондентке, которую он никогда не видел, но которая писала о нем диссертацию. Для других — лишь неясные намеки и шутки, которые можно было по-разному истолковать.
Осенью 1974 года поклонник его творчества Пол Уильямс, молодой, но уже известный журналист, пишущий о рок-музыке, предложил журналу «Роллинг Стоунз» написать о Филипе Дике как об одном из маяков контркультуры. Идея редакции понравилась. Пол Уильямс отправился на несколько дней в Фуллертон, чтобы взять у фантаста интервью, целью которого, по его словам, было прославить Дика. Тот, в свою очередь, осознавая всю важность этой затеи, был непрочь «выйти из шкафа», если использовать распространенное тогда в обществе гомосексуалистов выражение, означающее публичное признание какой-либо особенности. Но при этом Фил догадывался, что его мистические речи оттолкнут от него публику, к которой он наконец имел возможность обратиться. Как бы плохо Дик ни был приспособлен для жизни в обществе, он прекрасно понимал, чего от него ждут собеседники. В данном случае он должен был предстать в роли эксцентричного бунтовщика, но никак ни в роли верующего ясновидца, и он постарался не обмануть ожидания читателей. Со своей стороны Пол Уильямс, как хороший журналист, понял, что поучительная статья о книгах Дика совершенно никого не заинтересует, гораздо лучше было бы дать почувствовать свойственную писателю необычную манеру мыслить. Неважно, о чем; например, возьмем ограбление, случившееся еще в 1971 году. Будучи жертвой ограбления, Дик вызовет у читателей желание ринуться приобретать его книги. Так и получилось. Подгоняемый Уильямсом, Дик импровизировал на протяжении четырех дней; он произнес потрясающий диалог, вспомнив знаменитый волшебный куб, который только что изобрел венгерский архитектор Ернё Рубик, чтобы раздражать миллионы маньяков. Десятки различных конфигураций, от мало правдоподобных до совершенно безумных, были испробованы, отвергнуты, приняты вновь, соединены с другими. Зная, что средний читатель «Роллинг Стоунз» охотно верит в истории никсоновских «водопроводчиков», Дик с готовностью развил эту теорию, а затем, подобно безумному адвокату, переметнувшемуся в другой лагерь, после того как он почувствовал, что жюри присяжных дрогнуло, Фил нашел аргументы, которые ее опровергали. Он обвинял, оправдывал, заново подозревал нацистскую группировку, «Черных пантер», секту фанатиков, возмущавшихся епископом Пайком, соседей, наркоманов, полицию, инопланетян, не забывая о самом себе… В течение почти трех лет он беспрестанно обсуждал эти вопросы, но вот уже полгода как его волновали другие проблемы, все еще очень важные для него. Вероятно, Дик неплохо позабавился, перенося методы исследования, используемые им для своей Экзегезы, на предмет, по сравнению с ней, просто смехотворный. Уильямс уехал из Фуллертона в прекрасном настроении, убежденный, что у него в руках настоящая бомба. По счастливому стечению обстоятельств она вышла в том же номере, что и сенсация десятилетия, исповедь Патти Хирст, так что вся Америка купила этот журнал. Перевернув страницу, читатели натыкались на интервью с фантастом, превратившим свой ограбленный дом в эпицентр всех мировых загадок. На следующий день Дик проснулся если не знаменитостью, то весьма популярным человеком — «ну как же, это тот… совершенно безумный тип, о котором появилась статья в „Роллинг Стоунз“».
Вернувшись в Сан-Франциско, Уильямс решил закончить репортаж, проведя свое собственное расследование. Он отправился в полицейский участок в Сан-Рафаэле, изучил документы, поговорил с полицейскими, соседями и выяснил то, что и должен был выяснить: ничего особенного и сверхъестественного. Судя по всему, Дик стал жертвой самого банального ограбления, каких в округе Мэрин совершается до двадцати пяти ежедневно.
Это заключение успокоило Уильямса, который не сомневался в бурном воображении писателя и был бы скорее смущен, если бы вдруг выяснилось, что Дик говорил правду. Тот, со своей стороны, никак не хотел успокаиваться. Не исключая версию обычного ограбления, Дик подчеркивал, что в противном случае, если удар был нанесен водопроводчиками, нацистами или инопланетянами, они, конечно же, постарались бы создать именно такое впечатление. Рассуждая таким образом, Дик, воспользовавшись Законом о свободе предоставления информации, ознакомился со своим досье в ФБР. Он надеялся, что папка буквально распухла от отчетов агентов о его жизни за последние двадцать лет, но при этом не слишком удивился, найдя внутри лишь один-единственный документ — письмо начала пятидесятых (он написал его еще до знакомства с Джорджем Смитом и Джорджем Скраггзом), адресованное советскому физику Александру Топчиеву, от которого Дик надеялся получить дополнительные сведения о физической теории ограниченной относительности. То, что досье состояло из этого единственного и совершенно не компрометирующего его документа, по мнению писателя, доказывало только одно: ФБР подчистило досье, прежде чем предъявить их публике. А стало быть, закон, который должен был положить конец никсоновской слежке, на самом деле являлся обманом.
Но это еще полбеды. Дик опасался, что и досье о его встрече с Богом может также оказаться абсолютно бессодержательным.
Теперь внутри Дика постоянно находился вдохновенный энтузиаст, которого Господь избрал для того, чтобы нести Его слово в США второй половины XX века. Но был и еще один человек, неустанно изобличал заблуждение, которое овладело первым. Ночи напролет эти двое оспаривали друг у друга территорию Экзегезы; один там полноправно царил, а второй ее осаждал, один нападал, а другой — защищался. Не зная, кто из них прав, Дик долгое время не мог изложить то, что с ним произошло, таким образом, чтобы эта информация стала доступна другим. Но он жил с надеждой, что ему удастся избежать солипсизма, заставив выслушать читателей оба говоривших в нем голоса. В 1976 году он за несколько недель написал роман «Система ВАЛИС», который был отвергнут издателями. Героями этого романа являются Николас Брэди, продавец пластинок в Беркли, и его старый приятель, писатель-фантаст Филип К. Дик. Вы уже знаете все, что случилось с Николасом: зуб мудрости, золотая рыба, видения картин, хранящихся в музее Ленинграда, ксерокопии прокоммунистических статей, радиоприемник, откуда доносится похабщина («Nick is a prick, Nick is a dick»[28]), чудесное спасение его маленького сына, которому врач не сумел поставить правильный диагноз. Что касается Дика, он играл роль доверенного лица, скептически настроенного и вместе с тем сочувствующего. Он сохранил за собой эту роль и в последующих вариантах романа, но Николас Брэди уступил свое место некоему Хорселоверу Фэту, греко-германскому alter ego, поскольку фамилия Фэт (Fat) соответствует немецкому слову «dick», которое означает «толстый», а Хорселовер (Horselover) — греческому имени Филип, «тот, кто любит лошадей». (Из осторожности он опустил К — первую букву девичьей фамилии своей матери Киндред, означающей в английском языке «родство, кровные узы».) Хорселовер Фэт, толстый друг лошадей, был сумасшедшим, видевшим Бога, а Фил Дик выступал в роли его благоразумного приятеля. Фэт в своей Экзегезе комментирует видения, а Фил в черновиках романа комментирует Экзегезу. Фэт считает себя новым Исайей, а Фил считает Фэта новым Шребером (помните «Пять очерков по психоанализу» Фрейда?). Фил хотел быть понятым, а Фэт был согласен на роль безумца. Однако, добавлял он, каким бы невероятным это ни казалось, правда на моей стороне. Тогда Фил качал головой, и все начиналось сначала, и так продолжалось вплоть до его смерти, дальнейшее автору неизвестно.
(Я знаю, о чем вы сейчас подумали. Признаться, я и сам подумал о том же. Но давайте отложим вынесение окончательного решения, чтобы не портить процесс. Именно для этого я и пишу эту книгу, чтобы у вас и у меня было время для чтения, развивающего ум.)
Дик с одинаковым рвением выискивал как аргументы, свидетельствовавшие о том, что он сошел с ума, так и доводы в пользу того, что он упал в руки живого Бога. Даже это стремление к беспристрастности стало игрой на два фронта. Сегодня Дик облегченно вздыхал: он не безумен, ибо все сумасшедшие считают себя совершенно здоровыми. Но уже на следующий день пугался: разве одним из первых признаков психоза не является страх субъекта стать безумным?
Наряду с тем списком потенциальных врагов, который составил Фэт, Фил имел свой собственный перечень возможных лиц, ответственных за упадок его физических сил. Чрезмерная тревога и скорбь могли вызвать один из тех синдромов отчуждения, которые он так часто описывал в своих книгах. А добавьте сюда еще и чрезмерное употребление наркотиков. За двадцать лет Дик превратил свой организм в шейкер для химических коктейлей, и теперь ему дали добавку, ассорти счастливого печенья, содержащего Всевышнего. У Харлана Эллисона была фраза, казалось, нарочно придуманная для такого рода случаев: «Прими наркотики. Узри Бога. Крупная проклятая сделка».
Фил не очень понимал, утешает ли его или, напротив, угнетает еще больше тот факт, что его психоделическое приключение получилось настолько показательным. Наркотики, что он принимал в шестидесятые годы, образовали своего рода маринад, в котором в настоящий момент вымачивался его мозг. Обычная история: Калифорния кишела безумными сектами, где наркоманы вроде него лелеяли воспоминания о прошлом, связанные с ЛСД, бормоча свои мантры.
Но существовала еще одна теория, согласно которой все это было лишь взглядом в прошлое. С тех пор как в 1967 году ЛСД-25 официально запретили и общественное мнение резко изменилось не в его пользу, слухи, тиражируемые консервативной прессой, превратили маргинальное, по сути, явление в дамоклов меч, почти такой же грозный, как и инкубационный период вируса иммуннодефицита, о котором начали писать пятнадцать лет спустя. Теперь ни один человек из тех, кто хоть раз попробовал ЛСД, не мог чувствовать себя в безопасности. Рассказывали ужасные истории о людях, сотрудниках вполне приличных компаний, которые, не успев даже опомниться, внезапно оказывались по другую сторону реальности прямо посреди рабочего дня. Телефонные провода превращались в змей, милая коллега по работе — в отвратительного робота, а один несчастный, попав во власть своего прошлого, и вовсе вооружился топором, чтобы уничтожить всех вокруг. И все это только потому, что он один раз в юности попробовал по совету приятелей наркотик. В тех случаях, когда речь шла о безумствах со смертельным исходом, версия об остаточных явлениях, вызванных ЛСД, стала основной в работе полиции. Дик также не мог ее отвергать и даже считал в какой-то момент, что его единственное путешествие, совершенное в мир ЛСД в 1964 году, могло вызвать в дальнейшем божественную одержимость. Тогда он, проведя восемь часов в молитвах и стенаниях на латинском языке, решил, что пришел День Гнева. А теперь ему показывают продолжение фильма, который продлится уже не восемь часов, а восемь лет. Спасибо, Сандоз.
Эта версия, какой бы пессимистической она ни была, притягивала его. За исключением одной мелочи, на которую Фэт не преминул обратить внимание: никто никогда не слышал, чтобы человек, не знающий латыни, вдруг овладел ею под воздействием ЛСД. То же самое относилось и к древнегреческому языку. Конечно, во сне или находясь под действием ЛСД, человек может поверить в то, что он говорит на латыни, греческом или санскрите. Но в 1964 году Рэй Нельсон прекрасно слышал, как Фил ругался на латыни, что, впрочем, не слишком проясняло ситуацию, учитывая, что свидетель тогда и сам тоже принял ЛСД. Теперь же он наяву записал звучание слов, явившихся ему во сне, их значения он сам не понимал. И оказалось, что речь идет о древнегреческом языке, а точнее, о койне. Конечно, нужно ко всему относиться скептически, но как объяснить, что житель Калифорнии в 1974 году вдруг внезапно начал думать на языке апостола Павла и его современников?
— В целом, — настаивал Фэт, — как объяснить наличие в нашем мозгу информации, которой, по идее, там не должно быть? Конечно, проще всего списать все на наркотики и объявить, что встреча с Богом для душевнобольного, это то же самое, что и смерть для больного раком: логическое завершение разрушительного процесса. Истинный вопрос заключается в том, можем ли мы считать пережитое мною в феврале 1974 года богоявлением. Богоявление определяется как саморазоблачение божества. Если существует божество, то это также существует. Моисей не создавал неопалимую купину. Илия, на горе Хореб, не вызывал ветер, что ужаснее грома. Теперь я понимаю, насколько это сложно — отличить настоящее богоявление от галлюцинации, которая явно встречается чаще. Но я могу предложить свой критерий: если голос — предположим, что речь идет о голосе, — сообщает субъекту информацию, которой тот не располагает и в принципе не может располагать, тогда, возможно, перед нами настоящее явление, а не подделка.
Согласны?
Фил в принципе был согласен, хотя и с оговорками. Прежде всего он считал, что Фэт несколько преувеличивает свое невежество. Так однажды он изумился тому, что понимает во сне немецкий, который знал в совершенстве. Также Фил подозревал, что, не будучи слишком сильным в хронологии, Фэт путает последовательность событий. Прочитав о чем-нибудь в энциклопедии, он затем видел сон на эту тему, а, проснувшись, напрочь забывал о том, что накануне читал об этом. Он вновь обращался к энциклопедии, по новой находил там ту же самую информацию и страшно изумлялся. Вообще, по мнению Фила, нужно было учитывать, что есть вещи, существующие в нашем подсознании. Тридцатилетняя история психоанализа, а точнее, психоанализа Юнга, не смогла избавить Фэта от примитивной идеи, что сон — это что-то магическое. Он продолжал искать в снах неземные послания или предсказания, отказываясь воспринимать их как испанскую гостиницу, где постояльцы едят только то, что принесли с собой. И вот результат: в день появления девушки-курьера с украшением в виде рыбы он увидел во время сиесты цифру 840, а проснувшись, начал выяснять, что случилось в 840 году до и после Рождества Христова. Мало того, он даже вообразил, что его прежняя жизнь протекала в Микенах, — а на самом деле следовало лишь вспомнить, сколько он заплатил за доставленные лекарства: восемь долларов сорок центов.
— Совершенно верно, — признал Фэт. — А как же греческий?
По поводу греческого Фил был вынужден согласиться с Юнгом, что, как он знал, было небезопасно. Коллективное бессознательное, филогенетическая память, и вот они уже вышли за пределы территории разума, которую он так не хотел покидать во время этой дискуссии. Но в итоге они смогли все же найти объяснение, не привлекая сюда Бога.
— Хорошо, — сказал тогда Фэт с едва заметной улыбкой, появлявшейся всякий раз, когда он собирался предъявить сопернику неопровержимый аргумент. — А откуда я узнал про грыжу Криса? Думаешь, мне о ней сообщило коллективное бессознательное?
Фил почесал затылок. Он не мог отрицать ни сам этот факт, ни то, что он действительно вызывал смущение. С другой стороны, существовало множество вызывающих смущение вещей. Более чем здравомыслящие люди не знали, как объяснить воплощение в реальности того, что им являлось во сне, или же поражались ясновидению какой-нибудь гадалки. Он и сам был удивлен, когда та старая ирландка из Санта-Барбары начала описывать им с Нэнси ресторатора-кэгэбэшника из Беркли. Конечно, это смущает, но не настолько, чтобы перевернуть вверх ногами все наше понимание мира, которое исключает иное восприятие, кроме чувственного.
Тем не менее все это смущает.
Смущенный упоминанием о грыже сына, Фил привел аргумент, называемый аргументом плодов. «Остерегайтесь лживых пророков, — предсказывает Христос (Евангелие от Матфея, 7:15). — Они приходят к вам в овечьей шкуре, но под ней скрываются хищные волки». И Он непринужденно продолжает нанизывать метафоры одну за другой, что является неотъемлемым признаком Его неподражаемого стиля: «Вы узнаете их по плодам. Можно ли собрать виноград с тернового куста или фиги с чертополоха? Хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое — плохие».
— Вот, — воскликнул Фил, — вот он, настоящий критерий, единственный, который позволит отличить вдохновенного от больного! Конечно, Христос здесь скорее имел в виду лживых зловредных пророков, флейтистов из Гамелина, вроде Гитлера или Джима Джонса, но этот аргумент подойдет и для такого парня, как ты, слышащего голоса и верящего в то, что ты — пророк, тогда как на самом деле ты просто свихнулся. А давай-ка попросим предъявить нам плоды твоего взаимодействия с Богом. Говоришь, ты изменился? Да, я знаю, ты выучил греческий, уволил агента, подстриг волоски в носу…
— Я обнаружил грыжу у…
— Согласен, но ты можешь честно утверждать, что стал лучше? Вот уже двадцать лет ты с дрожью в голосе говоришь об энтропии, о милосердии, о любви, ты пишешь для своих бывших жен проповеди на эти темы с цитатами из апостола Павла. Очень хорошо, возьмем апостола Павла, Первое послание к коринфянам: «Если бы я говорил на языке людей и ангелов, но не имел бы любви, то я — звенящая медь или звучащий кимвал. Если бы я имел дар пророка, знал бы все тайны и обладал бы всеми знаниями, — ты слышишь это, Фэт? — если бы я имел бы веру, достаточную для того, чтобы двигать горы, но не имел бы любви, я — ничто. И если бы я раздал все свое имущество, чтобы накормить бедных, даже если бы я отдал собственное тело на сожжение, но не имел бы любви, для меня это бесполезно».
Слушая это, Фэт печально опустил голову. Тогда Фил закрепил свой успех.
— Я прекрасно знаю, что ты не злой, — признал он. — Я знаю, что ты помогаешь бедным, что ты посылаешь чеки в благотворительные организации, что страдания детей и кошек вызывают у тебя слезы. Но это ничего не меняет в том, что касается твоей неспособности к сопереживанию. Напрасно ты жаждешь этого и об этом молишь, мир другого человека доступен тебе не больше, чем реальный мир, воспринимаемый чувствами, настоящая жизнь, от которой тебя продолжает отделять непроницаемое стекло. Это и есть смертельный грех, и это даже не твоя вина. Ты скорее жертва, чем преступник. Грех — это не моральный выбор, а болезнь духа, из-за которой человек обречен на общение с самим собой, и поэтому повторение было бесконечным. Тебя поразила эта болезнь, ты привязан к своему дому и заперт в лабиринте собственного мозга. Ты не слышишь, никогда не слышал и никогда не услышишь ничего другого, кроме пленок, на которых записан твой собственный голос. Не строй иллюзий, именно ее ты и слышишь в настоящий момент. Это твой собственный голос говорит с тобой. Иногда ты позволяешь себя дурачить, потому что, чтобы выносить самого себя, этот голос научился противоречить себе от имени других, пользоваться собой как эхом, устраивать разговоры чревовещателя. Но в реальности ты один, как Палмер Элдрич в мире, который он опустошил и чьи обитатели имели все его стигматы. Или как Никсон в Овальном кабинете, напичканном аппаратурой, которая включается, стоит ему лишь выругаться. Но президенту в определенном смысле повезло: его заставили выдать пленки, прослушали их, а затем выгнали его из бункера. Тебе такой услуги никто не окажет. Ты сможешь спокойно слушать пленку до конца своих дней, спорить сам с собой и в конце концов признавать себя правым.
— Это то, что ты называешь признанием моей правоты?
— Да, именно это. Впрочем, ты прав. В любом случае, ты не можешь доказать себе, что ты ошибаешься. Никто не может тебе это доказать. Вся твоя система покоится на этих умозаключениях, не обязательно правильных, но логически неопровержимых, это называется софистикой. В данном случае это означает: «Возможно, я не пророк, но в таком случае Исайя тоже им не является. Возможно, я путаю урчание в моем подсознании с голосом Бога, но данное возражение также действительно и для апостола Павла. Во имя чего, с помощью какого знания ты сможешь отличить, Фил, свет, что ослепил идущего в Дамаск, от того, что я видел весной 1974 года в своей квартире в Фуллертоне, округ Оранж? Я не могу утверждать, что ты не прав в том, что не веришь мне, но я не сомневаюсь: ты бы никогда не поверил апостолу Павлу. Ты бы пожал плечами, и завел бы разговор об эпилепсии или о сумасшествии, как многие благочестивые евреи или образованные греки». Ладно, мне нечего возразить тебе. Мне также нечего возразить экологам, которые, если я нахожу нелепым признание за деревьями и животными тех же юридических прав, что и за человеком, отвечают, что в свое время признание подобных прав за женщинами и неграми также казалось нелепым. Мне нечего возразить людям, которые, осознав, что современные технологии показались бы нашим предкам магией, вынуждают меня признать, что все кажущееся нам теперь необъяснимым, смущающим, о чем ты так хорошо говоришь и что я отметаю, как пыль веником, однажды станет частью научного знания. Тот, кто сегодня отрицает возможность внечувственного восприятия, в другую эпоху осудил бы Галилея. Лично я в этом сомневаюсь, но это ничего не меняет, поэтому я умолкаю.
— Ты замолкаешь, но не перестаешь об этом думать, достаточно прочесть несколько страниц моей Экзегезы, они говорят сами за себя. Они красноречиво опровергают заявление о безумии их автора. Невероятная запутанность этих теорий, их противоречия, их неправдоподобие, в сравнении с простой ясностью посланий Павла… В истине есть нечто самовыразительное, что само привлекает к себе внимание даже среди лжи, и чтобы не почувствовать этого, нужно потерять всякую способность к рассуждению. Ты ведь так думаешь, не так ли?
— Конечно, именно так я и думаю, но видишь ли, я знаю, что эти мои мысли ничего не доказывают. Мало того, возможно это лишь доказательство моей лени. Твоя Экзегеза лежит у меня под носом совсем свеженькая, а от Нового Завета меня отделяют две тысячи лет, за которые он стал привычным. Если бы я мог прочесть его сразу после его написания, я увидел бы, что нет ничего более безумного, более противоречащего здравому смыслу, чем христианское учение. В историях о греческих богах есть нечто человеческое и простое, что кажется родным, как фильмы, показывающие зрителям жизнь таких же людей, как они сами, добавляя немного привлекательности. А христианство идет против всего того, что мы считаем само собой разумеющимся порядком вещей: этот распятый Бог, этот ритуальный каннибализм, призванный изменить человеческую природу; я и сам сказал это Анне в тот период, когда мы посещали церковь в Инвернессе, что все это похоже на научно-фантастическую историю. Это совершенно также неправдоподобно, и ты, вероятно, не первый, кто подумал об этом, а посему эта теория может оказаться верной…
— Ты все же не находишь странным, что мои откровения так похожи на мои научно-фантастические романы? Ты не думаешь, что я попросту поверил в то, что сам придумал?
— Да, но это можно назвать и по-другому, можно сказать, что ты никогда ничего не придумывал, что это откровение начало заполнять мир без твоего ведома с помощью твоих научно-фантастических романов. Чем больше я об этом размышляю, тем больше мне это кажется… как бы лучше выразиться… правдоподобным? логичным? подходящим? Скажем так: меня не удивляет, что Бог избрал это средство передвижения и тебя в качестве водителя. Он всегда так действует. Он использует дешевый материал, камень, отвергнутый строителями. Когда он решил избрать Свой народ, Он не обратил Свой взор на греков или персов, нет, Он отправился искать неизвестное племя, кочевников, о которых никто никогда не слышал. И когда Он решил послать Своего сына к Своему народу, он поступил так же: все ждали царского отпрыска, а все прошло тихо и незаметно, среди бедных людей, в хлеву постоялого двора в Вифлееме. Одна из тех редких вещей, что нам известна о Боге, это то, что Он любит появляться там, где Его никто не ждет. Именно это Он совершенно ясно выразил в «Убике»: послания Рансайтера появляются в виде рекламы на телевидении, надписи в туалете, а не в виде энциклик. По крайней мере, можно быть уверенным в том, что, если бы Господь решил сегодня пообщаться с людьми, Он сделал бы это не через папу римского или через каких-либо других Своих официальных представителей. Если по каким-то Своим причинам Он решит обратиться к некоему американскому писателю, это вполне может оказаться Норман Мейлер или Сюзан Зонтаг, но, вероятнее всего, это будет самый неизвестный из писак, сочиняющий бесконечные дешевые романы, которые никто не принимает всерьез.
— Нужно признать, — пошутил Фэт, — что я как никто другой гожусь для этой роли. С другой стороны, все это сильно смахивает на бред неудачника, разве нет?
— Конечно. Но вполне вероятно, что Бог использует бред неудачника в Своих целях. Это было бы вполне в Его стиле, ты хорошо знаешь, что пути Его неисповедимы. Проблема веры заключается в том, что нет никакой причины останавливаться. И тому, кто верит в воскресение Христа, сложно отказаться поверить в Его чудеса, в Его рождение от девственницы. Тому, кто верит в Святую Деву, было бы неразумно отказать ей в праве появиться в Лурде, в Фатиме и в других местах, откуда миллионы паломников возвращаются преображенными. И почему тому, кто верит в эти явления, в чудесные излечения и в чудотворные медальоны, не поверить и в реинкарнацию, в тайное влияние Великой пирамиды на всемирную историю или в твою Экзегезу? В сущности, Фэт, твоя хитрость заключается в том, чтобы провозгласить себя водой из таза, которую нельзя вылить, не пожертвовав ребенком. Но, минуточку, а что произойдет, если я решу пожертвовать ребенком?
— Ты хочешь сказать…
— Да, если Бог не существует.
— Тогда, конечно, моя Экзегеза — это всего лишь собрание глупостей.
— Но и Евангелие тоже, ты это ведь имел в виду?
— Именно так, и апостол Павел тоже это говорил: мол, если Христос не воскрес, то все, что я вам рассказываю, — это чепуха. Тогда нет никакой разницы между Исайей и Шребером, между апостолом Павлом и сумасшедшим, который принимает себя за него, мной, например. Все они находятся вместе, на одном участке для безумных. Ну что, ты доволен?
— Ты прекрасно знаешь, что нет. Так мы потеряем обоих.
— И?
— Я не знаю. Похоже, меня загнали в угол.
Глава двадцатая КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА
Под беспокойным взглядом Фила Фэт проводил ночи напролет над своей Экзегезой. Подобно человеку, заблудившемуся в чужой стране и изучающему подряд все карты, что лежат у него в автомобиле, он без конца сравнивал то, что ему стало известно о различных экспериментах и известных спиритуальных учениях. Дик пользовался всевозможными источниками, как он любил помпезно их называть, от «Британской энциклопедии» до публикаций Саентологической церкви, из которых черпал вдохновение его собрат Рон Хаббард. Он получал каталоги эзотерической литературы из книжных магазинчиков, на полках которых дремали валетом Экхарт и мадам Блаватская. Одни теории приходили на смену другим, и каждая новая казалась столь же блестящей, что и предыдущая. Но роман, о котором Дик заявлял, который должен был стать для его Экзегезы тем же, чем для тайного учения Христа являлись его притчи, задаток за который он уже потратил, не продвигался. Деньги поступали только за переводы его старых книг, он должен был выплачивать алименты Нэнси, и семейство Дика влачило жалкое существование. Тесса хотела было пойти работать, но муж воспротивился. А еще ему очень не понравилось, что она записалась в университет на курсы немецкого языка, на котором сам Фил говорил все чаще и чаще, не заботясь о том, понимает его Тесса или нет. Мало того, Дик вообще высказывал недовольство всякий раз, когда жена выходила из дома, неважно, шла ли она в магазин, гуляла ли с Кристофером или же сопровождала его самого. Дик держался за собственную независимость, отказывая в этом супруге. Его не очень интересовало, о чем Тесса думает, но он терпеть не мог, чтобы она это от него скрывала. Фил ни с того ни с сего вдруг начинал расспрашивать Тессу, о чем она думает, и злился, когда подозревал, что она что-то от него скрывает, при этом сам он не соизволил дать хоть какое-то объяснение в те месяцы, когда в его голове находился Томас; он тогда вообще практически перестал разговаривать с женой, а по большей части сидел перед телевизором и обменивался репликами с невидимым собеседником. Все это очень раздражало Тессу, а Фил, в свою очередь, осыпал ее упреками. Ему и в голову не приходило, что раздражение жены имело вполне очевидные психологические причины, он видел здесь более сложный и мистический процесс, который не мог объяснить. С тех пор как реальность вернулась и восторжествовал свет, все должно было бы меняться к лучшему, однако казалось, что в действительности, напротив, вокруг наблюдалась деградация. Его творческие способности угасали, финансовое положение было не ахти, машина сломалась и не подлежала починке. По крайней мере, внешне замкнутый круг, в котором проходила его жизнь до сей поры, продолжал существовать.
Дик поверил в то, что ему удалось разорвать его, лишь когда он встретил Дорис, решившую принять католичество по епископальному обряду. Это была крепкая и уверенная в себе девушка двадцати двух лет от роду. Во время одной из их первых долгих бесед, происходивших в ее квартире, украшенной благочестивыми картинами, Дорис призналась Дику, что хотела бы стать монашенкой. Он одобрил это, тут же предложив ей свой проект. Какой чудесной была бы их совместная жизнь! Они бы говорили о теологии, ходили вместе к мессе, участвовали бы в жизни прихода. Чтобы прощупать почву, Дик начал жаловаться на непонимание Тессы, на то, что он задыхается в этом тесном коконе буржуазной жизни, в который жена его заточила, но Дорис расценила его жалобы как ребячество. Тогда он, решив нанести сокрушительный удар, рассказал девушке о своем религиозном опыте.
Это была долгая история, которую Дорис выслушала весьма внимательно, хотя и держалась, по его мнению, несколько академично. Не зная точно, какой реакции ему ждать, Фил надеялся на большее, нежели упоминание о том, что, согласно результатам опроса «Тайм мэгэзин», сорок процентов американцев считают, что в их жизни случались мистические события. Сдержанность Дорис объяснялась ее скрупулезной правоверностью. Она хотела поверить приведенным Фэтом аргументам и не исключала возможности того, что он мог бы исполнять некую пророческую миссию, но, получив предупреждение от священника, готовившего ее к крещению и предостерегавшего от того, что называли новой эпохой, девушка хотела получить доказательства научного характера. Дик клялся, что его Экзегеза не имеет ничего общего с синтетическими религиями, вроде той, о которой говорил Пайк, что он не собирался создавать нового культа, а напротив, был послушнейшим христианином. Его Богом был Бог Авраама, Исаака и Иакова.
— Однако, — заметил Дик, — история спасения не была окончена. Была эпоха Отца, о которой повествует Ветхий Завет, эпоха Сына, изображенная в Новом Завете, а теперь наступила эпоха Святого Духа.
— Не хочешь ли ты сказать, — заволновалась Дорис, — что твоя книга — это третий том Библии? Или что ты считаешь себя новым мессией?
Дик скромно рассмеялся.
— Нет, но, может быть, я кто-то вроде Иоанна Крестителя, предтеча на стыке двух эпох, самый великий в старой, самый незначительный в новой. Последний из пророков, тот, кто появляется в тот момент, когда все вокруг жалуются на то, что Бог оставил Свой народ, глас, вопиющий в пустыне. Если ты внимательно прочтешь Библию, то увидишь, что это был воодушевленный бородач, вроде меня. И спроси тогда себя, поверила ли бы ты ему. Только отвечай честно.
Значительно менее Дика, убежденная риторикой Фэта, Дорис задала себе этот вопрос только из приличия. Это несколько охладило пыл Фила. Но весной 1975 года его любовь вспыхнула с новой силой, и на этот раз переросла в настоящую страсть, когда выяснилось, что у Дорис рак лимфатического узла. Он хотел жить с ней, заботиться о ней, никогда ее не покидать. «А Тесса?», — возражала Дорис, которой ее религиозность не позволяла легкомысленно относиться к брачным узам. Она не разрешила Дику покинуть семейный очаг, но они постоянно виделись. Вернувшись вечером домой, Фил только и говорил что о болезни Дорис, о набожности Дорис, о безропотности Дорис. Сомнения Дорис относительно его миссии были забыты, или же он благодарил ее за спасительный урок смирения. Ничьи волосы так не возбуждали его, как парик, что Дорис носила после курса химиотерапии.
В конце концов жена, не выдержав, ушла сама, забрав с собой Кристофера. Дик в тот момент, когда его юный шурин явился за вещами Тессы, как раз что-то обсуждал с Тимом Пауэрсом. По свидетельству того, Фил нисколько не переживал и успокоил Пауэрса, который о нем беспокоился, вежливо выпроводив гостя домой. Вечером Дик выпил сорок девять таблеток дигиталина, тридцать пакетиков либрия, шестьдесят — агресолина, порезал себе вены и лег спать в гараже, заперев дверь изнутри и включив мотор автомобиля.
Из-за неисправности зажигания мотор заглох. Фил не собирался умирать в неудобстве, и поняв, что выхлопной газ его не усыпит, поднялся наверх и дотащился до кровати. Немного позже дверь в его дом была выбита приехавшими врачами. Пребывая в смятенном состоянии, Дик попросил в аптеке соответствующим голосом новую порцию либрия, а фармацевт счел нужным предупредить медиков. Позднее Дик говорил, что ему следовало бы написать диссертацию о фармацевтах, столько раз помогавшим ему в жизни.
После промывания желудка его поместили в реанимацию. Лежа на спине, Дик разглядывал монитор с энцефалограммой, стоявший у него в изголовье. Сияющая и спокойная линия, которая беспрестанно пересекала черный экран, — это был он. Неясные мысли пробегали в его оцепенелом мозгу неровными, мелкими скачками. Фил погрузился в этот спектакль, попытался изменить изгибы линии, контролируя свой мозг подобно тому, как управляют игрушечной машиной. В какой-то момент промежутки между изгибами увеличились, линия стала прямой. Ему казалось, что он довольно долго разглядывал эту прямую, явно обозначающую, что он мертв. Затем она вновь, как бы сожалея, обрела свой синусоидальный облик.
Спустя три дня вооруженный полицейский вез Дика в кресле-каталке по длинному туннелю, соединяющему реанимационное отделение с психиатрическим. Долгое время Фил был предоставлен самому себе. Хотя он прекрасно мог бы дойти и пешком, полицейский, по той или иной причине, предпочел оставить его в кресле. Дик находился в каком-то коридоре, по которому время от времени проходили врачи и медсестры в белых халатах, всегда разные, а также больные в халатах. Все они казались Дику достаточно суровыми. Вероятно, они двигались по какому-то привычному маршруту. Не осмеливаясь встать и проверить свою догадку, Дик довольствовался наблюдением за тем, как двигается каждый из них. Душевнобольные всегда перемещаются с одинаковой скоростью, по-другому они просто не умеют. Несколько раз прошла дородная и неопрятная женщина, чей удивительно ровный голос рассказывал всем, кто захочет услышать, о том, как муж пытался отравить ее газом. Дик с удивлением отметил, что он непрерывно следит за развитием повествования, хотя женщина возникала перед ним всего на несколько секунд, затем надолго исчезая. Он потряс головой, чтобы отогнать эту загадку, как прогоняют назойливых насекомых.
Чтобы отдалить страдание, которого он пока не испытывал, но чье приближение предчувствовал, Дик начал думать о своей Экзегезе. Обычно он находил определенное утешение в мысли о том, что он предастся созданию космогонии, этому редкому виду деятельности, которым в принципе занимаются не отдельные индивидуумы, а более важные сущности, например цивилизации. Но ему не удавалось полностью отдаться размышлениям ни о ней, ни о Боге. «Господи, Господи, почему ты меня покинул», — бормотал он, но эти слова не находили отклика в его душе.
Фил думал о Донне. Он был похож на человека, мучающегося бессонницей, которому наконец удалось найти удобную позу, в которой он мог если не спать, то хотя бы дремать. Он размышлял о том, что стало с Донной: превратилась ли она в героиноманку, умерла ли или вышла замуж, живет ли она в Орегоне или в Айдахо… Может быть, она лежит сейчас в больнице после дорожно-транспортного происшествия. Неизвестно почему, но последнее предположение показалось ему наиболее правдоподобным.
Дик также думал о Клео, напрасно пытаясь представить, какой была бы их совместная жизнь, останься он с нею. Какие книги он бы написал, на кого были бы похожи их дети. У него была любящая жена, которую он бросил. Судьба не преподносит такие подарки дважды. Что бы Клео сказала, если бы увидела его сейчас, в кресле-каталке, помещенного в психбольницу, разлученного с женой и маленьким сыном, владельца машины с неработающим зажиганием и полностью сгоревшего мозга? Вероятно, она бы заплакала.
Дик заплакал сам.
Он смотрел телевизор. Сначала показывали какое-то шоу. Затем новости, на экране промелькнул Никсон, находящийся в своей резиденции в Сан-Клементе. Он чуть не умер от тромбофлебита и также сидел в кресле-каталке. Оператор снимал его издали, и поэтому было невозможно разглядеть его лицо, только тело, съежившееся под шотландским пледом. Дик снова заплакал, на этот раз из жалости к самому себе и к своему бывшему противнику. Война закончилась, и оба они ее проиграли.
Позднее Дик прошел несколько обычных осмотров и старался выглядеть как можно более нормальным. Он отдавал себе отчет в том, что производит на врачей плохое впечатление. Хорошо еще, что никто не знал, что у него это уже вторая попытка покончить жизнь самоубийством, ведь в первый раз это произошло за границей.
Дику объявили, что он пробудет три недели под наблюдением, уточнив, что это может затянуться и на три месяца. Фил хотел было потребовать, чтобы ему зачитали права, но передумал. Став ненормальным, человек быстро приучается держать язык за зубами.
В больнице не происходило ничего особенного. Вопреки тому, что обычно пишут в романах, на самом деле больные не превосходили интеллектом врачей, а те не издевались над пациентами. В основном больные читали, смотрели телевизор, просто сидели, дремали, играли в карты. Иногда о чем-нибудь разговаривали, так беседуют люди на остановке в ожидании автобуса. Три раза в день больных кормили с пластиковой тарелки. И также три раза в день они принимали лекарства. Каждый имел право на свою дозу торазина и еще чего-то, сестры отказывались сообщать название, но стояли перед больным до тех пор, пока он все не проглатывал. Случалось, что медсестры ошибались и подходили с таблетками к пациенту по второму разу. Тот объяснял им, что уже принял лекарство, но его не слушали и настаивали на том, чтобы он выпил таблетки. Дик никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из больных относился к раздаче второй порции как к намерению врачей превратить их в отупевших существ. Самые злые говорили, что сестры — дуры, самые добрые утверждали, что они просто слишком загружены. Казалось бы, среди такого контингента можно было бы ожидать скорее параноидальных версий, но нет, даже самому Дику они уже порядком поднадоели. Он чувствовал, что умирает. Жизнь, физическая, умственная, духовная, вытекала из него, как гной из нарыва. Вскоре не останется ничего, кроме пустой оболочки.
Он делил свою комнату, в которой стояли три кровати, снабженные кожаными ремнями на тот случай, если понадобится кого-нибудь привязать, с двумя другими больными: молодым гебефреном, который не произносил ни звука, и с девушкой, похожей на мексиканку, свидетельницей Иеговы, — та, напротив, постоянно описывала царство Божье, где лев и ягненок живут бок о бок. Он даже не пытался сказать ей, что знает, как выглядит царство Божье и что это далеко не похоже на ее почтовые открытки. Так те, кому удалось спастись из концентрационного лагеря, не поправляют людей, начинающих болтать на эту тему, они просто качают головой и замолкают.
Он сам, должно быть, видел Бога слишком рано или слишком поздно. С точки зрения выживания, ему это не удалось. Встреча с живым Богом, если он встретил именно Его, не придала ему сил, необходимых для ежедневной борьбы, для содержания жены и ребенка, для того чтобы противостоять всему тому, чему должен противостоять мужчина.
Если он встретил Его… Вопрос стоял уже не в риторических терминах Экзегезы, где нужно было лишь помешать сопернику доказать обратное. К чему? Дик знал, что встретил нечто, и теперь обнаружил, что эта встреча не принесла ему ничего хорошего. Но был ли хоть кто-нибудь в его жизни, кто сделал для него что-нибудь хорошее?
На столах покоились стопки старых журналов. Дик методично и рассеянно читал их. Однажды он наткнулся на небольшую статью, описывающую один из множества удручающих случаев, очередную врачебную ошибку. Речь шла о трехлетнем мальчике, которого родители привели в больницу на безобидную операцию. Его обещали выписать уже на следующий день. Но анестезиолог ошибся, и после нескольких недель безуспешного лечения мальчик так и остался на всю жизнь глухим, немым, слепым и парализованным.
Дочитав статью, Дик почувствовал, как к его горлу подступает ком. И до самого вечера он просидел неподвижно, ошеломленный этим ужасом. Никогда еще ему не было так плохо. Он не мог думать ни о чем другом, кроме как о страшном пробуждении маленького мальчика. В тот момент, когда он, в полнейшей темноте, приходит в себя. Сначала малыш беспокоится, но не слишком, уверенный, что все будет в порядке. Где бы он ни был, его родители наверняка рядом. Они зажгут свет, поговорят с ним. Но ничего не происходит. Ни единого звука. Малыш пытается пошевелиться, но у него ничего не получается. Пытается закричать, но даже не слышит себя. Возможно, он ощущает прикосновения других, чувствует, как ему открывают рот, чтобы покормить. Возможно, его кормят через зонд, в статье об этом ничего не говорилось.
Его родители, персонал больницы, все столпились вокруг мальчика, вне себя от ужаса, но он этого не знает. С ним невозможно общаться. Энцефалограмма показывает, что пациент в сознании, что кто-то есть за его восковым и искаженным лицом, за его невидящими зрачками, но абсолютно невозможно узнать, что именно этот кто-то, этот ребенок, замурованный заживо, пытается прокричать в тишине от ужаса. Никто не может объяснить мальчику, что происходит, да и кто бы осмелился? Как, когда он поймет, что с ним произошло? И что так будет продолжаться до самой смерти, так будет всегда? Как думает трехлетний ребенок? Он ведь уже говорит, он способен немного рассуждать об абстрактных понятиях. Кристофер уже достиг этого возраста и начал задавать вопросы о смерти.
В такие моменты особенно необходимо иметь возможность молиться, быть уверенным в том, что кто-то слышит твою молитву и внемлет ей. Господи, сделай так, чтобы этот ребенок умер, или же, но это, по сути, то же самое, заполни Своим светом темноту, в которую Ты его поместил. Возьми его в Свои руки, покачай его, чтобы малыш не чувствовал в вечной темноте ничего, кроме Твоей бесконечной любви.
Ночью Дик не мог заснуть, его наполнила какая-то необъяснимая грусть.
Он точно встретился с чем-то, предчувствовал что-то на протяжении всей своей жизни, но это был не Бог и не дьявол. Это была Джейн. У него никогда не было другого партнера, другого соперника, кроме его умершей половинки. Все двигалось по замкнутому кругу. Его жизнь, странные истории, которые он придумывал, были всего лишь бесконечным диалогом между Филом и Джейн. И неизвестность, от которой он страдал, которая послужила материалом для его книг, сводилась к желанию узнать, кто из них двоих был марионеткой, а кто — чревовещателем. Был ли реальным мир, в котором жил он и, подобно медиуму, вызывал Джейн под различными одеяниями, божественными и дьявольскими, или же это всего лишь могила, черная дыра, вечная тьма, где обитает Джейн и представляет своего брата живым. Он всего лишь главный актер во сне покойной.
Или же умер он, а не Джейн.
Вот уже сорок восемь лет он лежит на дне ямы в Колорадо. А Джейн думает о нем в мире живых. Из двух вещей возможна лишь одна, но между ними нет разницы. Время теорий закончилось.
Всю свою жизнь он искал реальность, и вот она, эта могила. Его могила.
Он там.
Он всегда был там.
Маленький мальчик из статьи, это он.
На этот раз — никаких сомнений, никакой истины за этой последней истиной. Дик знал, что прибыл на конечную остановку.
Он также прекрасно понимал, что следовало забыть это знание. Свет солнца лучше искусственного, но искусственный свет лучше тьмы. Утверждать обратное было бы бравадой.
Он, вероятно, все забудет. Он будет верить, что этой ночью изобрел очередную теорию, такую же, как и другие, излишне пессимистическую, но этому есть объяснение. Он вернется в мир иллюзий, к жизни, которую он, как он думает, ведет, он будет строчить свою Экзегезу, которую изобрел, чтобы надежнее спрятать голову в песок. Он будет добросовестно повторять, что отдаст свою жизнь за то, чтобы узнать наконец истину, что он ничего так не желает, как узнать истину, и, к счастью для себя, он забудет, что это неправда.
Это было похоже на сказку о трех желаниях, которая так нравилась ему, которую он так любил в детстве рассказывать Джейн.
Первое желание: я хочу знать истину, я хочу подняться вверх по реке забвения, я хочу, чтобы мне показали дно мешка.
Исполнено.
Второе желание: я хочу забыть ее, никогда больше не думать о том, что я увидел, забыть историю про мальчика, забыть эту историю о трех желаниях, забыть о том, что у меня есть право на третье желание. Я хочу все забыть.
Исполнено.
Ты сохранишь свое право на третье желание, но, обещаю, ты никогда об этом не узнаешь. Все забыто.
А теперь спи.
Глава двадцать первая КРИТИЧЕСКАЯ МАССА
Пока Дик находился в психиатрической больнице, Дорис регулярно его навещала. Каждый раз он умолял ее согласиться жить вместе, когда его выпишут. Он обязуется жить нравственно во время периода ремиссии, по окончании которого он будет заботиться о ней, как она заботится о нем сейчас во имя милосердия Христова. Он полюбит ее, он полюбит себя самого, и Бог полюбит их обоих. Тесса все равно ушла от мужа, поэтому их не смогут больше обвинять в прелюбодеянии. Этот довод убедил Дорис.
Они нашли трехкомнатную квартиру в Санта-Ане, в новом доме, расположенном посреди мексиканского квартала; должно быть, его архитектор считал свое творение примером гармоничного союза между модернизмом и народным стилем. На самом деле дом походил на идеальную тюрьму. Подземная парковка открывалась при помощи магнитной карты; расположенные внутри камеры позволяли консьержу наблюдать за тем, что происходит в холле и в коридорах; из спрятанных громкоговорителей доносилась приятная музыка. Для того, кто всю свою жизнь провел в частных домах и боялся скученности, это был странный выбор, но Дик никогда не жаловался и жил там вплоть до своей смерти.
Преимуществом этой новой резиденции было то, что в двух шагах от нее находились дом Тима Пауэрса, а также епископальная церковь, в которой Дорис отвечала за программу социальной помощи. Частью ее работы было отличать настоящих бедных, предмет ее забот, от наркоманов, готовых на любые фокусы, чтобы заполучить деньги, необходимые для очередной дозы. Напрасно Дик пытался объяснить ей, что наркоманы достойны жалости не меньше, чем бедные, тем более что они фактически нищие, Дорис считала их притворщиками и ненавидела. Занимаясь домашними делами, она рассказывала истории из жизни прихожан, похожие на все истории на свете: ненависть, любовь, соперничество, обман. Положительным героем ее рассказов неизменно был священник, который обратил Дорис в веру и которого она звала по имени, Ларри, заявляя, что была влюблена в него. Когда она призналась ему в этом, Ларри, имеющий жену, детей и даже внуков, ответил, что он не путает удовольствие с работой. Но даже после такого грубого отказа он остался для Дорис непререкаемым авторитетом. Она ссылалась на Ларри всякий раз, когда Дик, чтобы отдохнуть от приходских сплетен, пытался вовлечь жену в одну из тех теологических дискуссий, которые он считал необходимым вести, коль скоро живет под одной крышей с набожной женщиной. «Ларри сказал, что это глупости», — заявляла Дорис в ответ на его смелые аргументы, с помощью которых Фил надеялся показать ей гностический задний план ее веры. Он цитировал Священное Писание, но жена отвечала: «Я спрошу у Ларри, но это, должно быть, искаженная часть Библии». Всякий раз, когда Ларри и Дорис не нравился какой-нибудь стих из Библии, они объявляли его апокрифическим. Они совершенно не интересовались теологическими спекуляциями, борьбой мнений, возможностью прикоснуться к ереси. Как только Фил вторгался на эту территорию, Дорис хмурила брови и начинала резать морковку с таким упрямым видом, что продолжать дальше уже не хотелось. Жизнь рядом с умирающей оказалась не такой уж увлекательной, как Дик это себе представлял.
Гражданский брак Дорис и Фила не нравился половине их друзей, и прежде всего Морису, психотерапевту, к которому Дик был обязан приходить раз в неделю на прием. Морис, чернобородый великан, одетый в военную форму, раньше торговал оружием и служил в израильской армии. От прежних времен у него остался резкий, повелительный тон, что плохо сочеталось с его нынешней профессией, особенно его леденящая манера произносить через каждые три предложения: «И я не шучу». Это было совершенно излишне, никому и в голову не приходило заподозрить Мориса в желании пошутить.
В случае с Диком психотерапевтический метод состоял в том, чтобы третировать пациента до тех пор, пока он не начнет наслаждаться существованием, вместо того чтобы пытаться спасти человечество. Для этого, по мнению Мориса, нужно было проводить выходные в Санта-Барбаре, причем в компании одной или нескольких девиц с большими бюстами. Он говорил это абсолютно серьезно. Увы, подобного рода наслаждения были недоступны Дику. Он воспринимал только смысл и благоразумно воздерживался от изложения своих мыслей по этому поводу. Он опускал голову, ожидая окончания бури, когда Морис ругал его из-за его отношений с Дорис. Психотерапевты с подозрением относятся к бескорыстным поступкам и, возможно, не без причины.
— Все, что тебе нужно, — орал Морис, — это поверить в то, что ты неплохой человек! Если бы у Дорис не было рака, захотел ли бы ты жить вместе с ней? Нет! Все, что тебя интересует, это возможность присоединиться к смерти, говоря, что ты делаешь доброе дело. Так ты выигрываешь по всем пунктам, ты считаешь себя маленьким святым и можешь спокойно свести счеты с жизнью. Потому что в этом и состоит твой фокус, достаточно лишь взглянуть на тебя, чтобы понять это. Ну, давай, старина, не стесняйся, если ты хочешь сдохнуть, сдохни. Ты сдохнешь. И я не шучу.
— Я знаю, — смущенно пробормотал Дик.
Он считал Мориса идиотом, но допускал, что тот все-таки может оказаться правым. Ему даже приходила в голову мысль, что, возможно, психосоматическая теория, согласно которой болезни не валятся на нас с неба, а исполняют наши тайные желания, верна. Именно об этом писал немецкий врач Гроддек, основоположник психосоматической медицины. Самые радикальные сторонники этой теории, когда их предостерегают против преувеличений, доходят до утверждений, что будто бы человек, сбитый на улице машиной, попал под нее, ведомый собственным инстинктом смерти, что убитый сам подставил себя под нож убийцы, и на этой стадии спора обычно находится кто-нибудь, кто спрашивает, неужели, скажем, все жертвы нацистских концлагерей хотели подобной участи.
Обвинить Дорис в том, что она хотела заболеть раком, было невозможно. Но между ними установилась отвратительная близость, которая удивительным образом стала еще теснее с того момента, когда врачи сообщили ей о ремиссии. Это напомнило Дику историю его кота Пинки, который как-то сбежал из дома. Дик неделями ждал его возвращения, думал о нем по ночам, не желая смириться с мыслью о том, что кот уже никогда не вернется. Он вздрагивал при малейшем шорохе возле двери: а вдруг это Пинки? И в один прекрасный день Пинки вернулся. В случае с Дорис речь шла не о том, вернется ли болезнь или нет, а о том, когда это произойдет. Врачи предупредили молодую женщину, что рак, образно говоря, прячется где-то в колоде карт. Каждый день она переворачивает одну из них, и каждый день выясняется, что рака там нет. Но всем известно, что он в игре и что рано или поздно Дорис наткнется на него. Она боялась и ждала этого момента, что превращало всякую радость в ничто. Тому, кто смеялся над какой-нибудь шуткой в ее присутствии, казалось, что он ее оскорбляет. С точки зрения здравого смысла, думал Дик с присущей ему психологической проницательностью, Дорис следовало бы как можно больше радоваться каждой прожитой в состоянии ремиссии минуте, а не жить в ожидании ее завершения. Он учил свою спутницу гедонизму, забывая, что, с одной стороны, его компания менее всего способствовала такому времяпрепровождению, с другой — бойкость Дорис раздражала бы его еще больше, чем ее угрюмость и ханжество.
Следующие три месяца прошли в ожидании возвращения болезни, и в это время Дик снова стал невыносим. Все было как обычно: либо он писал свою Экзегезу, и тогда Дорис ни в коем случае нельзя было его тревожить; либо он переставал писать, и ей нужно было в обязательном порядке быть готовой к совместному обсуждению его сочинения. К тому же Дик был против того, чтобы Дорис общалась с другими мужчинами; ему не нравилось, что она работает; он предпочел бы, чтобы материально жена полностью зависела от него, чтобы он за все платил, а она расхваливала его человеколюбие.
В конце лета освободилась соседняя квартира, и Дорис решила переехать в нее, уверяя Дика, что в их отношениях ничего не изменится. Они будут помогать друг другу, она будет готовить ему еду, навещать его, просто у каждого появится немного больше личного жизненного пространства. Ведь так будет лучше, разве нет?
Но Дик так не думал. Он видел в ее предложении только одно: его в очередной раз бросила женщина, с которой он жил. Это так огорчило беднягу, что он поехал по дороге не в том направлении и снова попал в психиатрическую больницу, где влюбился в молодую наркоманку, которую, естественно, собирался спасти. Впоследствии, поскольку Фил боялся садиться за руль, на их еженедельные встречи с Морисом его возил Тим Пауэрс. Дик просил, чтобы Пауэрс привозил его на час раньше установленного срока, а забирал попозже. Сначала Пауэрс думал, что Дик не хочет, чтобы он его ждал, но потом с изумлением обнаружил, что тот каждый раз уезжает из больницы с клочками бумаги, исписанными женскими именами и телефонами. Психиатрическая больница стала центром его социальной жизни. Он завлекал там в свои сети женщин, подобно тому, как другие мужчины делают это в барах, на пляже или в прачечных самообслуживания.
За исключением одного случая, о котором я расскажу чуть позже, его попытки куда-нибудь пристроиться не увенчались успехом. Шизофренички, наркоманки, онкологические больные, все эти женщины, от которых он хотел только одного — получить возможность любить ненормальных, казалось, сговорились избегать ухаживаний этого любвеобильного сенбернара. Никогда раньше Фил не жил один. Он предпочел бы лучше умереть. Однако теперь, то ли потому, что в нем одинаково притупились инстинкты жизни и смерти, то ли потому, что он стал мудрее, он привык. В жизни Дика установился определенный распорядок, который не менялся на протяжении последних лет его жизни, не слишком богатых на события. Он, который прежде так часто переезжал с места на место, заволновался, когда его дом-тюрьму выставили на продажу. Дику удалось выкупить свою квартиру, и он даже стал председателем ассоциации собственников, каковой должностью он охотно хвастался, с целью продемонстрировать, насколько изменился. Деньги текли рекой, его старые книги продолжали продаваться за границей, компания «Уорнер» приобрела права на экранизацию романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (фильм, как вы помните, называется «Бегущий по лезвию бритвы»). Но Фил не знал, что делать с этой манной, она упала на него слишком поздно. Дик привык к своей холостяцкой жизни, к своей квартирке с постоянно закрытыми ставнями, пропахшей кошачьей мочой. Так как ночью он трудился над Экзегезой, то вставал поздно, кое-как одевался, в джинсы и в помятую рубашку в цветочек, и отправлялся в маленький супермаркет, расположенный по соседству, чтобы купить замороженные продукты, сладости, банки с кошачьим кормом. После обеда Дик читал свои знаменитые справочники, слушал музыку, писал письма, звонил, принимал гостей. Несмотря на развод, он помирился с Тессой, и она часто приводила к нему Кристофера. Статья Пола Уильямса превратила Дика в желанный объект для журналистов, они приезжали к нему, привлеченные перспективой взять оригинальное интервью, и редко уезжали разочарованными. Особенно часто Фил виделся с Дорис. Спустя некоторое время после их разъезда Дорис опять стало хуже. Их ванные комнаты отделяла друг от друга тонкая перегородка, и Фил мог слышать, как она вздыхает, кашляет, как ее целыми часами тошнит. Дик предложил ей вернуться к нему, чтобы он держал перед ней тазик, так удобнее, но Дорис отказалась. Когда ее вновь госпитализировали, Фил целыми днями сидел возле нее, держал за руку и плакал. Она была похожа на лысого старика, из-за химиотерапии она наполовину оглохла и ослепла. Но когда Фил спросил больную, как она себя чувствует, Дорис прошептала: «Я знаю, Бог меня исцелит». Дик в отчаянии покачал головой, назвал Бога гнусным негодяем и был немного раздосадован, когда, против всякого ожидания, Дорис и впрямь излечилась.
Каждый вторник у Пауэрса собиралась небольшая группа друзей, как и он сам, начинающих писателей-фантастов. Когда Дик был женат, он не участвовал в подобных собраниях; став холостяком и поселившись по соседству, он не пропустил ни одного. Женщин на эти собрания не пускали. Раньше Филу это не нравилось, но теперь, когда он избавился от стремления соблазнять всех подряд, его это даже устраивало. Он мог без задней мысли общаться с этими молодыми людьми, которые простодушно играли в викторианских джентльменов, изображая из себя знатоков, сравнивали различные марки виски или табака. Эти дегустации, обсуждение книг, фильмов, недавно вышедших пластинок составляли обычные темы их разговоров. С появлением Дика все переменилось, стало необычным, возникла новая тема, которую можно было бы назвать «Новости Экзегезы». Каждый вторник он приходил с новой бутылкой в руке и с новой теорией о смысле пережитого им, что было всем известно, но друзья торжественно обещали хранить секрет. Как-то он помирил пифагорейство с зороастризмом (о ссоре которых его приятели до сих пор ничего не знали), а на следующей неделе уже был влюблен в гностицизм Василида. Под влиянием Дика их небольшая группа поклонников фантастики волей-неволей превратилась в кружок теологов.
Кроме Дика, в этом обществе, которое он сам, получив указание в одном из снов, окрестил Рипидоном (от греческого rhipidos «плавник»; название, конечно, намекало на христианский символ рыбы), царствовали еще два человека. Тимоти Пауэрс и К. У. Джетер могли бы составить комический дуэт: славный малый и плохой парень. Пауэрс, вечно улыбающийся и всегда готовый помочь, румяный блондин с голубыми глазами, чьи романы были наполнены сердечной непосредственностью. Его доброта в сочетании с невероятной доверчивостью, скорее всего, специально несколько им преувеличиваемой, казалось, уготовили этому человеку роль доверенного лица, вроде доктора Ватсона, которого великий детектив Шерлок Холмс постоянно приводит в замешательство, а в те дни, когда совсем уж нечем заняться, и развлекается, выставляя его тупицей. Никто не умел лучше, чем Пауэрс, восклицать, изумленно вытаращив глаза:
— На этот раз, Фил, ты меня разыгрываешь!
— Увы, нет, Пауэрс. ЦРУ обнаружило новый наркотик, дезориентирующий человека, настолько мощный, что люди верят, будто бы находятся в знакомом мире, продолжают жить обычной жизнью, тогда как в реальности… Может, и не стоило тебе это говорить, я вижу, как ты весь побледнел, но велика вероятность, что в настоящий момент наши мозги плавают в банках, убаюканные иллюзиями, благодаря той гадости, что Джетер заставил нас проглотить.
— Кто? Неужели наш К. У. Джетер?
— А ты разве не заметил? Именно этот плут готовил нам кофе, и он единственный, кто его не пил…
Когда Дик только поселился в Фуллертоне, он остерегался Джетера, вертевшегося вокруг учеников профессора Макнелли, так как принимал его за агента-провокатора. Прошли годы, и он перестал холодно относиться к Джетеру и, напротив, считал, что есть нечто пикантное в дружбе с человеком, внешне смахивающим на бандита. Худой, с выдающимися скулами и с глазами рептилии, К. У. Джетер был похож на наемного убийцу из вестерна. Он тоже был писателем: сочинял романы ужасов, полные сцен насилия, которые вызывали отвращение. Те, кому этот человек нравился, отмечали его своеобразный юмор, остальные считали его отвратительным.
Главной целью в жизни Джетера было не дать себя использовать. Он относился к окружающим, как к механикам, пытающимся всучить ему подержанную машину. В духовном плане это выражалось в его приверженности к агностицизму. Что касается Пауэрса, то он был правоверным католиком, придерживающимся догм. Поражать его было сплошным удовольствием. В противоположность Дорис, которая, слыша нерелигиозные или еретические речи, притворялась, что ей это безразлично, при этом ускоряя шаг, как ее научили делать при встрече с эксгибиционистами, Пауэрс негодовал, горячился, доказывал и доставлял искреннее удовольствие Филу, заявляя, что во времена инквизиции он, Пауэрс, лично поджег бы его костер, от всего сердца молясь за спасение его души.
Пауэрс входил в число тех католиков, которые отрицают Зло, будучи не в состоянии найти объяснение его существованию. «Зло, — утверждают они, — это всего лишь окольный путь, используемый Добром». Своего рода отклонение, которое служит Богу для нашего обучения. Однако еще со времен Достоевского стало обычным противопоставлять этой гармоничной, но не слишком убедительной идее голые факты, свидетельствующие о страданиях детей, которые невозможно оправдать каким бы то ни было Провидением. Иван Карамазов сказал все, что было можно сказать по этому поводу, и именно его роль играл Джетер. Никто из них не имел собственных детей, за исключением Дика, который вспоминал об этом, только когда рассказывал об излечении Кристофера, но кошки также подходили здесь в качестве доказательства.
— А мой кот? — рокотал Джетер каждый раз, когда упоминали имя Бога, что случалось в их компании довольно часто.
Если вдруг гас свет, они восклицали, чтобы вывести из себя Пауэрса и Дика:
— Черт, Господь опять пожелал выбить пробки!
Однажды кошка Джетера попала под машину. Когда он подбежал, чтобы забрать останки, кошка была еще жива, из ее рта шла кровавая пена. Джетер успел увидеть ее незабываемый взгляд, полный непонимания и ужаса.
— В день Страшного суда, — продолжал он, — когда настанет моя очередь, я скажу: «Одну минуточку!» Я выну из-под полы свою мертвую кошку и, держа ее за хвост, суну под нос Судье и спрошу Его: «Ну и как вы это объясните?»
— Это самый старый вопрос из тех, что когда-либо задавал человек, — заметил Пауэрс. — Тебе нужно просто прочитать книгу Иова.
— Это так, — ухмылялся Джетер. — Я просто считаю, что все это — полное дерьмо. Или Бога нет, или он — мерзавец, или же ему просто плевать. Так вот, я, пожалуй, тоже начну писать свою собственную Экзегезу.
— Но Господь не говорит с тобой.
— А ты знаешь, кто разговаривает с Филом? Ты знаешь, кто посылает ему греческие слова и розовый свет? Обитатели планеты Кретин. Скажи-ка, Фил, как ты называешь мудрость Божью? Что-то там святое?
— Hagia Sophia[29], — осторожно ответил Дик.
— А как ты скажешь Hagia Кретинизм? Святая Глупость?
— Я сказал бы Hagia Moron[30]… Это тоже из греческого. Я наткнулся на это, когда искал слово «оксюморон».
Дик всегда защищался, чуть уступая противнику. Он был признателен Джетеру за то, что тот точно исполнял свою роль. Конечно, ему не хватало изящности, с ним нельзя было спорить в рамках определенных правил. Но благодаря своей резкости и твердости Джетер одновременно являлся как преградой, так и ограждением. С одной стороны, он не давал Дику забыть о том, что его общение с Богом, возможно, объяснялось паранойей. С другой стороны, если единственной альтернативой безумию являлось мировое дерьмо, к чему, собственно, и сводилась философия Джетера, то уж лучше было остаться сумасшедшим. И Джетер, который в глубине души был неплохим человеком, охотно с этим соглашался:
— Каждый вертится, как может. И если существует теплое местечко, то ты его нашел.
Иногда Дик был очень счастлив. Разве он не имел все, что нужно? Спокойная жизнь, без драм, нюхательный табак, музыка, кошки, верные друзья, которые, несмотря на подшучивания, им восхищались, наконец, его Экзегеза, по мере создания которой раскрывались замыслы Господа о нем и о мире. Она была еще туманна, противоречива, обилие теорий сбивало Дика с пути, но он ждал, что однажды его дремлющий разум проснется, решит, что шутка затянулась, и поставит финальную точку в этой чудовищной рукописи. Он, Дик, будет писать как обычно: «Я спрашиваю себя… Возможно… А если случайно?..», когда внезапно то, что таится в глубине его души, возьмется за перо и напишет: «Он был прав, это так». Тогда он объявит всему миру с ослепляющей очевидностью, что это и точно так. Если Господь избрал его писцом, это пройдет именно так. Но кто может сообщить волю Бога? Не разгневает ли Дик Его, веря в то, что угадал ее? Фила охватывал дикий страх, приступы отчаяния, он боялся, что его предназначение — месить грязь, пока смерть не заберет его. Он был почти уверен, что тайна тайн погребена где-то здесь, среди отбросов, но из этого не следовало, что ему удастся ее опознать. Может быть, это жестокое призвание уготовано ему там наверху: казнь Тантала, часть метафизики. Он умрет в незнании. Он может говорить, что, оказавшись по ту сторону, он узнает, как обещает апостол Павел, он встретится с реальностью лицом к лицу. Но кто может сказать, что будет?
По прошествии трех или четырех лет Экзегеза казалась еще дальше от своего завершения, чем в начале. Дик охотно шутил на эту тему с Пауэрсом и другими, но в действительности ему было не по себе. Он исписал тысячи страниц, которые, быть может, никто никогда не прочтет, создал массу теорий, проверял сведения, и каждый день его огромный труд все больше и больше отдалялся от назначенной цели: составить отчет о том, что с ним случилось весной 1974 года. Чтобы получить задаток, Фил набросал примерные планы романов, которые казались многообещающими как ему самому, так и остальным. Но ни продолжение «Человека в высоком замке», ни проект, озаглавленный «Напугать мертвеца», в котором речь должна была идти об одном бизнесмене из Калифорнии, в чей мозг проникло сознание некоего ессея, жившего в I веке после Рождества Христова, так и не были опубликованы. Раньше, когда Дик был плодовитым автором, вопросы о том, скоро ли он напишет что-нибудь серьезное, его раздражали. Теперь все было гораздо хуже, его спрашивали, пишет ли он еще. Говорили, что его знаменитое воображение истощилось, но Фил знал, что на самом деле проблема заключается в другом. У него никогда не было воображения. Он писал отчеты. В целях безопасности от него долгое время это скрывали, и он верил, что придумывает все эти истории, подобно тому, как Рэгл Гамм верил, что, отвечая на вопросы, он участвует в конкурсе, организованном местной газетой. Вплоть до того дня, когда, по его желанию, ему не была открыта истина. И тогда же исчезли метафизические зайцы, что покрыли норами его Экзегезу. Каждый рассказ должен иметь смысл, завершение, и всевозможные смыслы были одновременно вброшены в его голову. Дик терпеливо, в течение нескольких лет, описывал их и сортировал, но он знал, что чем дальше он продвигается, тем меньше он продвинулся. Загадка усложнялась по мере того, как росла стопка нечитаемых листков.
Иногда Филип Дик думал, что весной 1974 года он должен бы был умереть. Этот срок был заложен в его программу, и, несомненно, во всех мирах, кроме одного, все произошло так, как и было предусмотрено, вплоть до его превращения в пепел или в свет. Но в одном месте произошел сбой, и, вместо того чтобы увидеть последнее озарение и умереть, он выжил. По той или иной причине Программист открыл Дику то, что обычно открывается при переходе на ту сторону, но оставил его в этой юдоли слез. Отсюда это впечатление, что с ним уже больше ничего не произойдет, что жизнь продолжается без него. В определенном смысле Филип К. Дик умер в возрасте сорока шести лет. В марте 1974 года на последней странице его истории было напечатано слово «конец». Филу предоставили отсрочку, чтобы он смог ее перечитать и понять смысл того, на что ему удалось бросить мимолетный взгляд. Когда ему это удастся, он умрет по-настоящему.
С точки зрения Программиста, это должно было быть весьма интересным. С точки зрения Дика, напротив, это напоминало скорее судьбу лабораторной крысы, запертой в лабиринте. «Я стал, — жаловался он, — думающей машиной, не способной ни на что другое. Я поставил перед собой, или передо мной поставили, проблему, которую я не в состоянии ни разрешить, ни забыть, я загнан в угол. Каждый день мой мир становится более ограниченным, я все больше и больше работаю, и все меньше и меньше вижу. Это меня пугает, но я думаю, что это моя карма».
Больше уже ничего не случится. Он не напишет ни одной книги, не полюбит ни одну женщину. Он обречен на перечитывание своих старых книг, на воспоминания о своей жизни, на написание бесполезных примечаний внизу страницы, смысл которых ему не удастся изложить в подходящем эпилоге.
Однако кое-что в его жизни все-таки произошло. Вернее, в ней появился кто-то.
Глава двадцать вторая ТА, КОТОРУЮ ОН ЖДАЛ
В Лунной долине, к северу от Сан-Франциско, находится прелестный город Сонома, и в этом прелестном городе жила одна прелестная женщина по имени Джоан Симпсон. Темноволосая, мускулистая, гибкая, она увлекалась боевыми искусствами и любила сидеть в позе полулотоса, являясь воплощением чувственности и вместе с тем безмятежности. Она работала в психиатрической больнице, читала Юнга и других классиков. Легкое косоглазие только добавляло ей шарма.
Джоан не особо интересовалась научной фантастикой, но однажды ей в руки попал один из романов Дика, какой, точно неизвестно, известно лишь, что после этого она приобрела все его книги. Для этого Джоан даже пришлось связаться со специализированными книжными магазинами. Мисс Симпсон говорила о своем новом любимом авторе так, как если бы она располагала сведениями, полученными из надежного источника, заявляя, что через пару столетий Дик будет признан пророком. Я не исключаю, что она говорила то же самое, что и я сам в юности, когда на моем носу были маленькие круглые очки, а на ногах — разбитые кроссовки; помнится, в то время я неустанно повторял, что Дик — это Достоевский нашего времени, человек, который все понял. Подобное признание, исходящее из уст молодой, привлекательной и образованной женщины, не принадлежащей ни к безумцам, ни к формировавшему ряды поклонников фантастики люмпен-пролетариату, не могло не произвести впечатление. Один из книготорговцев, который знал Дика, сообщил тому о появлении у него столь лестной почитательницы. Затем последовали обмен письмами и беседы по телефону. Я не знаю точно, кто, Фил или Джоан, первым подумал о «Человеке в высоком замке». В любом случае, Джоан, как и героиня романа Джулиана, однажды положила в багажник своей машины «Ицзин» и направилась в сторону Южной Калифорнии, чтобы встретиться с автором книги и заверить его в том, что в определенном смысле, необъяснимо, но вполне очевидно, а именно: все, что он написал, является правдой.
Поскольку хозяин высокого замка на самом деле жил в маленьком загородном коттедже, Джоан ничуть не удивилась, обнаружив, что Дик обитает в небольшой квартирке. Ей показалось, что этот бородач с сияющими глазами, удивительно изысканный, несмотря на неопрятный вид и окружающее его облако нюхательного табака, был весьма похож на Хоторна Абендсена. Он как раз достиг его возраста. На вопрос, что она будет пить, Джоан ответила, что стаканчик виски, и они оба расхохотались.
С самого начала они разговаривали так, как будто давно друг друга знали. Самая обычная фраза вызывала у обоих одни и те же ассоциации, что весьма удивительно, так как они только что познакомились. Сторонники идеи реинкарнации заявляют, что иногда совершенно незнакомые люди обнаруживают удивительное взаимопонимание, поскольку были вместе в прошлой жизни. Однако совсем не обязательно верить в реинкарнацию, чтобы признать, что подобное встречается, когда между двумя незнакомцами внезапно вспыхивает любовь, однако случай Фила и Джоан скорее подходил под первое объяснение. Формально они не были любовниками, поскольку все силы Дика ушли на написание Экзегезы. Но они провели вместе три чудесные недели, практически не выходя из его квартиры, уверенные в том, что все происходящее было подготовлено заранее втайне от них. Беседуя о чем-либо, оба понимали, что произносят текст пьесы, написанной специально для них. Они забыли, что ее автором был Дик, или же верили в то, что он написал ее под чужую диктовку.
В полумраке квартиры, за опущенными шторами, они, как слепые, слегка касались кончиками пальцев лиц друг друга и разговаривали дни и ночи напролет.
— Я знала, что ты меня узнаешь, — говорила Джоан.
Фил видел, как сияют в темноте ее белоснежные зубы, и понимал, что она улыбается.
— А я, — отвечал он, — я знал, что ты придешь. Я всегда знал, что однажды ты придешь, а в последние дни я получал сообщения об этом во сне…
И он рассказал ей все. Вполголоса, не торопясь, Фил рассказал о своем пробуждении как о духовной эпопее, хронологический порядок которой, этап за этапом, он восстановил благодаря своим книгам. Джоан часто предвосхищала его: не зная Филипа лично, но прочтя все его книги, она уже обо всем догадалась сама. О том, как он был послан в этот мир, после того как были заблокированы его воспоминания; о несуществующем ламповом шнуре, оказавшимся сигналом тревоги, заставившем его усомниться в реальности мира; о беспокойном прощупывании этой нереальности в книгах, написанных в шестидесятые годы; об обвинении демиурга в «Трех стигматах Палмера Элдрича»; о неприятии методов, с помощью которых он удерживает нас в плену: наркотиков, искажения памяти; и о первом появлении, в «Убике», спасительной силы, настолько же скромной и сдержанной, насколько грубым и подавляющим был демиург, ведь Святой Дух оказался всего лишь дуновением, распылением дешевого средства из рекламы для небогатых домохозяек.
Ты обязательно должна это понять, любовь моя, это самое важное!
Дик говорил о реакции, которую вызывали его произведения; о том времени, когда их смысл ускользал от него; о друзьях и о врагах, о сыне Света и о сыне Тьмы; о поражениях, которые он потерпел от своих врагов: о заблуждениях, о желании умереть; о том, как в течение десяти лет он стремился к собственной гибели, пока в 1974 году вновь не оказался на поверхности, не восстановил память, не увидел свет. Но затем что-то пошло не так. Казалось бы, теперь он должен был стремиться к абсолютной радости, но на деле все обстояло наоборот. Руководивший им Томас покинул его. Он снова остался без семьи. Находясь в лагере победителей и будучи даже одним из творцов победы, он был жертвой этой войны. Ему открылось все, о чем раньше он только догадывался, свет восторжествовал, а он чувствовал себя одураченным. Он мог спокойно жить в безопасности, но жить как? В одиночестве, без любви, в жалкой квартире в Санта-Ане. Жизнь крысы, обреченной на бесконечное прослушивание никсоновских пленок, прокручивающихся в его голове, и на создание космогонии, по иронии судьбы, по-видимому, ложной. Но Программист, как Дик себе Его представлял, не мог обойтись с ним так же, как в свое время поступил СССР с участниками интернациональных бригад, нашедшими там убежище по окончании войны в Испании, выдав их Гитлеру. Последний Другой, если Дик действительно имел дело с Ним, не мог бросить его в Свою же преисподнюю. Это невозможно. Его жизнь не могла закончиться вот так. Несмотря на отчаяние, на одиночество, на его книгу, которая не хотела существовать, Дик внезапно понял, что это не закончится вот так, что этот кошмар — всего лишь предпоследний эпизод, который заставляет опасаться худшего перед счастливым концом. Во сне он видел, как к нему приближается женщина. Филипу казалось, что он ощущает ее присутствие, тепло ее крепкого тела. Как-то ночью он, внезапно проснувшись, протянул руку и наткнулся на Пинки, свернувшегося клубочком на подушке. Но Дик не был раздосадован, напротив, он улыбнулся: Программист разыгрывает его, но вскоре шутка закончится. Он будет вознагражден. Она будет ехать весь день, чтобы увидеть его, и будет сидеть в позе полулотоса. Да, именно так.
— Боже мой, как я тебя ждал!
— Я знаю. Я все это знаю. И вот я здесь.
Приезд Джоан вернул Дика к жизни. Он, раньше покидавший свою квартиру только для того, чтобы сходить в ближайший супермаркет, нанести визит Пауэрсу или съездить на прием к Морису, куда его возил все тот же Пауэрс, ошеломил общество «Рипидон», небрежно спросив, не может ли кто-нибудь в его отсутствие присмотреть за котами. Да, он собирался провести лето в Сономе, с одной знакомой. «Нет, я не думаю, чтобы вы ее знали…» Да, разумеется, он согласился принять участие в конференции, посвященной научной фантастике, которая пройдет в сентябре во Франции, в городе Метц.
Никто в это не поверил, и, тем не менее, Дик действительно провел лето в Сономе, а осенью отправился во Францию. И все это вместе с Джоан, благодаря ее поддержке и в окружении НЛЗ: это был их тайный пароль, сокращение от нежная любящая забота (tender loving care). Английское слово «care» обозначает, с одной стороны, заботу о ком-то, а, с другой стороны, беспокойство, внушаемое кому-то. Это было именно то, что Дик ждал от женщины и что Джоан давала ему на протяжении нескольких месяцев. А еще она подарила любимому огромный нательный крест, который он носил, не снимая, на тяжелой цепочке.
Дика попросили подготовить речь для конференции в Метце. Эта просьба поступила в нужный момент, момент, отмеченный появлением Джоан. В жизни каждого человека есть нечто, чего он боится больше всего на свете, но также есть и то, чего он больше всего на свете желает. Семнадцать лет назад Дик высказал свою заветную мечту через книгу, и вот она исполнилась. Джулиана пришла и сказала ему, что он прав. Теперь он мог наконец «выйти из шкафа» и сообщить всему миру правду. И он восхищался тактом Провидения, которое дало ему возможность впервые выступить с этим заявлением во Франции, среди его самых горячих поклонников.
Стоило Дику придумать название для своей речи «Если этот мир кажется вам плохим, вам следует поглядеть на другие», как она полилась сама собой. Подобно тому как Убик уничтожал энтропию, НЛЗ Джоан восстановила его способность мыслить. Филипу наконец удалось вывести из своей Экзегезы законченную космогонию, которая казалась ему совершенной. Достаточно было прочертить линию от «Человека в высоком замке» до реального появления Джоан на пороге его дома. Все выстраивалось вдоль этой линии и обретало смысл: предчувствие параллельных миров, проповедь Христа, работа Программиста в том отрезке времени, который продолжался от пережитого им весной 1974 года и до падения Никсона. И, совершенно естественным образом, его теологические выкладки закончились признанием в любви: он рассказал о приходе Джоан, о том решающем подтверждении теории, которое она ему принесла. В какой-то мере ее присутствие можно было расценить как доказательство существования Бога. Может быть, в этот момент следовало бы направить на него луч света, Джоан поднялась бы к любимому на сцену, поцеловала бы крест, подаренный ею, и поднесла бы его к губам Дика… Нет, он уже как-то представлял себе подобную сцену, с Донной, но это не принесло ему удачи.
Все лето Дик начитывал текст своей речи на магнитофон. Джоан несколько раз его прослушала, подсказала нужные интонации. Казалось, что в целом ее все устраивало. Когда они отправились во Францию, Фэт окончательно поверил в то, что является хозяином положения. Во время перелета он, полузакрыв глаза и держа Джоан за руку, бормотал пассажи из своей речи. Иногда он, предвосхищая реакцию публики, тихонько фыркал. Дик уже произносил несколько раз речи на конференциях, посвященных научной фантастике, в присутствии поклонников, и гораздо больше выслушал: милые истории, лукавые подмигивания, дань уважения великим и ободрение молодых… Размышляя о том, что он собирался сказать, о бомбе, которую он, при всеобщем неведении, вез в своем чемодане, Дик казался себе пророком Исайей, которого пригласили выступить с речью на собрании акционеров Транснациональной американской компании.
Дик пересек Атлантику, будучи практически уверенным в грядущем триумфе. Этот триумф, если только его речь будет действительно понята, то есть если в нее поверят, не будет иметь ничего общего с обычным литературным успехом. Его речь наверняка будет признана откровением. Она изменит жизнь людей. Все больше и больше народу захочет ее услышать, поэтому ему, разумеется, придется выступать и дальше. Его портрет, как и портрет Рэгла Гамма, появится на обложке «Тайм мэгэзин» с подписью «Человек года», но даже это звание впоследствии покажется потомкам смешным и трогательным: такими нам обычно представляются реакции наших предков на события, значение которых они не смогли оценить в полной мере. Филип Дик станет настоящим Христофором Колумбом параллельных миров. Впоследствии скажут, что 24 сентября 1977 года началась новая эра.
Однако Дик ошибался, полагая, что встретит во Франции армию виртуальных учеников, готовых к обращению. Конечно, его ждали с нетерпением, но это было поколение шестьдесят восьмого года, воспитанное еженедельником «Чарли» и восхищавшееся плохим парнем, которым он уже давно не был и не хотел быть. Им нужен был Дик-параноик, наркоман, левый, — словом, маргинал. Заинтригованные тем, что им рассказывали о «личных проблемах», объясняющих долгое творческое молчание их идола, участники конференции в Метце ожидали увидеть ухмыляющегося забулдыгу, отупевшего от наркотиков, а вместо этого познали разочарование журналистов, пишущих о рок-музыкантах, когда они вынуждены выслушивать, как их свихнувшиеся кумиры, с бутылкой минеральной воды в руке, рассказывают о прелестях семейной жизни и добропорядочного поведения. Дик выглядел хорошо, даже прекрасно. Он смеялся, с интересом разглядывал девушек, ел за четверых и был явно доволен тем интересом, который проявляли к его персоне во Франции, своим перелетом, тем, что он уже здесь. В первый же вечер за ужином сосед спросил его с заговорщическим видом, что это за таблетки он выложил рядом со своей тарелкой. Дик ответил, что это желудочные пилюли, и сказал это так просто, что сразу стало понятно: это и впрямь желудочные пилюли.
Тем, кто собрался на следующий день в актовом зале отеля «Софитель», чтобы послушать Дика, он с самого начала показался гораздо менее спокойным, чем накануне. Огромный крест, висевший на его волосатой груди, явно выставленный напоказ, о чем свидетельствовала не до конца застегнутая рубашка, вызвал удивление и волнение, как некий знак, который невозможно игнорировать, но значение которого ускользает от понимания. Он не мог быть свидетельством веры в Христа, сама мысль об этом казалась присутствующим нелепой; возможно, это была насмешка над чем-то, например над верой в существование вампиров, но тогда не хватало зубчиков чеснока.
Публика была в недоумении; Дик, в свою очередь, вспотел от ужаса. Джоан, разозлившись на него за то, что он заигрывал в ее присутствии с какой-то молоденькой журналисткой, осталась в тот день в номере. Филип чувствовал себя одиноким, лишенным НЛЗ и уже не столь уверенным в том, что он собирался сказать. Зал наконец с шумом заполнился, опускались сиденья, трещали вспышки. Микрофон, когда его проверяли, был похож на обезумевший счетчик Гейгера. Чтобы его отрегулировать и убрать эффект Ларсена, Дика попросили сказать что-нибудь, неважно что. Чувствуя, как на него смотрят сквозь металлические очки сидевшие в первом ряду худощавые бородачи, одетые в пальто с капюшонами или в военную форму, Дик проговорил стих из апостола Павла, побуждающий не беспокоиться того, кому предстоит произнести Слово: Дух обо всем позаботится. По счастью, никто не расслышал, что он сказал, но Дик понял, что уже не так доверяет обещанию апостола. Он явно запаниковал, как человек, который заключил спьяну нелепое пари, а теперь, протрезвев, припертый к стене, понимает, что выхода нет и что теперь до конца своих дней ему придется подвергаться насмешкам. Чтобы не поддаться искушению сбежать, он начал, без предупреждения и не дожидаясь сигнала, произносить свою речь. Те, кто при этом присутствовали, утверждали, что Дик прочел ее глухим металлическим голосом, так отличающимся от того живого и самоуверенного, что они могли слышать накануне. Многим пришла в голову мысль о том, что, в соответствии с логикой его собственных произведений, вместо известного писателя сейчас выступает плохо отлаженный симулакр, который может в любой момент загореться прямо на трибуне из-за короткого замыкания и взорваться вместе со всеми присутствующими.
Речь началась с изложения достаточно банальных соображений о появлении новых идей, об их очевидной ретроспективности, о классической разнице между изобретением и открытием. Дик заявил, что он убежден в том, что изобретений вообще не существует: на самом деле речь идет лишь об открытии истин, которые ждут своего дня и которые в большей степени находят своего «изобретателя», нежели он их. Публике оратор показался зажатым, паузы переводчика — утомительными, но никто не видел ничего странного в том, что Дик говорил, казалось, все это вполне соответствовало содержанию его романов. Упоминание Царства небесного заставило насторожиться тех, кто уже начал волноваться при виде креста, но тревога оказалась ложной: один из образованных критиков с тонкой улыбкой процитировал своему соседу формулу Борхеса, согласно которой теология являлась одной из форм фантастической литературы.
На самом деле Дик начал развивать теологическую тему, описав шахматную партию между Программистом и его Противником, а также изменения в реальном мире, которые влечет за собой каждый ход. Это длилось добрых полчаса. Он мог бы с тем же успехом начать цитировать телефонный справочник, большая часть аудитории этого бы даже не заметила. Однако самые внимательные из слушателей начинали чувствовать себя не в своей тарелке, как пассажиры поезда, которые слышат странные звуки, вроде бы и не беспокоящие остальных пассажиров, но создающие у них самих ощущение надвигающейся опасности. Они пытаются убедить себя, что у них просто шалят нервы, что на самом деле в этих звуках нет ничего ненормального, но внезапно чувствуют сильный удар, слышат ужасный грохот, поезд сходит с рельс: это случилось.
Дик откашлялся, собрал свои листы и неожиданно громко продолжил:
— Сейчас необходимо, чтобы появился тот, кто хранит воспоминание о другом настоящем. Логично предположить, что оно хуже, нежели чем то, в котором мы находимся, поскольку Бог стремится к улучшению. С теоретической точки зрения, можно, вероятно, утверждать, что Он плох или некомпетентен, но я отказываюсь принимать эту мысль всерьез. Итак, я хочу знать, располагает ли кто-нибудь из нас знаниями о мире, который хуже того, что окружает нас сейчас, в 1977 году? Ответ: да, такими знаниями располагаю я сам.
В романе «Человек в высоком замке» писатель Хоторн Абендсен внезапно понимает, что его книга, которую он считал чистым вымыслом, на самом деле описывает реальные события. Я сделал то же самое открытие по поводу моих собственных книг. Ни «Человек в высоком замке», ни «Убик», ни «Пролейтесь, слезы…» не являются, как я полагал раньше, плодом моего воображения. Или, если хотите, они являются им только здесь, в мире, в котором мы находимся, и который, благодарение Господу, сменил тот, откуда я пришел.
Я нисколько не сомневаюсь, что вы мне не верите; мало того, вы вряд ли верите даже в то, что я сам верю в то, что говорю. Это, разумеется, ваше право, но поверьте, по крайней мере, в то, что я не шучу. Все, что я сейчас скажу, очень серьезно и очень важно, а также неожиданно и для меня самого. Многие утверждают, что сохранили воспоминания о своей прошлой жизни. Я же говорю о другой жизни в настоящем. Мне неизвестны другие подобные заявления, однако я подозреваю, что я не единственный, кто это пережил. Моя уникальность состоит, пожалуй, только в желании рассказать о своем опыте.
После этого Дик, посреди всеобщего замешательства и изумления, рассказал о том, что с ним произошло три года назад. О тайных христианах и об их роли в деле отставки Никсона. Он объяснил, что он, Дик, был перепрограммирован во время одного из тех скрытых изменений реальности, которые образуют основу мира, благодаря чему непосредственно общался с Программистом. Обычно Он скрывается: Deus absconditus[31], как говорят теологи. Он создает каждый атом, но никто Его не видит, кроме тех, кого Он взял, как берут пешку с шахматной доски, чтобы сделать ход. Он, Дик, был этой пешкой и мог со знанием дела повторить слова апостола Павла: «Страшно и вместе с тем удивительно оказаться в руках живого Бога». Того Бога, что сказал в Ветхом Завете: «Я создал новую землю и новое небо, и воспоминаниям о предшественниках не будет места ни в душе, ни в сердце».
— Читая эти слова, — подытожил Дик, — я думаю, что мне была открыта великая тайна. Когда Царство будет среди нас, мы больше не вспомним о тираниях, о варварстве, творимом на Земле, на которой мы жили. Я верю, что это время близко, что оно уже здесь. И что Его милосердие позволит нам забыть все, что было прежде. Хотя, возможно, я и был неправ, когда пробуждал в вас воспоминания, создавая свои романы и произнося эту речь.
Он действительно был неправ.
Едва спустившись с трибуны, оратор оценил размер нанесенного ущерба. Пораженный переводчик в какой-то момент даже перестал переводить, но англоговорящие слушатели пересказали суть скандального заявления своим соседям: «Дик не просто сошел с ума, он стал святошей!» Восхищение сменилось смущением. Его разглядывали как диковинное животное. Никто не знал, о чем и как с ним разговаривать.
И на протяжении всего пребывания Дика во Франции постоянно предпринимались огромные усилия для того, чтобы избежать неловкости, чтобы сохранить радость совместного общения. В конечном счете многие сочли его выступление мистификацией. Подобно тому, как Орсон Уэллс напугал Америку радиопостановкой «Войны миров», этот чертов Дик решил проверить на своей аудитории сюжет нового романа и для большей убедительности притворился, что верит во все эти сказки. Видя, как эта версия становится официальной, сам Дик не стал ей противоречить и, встретив кого-нибудь на лестнице отеля, начинал громко хохотать и подмигивать, а затем заявлял: «Попались!»
Если бы я писал роман, то сказал бы, что этот провал оказался для нашего героя катастрофой, что он предпочел бы, чтобы его закидали камнями, чем слышать, как над ним подсмеиваются, что, вернувшись в Калифорнию, он лег на кровать и умер. Это выглядело бы драматично и убедительно, но в действительности все произошло совсем не так. Дик обладал удивительной способностью к адаптации. Когда один из его сценариев терпел крах, он тут же переходил к другому, вот и все. Фэт приспособился к положению игрока, который поставил на кон большую сумму и все проиграл, а Фил демонстративно воздерживался от того, чтобы не сказать: «Я же тебе говорил». Дик снова пересек океан, изображая туриста, довольного своим путешествием, которому льстило то, что его принимали как важную особу, и который немного сожалел о досадном недоразумении, испортившем впечатление от его речи (так сожалеют о том, что по незнанию заказали в ресторане язык, то единственное блюдо, есть которое совершенно не хотелось). Это скорее курьез, который делает воспоминания приятными, ведь безупречно проведенные путешествия кажутся пресными и скучными.
(«И все же, это любопытно, — сказал Дик Джоан. — Они все интересовались, верю ли я в то, что им рассказал, тогда как это второстепенный вопрос. И никто не задумался о главном: правда ли это?»)
Джоан — единственная из многочисленных женщин, кто сумел покинуть Филипа, не превращая свой уход в драму. Собственно, разрыва и не было. Оправданием их расставания послужило расстояние, отделявшее Соному от Санта-Аны, при этом оба с ностальгией вспоминали о своих отношениях, как об одной из тех удивительных встреч, что случаются во время путешествий.
Речь в Метце должна была стать пришествием Фэта, превратив Джоан в служительницу его культа. Но этого не случилось, и Дик вновь принялся за Экзегезу. Он вновь столкнулся с прежней проблемой: как рассказать историю, смысл которой ему самому неизвестен? Он видел сны, разрабатывал теории, приходил в отчаяние и, вопреки ожиданиям, все-таки нашел решение.
Однажды Филипа Дика попросили написать предисловие для сборника его старых произведений, и, не зная, о чем писать, он начал рассказывать о своей юности. Без плана, без предварительной идеи, он просто рассказывал анекдоты, излагал идеи, критиковал эти идеи, как если бы он болтал с друзьями. Позволив перу вести его за собой, Дик почувствовал себя свободным и вдруг подумал, как было бы здорово писать вот так, запросто, без желания что-то доказать, просто рассказывая обо всем, что с ним случилось.
Мне больше нечего сказать о романе «ВАЛИС» («VALIS»), который послужил основным источником для написания предыдущих глав. В этой хронике, явившейся результатом двухнедельной напряженной и вместе с тем спокойной работы, описана жизнь друзей в Санта-Ане, штат Калифорния, которые как две капли воды похожи на членов общества «Рипидон». Правоверный католик Давид, великодушный циник Кевин и писатель-фантаст Фил очень беспокоятся за своего друга Хорселовера Фэта. Тому несладко жилось в шестидесятые годы, на его долю выпало много несчастий, а в 1974 году он вдруг уверовал в то, что видел Бога. Его история и их беседы рассказаны Филом, который является пристрастным, хоть и сочувствующим свидетелем, и не пытается сделать теории Фэта более связными, чем они есть на самом деле. Вот, например, как он говорит о его Экзегезе:
«Знание о божестве превратило Фэта в пророка. Но, так как он не мог отличить галлюцинацию от божественного откровения — если между ними вообще есть какая-то разница, чего пока никто не доказал, — он также писал нелепицы, вроде этой:
„Фрагмент 50 Экзегезы: первый источник всех наших религий находится у предков племени догон, которые получили свою космогонию непосредственно от трехглазых завоевателей, некогда посетивших их земли. Трехглазые завоеватели являются глухими и слепыми телепатами; они не могут дышать в нашей атмосфере; их деформированные и удлиненные черепа похожи на череп фараона Ахетанона, и они прибыли с планеты, находящейся в созвездии Сириуса. Несмотря на то, что вместо рук у них клешни, вроде тех, что можно видеть у краба, они — великие строители. Они тайно повернули ход нашей истории в счастливому концу.
Конец фрагмента“.
В тот период Фэт совершенно оторвался от реальности».
Глава двадцать третья ПРЕДПОСЛЕДНИЕ ИСТИНЫ
Наша история близится к концу. Что еще произошло в жизни Дика? Умерла его мать, и он позвонил Клео, которую не видел лет двадцать, чтобы, рыдая, сообщить ей об этом. Благодаря выходу фильма «Бегущий по лезвию бритвы» у Дика появилось много денег. Он пожертвовал значительные суммы в благотворительные организации, купил дом для Тессы и Кристофера и хотел предложить Тиму Пауэрсу соседнюю квартиру, ту, где жила Дорис, в качестве свадебного подарка, но тот отказался. По вторникам и пятницам Дик неизменно ходил к своему психотерапевту. Он начал заниматься собой: пытался похудеть, стал лучше одеваться. На фотографии, снятой в студии «Уорнер», рядом с кинематографистом Ридли Скоттом стоит весьма успешный писатель, крепкий, но не толстый, ухоженный, одетый в элегантный замшевый костюм. Джоан Симпсон была его последней любовью, но и после нее у Филипа были подруги, возможно, с кем-то из них его связывала не только дружба. Одна незначительная актриса, для которой Дик безуспешно пытался открыть двери киностудий, вспомнила пять его качеств: щедрость, радушие, честность, преданность своему искусству и меланхолию. В полумраке своей квартиры Филип часто слушал мелодии для лютни Дауленда, носившие такие названия, как «Остановись, печаль» или «Больше не плачь, грустный фонтан», но его любимой оставалась «Пролейтесь, слезы…». Филип издали наблюдал за тем, как растет его сын, и даже в какой-то момент хотел снова сойтись с Тессой. В тяжелые дни Фил звонил бывшей жене и просил, чтобы она пришла к нему.
Бог с ним больше не разговаривал. У Дика практически не было видений, он все реже видел сны. В зависимости от настроения, он расценивал это забвение как новое испытание на пути его спасения, знак окончательной победы Противника или же как знак возвращения к трезвости мышления после долгого периода безумия. Однажды поздно вечером, после того как он проводил какого-то гостя, Дик решил позволить себе выкурить сигарету с марихуаной, и в этот момент Бог прервал свое молчание. Чтобы убедиться в том, что имеет дело не с самозванцем, Дик решил подвергнуть Его тесту. И в тот момент тест, который он придумал, показался ему потрясающе эффективным. Он наконец нашел вопрос, который заставит Всевышнего (или кто бы там ни выдавал себя за него), открыть карты. Увы, на следующее утро Дик никак не мог вспомнить ни этот вопрос, ни полученный им ответ.
Поскольку ему больше нечем было заняться, он вернулся к Экзегезе. Дик написал еще две книги. Точнее, одну написал Хорселовер Фэт, а другую — Фил.
В книге Фэта, «Божественное вторжение» («The Divine Invasion»), речь шла о таком сложном явлении, как Воплощение. Все те, кто описывал жизнь Иисуса, потерпели неудачу, пытаясь это объяснить. Что знал ученик плотника из Назарета о своей божественной природе? Получал ли он это знание постепенно, во время долгого пробуждения? Можно ли представить, что, будучи распят на кресте, он думал о том, что оказался игрушкой в руках иллюзии, приняв себя за Сына Бога? А если нет, если он до самого конца был уверен в воскрешении, то как можно относиться серьезно к Страстям Господним?
Герой книги — маленький мальчик, которого, как и его предшественника, зовут Эммануилом. Тайно попав на Землю, он объявляет, что наш мир является тюрьмой и симулакром, что Создание ускользнуло от своего Создателя, и мы все спим, видя сны, которые нам предоставляет Империя, во власть которой мы попали. Смутные предчувствия, сомнения, мелкие нестыковки в нашей повседневной жизни дают возможность кое-что почувствовать тем, кто спит не так крепко. Они не осмеливаются в это поверить. Но нужно в это верить, нужно проснуться. Кто услышит и поверит слову Эммануила, тот войдет в Сад, восстановит Реальность.
Разные второстепенные персонажи помогают мальчику узнать свое происхождение и свою миссию. Пророк Илия, под видом нищего, Иоанн Креститель, Заратустра, Афина, сам Яхве и маленькая девочка, склонная к нравоучениям и носящая имя, которое евреи дают Его пресуществлению: Шеккина.
Вся эта компания вызывает в памяти так называемые престижные фильмы, для съемок в которых студия привлекает в качестве приглашенных звезд всех знаменитых артистов, с которыми у них есть контракты. В этой книге, пестревшей обращениями к ессеям, гностикам, иудеям, также можно было найти все традиционные средства Дика: подделанная память, замороженные в криогене — причем все это проходит под песни Джона Дауленда, исполняемые Линдой Ронстат и оркестром электрических лютен.
Роман «Трансмиграция Тимоти Арчера» («The Transmigration of Timothy Archer») был полной противоположностью предыдущей книги: неправильный, неожиданный, настоящий трюк Крысы.
В 1979 году писательница Джоан Дидион, одна из самых изысканных американских авторов, опубликовала сборник эссе о шестидесятых годах «Белый Альбом», который был вскоре признан классикой журналистской литературы. Этот сборник содержал разгромный портрет епископа Пайка: карьерист от религии, интеллектуал без интеллекта, филистер, эгоист. Дик, прочитав это, почувствовал нестерпимую боль. Тем более, как я думаю, что, со своей страстью встать на сторону противника, он понял, что было верным в саркастических замечаниях Дидион. Мало того, эти замечания по отношению к нему были бы столь же справедливы, как и по отношению к его покойному другу.
Подзаголовком его Экзегезы было «Apologia pro vita mea»[32]. Дику пришла в голову мысль написать апологию Пайка, который был его идеалом и одновременно тем, кем он боялся стать, то есть самым лучшим alter ego.
Но кто будет рассказывать историю? Сначала Дик хотел сделать это сам, но потом решил, что быстро окажется в тупике, где Фил и Фэт продолжают свой бесконечный матч. Нужно было найти кого-нибудь другого. Убежать от себя и описывать чужими словами чужие мысли — старая мечта романиста. Как это ни удивительно, Дик ее реализовал. В первый раз в своей жизни он сделал главной героиней женщину, и в первый раз речь шла не о сострадательной брюнетке из его грез, и не о деспотичной мерзавке из его кошмаров. В первый раз в жизни Дик создал сложный и правдоподобный персонаж, который абсолютно не походил на него самого.
Эйнджел, рассказчица этого серьезного романа, вышла замуж за Джеффа, сына знаменитого калифорнийского епископа, Тимоти Арчера. Джефф покончил жизнь самоубийством. Епископ и его любовница Кирстен заявляют, что им якобы удалось пообщаться с ним. Затем Кирстен также покончила жизнь самоубийством, а епископ умер странной смертью в Иудейской пустыне. Дело происходит в конце шестидесятых годов. Действие романа заканчивается 8 декабря 1980 года, в день убийства Джона Леннона. Тремя неделями ранее Рональд Рейган был избран президентом Соединенных Штатов. «Это время, — подтверждает „Ицзин“, — когда вперед выдвигаются обыкновенные люди, чтобы устранить остатки старой элиты» (По, раскол).
Эйнджел работает управляющей магазина пластинок на Телеграф-авеню в Беркли. Как и многие из тех, что живут на побережье залива Сан-Франциско, она датирует события своей жизни с помощью пластинок «Битлз». Ее замужество совпало с выходом альбома «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера». Джефф зачем-то принес первый сольный альбом Пола Маккартни в номер отеля, где он был найден мертвым и где не было проигрывателя. Спустя двенадцать лет, услышав эту пластинку, Эйнджел с трудом сдержала слезы. Ей вообще часто хотелось плакать. Она считала, что мы находимся на Земле, чтобы понять: то, что мы любим больше всего, будет у нас отнято, вот и все (хотя и посещала семинары суфитов, где ее учили обратному). В день смерти Джона Леннона Эйнджел случайно наткнулась на статью одной известной романистки, некоей Джейн Мэрион, посвященную ее свекру. Сначала она разрыдалась, затем решила написать свою собственную историю.
Эйнджел Арчер любила и восхищалась епископом, которого она звала просто Тим. Но она не была слепа (как и Дик по отношению к самому себе). Описывая события с точки зрения этой грустной молодой женщины и пытаясь понять, что же было не так, он достаточно далеко удалился от своего замысла создать апологию. Изначально он собирался написать хвалебное слово своему другу и, оправдав его, оправдать самого себя, а в итоге он превзошел Дидион, нарисовав портрет черствого педанта, который обрушивал на своих собеседников множество цитат и терминов вроде «керигма», «второе пришествие Христа», «ипостась», а сам сроду никого не слушал. Тим Арчер давал всем вокруг уроки нравственности, с его уст не сходило слово «любовь», он читал, подняв вверх указательный палец, Послания к коринфянам, но сам прокладывал свой путь, ни мало не заботясь о последствиях собственных действий. Ничто тривиальное не должно было помешать ему познать истину. Распаковав новую рубашку, Тимоти Арчер оставлял упаковку и этикетки валяться на полу комнаты: он не имел привычки прибирать за собой. Перестав ладить с женой, он объявил, что их брак расторгнут. Любое обязательство, которое его более не устраивало, провозглашалось ничтожным. Разве не лучше перевернуть страницу, вместо того чтобы упорствовать в своей ошибке? Это правило поведения, которое Дидион считала характерной чертой поколения шестидесятых годов, определяло всю его жизнь, перевернутые в спешке страницы, книга, прочитанная по диагонали. Сам Иисус Христос был всего лишь одной из страниц, одной из многих. Оставаться верным Ему было бы недостойным имени этого духовного Дон-Жуана. Впрочем, как и Дон-Жуан, епископ каждый раз вполне искренне верил в то, что его последнее видение мира было окончательным. Но стоило появиться новой книге, новой соблазнительной теории, и он вновь все подвергал сомнению. Тот, кто в возрасте пяти лет перечитывал от корки до корки словарь и телефонный справочник (что его поклонники считали одной из иллюстраций страсти к познанию), став взрослым, продолжал искать в книгах объективные ответы на все вопросы, которые он задавал себе. Он думал, что где-то должен существовать документ, беспристрастный и надежный, в котором изложены конечные цели, подобно тому, как существуют нормативные акты относительно сельскохозяйственной политики стран Бенелюкса. Выяснив, что ответы на такого рода вопросы, содержащиеся в разных книгах, противоречат друг другу, ибо они всего лишь отражают мнения людей, если только не верить в то, что Библия или Коран были написаны по вдохновению свыше, Тимоти Арчер метался от одной идеи к другой, так и не определившись, где его собственная.
Примечательно, что изучение этого вида интеллектуальной и эмоциональной изменчивости в форме автопортрета дало Дику повод в очередной раз совершить поворот. Отныне он выбрал свою религию: описав блуждания Пайка и свои собственные, он перешел на сторону Эйнджел Арчер. Она, по крайней мере, твердо стояла на земле и, не порицая грешника, отвергала как грех этот нелепый поиск смысла, из-за которого Тимоти Арчер заблудился в Иудейской пустыне, куда он самонадеянно отправился в малолитражке, прихватив только карту и две бутылки кока-колы. Нет ничего более душераздирающего, чем вид людей, презирающих реальность, в которой они существуют, и занятых исключительно рассуждениями о Последней Реальности. Видимость того, что они проникают в суть вещей, лишает их способности видеть то, что лежит на поверхности. Они не знают этого мира, его доброты и его прочности. Они проходят мимо жизни.
Да, вздохнул Дик, я прошел мимо жизни.
Превратившись в поборника конкретного, он не мог удержаться от того, чтобы не увлечься. Дик не удовольствовался тем, что противопоставил своему рыцарю смысла печального образа несчастную и любящую молодую женщину. Он должен был добавить сюда шизофреника и на практике возвести того в пример, так как он не пройдет тест на поговорки. В рамках этого теста, которому его самого подвергали в юности, нужно было объяснить значение известных поговорок, например «Кот из дому, мыши — в пляс». Предполагается, что разумный человек объяснит, что речь идет о бездельничающих в отсутствие хозяина работниках. Человек менее разумный удовольствуется простой парафразой и воспользуется уже имеющимися словами, вместо того чтобы сформулировать суть поговорки. Он скажет что-нибудь вроде: «Если у вас в доме есть мыши, ваша кошка охотится за ними, а если она уходит, мыши, довольные тем, что воцарился мир, начинают плясать». Увлеченный своей идеей, Дик решил представить эту неспособность к абстрактному мышлению как сильное противоядие против злоупотреблений, в которых он был виновен.
Тому, кто сомневается в том, что непонятные физические феномены доказывают возвращение его сына из мира мертвых, епископ в нетерпении приводил следующий пример:
— Вы заглядываете под машину и видите лужу. И, хотя вы не видели, как эта вода вытекала из мотора, вы, тем не менее, вынуждены предположить, что это так. У вас есть все причины это предполагать, вы вправе это сделать. Я был адвокатом и могу вам сказать, что можно считать доказательством…
— А машина стоит на частной стоянке? — обрывает его шизофреник. — Или на общественной?
— Я вас не понимаю. — Епископ явно в замешательстве.
— Если, кроме вас, там никто не паркуется, тогда, безусловно, вода из вашей машины. Но она вытекла не из мотора, скорее, из радиатора, или из насоса, или из трансмиссии. Если у вас автоматическая коробка передач, то там находится специальная жидкость, очень похожая на воду. У вас автоматическая коробка передач?
— Где?
— В вашем автомобиле?
— Я не знаю. Я говорю о гипотетической машине.
— Вот как? Во-первых, прежде всего следует выяснить, о какой именно жидкости идет речь. Для этого надо лечь на землю, протянуть руку, обмакнуть палец в лужу. Теперь определим, что это: масло, бензин или вода? Предположим, вода. Это можно объяснить следующим образом: когда мотор работает и радиатор нагревается, иногда возникают излишки воды, которые стекают через специально предусмотренное для этого отверстие. А какая у вас машина?
— Кажется, «бьюик», — удрученно отвечает епископ.
— Нет, «крайслер», — мягко уточняет Эйнджел.
— А? — переспрашивает епископ.
Все, что нужно уметь в жизни, повторяет Дик, это починить свою собственную машину. Не какую бы то ни было абстрактную машину, не машину вообще, машин вообще не существует, потому что ничто не существует вообще. Существуют только конкретные вещи, и нам вполне должно хватать тех, что встречаются на нашем пути. Все остальное опасно. Мы начинаем подмечать нелепые повторения, придумывать какие-то смехотворные связи, верить в то, что за всем этим стоит некий план, нам хочется раскрыть его, — короче, мы становимся параноиками. Молодые люди, остерегайтесь такой перспективы: достаточно сунуть палец в механизм. И я знаю, о чем говорю, это моя собственная история.
А сейчас мы возвращаемся в клеточку под номером 16: ирония и отступление, зима души. Если верить Санчо, Дон Кихот, перед тем как умереть, вернулся в реальный мир. А вместе с ним, как кажется, и Сервантес, поскольку он закончил на этом свой роман, — а ведь некая мысленная привычка, которую сложно искоренить, требует, чтобы последняя глава содержала нравоучение и смысл истории.
Поскольку «Трансмиграция Тимоти Арчера» была последней книгой Дика, можно сделать вывод, что преимущество осталось за Филом. Итак, люди вроде Джетера, апостола дерьма, с удовольствием видели в этом «завещании» показательный «возврат к реальности», хотя и проникнутое разочарованием, но вполне мирное согласие с окружающей нас нелепостью, со сложным и удивительным слабоумием мира. Нет смысла, нет обратной стороны, и, возможно, это даже к лучшему, во всяком случае, тот, кто от этого откажется, — свинья.
Но Дик и был свиньей, точнее, Крысой. Он не смог удержаться от того, чтобы не закончить свою последнюю книгу предположением, что покойный епископ переселился в тело и разум своего соперника, молодого шизофреника. А заодно и отметить, что шизофреник и рассказчица изучают волнующие факты, участвуя в разрастающемся скандале. Утомленный, Дик чувствовал приближение смерти и боялся того момента, когда рулетка остановится и шарик выпадет на какую-нибудь цифру, чет или нечет, а это обязательно произойдет. Он знал, что этот момент наступит, но вплоть до последней минуты, в той мере, насколько это зависело от него, упорно не хотел делать выводы, продолжал спорить с самим собой и интересовался исключительно предпоследними истинами.
В сентябре 1981 года у Дика было последнее видение. Спаситель заново родился, он рос на Цейлоне, в бедной семье, под именем Тагора. Считая, что он сам избран, чтобы подготовить почву, Дик обобщил все это в статье, копии которой разослал всем своим друзьям и знакомым, а также отправил в один малоизвестный любительский журнал. Это послание обобщило его обычные религиозные идеи с экологическими тезисами, которые к тому времени начали свирепствовать на калифорнийской земле. Экосфера священна; тот, кто наносит вред экосфере, вредит Богу; и Тагор, новый Христос, готовится к тому, чтобы взять на себя все людские грехи против экосферы…
Тон, в котором были написаны письма друзьям, свидетельствует о том, что сам Дик искренне в это верил. Но это не помешало ему ни опубликовать свою статью под именем Хорселовера Фэта, ни послать в тот же журнал статью, пародирующую его последние произведения, где можно было, например, прочесть следующий пассаж (причем, похоже, в это он тоже верил ничуть не меньше):
«Кажется, что Дик пытается загладить дурную карму, приобретенную им за те годы, что он провел в компании преступников, агитаторов, отбросов Северной Калифорнии. Мы можем предложить ему лучший способ преуспеть в этом: кончай писать, Фил, и верить во все те глупости, что проносятся в твоей голове. Посмотри лучше телевизор, закури сигарету с марихуаной, если хочешь, ты не умрешь от этого, и живи до тех пор, пока твой мозг не очистится как от прошлых дурных дней, так и от твоих реакций на них».
Написав это, Дик облегченно вздохнул и вернулся к своей Экзегезе.
Глава двадцать четвертая НЕРАЗРЕШИМОЕ
Случай или Провидение избавили писателя от возможности произнести свое последнее слово на ложе смерти. Поэтому осталось неизвестным, покинул ли он этот мир в облике Фила Дика или же Хорселовера Фэта.
17 февраля 1982 года Дик долго беседовал с неким журналистом о своей последней причуде. Как-то он увидел по телевизору некоего Бенжамена Крима, своего рода гуру нового времени, и с тех пор считал его одним из величайших духовных светил нашего смутного времени. Заинтригованный сходством между посланием Тагора и рассуждениями Крима об Эре Водолея, Дик послал ему некоторые из своих книг, вместе с инструкцией по применению, взятой им из Эгзегезы, и теперь очень ждал их встречи. Он объяснил это журналисту, затем, упросив выключить магнитофон, изложил тому все свои сомнения относительно этого дела. Вечером Дик перезвонил журналисту, заявив, что, возможно, то, что он сказал не для записи, лучше всего выражает суть его мыслей, а записи хранят только их следы. Было сложно сказать, беспокоило Фила это или веселило. Это был его последний разговор.
Через день соседи Дика, обеспокоенные тем, что он не выходит и не открывает дверь, взломали ее. Филип лежал на полу без сознания. Врачи сначала думали, что он оправится после этого удара, но в последующие дни он перенес еще два. Фил не мог ни говорить, ни двигаться, только его глаза свидетельствовали о том, что он в сознании. Его соборовали, хотя было неизвестно, хотел он этого или нет. Затем Дик впал в кому. В течение трех дней его тело оставалось на кровати, связанное с жизнью только при помощи медицинского оборудования. Монитор, расположенный рядом с кроватью, свидетельствовал о наличии слабой мозговой активности. Те, кто присматривал за тяжелобольным, подолгу разглядывали сияющую линию, которая то и дело пересекала черный экран. Какой мыслительной деятельности могла соответствовать эта линия, эти многоточия, которые не хотели становиться финальной точкой? В каких лимбах носило то, что осталось от Фила? Имеется ли там ответ, и если да, то было ли кому его слушать?
Я не знаю, напомнили ли Филипу Дику о том, что у него осталось еще третье желание. Я не знаю, встретился ли он во время агонии или после нее с тем, что он мельком видел в тусклом зеркале и за чем гонялся на протяжении всей своей земной жизни. Я не знаю, есть ли Бог, точнее, я думаю, что эта тема не для биографического исследования.
Я знаю, что Дорис три ночи провела у изголовья Фила в молитвах.
Из того, что Филип говорил о своем духовном опыте, Дорис сделала вывод, что он сбился с пути, что, ища живого Бога, он нашел только самого себя и тревогу своей плоти. Но он нашел Его, столь желанного, и Дорис хотела верить, что с таким желанием можно заблудиться, но не потеряться окончательно. Если бы Бог не пожалел Дика, в чем заключалось бы Его милосердие? Для чего вообще были бы нужны святые?
Дорис молилась о спасении его души, будучи уверена в том, что ее просьба исполнилась, в том, что мы все спасены, ведь именно для этого пришел на Землю Христос. И она обещала молиться об этом до конца своих дней.
(В момент написания этой книги ее жизнь продолжается, как и молитва[33].)
А затем линия на мониторе стала прямой. Так продолжалось пять дней. А через пять дней, 2 марта 1982 года, все было кончено.
Престарелый Эдгар Дик приехал забрать тело сына и отвез его в Форт Морган, штат Колорадо, где место на кладбище ждало его в течение пятидесяти трех лет. На стеле нужно было выгравировать только дату смерти. Когда Филипа отпустили к Джейн и старик, до того момента совершенно бесстрастный, увидел крошечный гробик младенца, он не выдержал и разрыдался.
ОТ АВТОРА
После смерти Дика его наследники сделали Пола Уильямса его литературным душеприказчиком. Все бумаги, включая Экзегезу и корреспонденцию, погрузили в небольшой фургон и перевезли в гараж к Уильямсу, в Глен-Эллен, который с того момента превратился в мифическое место для поклонников Дика во всем мире. Отсюда выходили объединяющие их выпуски «Новостей общества имени Филипа К. Дика» («Philip К. Dick Society Newsletter»), которые фиксировали развитие культа на протяжении вот уже десятилетия. Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы» способствовал популяризации творчества Дика, как и экранизация рассказа «Мы вам все припомним» («We Can Remember It for You Wholesale»), по мотивам которого был снят фильм «Вспомнить все» («Total Recall») с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Также можно вспомнить оперу по мотивам романа «ВАЛИС», другие кинематографические проекты, множество книг, рассказывающих о Дике, ссылающихся на Дика, книг, героем которых он является. Повсюду проходили посвященные ему мероприятия, напоминавшие университетский коллоквиум и в то же время собрание сектантов. Отныне ритуальным «гвоздем программы» этих собраний становится выступление английского комика Джона Джойса: он произносит перед поклонниками речь, с которой Дик выступал в Метце. Присутствуя при этом действе, сложно не вспомнить о Джо Чипе и его товарищах из «Убика», мир которых мало-помалу заполнял потусторонний образ Глена Рансайтера. Поклонники Дика неустанно сообщают о деталях, свидетельствующих о скрытой «дикизации» мира. Они полагают, и я вместе с ними, что в 1997 году обложку журнала «Тайм мэгэзин» вполне может украсить фотография Филипа Дика, признанного человеком года. В эпоху, когда его произведения массово переиздаются, а серьезные журналы посвящают этому писателю статьи, его почитатели испытывают те же смешанные чувства, что и первые христиане в момент признания Империей их веры. Они ликуют, но в то же время сожалеют о катакомбах, о героизме и о тайне. Некоторые немногие счастливцы, даже испытывая склонность к прозелитизму, перестав быть немногими, перестают быть и счастливыми. Уже пробил час признания Филипа Дика как серьезного писателя. Биография, которую вы только что прочли, является одним из доказательств этого.
Это уже четвертая биография за последние десять лет, и, безусловно, я многим обязан своим предшественникам. Во-первых, это Лоренс Сатин, автор книги «Божественные вторжения: Жизнь Филипа К. Дика» (Lawrence Sutin. The Life of Philip K. Dick); затем Анна P. Дик, которой я благодарен за то, что она любезно предоставила мне возможность ознакомиться со своим, к сожалению, пока неопубликованным произведением «В поисках Филипа К. Дика» (Anne R. Dick. In Search of Philip K. Dick). Я также прочел множество других книг, которые помогли мне в написании данного произведения, и я просто не могу перечислить здесь их все. Однако двух авторов я все-таки хочу упомянуть: сведения об употреблении ЛСД в Соединенных Штатах взяты из исследования Джея Стивенса «Бушующие небеса: ЛСД и американская мечта» (Jay Stevens. Storming Heaven: LSD and the American Dream), а игра в Крысу была описана и, по моему мнению, изобретена Томасом М. Дишем. (Thomas М. Disch).
И все же основным моим источником были творения самого Дика, именно оттуда я взял все то, что никем документально не засвидетельствовано или попросту придумано мной.
Почти все произведения Филипа Дика переведены на французский язык, но ранее их издавали в бумажном переплете, в так называемом «карманном формате». В данный момент готовятся к выходу полное издание его рассказов в издательстве «Denoël» и полное издание научно-фантастических романов — в издательстве «Presses de la Cité».
Кроме Анны Дик, я хотел бы также поблагодарить: Рея Нельсона, Джоан Симпсон, Тима Пауэрса, Джима Блейлока, Дорис Сотер и Пола Уильямса, которые принимали меня в Соединенных Штатах и рассказывали мне о Филипе К. Дике; Стефан Мартин, под влиянием которой я двадцать лет назад прочел роман «Убик»; Жиля Турнье и Николь Клер за их гостеприимство; Элен Коллон и Робера Луи за любезно предоставленные мне архивы и другую информацию; литературного агента Франсуа-Мари Сэмюэльсона и издателя Элизабет Жилль, которые поддержали мой смелый замысел; и наконец, всех тех, кто согласился прочесть мою рукопись и помочь мне усовершенствовать ее: Элен и Луи Каррэр д’Анкосс, моих родителей, Жаклин-Фредерик Фрие, Франсуазу и Патриса Бойе, Эрве Клэра. И отдельное спасибо моей жене Анне.
Примечания
1
Личностный опросник Вордсворта (Wordsworth Personal Data Sheet) состоял из 125 вопросов и использовался для тестирования призывников перед Первой мировой войной.
(обратно)2
Миннесотский опросник (Minnesota Multiphasic Personality Index) был составлен С. Хатуэем и Дж. Маккинли в 1940 г.; основан на типологическом подходе к изучению личности и занимает ведущее место среди других личностных опросников в психодиагностических исследованиях.
(обратно)3
Имеется в виду разработанный швейцарским психиатром Г. Роршахом тест для исследования личности, основанный на анализе восприятия испытуемым чернильных пятен.
(обратно)4
Частный мир (греч.).
(обратно)5
Общий мир (греч.).
(обратно)6
Филип Дик написал это в 1956 году, так что речь идет о краткосрочной научной фантастике. — Примеч. автора.
(обратно)7
«Не было никакого лампового шнура…» (нем.).
(обратно)8
Короткое повествование, вопрос, диалог, обычно не имеющие логической подоплеки, зачастую содержащие алогизмы и парадоксы, доступные скорее интуитивному пониманию; явление специфическое для дзэн-буддизма.
(обратно)9
Зрительное ощущение цветовых пятен, возникающее у человека без воздействия света на глаз, при механических, химических и электрических раздражениях сетчатки или зрительных участков коры головного мозга.
(обратно)10
«Освободи меня, Господи!» (лат.)
(обратно)11
Далекая возлюбленная (нем.).
(обратно)12
Бегущие по лезвию бритвы (англ.).
(обратно)13
Любовь (лат.).
(обратно)14
Любовь (греч.).
(обратно)15
См. примечание 18.
(обратно)16
Аббревиатура от тетрагидроканнабинол — один из основных каннабиноидов. Содержание ТГК в марихуане колеблется от 0,5 до 15 %, в гашише — от 2 до 10 %.
(обратно)17
Аббревиатура от фенциклидин (полное название фенил циклогексил пиперидин) — синтетический наркотический препарат.
(обратно)18
Чарлз Мэнсон — убийца, лишивший жизни в 1969 году в Лос-Анджелесе киноактрису Шарон Тэйт и еще шестерых человек. У Мэнсона, выступившего в качестве духовного лидера, была группа последователей (так называемая «семья»), вместе с ним принимавших наркотики.
(обратно)19
Сделал тот, кому это выгодно (лат.).
(обратно)20
Пролейтесь, слезы мои, ручьями. Изгнанный навсегда, я скорблю… (англ.) (обратно)21
«Земную жизнь пройдя до половины» (ит.); цитата из «Божественной комедии» Данте.
(обратно)22
Померкни, о тщеславный свет, Ни к чему твое сияние… (англ.) (обратно)23
Plombier — специалист по прослушиванию (англ., разг.), созвучно с plumber — водопроводчик (англ.).
(обратно)24
Произведение опроса космонавта или летчика-испытателя после выполнения задания (англ.).
(обратно)25
«Идя по жизни с закрытыми глазами…» (англ.).
(обратно)26
«Тень цветущей рощи» (англ.).
(обратно)27
Второе «я» (лат.).
(обратно)28
«Ник — ничтожество, Ник — дерьмо» (англ.).
(обратно)29
Святая Мудрость (греч.).
(обратно)30
Производное от греч. Hagia Moria — Святая Глупость.
(обратно)31
Скрытый Бог (лат.).
(обратно)32
«Апология (букв, речь в защиту) моей жизни» (лат.).
(обратно)33
Книга впервые опубликована в 1993 г.
(обратно)



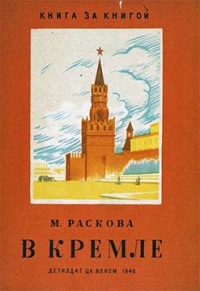
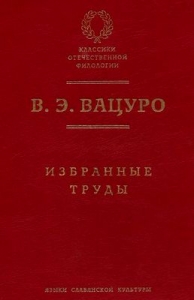
Комментарии к книге «Филип Дик: Я жив, это вы умерли», Эммануэль Каррер
Всего 0 комментариев