Виктор Мартинович Родина. Марк Шагал в Витебске
© В. Мартинович, 2017
© Е. Габриелев. Оформление, макет серии, фотографии на обложке, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
Предисловие
В 2013 г. премии «Оскар» и BAFTA в номинации «Лучший документальный фильм» получила картина Малика Бенджелулла «Searching for Sugar Man», повествующая о Сиксто Родригесе – американском музыканте, который после записи двух альбомов, не заслуживших признания публики, отошел от дел и занялся сначала ремонтом жилых помещений, а затем – вывозом строительного мусора. Но оказалось, что где-то между 1969-м и 1972-м несколько его пластинок попали в ЮАР, где царил апартеид. Совершенно неожиданным образом лирика Сиксто Родригеса, его песни о любви и свободе оказались созвучны мыслям и настроениям людей в ЮАР. Он стал невероятно популярным. Его пластинки расходились в нелегальных копиях – точно так же, как в СССР когда-то расходились записи The Beatles, воспроизведенные «на костях», т. е. на рентгеновских фотоснимках. Абсолютно неизвестный на родине, Родригес стал в ЮАР более знаменит, чем Элвис Пресли или Джон Леннон. Вся молодежь знала его, слушала его и восхищалась им.
В «Searching for Sugar Man» есть трогательный момент: запись реального телефонного разговора южноафриканских продюсеров, которые с большим трудом отыскали постаревшего и разочаровавшегося в собственной музыке Сиксто. Они нашли его и пригласили выступить в Кейптауне, столице ЮАР. Он прилетел вместе с семьей. В аэропорту его ждал белый лимузин. Выйдя из самолета, Сиксто, привыкший к неудачам и лишениям, аккуратно обошел роскошную машину и двинулся на паспортный контроль: он просто не мог поверить, что лимузин предназначен для него. Что, забытый и незаметный в своей стране, он может быть реальной звездой где-то еще в мире.
История, которую я собираюсь рассказать в этой книге, созвучна той, что показана в фильме. Марк Шагал, один из наиболее известных творцов XX столетия, мастер, за право считать которого «своим» борются Франция, США, Израиль и Россия, был, мягко говоря, не востребованным у себя на родине, в городе Витебске. Человек, любивший витебские заборы и витебские домики настолько, что поместил их на плафон парижской Opéra Garnier, оказался в ситуации сначала забвения, а потом – хорошо организованной травли, которая не утихала и после его смерти. Он не смог разбудить Витебск ни своим искусством, ни своими статьями, ни своими административными стараниями, когда служил в городе «комиссаром искусств». Попытки «защищать Шагала» многим людям в Витебске и Минске стоили карьеры и здоровья: в это действительно сложно поверить сейчас, когда плохо отпечатанные копии «Прогулки» украшают витебские автозаправки.
Можно задаться вопросом: ну зачем сейчас писать о Шагале? Ведь о нем столько уже написано! В том числе и о том самом периоде, с 1918-го по 1920-й, который Марк Захарович провел в родном городе. Но что значит «много написано»? Что значит «сказано все»? О Пушкине до сих пор пишутся монографии, защищаются диссертации, а о Шагале – «больше писать нечего»?
Оговорюсь: факты, о которых я собираюсь говорить в этой книге, в основной своей массе известны исследователям, находящимся в теме. Данный текст не является ни нарративом в области истории искусства, ни тем более чистым опытом искусствоведческих интерпретаций. Вместе с тем я лично вижу его важность в том, что он впервые собирает воедино разрозненные детали, лежавшие на периферии внимания шагаловедов. Как на самом деле воспринимались эксперименты художника по украшению города к первой годовщине Октябрьской революции? Почему в действительности он уехал из города? Прислушиваться к мнению самого маэстро – и я докажу это в первой же части этой книги – совершенно бесполезно: художник, столь искренний в живописи, был просто мастером мистификаций, умело пустившим по ложному следу толпы исследователей своих жизни и творчества.
Как так получилось, что его картины оказались замалеванными его же учениками? Куда делось наследие Шагала из музея, который он создал при училище? Почему он оказался под запретом после 1920 г.? Как так получилось, что еще в 2002 г. в центральной печати (газетах, являющихся государственными органами) на его родине выходили тексты, в которых он обвинялся в коррупции и кражах?
Меня интересует не то, как отзывался о своем «втором витебском периоде» М. Шагал в «Моей жизни». И не то, как интерпретировал образность картин, созданных в 1914–1915 и 1918–1920 гг., французский искусствовед N, никогда не бывавший не только в Витебском архиве, но и вообще в любом русскоязычном отделе библиотеки, так как он, конечно же, не говорит по-русски.
В 2008 г. я закончил комплексное исследование Витебской художественной школы, начатое еще в 1999-м – в эпоху, когда сам термин «Витебская художественная школа» нуждался в расшифровке и обосновании. Фокусом моей диссертации была репрезентация авангарда в городской и губернской печати, т. е. тексты, которые писали сами авангардисты о «новом искусстве» и «футуризме» в газетах и журналах (в том числе и в тех, которые «делали» они сами), а также то, как их эксперименты с цветом, формой и прочим оценивали в прессе. Работая в архивах, я смог разыскать и ввести в научный оборот несколько публикаций, которые до той поры считались утраченными либо вообще не были известны исследователям.
С момента завершения исследования прошло шесть лет. Мой интерес к Марку Шагалу и его витебскому кругу трансформировался в хроническую болезнь: я стал автоматически отслеживать все публикации на «мою» тему, превращаясь в такого же специалиста, каким является в вопросах инсулиновой зависимости любой страдающий от диабета человек. Шагал и Витебск стали моей зависимостью, избавиться от которой можно, лишь написав о них. Собрать воедино многолетние наблюдения, архивные выписки, разобрать накопившийся материал и выстроить его в книгу удалось в первую очередь благодаря поддержке австрийского Института гуманитарных наук и трем месяцам, которые я провел в Вене осенью 2014 г. Лекции, суммирующие материалы книги, прошли в ноябре 2014 г. в венском Institut für die Wissenschaften vom Menschen и в феврале 2015 г. в вильнюсском Novotel.
Полагаю, что сейчас, когда Шагала разрешили – так же истерически, как когда-то запрещали, – можно рассказать о таких вещах, о которых раньше, в разгар кампании, его очерняющей, говорить было бы неэтично.
Моя конечная цель состоит в том, чтобы представить трагедию Марка Шагала, не понятого земляками – ни в 1914-м, по возвращении из Парижа, ни в 1920-м, на пути в Париж. Но не нужно думать, что я собираюсь говорить лишь о том, что художнику было плохо в его Витебске. Ведь, непризнанный и полуголодный, осмеянный и преданный ближайшими друзьями, именно тут он придумал образный язык, которым говорил со своими зрителями до самой смерти.
«Sugar Man» Сиксто Родригес перестал писать музыку из-за того, что его никто не понимал.
Марк Шагал по этим же причинам стал гением.
Задача этой книги – в совмещении результатов многолетнего исследования с документальным воспроизведением биографии одного из самых известных художников XX в. Подозреваю, мои коллеги-исследователи упрекнут меня в излишней литературности подачи материала; читатель же, ожидающий «экшна», получит его в непривычной для easy-reading форме.
Я буду стараться держаться на границе, отделяющей историю искусств от методов социологии искусства. В первом случае моей опорой будет работа в архивах, прежде всего – в Государственном архиве Витебской области (ГАВО), а также компаративный анализ полученных результатов с воспоминаниями, перепиской и интервью очевидцев витебских событий.
Одним из факторов новизны и моего личного вклада в тему является фокус на газетной полемике вокруг дел уполномоченного по делам искусств, позволяющей существенно дополнить впечатление о годах, проведенных М. Шагалом на посту представителя Наркомпроса и директора училища. В частности, на протяжении трех лет я работал в фонде редкой книги Президентской библиотеки Республики Беларусь – одном из архивов ограниченного доступа, допуск в который осуществляется по разовым разрешениям, выдающимся по запросам государственных ведомств. Эта часть исследования позволила реконструировать публикации по теме в единственной оставшейся в Беларуси полной подшивке «Витебского листка» – наиболее активно писавшей про М. Шагала газете.
Все узловые утверждения в книге опираются на источники; часть цитируемых архивных материалов вводится в оборот впервые. Несмотря на интенцию автора быть понятным максимально широкому кругу неспециалистов, текст снабжен научным аппаратом и может восприниматься как адаптированная монография.
Необходимое уточнение: герой нашей книги родился в Витебске в 1887 г. В 1907 г. уехал из города для учебы – сначала в Петербург, затем в Париж. В июне 1914 г. он вернулся в Витебск из Берлина для женитьбы на Б. Розенфельд, остался в городе до 1915 г., после уехал в Петроград. 1918–1920 гг. провел в Витебске в статусе уполномоченного по делам искусств. В пределах этого текста мы будем интересоваться витебской жизнью художника, протекавшей в обозначенные выше временные отрезки. Кроме того, в фокусе нашего внимания будут события, происходившие с его наследием, а также с памятью о нем в Витебске после того, как он отбыл в эмиграцию. Активный период травли Шагала в БССР начался после того, как он умер. В этом смысле последняя часть книги будет своего рода летописью борьбы номенклатуры с призраком.
Часть первая Редко задаваемые вопросы о Марке Шагале
Марк Шагал ли Марк Шагал? Последним человеком, к мнению которого нужно прислушиваться биографу, является непосредственный герой биографии. Человек слаб, человек тщеславен, человеку свойственно представлять факты своей жизни так, чтобы он в них выглядел благообразнее. Поэтому любой фрагмент переписки, любое интервью или анкета, прежде чем стать «биографией», нуждается в тщательной проверке с опорой на документы, если таковые имеются в принципе.
В случае с М. Шагалом это понятное, в общем-то, правило приобретает несколько дополнительных осложнений. Мифы, ошибки и неточности тут являются тем самым языком, на котором биографы разговаривают друг с другом. Самые базовые, простейшие вещи при уточнении оказываются далекими от истины. Само понятие истины исчезает в множественных интерпретациях, подтасовках, натяжках и принятых от безысходности конвенциях («давайте договоримся считать это верным»).
Обстоятельства витебской жизни Марка Захаровича – идеальная модель для демонстрации кризиса исторического подхода к изучению событий даже самой недавней истории, невозможности докопаться до последней неоспоримой «реальности» и «правды».
В хрестоматийной фразе «Марк Шагал родился в Витебске 6 июля 1887 года»[1]первое и второе слово прямо неверны, четвертое слово долгое время являлось предметом споров, которые не утихли до сих пор (т. е. ошибки случаются в изданиях самых последних лет); что до даты рождения, то версий существует целых три[2]; приведенная в качестве окончательной версии, как водится, конвенциональна (шагаловеды договорились о том, что они не будут приводить никаких других дат).
Итак, Марк Шагал. Во-первых, вовсе не «Марк», а «Моисей»; имя Марк можно воспринимать как творческий псевдоним. Один из первых документалистов витебских лет М. Шагала, А. Шатских, утверждает, что «Марком» Мойше Шагал стал в Париже[3]. Б. Харшав к этому добавляет милую деталь: родители называли Мойшу Мошкой[4]– при всем желании трансформировать в это уменьшительно-ласкательное наименование имя Марк было невозможно из-за его аудиального несоответствия «Мошке».
Не менее интересна история и с фамилией художника. Дело в том, что прадеда и деда художника знали как Сегалов. А. Шатских об этом пишет: «…род Марка Захаровича из поколения в поколение носил очень распространенную в черте оседлости фамилию “Сегал”, и только отец художника по неизвестным причинам изменил ее на “Шагал”»[5].
Подтверждение этому находим в публицистике самого М. Шагала: «Но на самом деле какая разница между моим могилевским прадедом Сегалом, который расписал синагогу в Могилеве, и мной, разрисовавшим еврейский театр (и хороший театр!) в Москве? Уверяю вас, нам одинаково досаждали вши, хотя один из нас ползал по доскам в синагогах, а другой – по полу в театре. Более того, я уверен, что, если я перестану бриться, вы увидите точный его портрет…»[6]И еще упоминание о могилевском мастере Хаиме Сегале: «Я вспоминал своего прадеда, который расписывал синагогу в Могилеве, и плакал: ну почему он не взял меня сто лет назад к себе хотя бы подмастерьем? Ну разве не жаль, что он, заступник мой перед Господом, покоится сейчас в могилевской земле?»[7]
Что касается даты рождения Моисея Сегала, известного миру как Марк Шагал, то тут все тоже непросто: во всех анкетах художник сообщал, что появился на свет 7 июля 1887 г.[8], но и это вновь не так. Б. Харшав утверждает, что дата рождения – 25 июня 1887 г., однако, поскольку во время революции исчисление времени велось не по юлианскому, а по григорианскому календарю, появилась вторая дата: 6 июля 1887 г., также не совпадающая с версией самого М. Шагала. Объясняя, почему художник записывал свое рождение комбинацией 7\7\1887, Б. Харшав поясняет: «Он был уверен, что “7” – его счастливое число»[9].
Первая супруга М. Шагала, которую звали не Белла Розенфельд, а Берта Розенфельд[10], измененные имена, «плавающие» даты отъезда из Витебска и прочее, и прочее: все это – проявления некоего иного космоса, в котором логос подвижен и подвержен метаморфозам. Выдвигать гипотезы о том, почему Моисей стал вдруг Марком, а Сегал – Шагалом, можно исключительно в режиме предположений, натяжек и спекуляций, но мы бы тут держали в голове два обстоятельства.
Первое: мир человека, живущего одновременно в двух культурах (еврейской и «русской», т. е. витебской), двух языках (идише и «русском», на котором говорили в Витебске в конце XIX в.), порождает раскол идентичности, что, в свою очередь, влечет несколько иную картину самоосознания: факты, имена, даты начинают двоиться, перемещаясь через границы «ближнего круга», этнически и культурно близких людей.
Второй возможный мотив – это, собственно, сам образ жизни в черте оседлости после чудовищных еврейских погромов, прокатившихся по царской России в 1881–1882 гг. и не утихавших и в XX в.[11]В данном случае ощущение опасности постоянно было рядом, что заставляло множить свои имена, изобретать новые даты рождения – словом, защищаться от возможной точной идентификации.
Впрочем, помимо самого М. Шагала есть еще два источника постоянной путаницы в его биографии. Первый – составители всевозможных советских справочников и энциклопедий, намеренно стремившиеся «очистить» Витебск от памяти об этом всемирно известном художнике. Второй источник – родные М. Шагала, зачастую имевшие свое собственное отношение к тому, каким его нужно видеть потомкам. Классический пример – то, как третья (или вторая, ведь с Вирджинией Хаггард М. Шагал не был расписан) жена художника, Валентина Георгиевна Бродская, «перепозиционировала» Марка Захаровича из ниши «еврейских творцов» в нишу художников интернациональных: «Потом Ваве, хоть она сама и принадлежала к “избранному Богом народу”, захотелось, чтобы творчество Шагала перестало ассоциироваться с еврейством, – пишет И. Лыкова. – И художник подчинился. Для начала с его полотен исчезли раввины. Потом Шагал вдруг пригрозил подать в суд на авторов еврейской энциклопедии, если они упомянут там его имя. Старый друг Шагала – Бааль-Тшува, рассказывает: “Мы всегда беседовали между собой на идише, но стоило нам на улице поравняться с кем-нибудь из французов, как Шагал тут же переходил на французский”»[12].
Роль, сыгранная близкими и любящими М. Шагала женщинами в интерпретации фактов его жизни, может быть проиллюстрирована еще одним примером. В 1994 г. в Москве в издательстве «Эллис Лак» впервые на русском языке вышла автобиографическая книга М. Шагала «Моя жизнь»[13], о которой сам автор утверждал, что она закончена в 1922 г. в Москве. К тому, почему эта рукопись никак не могла быть закончена в Советской России, мы еще вернемся позднее, в разделе, посвященном мифам шагаловедения. Пока же для нас принципиально, что впервые выдержки из этого текста появились в печати в 1925 г. в Берлине в издававшемся на идише еженедельнике «Цукунфт»[14]. Отдельной книгой «Моя жизнь» была издана только в 1931 г. в Париже[15]. Русский оригинал рукописи утрачен, а перевод на французский готовила Белла Шагал с помощью учителя французского языка своей дочери. Б. Харшав подготовил в 2009 г. наиболее полное издание «Моей жизни», включающее в себя все сохранившиеся к настоящему моменту версии. Сопоставление авторизованного текста на идише с французским вариантом, подготовленным супругой художника, чревато многими сюрпризами.
Вот оригинал: «Утро – можно выйти и купить свежих круассанов. Но я засыпал. Спустя какое-то время приходила уборщица, то ли прибраться в студии (да, это совершенно необходимо, только, пожалуйста, не трогайте ничего на столе!), то ли просто, чтобы подняться ко мне. Я люблю французскую кровь. В своем стремлении разгадать секрет французской живописи, в своем желании ее превзойти мне нужно было попробовать французской плоти. Всем, кто приходил ко мне в студию, приходилось ждать за дверью. Примерно полчаса – минимальное время, необходимое мне для того, чтобы навести порядок в комнате и одеться. Я всегда работал голым… В принципе не выношу одежды. Лишняя тяжесть»[16].
Вот этот же фрагмент, переведенный Беллой Шагал: «Если повезет, придет Сандрар и накормит меня обедом. Войти просто так ко мне нельзя. Нужно подождать, пока я приведу себя в порядок, оденусь, – я работал нагишом»[17].
Для демонстрации текучести и подвижности фактов, касающихся биографии художника, мы намеренно взяли такие неоспоримые и константные, казалось бы, вещи, как имя и дата рождения. По мере развития этого повествования мы будем постоянно сталкиваться с множественностью интерпретаций, расхождениями в сроках, именах, причинах и проч.
Глупость, повторенная десять раз, становится истиной. Или по крайней мере начинает восприниматься как истина. Многочисленность авторов, писавших о М. Шагале, сыграла с фактами его жизни злую шутку. Многократная повторяемость мифов и глупостей утвердила прочтения, которые теперь крайне сложно декодировать как-то по-другому, не вызывая при этом скандала.
Мы тем не менее продолжим это делать.
Мифы шагаловедения
Миф первый. «Уроженец Лиозно»
В 2010 г. издательство «Директ-Медиа» в партнерстве с издательским домом «Комсомольская правда» в серии «Великие художники» издали альбом «Марк Захарович Шагал»[18]. Философия серии заключалась в максимально широкой популяризации «русских художников», к числу которых был отнесен наш герой. Ввиду этого альбомы стоили недорого и распространялись при поддержке «КП» – одной из наиболее популярных в России и Беларуси газет. Учитывая модель распространения и тираж (80 тыс. экз.), этот альбом стал, возможно, наиболее массовой книгой о Шагале на русском языке с момента его символической «реабилитации» в 1987 г.
Автор вступительного слова С. Королева сообщает нам, что М. Шагал «родился 6 июля 1887 года в местечке Лиозно недалеко от Витебска»[19]. С. Королева зачем-то уточняет, нанизывая парадоксы друг на друга: «Этот белорусский город находился в черте постоянной еврейской оседлости, то есть на территории Российской империи, определенной еще Екатериной второй для компактного проживания евреев, за пределами которой им селиться запрещалось»[20](в 1887 г. не существовало не только «белорусских» городов, но и самого понятия «Беларусь»; на стилистических шероховатостях нарратива останавливаться не будем). С. Королева уточняет: «В тот день, когда у Шагалов явился первенец, в Лиозно случился пожар, и мужчины отчаянно спасали мать Марка – Фейтэ-Итэ»[21].
Город Лиозно всплывает в качестве места рождения Марка Захаровича и в текстах авторов неизмеримо более авторитетных, чем С. Королева. Так, один из самоотверженных защитников и популяризаторов художника А. Вознесенский написал в статье, вошедшей в каталог выставки, посвященной 100-летию со дня рождения М. Шагала: «Я приехал в метельный Витебск в канун нынешнего, 1987 года. На площади устанавливали гигантскую, темную, еще не убранную, загадочную елку<…> Подъезжаем на улицу Дзержинского, бывшую 2-ю Покровскую, где чудом уцелел одноэтажный домишко художника. Он из красного узкого кирпича, о четырех окошках в белых окладах. Рамы крашены васильковым. Собака, именованная на воротах как злая, бешено срывается с цепи на поклонников Шагала. Собственно, художник родился не здесь, а под Витебском, в местечке Лиозно, где дядя его имел парикмахерскую, но младенца сразу же отвезли в город»[22].
Если даже такой авторитет, как поэт А. Вознесенский, лично знавший художника, утверждает, что тот родился в Лиозно, как можно подумать об ином? Тем более что и в «Моей жизни» видим отсвет «пожара», упомянутого С. Королевой: «Не помню кто, скорее всего, мама рассказывала, что как раз когда я родился – в маленьком домике у дороги, позади тюрьмы <…> вспыхнул пожар, – утверждает художник. – Огонь охватил весь город, включая бедный еврейский квартал»[23]. Единственное уточнение: далее в первоисточнике, в тексте воспоминаний художника, прямо заявляется, что горевший город был Витебском. Витебском, а не Лиозно.
Причина, по которой уважаемые авторы один за другим совершают ошибку, отправляя Шагала рождаться в Лиозно, заключается в том, что Лиозно называет местом рождения маэстро авторитетная «Большая советская энциклопедия»: «Шагал Марк Захарович, – сообщает нам издание. – Родился 7.7.1887 в Лиозно около Витебска». Отдельно обратим внимание на дату рождения: семерка действительно была его счастливым числом! Настолько счастливым, что ему удалось одурачить даже составителей энциклопедии!
К настоящему моменту среди специалистов споры о том, не мог ли М. Шагал появиться на свет в Лиозно, а не в Витебске, утихли. М. Шагал родился в Витебске[24]– это доказала А. Шатских еще в 1987 г. Утверждать, что Марк Захарович не витебчанин, – значит действовать вопреки опубликованным в шагаловских сборниках и материалах конференций документам. Исследователь творчества художника Б. Крепак отыскал документальное подтверждение даже тому, что пожар, описанный в «Моей жизни» и подразумеваемый С. Королевой, состоялся именно в Витебске. Читаем в книге Б. Крепака «Вяртанне імёнаў» («Возвращение имен»): «27 июля “Витебские губернские новости” написали, что 24 июля Витебск постигло большое несчастье. Во втором часу дня при сильном ветре во второй части города за Могилевским базаром возле Сенной площади загорелись магазины купца Магарила… Огонь охватил несколько кварталов домов»[25].
Интересно, что повод для всей этой путаницы дал сам художник, указывавший в анкетах в графе «место рождения»: «Лиозно, Витебск»[26] – совершенно в духе уже упомянутых мистификаций. Из этой фразы можно было сделать вывод, либо что Марк Захарович родился одновременно в двух местах, либо что Лиозно является районом Витебска (или что Витебск является регионом, в которой размещается город Лиозно). В действительности небольшой районный центр Лиозно находится от Витебска в 30 км и в настоящее время территориально относится к Витебской области.
К описанному выше мифу можно было бы относиться как к досадному и глупому недоразумению, если бы не совершенно четкое прикладное значение, с которым он применялся в 1980-х. Когда с подачи А. Вознесенского и витебских интеллектуалов в 1987 г. был поставлен вопрос о необходимости организации музея М. Шагала в Витебске, инструктор Витебского горкома Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии Г. Рябушев получил поручение исследовать вопрос о том, является ли дом № 11 по ул. Дзержинского в г. Витебске отцовским домом М. Шагала. О том, что последовало далее, читаем в статье Л. Хмельницкой: «В своей “Справке по проверке факта проживания в доме № 11 по ул. Дзержинского художника Шагала М. З.” он сделал следующие выводы: “Итак: 1) приписывать место рождения М. З. Шагала Витебску неосновательно; 2) в доме по ул. Дзержинского, 11 проживал ли он – это необходимо изучать более основательно. Как? Сейчас сказать трудно. Наконец, так ли уж важно установить и что это даст? Основание создать его музей? Но о чем должен быть этот музей? О его жизни и деятельности? Но тогда возникает очень существенный вопрос: достоин ли этот человек, чтобы к ней (так в тексте. – Л. Х.) привлекать внимание советских людей?”»[27].
Версия о лиозненской прописке М. Шагала, таким образом, долгое время помогала советским, а затем и постсоветским врагам художника «очищать» Витебск от памяти о нем. Зачем нужен памятник, если М. Шагал даже не в Витебске родился? Какой смысл делать музей, если на самом деле художник появился на свет в Лиозно?
Интересно тут лишь то, когда именно мифы, запущенные в оборот самим М. Шагалом и старательно поддерживавшиеся на плаву советскими и партийными «искусствоведами», перестанут воспроизводиться в современных и относительно деидеологизированных биографиях художника.
Миф второй. «Бросил студию Пэна через два месяца»
Прочитав с десяток биографий М. Шагала, можно прийти к выводу, что он был настоящим самородком, «почти нигде не учившимся дарованием», что его «школой» стали индивидуальные бдения перед картинами в Лувре в первый парижский период. Впитывание европейского искусства у него происходило не в хронологическом, а в каком-то глубоко индивидуальном порядке. А. Мальро по этому поводу констатировал, что история искусства для М. Шагала была «воображаемым музеем», а Б. Харшав сравнивает восприятие европейской классики этим художником с проходом через длинные галереи Лувра, в которых классицизм соседствует с барокко, барокко – с Ренессансом и т. д.
«Здесь, в Лувре, перед полотнами Мане, Милле и других, я понял, почему никак не мог вписаться в русское искусство», – вспоминает М. Шагал в «Моей жизни»[28].
История его отношений с петербургскими учителями описана в автобиографии достаточно лаконично. Л. Бакст предстает самодуром с самого начала, с образа «неприступной служанки»[29], которая сообщает потенциальному ученику, что маэстро «спит» в половине второго часа дня. Далее этот образ развивается и укрепляется: в частности, ученик возмущен бакстовским «барским» отзывом о том, что его, оказывается, «испортили». «Довольно с меня и этого! Сказать такое обо мне? О стипендиате в школе Общества поощрения художеств!..» – комментирует нарратор. Далее М. Шагал описывает «методы» Бакста (приходит в студию раз в неделю), его пренебрежительность к творчеству ученика: «“Чья это работа?” “Моя”. “Ну конечно. Я так и думал”. В моей памяти мелькают все углы и каморки, в которых я ютился: нигде и никогда не было мне так неуютно, как теперь, после замечания Бакста»[30]. Соответственно, самолюбие берет свое: «Нет, дольше так продолжаться не может. Следующая работа. Следующая пятница. Ни слова похвалы. И я перестал ходить к Баксту. Три месяца добрая, щедрая Аля Берсон платила за уроки, которые я не посещал. Это было выше моих сил. Наверно, я вообще не поддаюсь обучению. Или меня не умели учить <…>. В школу я вернулся через три месяца, полный решимости не сдаваться и добиться публичного одобрения мэтра. Новую работу я сделал, отбросив все правила <…>. И Бакст похвалил этюд.<…> Очень скоро я понял, что больше мне нечего делать в этой школе».
Есть лишь один учитель, которого художник ощутимо уважает – уважает настолько, что номинатив «мэтр» в его отношении не пропитан иронией или сарказмом. Это преподаватель витебской студии рисования Иегуда Пэн – единственный человек, с которым Марк Захарович продолжает переписываться в Витебске после своей эмиграции в 1922 г. вплоть до загадочной смерти Пэна в 1937 г., обстоятельства которой до сих пор не раскрыты. Открывая Витебское народное художественное училище, М. Шагал пригласил Пэна вести подготовительные классы, постоянно лестно отзывался о нем в собственной публицистике и интервью. В 1923 г., уже живя в Берлине, М. Шагал рекомендовал назначить Юдель Пэна на должность директора художественного училища (рекомендация учтена не была).
И вот с учебой М. Шагала у Пэна связана одна загадка. А именно – продолжительность этой самой учебы. Вот что читаем в «Моей жизни»: «Я получил от отца пять рублевых монет и неполных два месяца проучился в витебской школе Пэна. Что я там делал? Не знаю сам». Это утверждение не соответствует действительности, на что обращает внимание Б. Харшав, один из наиболее внимательных исследователей творчества М. Шагала. «Вопреки сложившемуся мнению (основанному на собственных мистификациях Шагала), Шагал обучался в студии Пэна вовсе не два месяца – он начал посещать студию Пэна в четырнадцать лет и занимался в ней (вероятно, с перерывами) до девятнадцати лет»[31], – констатирует Б. Харшав.
Историк искусства предлагает очень правдоподобную интерпретацию того, почему в «Моей жизни» М. Шагал как будто бы «дистанцировался» от своего учителя, заявляя, что учился у того в студии два месяца, в то время как реально провел там не менее пяти лет: «Реалистичный академический стиль Пэна его не устраивал, точная портретная живопись не прельщала…»[32]По сути, Ю. Пэн был воплощением академизма в рисовании; М. Шагал же бравировал тем, что от академизма ушел. Но внимательное прочтение «Моей жизни» позволяет прийти к выводу, что символического «предательства» Шагалом Пэна в рамках текста «Моей жизни» не было!
Действительно, тут есть фраза про то, что он занимался у Пэна «неполных два месяца», но затем, через несколько отвлеченных абзацев, следует разъяснение, которое все расставляет по своим местам: «Один из всех учеников Пэна, я пристрастился к фиолетовым тонам. Что это значило? С чего взбрело мне в голову? Пэн был так поражен моей дерзостью, что с тех пор я посещал его школу бесплатно»[33]. М. Шагал не говорит о том, что учился у Пэна неполных два месяца. Он говорит о том, что он платил за учебу неполных два месяца. А потом из-за собственного пристрастия «к фиолетовому» продолжал обучение уже бесплатно.
Как видим, когда герой биографии склонен к мистификациям, биографы начинают распознавать их даже там, где их не существует.
Миф третий. «Мандат, подписанный Луначарским»
Вопрос о том, каким образом М. Шагал оказался в сентябре 1918 г. на руководящей должности в Витебске, является ключевым для понимания событий, происходивших в городе вплоть до отъезда художника в Москву в 1920 г.
Долгое время бытовал миф о том, что мандат уполномоченного по делам искусств, наделивший М. Шагала властью, был выдан ему лично руководителем Народного комиссариата просвещения товарищем Луначарским Анатолием Васильевичем. К формированию именно этого мифа М. Шагал приложил свою руку в «Моей жизни».
С Луначарским художник действительно был знаком. Луначарский еще до революции, в бытность свою критиком, написал первую статью о Шагале, перепечатки которой в витебской прессе впоследствии помогли городу узнать хоть что-то о своем уже добившемся определенных успехов земляке[34]. Они встречались в Париже, эта встреча описана в автобиографии следующим образом:
«Улыбающийся нарком Луначарский принимает меня в своем кабинете в Кремле. Когда-то в Париже, перед самой войной, мы с ним встречались. Он тогда писал в газеты. Бывал в “Улье”, зашел и ко мне в мастерскую.
Очки, бородка, усмешка фавна. Приходил он взглянуть на мои картины, чтобы написать какую-то статейку. Я слышал, что он марксист. Но мои познания в марксизме не шли дальше того, что Маркс был еврей и носил длинную седую бороду. Я сразу понял, что мое искусство не подходит ему ни с какого боку.
– Только не спрашивайте, – предупредил я Луначарского, – почему у меня все синее или зеленое, почему у коровы в животе просвечивает теленок, т. д. Пусть ваш Маркс, если он такой умный, воскреснет и все вам объяснит»[35].
Отметим степень пренебрежительности, с которой художник (по авторской версии – еще в Москве, в 1922 г.) отзывается о К. Марксе. С учетом иконической роли, которую в раннесоветской идеологии играл К. Маркс, называть его «евреем» с «длинной седой бородой» по меньшей мере неразумно. Тем более интересно привлечение К. Маркса к оценке образности картин, да еще с едкой и очень типичной оговоркой: «раз он такой умный». Вообще, в тексте «Моей жизни» очень много признаков того, что он не мог быть закончен в 1922 г. в Советской России (а в конце рукописи стоит: «Москва, 1922»): революция большевиков называется здесь «переворотом», Ленин «приехал в пломбированном вагоне», перевернув Россию «верх тормашками, как я все переворачиваю на своих картинах». Маркс и культ Маркса систематически высмеиваются: бюсты этого мыслителя «размыло витебскими дождями», один из памятников «бородатому еврею» и вовсе «пугал кучеров», так как был «громоздкий, тяжелый» и «неприглядный».
Прочитав все это, поневоле вслед за Б. Харшавом обращаешь внимание на то, что первый раз в полном виде рукопись «Моей жизни» была опубликована лишь в 1931 г., а причиной, по которой в 1925 г. в Берлине на идише были изданы лишь ее фрагменты, могло являться то, что текст элементарно не был закончен. И «Москва, 1922» в конце этого автобиографического документа – такая же милая шутка, как фраза «родился в Лиозно 7/7/1887», оставленная в анкете.
Ведь чтобы получить представление о том, как в действительности высказывался М. Шагал о культурных вождях Советской России во время своей жизни в России, достаточно вспомнить фрагмент из опубликованной им в 1919 г. статьи: «А неутомимый нарком Луначарский вдохновенно носится от комиссариата в Зимний, от Зимнего – к художникам, от последних – к музыкантам и артистам, и от них – в Смольный»[36]. «Неутомимый нарком» и «марксист», поклоняющийся «бородатому еврею», – это, как сказали бы в Витебске тех времен, «две большие разницы».
Но вернемся к тому, как сцена посвящения в должность описана в автобиографии. Выразив свое пренебрежительное отношение к руководителю комиссариата просвещения («Я сразу понял, что мое искусство не подходит ему ни с какого боку»), Шагал заключает: «И вот теперь он торжественно посвящает меня в новую должность». Возникает впечатление, что административные таланты М. Шагала были настолько востребованы в новом государстве большевиков, что без художника-сверхнатуралиста (так называл Шагала Гийом Аполлинер) на ответственном посту в Витебске было никак не обойтись.
«Мандат, выданный А. Луначарским» пошел гулять по биографическим текстам и гуляет по ним по сей день. «Сам Луначарский выдал ему мандат»[37], – заключает И. Лыкова. «А.В. Луначарский назначил его уполномоченным по делам искусства в Витебской губернии»[38], – констатирует Б. Харшав. «А. Луначарский, народный комиссар просвещения, с которым Шагал был знаком еще по Парижу<…> подписал»[39]его мандат, – констатирует К. Ле Фоль.
Про «мандат, выданный Луначарским» пишет А. Вознесенский, причем со ссылкой на «городской архив»[40]. Вознесенский указывает номер мандата: «3051». На самом деле в городском архиве хранится не сам «мандат 3051», а его копия, снятая 29 сентября 1918 г. и отправленная циркуляром в Витебский губернский совет депутатов. Этот документ назначал М. Шагала «уполномоченным коллегии по делам искусств в Витебской губернии» с оговоркой: «Тов. Шагал[склонение женского рода!] предоставляется право организации художественных школ, музеев, выставок, лекций и докладов по искусству и всех других художественных предприятий в пределах г. Витебска и всей Витебской губернии».
А. Шатских была первой обратившей внимание на то, кто именно подписал «мандат 3051». Оказывается, не Луначарский, а заведующий отделом изо Наркомпроса «комиссар Н. Пунин». Луначарский мог оказать влияние на появление у Шагала этого мандата, но мог заступиться за М. Шагала и руководитель отдела изо Наркомпроса, сосед художника по парижскому «Улью» Д. Штеренберг. Этот «подписанный Луначарским мандат» долгое время сбивал с толку: сам Шагал, как видно из «Моей жизни», «тыкал Луначарским» в лицо несговорчивым витебским властям, когда нужно было выбить финансирование: «Как по-вашему, товарищ Шагал, что важнее: срочно отремонтировать мост или потратить деньги на вашу академию Искусств?» – цитирует художник чиновника губисполкома. И злорадствует: «Субсидию я все же получил, с помощью Луначарского».
Неизвестно, как часто в бытность свою «комиссаром искусств» М. Шагал «давал Луначарского». Человеку, поставленному Москвой руководить культурой в город и область, это как бы простительно. Но ряд документов позволяет предположить, что инициатива назначения М. Шагала в Витебск исходила вовсе не от А. Луначарского, как может показаться из текста «Моей жизни», а от самого художника, который хотел получить административную должность.
На это указывает исследователь жизни художника А. Лисов: «В газете “Известия Витебского губсовдепа” за это же число (№ 195) имеется заметка под заголовком “К открытию Городского художествен. училища и городского музея”. В ней говорится: “Нам сообщают, что художник Марк Шагал выехал в Петроград для утверждения в центре своего проекта об открытии в Витебске городского художественного училища и городского музея”»[41]. Сопоставляя дату появления подписанного Н. Пуниным мандата (14 сентября 1918 г.) с датой цитируемой публикации (12 сентября 1918 г.), А. Лисов приходит к выводу, что это «…может означать, что назначение художника явилось результатом его собственной инициативы, которая предшествовала решению Наркомпроса. Для Шагала новое положение, назначение – это возможность реализовать свои давние замыслы. Один из главнейших – организация художественного училища в родном городе».
Так часто бывает, что проверка разрушает опоры, на которых покоится миф. Исполинский купол Санта-Марии-дель-Фьоре не был первым проектом, осуществленным Филиппо Брунеллески, как об этом в упоении писал Вазари: до «купола» были еще Воспитательный дом, базилика Сан-Лоренцо и старая санкристия. Уменьшает ли это красоту мифа? Лишает ли это его силы? Нет. Миф живет автономно, в том числе миф о жителе парижского «Улья» Марке Шагале, приглашенном парижским знакомцем Анатолием Луначарским руководить культурой в городе и области.
Иными деталями лучше не интересоваться.
В истории – что в случае с Шагалом, что в случае с Брунеллески – останутся лишь дела, а не их интерпретации.
Миф четвертый. Шагал пригласил Малевича
«Малевич Казимир Северинович (1878–1935) был приглашен Шагалом для преподавания в Витебском училище в 1919 году»[42] – эта фраза из комментариев к первому русскому изданию «Моей жизни» на долгие годы запрограммировала восприятие конфликта, возникшего между Шагалом и знаменитым русским супрематистом в 1920 г. Мастер приглашает к себе коллегу-художника, который предает его, забирает всех учеников, а самого Мастера изгоняет из его вотчины: этот сюжет настолько распространен в истории искусства, что вправе стать одной из тех нескольких тем, которые Х. Борхес выделял как «цикличные» или «вечно воспроизводимые в культуре». И, однако же, это не случай М. Шагала. Он не приглашал в Витебск своего главного будущего оппонента.
Не приглашала в Витебск К. Малевича и известная «супрематистка» Вера Ермолаева. Некоторое время после отъезда М. Добужинского (примерно с апреля 1919 г.) она была заместителем директора Народного художественного училища, на этом основании ряд исследователей предполагают, что именно она и «вызвала» Малевича в город на Двине.
Об участии В. Ермолаевой в привлечении Малевича свидетельствует, например, К. Ле Фоль: «В начале ноября 1919 года по инициативе<…> В. Ермолаевой приехал новый преподаватель – Казимир Малевич»[43]. Интересно, что это утверждение К. Ле Фоль сопровождает ссылкой на две публикации, одна из которых принадлежит А. Шатских. Той самой А. Шатских, у которой читаем: «Упорно повторяемые в фактографии русского авангарда сведения о приглашении К. Малевича в Витебск именно ею(Верой Ермолаевой. – В. М.) как начальством училища расходятся с реалиями и являются ошибочными».
На самом деле сюжет тут таков: М. Шагал пригласил Эль Лисицкого, Эль Лисицкий же привлек в Витебск К. Малевича. Сам Лисицкий прибыл в Витебск в мае 1919 г. и был категорически не похож на ту иконическую для русского авангарда персону, которую мы знаем по поздним фотографиям и изображению «Клином красным бей белых»: таковым Лисицкий стал под воздействием обаяния, харизмы и теории прибавочного элемента в живописи, изобретенной К. Малевичем. В мае 1919 г. в Витебск приехал приятель Шагала, деятель еврейского искусства, интересовавшийся этнографией, фольклором и национальным ренессансом. Лазарь Маркович Лисицкий этого досупрематического периода не был склонен к космополитизму. Он рисовал синагоги и участвовал в этнографических экспедициях по изучению еврейского наследия. Некогда он, как и М. Шагал, учился в студии рисования Ю. М. Пэна. Лисицкий – пока еще не «Эль» (опять же, Элем он стал благодаря новоязу К. Малевича) – был призван М. Шагалом в народное училище по той простой причине, что Лисицкий окончил Рижский политехнический институт, где изучал архитектуру. Первоначальная же идея М. Шагала заключалась в том, чтобы объединить у себя в Народном училище все музы: и живопись с графикой, и скульптуру, и архитектуру. Единственным способным к преподаванию основ архитектуры из контактов М. Шагала оказался именно Л. Лисицкий. В сентябре 1919 г. Лисицкий должен был возглавить архитектурную мастерскую в училище.
Уже тогда Лазарь Маркович состоял в переписке с К. Малевичем (об этом свидетельствуют, например, письма К. Малевича М. Гершензону[44]). С Малевичем Лисицкий познакомился в Москве: Лисицкий работал в художественной секции Московского совета солдатских депутатов, которую К. Малевич возглавлял с 1917 г., оба входили в отдел изо Наркомпроса. Летом 1919 г. в Немчиновке К. Малевич написал текст «О новых системах в искусстве», в котором обосновал сформированный им самим стиль, супрематизм, как наивысшую и самую последнюю степень эволюции живописи от реализма к «сезаннизму», кубизму и, наконец, полному уходу от предметности – в «беспредметность и полный покой». Ввиду того, что в Москве в тот момент напечатать брошюру было невозможно, причем не столько из-за ее содержания, сколько из-за царившей в городе разрухи и бедности, он активно искал издателя для своего труда.
В середине октября 1919 г. Л.М. Лисицкий прибыл в Москву с документом, дающим ему полномочия «на приобретение разнообразных материалов и средств для оборудования печатной мастерской в Витебском народном училище»[45]. Естественно, что, встретившись с Малевичем, который искал, где бы напечататься, Лисицкий предложил ему издаться в Витебске и вообще переехать в Витебск. К. Малевич оценил ситуацию молниеносно. В его заявлении об увольнении, направленном в Совет художественных мастерских, напоминалось о том, что он не имеет квартиры в Москве, вынужден жить на холодной даче, что ему не хватает дров и света, а Витебские мастерские «предоставили мне все условия к жизни и работе»[46]. Педантичный в вопросах оплаты собственного труда художник тут же, в заявлении, напомнил о задолженности по зарплате и попросил высылать ее в Витебск, на ул. Бухаринскую, где располагалось Витебское народное художественное училище. В Витебск они прибыли вместе: Лазарь Лисицкий, уже плавно преобразовывающийся в Эля, и его новый кумир и учитель[47].
Еще раз подчеркнем: К. Малевич появился в числе преподавателей Народного художественного училища достаточно поздно. Учебное заведение получило здание 10 ноября 1918 г., прием учащихся был открыт 28 января 1919 г., К. Малевич прибыл в Витебск лишь 5 ноября 1919 г., так что училище вряд ли можно считать его «детищем».
К конфликту между М. Шагалом и К. Малевичем мы еще вернемся в главе, посвященной непосредственно витебским неудачам художника. Пока же приведем один фрагмент, который при внимательном прочтении дает исчерпывающее представление о том человеческом типе, о том характере и темпераменте, который появился в училище благодаря приглашению Лазаря Лисицкого в ноябре 1919 г. Вот как прошла церемония встречи К. Малевича: «Вся школа собралась внизу, в холле здания, где всегда происходили общие собрания. Из холла на второй этаж дома вела открытая одномаршевая лестница. М. Шагал объявил о прибытии в школу нового преподавателя – и после этого выступления на верхней площадке появился круглоголовый крепкий человек и медленно стал сходить по ступеням, делая широкие размашистые движения руками. Спустившись вниз, он взошел на подиум-сцену и, не говоря ни слова, продолжал делать нечто вроде гимнастических упражнений; плотная коренастая фигура делала его похожим на борца или атлета. Эффект был оглушительный…»[48]
Всего через 10 дней после приезда К. Малевича, 15 ноября, было написано «Установление А» – свод законов для витебских адептов К. Малевича. Они встречали друг друга «супрематическим приветствием» («у-эл-эль-ул-эл-те-ка!»[49]) и разговаривали на «супрематическом» языке междометий и сокращений. Их слоганом стала фраза из той самой изданной в Витебске брошюры «О новых системах в искусстве»: «Ниспровержение старого мира искусств да будет вычерчено на ваших ладонях»[50].
До отъезда преданного всеми учениками М. Шагала из Витебска оставалось 6 месяцев…
Миф пятый. Шагала «не пустили» в Витебск
В 1973 г. состоялся первый после эмиграции визит М. Шагала в СССР. Художник приехал в Москву открывать выставку, которая его откровенно разочаровала: по воспоминаниям очевидцев, экспонировалось лишь несколько «скромных литографий и картин» из запасников «в Третьяковской галерее»[51].
Поездка имела крайне важное символическое значение: хрущевская оттепель приоткрыла железный занавес, это сделало возможным приезд изгнанника, однократный, с ознакомительными целями. При Ленине или Сталине такие визиты в принципе были немыслимыми: вернуться из эмиграции можно было лишь для того, чтобы навсегда остаться, покаяться и внести вклад в советскую науку или культуру. Так вернулся в 1932 г. из Италии Максим Горький (вспомним его хвалебный отзыв о Соловецком лагере); так в 1923 г. приехал из Германии литературовед Виктор Шкловский, которому в 1932 г. пришлось принять участие в прославлении строившегося заключенными Беломорско-Балтийского канала. Была и другая схема возвращения – когда вернувшегося изгнанника «брали» после приезда: так, например, во время своего ареста ОГПУ в 1930 г. за «шпионаж» Казимир Малевич имел возможность пожалеть о том, что не остался в Германии в 1927 г.
В случае с визитом Марка Шагала в 1973 г. было как-то сразу понятно, что обратно его выпустят: во-первых, время другое; во-вторых, живописец прибыл по приглашению Минкульта и встречали его радушно, не как бывшего «своего», а как уже совершенно иностранного гостя, которому как бы и мстить не за что.
И вот Шагал в СССР – в стране, на северо-западной окраине которой, в республике с непонятным для него названием БССР, находится город, который он рисовал всю свою жизнь: город покосившихся заборов, горбатых мостовых, деревянных домиков и перекрученных жизнью прохожих. Конечно, он должен был поехать в Витебск: этого ждали все. Казалось, он и согласился на этот визит только ради Витебска. Но в Витебск он не поехал.
Он, повторимся, поместил узнаваемые очертания горизонтов Витебска даже на плафон парижской Opéra Garnier, он запечатлевал витебские пейзажи по памяти, где бы ни жил: в США, во Франции, в Италии. И вот, оказавшись с Витебском в одной стране, имея вроде бы возможность совершить путешествие на родину, он туда не поехал…
Конечно, возникла версия о том, что в Витебск Марка Шагала попросту не пустили. Читаем у Г. Райхельсона: «Растроганный и взволнованный мэтр произнес короткую, очень искреннюю и сердечную, в чем-то неожиданную и удивительную речь: “Я сердечно благодарен вам за приглашение сюда, на мою Родину, после 50 лет разлуки… Вы не видите на моих глазах слез, ибо, как ни странно, я вдали душевно жил с моей Родиной и Родиной моих предков… Как дерево с Родины, вырванное с корнями, я как бы висел в воздухе… Можно обо мне сказать все, что угодно, – большой я или небольшой художник, но я остался верным сыном моих родителей из Витебска…” В Витебск Шагала не пустили – как и большинство провинциальных городов, он был закрыт для иностранцев из капиталистического мира»[52].
Что в Витебск М. Шагала не пустили, предполагает и Б. Харшав: «…в Советский Союз (но не в родной Витебск!) ему разрешили приехать лишь в 1973 году»[53], – констатирует исследователь творчества художника.
Эта версия о тайном или явном запрете, с которым художнику пришлось считаться, всплывает с 1973 г. с завидным постоянством. Но это очень странная версия. Ведь даже если «провинциальные города» были «закрыты» для «иностранцев из капиталистического мира», для художника можно было сделать исключение! Ведь одним большим исключением был сам этот визит! Эмигрант приглашается на вернисаж своих работ в Третьяковскую галерею, встречается с официальными лицами – повторимся, все это само по себе уже отзвук хрущевской оттепели. И даже если Витебск как таковой был закрыт – по соображениям безопасности или секретности какого-либо производства, размещенного поблизости от областного центра, – ведь М. Шагала могли туда сопроводить ответственные товарищи с незапоминающимися лицами, которые наверняка незримо присутствовали рядом все время его поездок по Москве и Ленинграду. Зачем же, разрешая одно, категорически запрещать другое?
Есть и еще один аргумент, не позволяющий поверить в версию о запрете: дело в том, что М. Шагал был человеком достаточно эмоциональным и искренним. В своих интервью и публичных высказываниях он зачастую произносил вещи, которые произносить не принято. Любой желающий может поинтересоваться, кому принадлежит фраза, являющаяся одним из наиболее остроумных оскорблений в истории искусств: «Какой же гений этот Пикассо! Как жаль, что он не занимается живописью!»
Если бы вдруг какой-нибудь офицер госбезопасности, представитель МИДа или дядечка из Минкультуры СССР передал бы Шагалу свистящим шепотом на ухо «пожелание» не предпринимать попыток осмотреть Витебск, то это конкретное пожелание вместе со свистящим шепотом оказалось бы на первых полосах французских и американских газет сразу после пересечения М. Шагалом государственной границы СССР. Даже с точки зрения логики: если допустить, что художник с его летающими влюбленными и пылающими скрипачами представлял какую-то угрозу национальной безопасности или идеологии СССР, его присутствие в Москве и Ленинграде было куда большей проблемой, чем однократная поездка в Витебск.
Есть еще одна версия, объясняющая отказ ехать в Витебск: простуда. «Естественно, из Москвы Марк Захарович собирался заехать в Витебск, но… Он забыл, что московское лето – это вам не французское, посидел в гостинице на балконе, его продуло… Вава сказала: “Придется поездку в Витебск отменить. В твоем возрасте простуды очень опасны”. На этот раз муж послушался, и Валентина Георгиевна успокоилась: ее прежние позиции отвоеваны»[54], – пишет И. Лыкова – осведомленная настолько, что даже позволяет себе цитировать разговор Шагала с его второй женой в режиме прямой речи. Интересно, на каком языке Вава сообщила вот это: «В твоем возрасте простуды очень опасны»? На французском? И как ее «послушался» муж – тот самый муж, который, например, настоял на поездке в Москву рейсом «Аэрофлота» после того, как за два дня до его полета в СССР советский самолет ТУ разбился прямо во время демонстрационного полета в небе над Парижем? А. Вознесенский вспоминает, как они просматривали замедленные кадры катастрофы снова и снова – шесть смертей, Вава отговаривала Шагала лететь, но тот настоял на своем[55]. А тут вдруг – сквозняк, жена строгим голосом сообщает, испуганно оглядываясь на стоящую тут же, на балконе в их гостинице, И. Лыкову с диктофоном: «Придется поездку в Витебск отменить», и Шагал покорно качает головой: да, придется (И. Лыкова вместе с диктофоном удаляется писать статью «Единственная любовь Марка Шагала… и две другие»)! Впрочем, о «сквозняке», не пустившем маэстро в родной город, сообщает нам не только Лыкова, но и куда менее осведомленные, чем она, авторы – тот же А. Вознесенский: «Приехав, Марк Захарович мечтал о встрече с Витебском и боялся ее. Конечно, Витебска его детства и след простыл. Война разрушила многое, а в 50-х годах уничтожили знаменитый соборный силуэт города. Увы, просквозившись на балконе гостиницы, старый мастер простудился – о поездке не могло быть и речи»[56] (заметим при этом, что поэт и знаток биографии живописца воздерживается от пересказа фрагментов диалога на этот счет – хотя, в отличие от И. Лыковой, наверняка мог бы).
Простывший Шагал продолжил исполнение программы визита: совершил переезд Москва – Ленинград. А в Витебск не поехал. Хотя, казалось бы, что ему делать в СССР, как не ехать в свой родной город, мнящийся ему повсюду? Простуда, сквозняк, хлюпающий нос – все это какие-то комичные причины для того, чтобы воздерживаться от поездки всей жизни. Иисус не пошел поститься в пустыню потому, что заболел. Авраам не совершил перехода в землю Ханаанскую потому, что его просквозило. Сидел на балконе в гостинице, а у Евфрата такие сквозняки…
Если бы я был И. Лыковой, я бы вообразил в деталях другой, более драматичный разговор: разговор М. Шагала с А. Вознесенским.
Андрей (с энтузиазмом): Ну что, Марк Захарович, когда махнем в твой Витебск?
Марк (отводя глаза): Я, наверное, не поеду.
Андрей (растерянно): Как не поедешь? Как не поедешь, брат? Ты знаешь, чего стоило все устроить?
Марк (устало): Андрей, я простыл. Меня продуло.
Андрей: Июнь на дворе! Как продуло?
Марк (опустошенно): Вот так продуло. Я сидел на балконе, а тут сквозняк. (Марк выходит из комнаты.)
Простуда – версия, равнозначная запрету. Такой же бред, такая же отговорка. Красота ситуации в том, что Шагалу могло ничто не мешать ехать в город детства. Ни КГБ, ни Минкульт, ни Интурист, ни комитет по идеологии горисполкома, ни насморк, ни першение в горле. Такое решение не мог принять никто, кроме него самого, Марка Шагала. Запреты, которые мы налагаем на себя сами, – самые страшные запреты. Ведь их не обойдешь.
Во время визита в СССР Марк Захарович дал одно-единственное интервью – искусствоведу А. Каменскому. Эту эпоху ярко характеризует тот факт, что дать интервью Марку Шагалу позволили, а опубликовать это интервью искусствоведу А. Каменскому – нет. Интервью пролежало неизданным 14 лет, вплоть до перестройки, когда его напечатал культовый в ту пору журнал «Огонек». Вот что сказал Шагал Каменскому в той «поставленной на паузе» беседе: «Я безгранично люблю свой родной Витебск не просто потому, что там я на всю жизнь обрел краску своего искусства… После долгих колебаний я отказался сейчас ехать в Витебск, хотя вспоминаю о нем всю жизнь. Поэтому и отказался, что вспоминаю. Ведь там, наверное, я увидел бы иную обстановку, чем та, которую я помню, иную жизнь. Это было бы для меня тяжелым ударом. Как тяжко навсегда расставаться со своим прошлым!»[57]
А писатель Василь Быков спустя годы добавил: «Этот умный старый человек понимал, что он не отыщет того, чего нет… Ведь послевоенный Витебск – это совершенно изменившийся город… Поэтому, чтобы не разрушать в себе самое дорогое, не надо заново искать его»[58].
Если бы я писал повесть о Шагале, о его драме, о его изгнании, я бы нарисовал этот эпизод: художник мается у себя в гостиничном номере, скоро придет А. Вознесенский, которому надо сказать, едешь ты или нет. И он мучается, он решает: вернуться в город, который он так любил и в котором его так ненавидели, или нет? Увидеть выровненные улицы, снесенные церкви, закрытые и перестроенные синагоги, или нет? Увидеть асфальт, которым залиты мостовые или нет? Позволить реальности – уродливой советской реальности 1970-х – вторгнуться в сокровенный мир детства, которым питались его картины, или нет?
И он решает не ехать и не сильно утруждает себя продумыванием объяснений. Все равно те, кто нужно, поймут, а остальные поверят в версию про простуду. Все равно это толком и не объяснишь – даже если хотел бы. Такое можно только почувствовать. А чтобы почувствовать, нужно самому – хотя бы на время – превратиться в изгнанника.
Есть места, в которые невозможно вернуться. Места, где ты любил в первый раз. Места, где живут важные для тебя мертвецы – посети ты такое место, и эти тени, с которыми разговариваешь, когда тебе тяжело, уйдут навсегда. К таковым относятся также места, где ты был счастлив, несмотря на то что почти голодал.
И снова процитирую А. Вознесенского: «…номер его в отеле был завален корзинами цветов и торжественными дарами. Но гениальный голубоглазый мастер, с белоснежной гривой, как морозные узоры на окне, разрыдался над простым букетиком васильков – это был цвет его витебского детства, нищий и колдовской цветок, чей отсвет он расплескал по витражам всего мира от Токио до Метрополитен»[59].
86-летний Шагал, задыхающийся от слез над васильками, ждущими его в пшеничных полях его родных мест – мест, куда он решил не ехать, – образ, по пронзительности равнозначный картинам самого художника.
Витебск, Россия
Тем чудовищным вещам, которые будут описаны в последней части этой книги, сложно найти логическое объяснение. Как так получилось, что уничижительная травля, продолжавшаяся и после смерти художника, знаменитого везде, кроме его бедной родины, не встречала никакого сопротивления среди сограждан? Почему никто или почти никто из жителей БССР не выступал в его защиту? Почему витебчане не забрасывали советские журналы, в которых утверждалось, что Шагал был «вором» и «мошенником», возмущенными письмами? Почему инициатива интеллигенции о создании музея в 1987 г. так и осталась стремлением единиц, не поддержанным массами?
Думается, искать ответы на эти вопросы нужно в парадигме социального конструктивизма, а именно в области проблем идентичности. В случае с Марком Шагалом мы видим совершенно особый тип идентичности, который не встречался больше нигде. Без всякого сомнения можно сказать, что эта идентичность конструировалась необычным, больше нигде не повторенным образом.
Итак, первое, что приходит в голову в связи с «коллективным я» или «воображаемым сообществом» (Б. Андерсон), к которому можно было бы отнести М. Шагала, – это то, что он еврей. Рожденный в еврейской семье, в еврейском местечке, он понимал идиш, знал традиции, воспроизводил фрагменты еврейской национальной культуры на своих полотнах. В этом первом приближении мир творчества М. Шагала – это мир сна еврейского ребенка, заполненный произвольно перемешанными и иногда кубистически переосмысленными символами этой культуры: скрипка, семисвечник, раввин, синагога.
После эмиграции в Париж – примерно тогда, когда рядом с витебскими синагогами начали встречаться пл. Согласия, Эйфелева башня и другие узнаваемые знаки «французскости», – М. Шагала стали относить к художникам французским. При этом его французская идентичность на первых порах осложнялась плохим знанием французского языка – настолько плохим, что в 1931 г. он не смог вычитать перевод «Моей жизни», подготовленный Беллой Шагал, и оставил там многочисленные несовпадения с оригинальным текстом[60]. Впоследствии язык был освоен М. Шагалом настолько, что со своей американской сожительницей Вирджинией Хаггард он говорил именно по-французски, но правописание он не освоил даже в поздние годы, писал «очень неграмотно (о чем свидетельствуют его написанные от руки письма…»[61]. Французом в глазах французских исследователей Шагал стал по той причине, что долгое время жил во Франции и умер в Сен-Поль-де-Вансе на Ривьере, «рисовал Францию», если, конечно, его искусство в принципе можно воспринимать как репрезентативное.
Интересно при этом, что годы жизни М. Шагала в США (1941–1948) не сделали его американцем – он так и не выучил язык и все новости получал из газет, которые читал на идише.
Третья, самая большая часть идентичности М. Шагала – это идентичность русская. «Марк Шагал – русский» – так было сказано в одной из первых больших публикаций о М. Шагале за рубежом, напечатанной в газете «Дер Штурм» в 1923 г. «Русскость» М. Шагала постулируется едва ли не в каждой книге, которая пишется о нем в России. В 2003 г. был опубликован второй том фундаментальной монографии А. Крусанова[62]о русском авангарде, где все события, касающиеся возникновения «витебской школы», «витебского авангарда», интерпретировались в рамках российской визуальной идентичности. По мнению А. Крусанова, витебского авангарда как отдельного явления в художественной культуре 1919–1922 гг. не существует: есть лишь «витебский период» в творчестве русских художников К. Малевича, М. Шагала, Л. Лисицкого, М. Добужинского и др.[63]Красноречив раздел, в котором А. Крусанов рассказывает о времени работы М. Шагала уполномоченным по делам искусства в Витебске: «Левое искусство в провинции», название главки – «Юго-Западная Россия и Белоруссия».
Точку зрения А. Крусанова можно было бы воспринимать как часть интернациональной полемики об этнической и визуальной «прописке» художника, но туда же, в «российскую степь», заворачивает большинство зарубежных исследователей творчества. Так, в 2009 г. вышел русский перевод книги американца Б. Харшава, где в разделе «Вопрос о самоидентификации» рассматриваются многочисленные национальные составляющие «я» М. Шагала. Слов «Беларусь» и «белорусский» там просто нет. И это при том, что Витебск – город, без сомнений, белорусский и никто этот факт не оспаривает.
Почву для исключения М. Шагала из пространства белорусской идентичности в некотором смысле дал он сам, повсюду заявляя, что он – художник «русский»: «Меня хоть и во всем мире считают “интернац.” и французы рады вставлять в свои отделы, но я себя считаю русским художником, и мне это приятно»[64].
Однако что он имел в виду, когда называл себя «русским»? С какой именно Россией он себя ассоциировал? С Россией Петербурга и Москвы или с Россией Песковатика – еврейского района в пределах губернского Витебска? Можно ли считать «русским» тот язык, который он воспроизводит в своей публицистике, например в «Витебском листке»: «Пусть мы, как не прикрепленные нигде, ни в коем случае и пообедать права не имели…»[65] – или это такой же особенный русский, как тот, на котором разговаривают в Одессе? И можно ли продолжать называть Витебск «Россией» теперь, когда это просто фактически неверно?
Все эти странные вопросы возникают из-за одного необычного обстоятельства: государство, вернуть которому М. Шагала последние 20 лет пытаются витебские исследователи, попросту не существовало в годы жизни художника в Витебске. Подробный рассказ о том, что такое «белорусская история» или история «белорусского Витебска», занял бы отдельную книгу: тут нужно вспоминать о ВКЛ – могущественной литовско-белорусской державе, простиравшейся от Балтийского до Черного моря, об униатстве, о католицизме, о правах, данных евреям князем ВКЛ Альгердом; о включении Витебска в состав Российской империи в результате последнего раздела Речи Посполитой, о разгроме города русским царем Петром, о сожжении храмов его солдатами, о том, наконец, как в XIX в. поменялось значение слова «Литва»… Мы не будем утомлять читателя этими сложными подробностями. Расскажем лишь о том, что имеет непосредственное отношение к нашей теме и нашему периоду.
В момент появления в Витебске уполномоченного по делам искусств М. Шагала (сентябрь 1918 г.) суверенного белорусского государства не существовало. Первый раз слово «Белоруссия» зазвучало в речах представителей органов управления лишь через 3 месяца, в декабре 1918 г., когда VI Северо-Западная областная конференция РКП(б) в Смоленске провозгласила себя I съездом компартии Беларуси и приняла постановление о создании Советской Социалистической Республики Беларусь (ССРБ). Однако уже через две недели по требованию ЦК РКП(б) и исходя из политической обстановки (приближался фронт) город Витебск, а также Смоленскую и Витебскую губернии «выделили» из ССРБ и присоединили их к РСФСР, т. е. к России. На территории Минской, Гродненской и Виленской губерний образовалась Литовско-Белорусская ССР, «Лит-Бел». 25 марта 1919 г. группа романтически настроенных интеллигентов провозгласила на территориях, оставленных Красной армией, но еще не занятых наступающими немцами, Белорусскую народную республику, границы которой захватывали и часть Витебской губернии. Республика продержалась лишь несколько месяцев, но ее создание отмечается в Беларуси до сих пор как прекрасная, хоть и наивная попытка государственного строительства в геополитических условиях, к этому явно не располагавших. В июле 1920 г. состоялось второе провозглашение Белорусской ССР, территория которой включала лишь шесть уездов Минской губернии (Витебск был в составе РСФСР). Происходившие одновременно война с Германией и Польшей, затем – Рижский договор 1921 г. еще несколько раз меняли границы будущей Беларуси. И только в 1924 г. Витебск был передан БССР в числе других территорий, которые ранее принадлежали РСФСР (переданы были также Витебский, Полоцкий, Гродокский, Могилевский, Рогачевский, Быховский, Климовичский и Чаусский уезды). В БССР Витебск был до 1991 г., когда в результате распада СССР появилось независимое белорусское государство.
Таким образом, в момент прибытия М. Шагала в Витебск этот город принадлежал РСФСР. В момент образования БССР в нынешних границах (1924 г.) М. Шагал уже был в эмиграции, покинул как Витебск, так и Советскую Россию. Суверенная и унитарная Республика Беларусь появилась лишь через шесть лет после смерти художника.
В некотором смысле Марк Шагал полноценного самоопределения Витебска так и не застал. Он не мог услышать о тех процессах, которые протекали в Беларуси в начале 1990-х: о возрождении внимания к белорусским художникам XIX и XX вв., о появлении национальной мифологии, связанной с их образностью. Более того, ввиду многочисленных самонаименований себя «русским», а также ввиду того, что в его творчестве отсутствовали символы, которые помогли бы его связать с белорусской историей и этничностью, он был как бы исключен из процесса формирования новой, постсоветской визуальной идентичности.
В документальных фильмах и альбомах ранних 1990-х рассказывалось о современниках М. Шагала, например об этнографе и мистическом реалисте Язэпе Дроздовиче (1888–1954) – легендарном человеке, степень отторжения которого в СССР была такой, что ему приходилось голодать. Он скитался по селам, писал картины за еду и закончил жизнь, замерзнув в сугробе во время перехода от одной деревни к другой. Дроздович, наряду с пейзажами Марса, Венеры и Сатурна, изображал на своих живописных полотнах такие символы, как бело-красно-белый флаг, иконический для белорусской национальной идеи, или древний, досоветский герб «Пагоня» – это давало почву включать его в пантеон новых идолов, ставить ему памятники в центре Минска тогда, когда идея возведения памятника М. Шагалу в городе, который он прославил на весь мир, еще даже не обсуждалась. Подробнее о Я. Дроздовиче можно узнать в одной из самых полных антологий белорусского изобразительного искусства XX в., написанной С. Хоревским[66].
Так часто бывает, что после обретения художником славы за право считать его «своим» начинают сражаться страны, в которых он жил, где отдыхал или где, будучи проездом, написал какое-нибудь значимое произведение. Так было с В. Ван Гогом, которого не могут поделить между собой Нидерланды и Франция, или с М. Эшером, за которого сражаются Швейцария, Италия, Голландия и Бельгия. Торговцам сувенирами в Гааге хочется помещать на майки и чашки «Относительность» Эшера не меньше, чем того же хочется торговцам в Брюсселе или Эйдене, – это примитивное объяснение работает и на более высоких уровнях.
Но в случае с Витебском мы видим нечто уникальное: страна, в которой сейчас находится этот город, появилась уже после того, как М. Шагал уехал из Советской России. Народ, живущий в этом городе, долгое время, равно как и М. Шагал, считал себя «русским», так как жить в БССР и не считать себя «русскими» вообще было сложно: составляющими «белорусскости», конструируемыми советской школой, советским музеем и советской картой[67], были участие белорусов во Второй мировой войне, партизаны, русский язык, трактора «Беларус» – словом, все то, что в равной степени конвертировалось в идентичность метрополии[68], к которой относилась эта советская республика.
Невозможно сообщить мертвому гению, что он – «не русский», а «белорус». Невозможно вписать в уже музеефицированные произведения искусства национальные или исторические символы, которых там изначально не было (хотя такие случаи в истории искусства новых постсоветских республик происходили). Вообще, не М. Шагалу нужна Беларусь и белорусская идентичность, а М. Шагал был нужен этой самой идентичности, которая его прежде не замечала.
Описанный выше парадокс государства, которое возникло слишком поздно, теперь можно лишь держать в голове для того, чтобы понимать, отчего сограждане и земляки М. Шагала вели себя в 1920 или 1987 г. именно так, как они себя вели, а не как-то по-другому.
Как Шагал стал левым художником
Последний парадокс, на который хотелось бы обратить внимание в первой части нашего текста, – это то, как М. Шагал с его сентиментальным и нелогичным искусством, с его летающими евреями и зелеными коровами в принципе смог стать частью проекта власти, утверждавшегося после 1917 г.
И этот вопрос касается не только М. Шагала. Как так получилось, что именно авангардисты стали визуализировать революцию, называться «пролетарскими художниками», в то время как пролетарии их искусство явно не понимали и отторгали (что будет видно по восприятию экспериментов М. Шагала по праздничному украшению Витебска к первой годовщине Октябрьской революции, о которых мы расскажем во второй части)?
Сразу после Октябрьского переворота большевики начали поиск эстетики, которая могла бы воплотить устремления и чаяния нового класса-гегемона. В 1910-х гг. мейнстримом в Петербурге и Москве считался русский модерн, разрабатывавшийся в первую очередь обществом «Мир искусства». Творчество М. Добужинского, Л. Бакста и других ценителей тонкой красоты, вьющихся форм, растительных мотивов стало ассоциироваться со вкусами буржуазии. Напротив, деятельность авангардистских группировок, выставлявшихся на экспозициях «Бубновый валет» (1910 г.), «Ослиный хвост» (1912 г.) и «0,10» (1916 г. – именно там К. Малевич впервые продемонстрировал свой «Черный квадрат на белом фоне»), воспринималась как откровенно маргинальная, оппозиционная эстетике «мирискусничества». М. Ларионов, Н. Гончарова, К. Малевич не были левыми сами по себе – мы не можем явно разглядеть левизну в их дореволюционном творчестве. Они, как и их итальянские и немецкие коллеги, были захвачены написанием натюрмортов, передачей «скорости», урбанизма, попыткой схватить тот стремительно меняющийся мир, который бурлил вокруг них.
Те из них, кто в это время занимался газетной публицистикой, например К. Малевич, выражали свои «левые» взгляды не «вообще», не в контексте, например, марксизма, а исключительно в режиме оппонирования «буржуазному», «душному» «мирку» М. Добужинского и А. Бенуа. О левых взглядах в публичных высказываниях М. Шагала дореволюционного периода в принципе неизвестно. Что характерно, его живописное творчество оставалось подчеркнуто аполитичным даже в те моменты, когда он находился на административном посту и создавал эскизы к коммунистическим панно: картины 1918–1920 гг., созданные в Витебске, демонстрируют нам идилличные бытовые сцены, Беллу, пейзажи и интерьеры.
Логика, по которой воплотители эстетики революции были рекрутированы большевиками именно из числа участников левых группировок, проста: они назывались «левыми» и противопоставляли себя тому искусству, которое до этого считалось «буржуазным». А если точнее – тому искусству, которое они сами манифестировали как «буржуазное». Подчеркнем: ничто в искусстве русского авангарда не было особенно близко или понятно В. Ленину и его окружению. С другой стороны, ничто из арлекинов, будуаров и романтических сцен, воспеваемых «Миром искусства», не привязывало эту эстетику именно к буржуазии. Просто сразу после Октябрьского переворота времени разбираться, кто настоящий «пролетарский художник», а кто нет, не хватало.
Кстати, характерно, что «буржуазные» деятели в структуры власти Петербурга в первые месяцы после революции все-таки проникли: например, А. Бенуа был назначен главой петроградского художественного совета и являлся ответственным за управление культурой в городе. Это вызвало бурное возмущение левых (или тех, кто называл себя «левыми»), К. Малевич написал по этому поводу разгромную статью для «Анархии», в которой утверждал: «Социальная революция, разбив оковы рабства капитализма, не разбила еще старые скрижали эстетических ценностей. И теперь, когда начинается новое строительство, создание новых культурных ценностей, необходимо уберечь себя от яда буржуазной пошлости. Яд этот несут жрецы буржуазного вкуса, короли критики Бенуа, Тугендхольды и Ko.<…> Прежде без “печати” Бенуа и присных не могло ни одно художественное произведение получить права гражданства и благ жизни. Так было с Врубелем, Мусатовым, П. Кузнецовым, Гончаровой, которых они, после долгих обливаний помоями, признали. А сколько осталось непризнанных! Молодым художникам-новаторам, не хотевшим идти в соглашательство, приходилось с громадным трудом пробивать себе дорогу. И теперь, когда буржуазия осталась не у дел, демократия создает пролетарскую культуру, ловкие Бенуа забирают судьбы русского искусства в свои руки. Прочь все те, кто загонял искусство в подвалы. Дорогу новым силам! Мы, новаторы, призваны жизнью в настоящий момент отворить темницы и выпустить заключенных»[69]. А. Бенуа был снят с поста руководителя худсовета Петербурга и переведен на должность директора картинной галереи Эрмитажа.
Наркомпросом стал командовать «марксист Луначарский» – человек передовых взглядов, полагавший, что авангард наилучшим образом подходит для визуализации революции. В отличие от В. Ленина А. Луначарский провел много времени в европейских картинных галереях и мог отличить кубистов от пуантилистов. Он сделал вполне логичное заключение, что авангард и есть то «искусство будущего», которое призывает русская революция. Мифические «левые взгляды» авангардистов были как нельзя кстати. Их антибуржуазный пафос оказался востребован для наглядной агитации, театра, плакатов. Так «левые художники» заняли ответственные посты. Так М. Шагал и К. Малевич (возглавлявший, напомним, худсекцию Московского совета солдатских депутатов) сами стали властью. Печать и художественная критика, находившиеся в отношениях подчинения с любыми формами исполнительной вертикали, принялись восхвалять то, что пролетариат понимал слабо: футуризм, супрематизм и т. п. – передовые течения, привнесенные или дополненные в художественной культуре русским авангардом.
Эта инерция у печати и критики сохранялась до весны 1919 г., а не до 1924 или 1932 г., как считают некоторые историки советского искусства и архитектуры. Д. Хмельницкий в книге «Зодчий Сталин» очень тесно увязывает переход от авангарда в визуальной культуре СССР к реализму с личностью и взглядами И. Сталина[70]. По мнению Д. Хмельницкого, время до 1932 г. – «эпоха авангарда»[71], ломка же «всех художественных представлений» произошла именно в 1932 г. вслед за реорганизацией Союза писателей и появлением новых форм взаимодействия между творческими союзами и властью. Таким образом, при жизни В. Ленина футуристов, конструктивистов, сторонников экспериментов с цветом, формой и объемами как будто не ругали в советской печати, не лишали постов и заказов.
Косвенное подтверждение тому находим во втором томе воспоминаний А. Мариенгофа: «Его [Ленина] отрицательное отношение к Маяковскому с тех пор осталось непоколебимым на всю жизнь. Я помню, как кто-то упомянул при нем о Маяковском. Он только кинул один вопрос: это автор “Их марша”? И тотчас же прервал разговор. Как бы совсем не желая ничего знать об этом глубоко не удовлетворявшем его поэте <…>. Однако никому и в голову не приходило запрещать Маяковского, уничтожать Маяковского, зачеркивать Маяковского красным цензурным карандашом. Он продолжал издаваться, печататься даже в ЦО <…>. Мы знали только РВЦ, то есть “разрешено военной цензурой”. Если никаких военных тайн поэт или прозаик не разглашал, этот штамп РВЦ ставили на корректурные листы без малейшей канители. А уж за эпитеты, за метафоры и знаки препинания мы сами отвечали»[72].
На самом же деле, работая с послереволюционной печатью, легко выделить конкретный этап, после которого футуристов принялись громить. А именно апрель 1919 г., когда в центральной газете «Коммунар» была напечатана статья «Издевательство над революцией», состоящая из критического разбора кубистического шествия, посвященного годовщине создания Красной армии. «Улицы Москвы раскрасились аляповатой мазней кубистов, — писал анонимный автор. – Над святой кровью, пролитой за социалистическую революцию, совершается злой и кощунственный шабаш. Вот красноармейцы, наряженные в шутовские балахоны. Вот рабочие с треугольными, обпиленными лицами, напоминающие топорной работы манекены, с исковерканными конечностями. Какой контрреволюционер ядовитее мог окарикатурить рабочую революцию!» Именно с этого момента – весны 1919 г. – газеты, как центральные, так и провинциальные, явно не без распоряжения сверху, стали систематически громить тех художников, которые раньше назывались «левыми» или «пролетарскими». Позитивные отклики время от времени появлялись, но стали крайне редки. А дискуссия о том, какое именно искусство можно считать «народным», «рабоче-крестьянским», вышла на новый уровень. При этом, например, передвижников, уличенных авангардистами в чрезмерном подражании реальности, продолжали отвергать, по-прежнему называли «безыдейными»: «Передвижничество ничего не внесло кроме бесхитростной “идейки” весьма куцой и невыразительной: изобразительное искусство перестало быть самим собой»[73], – писал критик в 1921 г. Но уже было понятно, что нерепрезентативное искусство, отвергающее вообще всякую миметическую связь с реальностью, народным массам не подходит «ни с какого боку».
Перелом, начавшийся в 1919 г., прослеживается и по судьбе самого М. Шагала. Назначенный в сентябре 1918 г. уполномоченным по делам искусств города и губернии, уже в 1922 г. он не мог найти иной работы, кроме как преподавания беспризорникам и малолетним преступникам в колонии в подмосковной Малаховке.
Расцвет авангарда в России пришелся на период с 1917 по 1919 г. В 1919 г. главным критерием «хорошей визуальности» стала ее «понятность» необразованным массам. Характерно, что в провинции процессы удушения и осмеяния авангарда шли быстрее и резче, но в этом вообще есть извечное свойство провинции: бездари и посредственности здесь скорее будут восприниматься гениальными художниками, чем те, кто делает нечто новое и революционное.
До появления нового «большого стиля» оставалось еще тринадцать лет и одна полная смена команды, управлявшей РСФСР. Авангард закатился еще при Ленине, реализм появился на восьмом году правления В. Сталина, и тут сложно не согласиться с Д. Хмельницким: переход от одной эстетической вехи к другой действительно был обусловлен не какими-то объективными эволюционными обстоятельствами, но субъективным вкусом и предпочтениями одного-единственного человека, повелевавшего СССР.
За эти тринадцать лет М. Шагал успел уехать не только из Витебска, но и из Советской России. Это помогло ему сохранить наивный и прекрасный мир своей образности, в то время как его антагонист по витебским страстям К. Малевич остался в Союзе и был вынужден впустить на свои полотна чугунный реализм сталинской поры.
Часть вторая Летопись неуспеха
Город Зеро[74]
В Париже, до своего возвращения в Витебск в 1914 г., Марк Шагал жил в коммуне художников «Улей». Это интернациональное сообщество было организовано в 1902 г. меценатом А. Буше в обустроенной под мастерские ротонде павильона вин бордо, оставшейся после Всемирной выставки 1900 г. Бедные художники, среди которых было несколько выходцев из городов нынешней Беларуси (Х. Сутин, О. Цадкин), наполняли кафе Монпарнаса – района, который в начале ХХ в. был не так дорог и знаменит, как прославленный импрессионистами Монмартр (теперь благодаря славе творческих оборванцев из «Улья» они сравнялись в ценах).
Жизнь в Париже М. Шагалу оплачивал депутат Госдумы, юрист Максим Винавер[75], который поверил в талант молодого художника. Из-за этого мастерская, которую снимал Шагал, была просторнее и уютнее, чем жилища некоторых других, впоследствии не менее известных обитателей «Улья». Водопровода при этом в коммуне все равно не было, творцы по очереди ходили мыться в городской фонтан – об этих и других подробностях парижских дней Марка Шагала можно прочитать в книжке «Художники парижской школы из Беларуси» Владимира Счастного[76].
В Витебск из Парижа молодой Марк вернулся на три месяца. Это был не «переезд», а именно мимолетный визит. Одной из его целей была женитьба на Белле (Берте) Розенфельд. С женитьбой Марк затянул: невеста дожидалась его четыре года и, как пишет сам художник в «Моей жизни», чувства у влюбленных почти выветрились – «за четыре года жизни за границей. В Париже осталась только связка писем. Еще год – и все, скорее всего, было бы кончено»[77]. План состоял в том, чтобы обручиться и вместе с супругой вернуться в Европу. Об этом пишет Счастный[78], об этом же свидетельствует и А. Шатских: «…Шагал отправился на родину, где его вот уже четыре года ждала невеста, Берта Розенфельд <…> Шагал предполагал провести в Витебске каникулярные месяцы и осенью вернуться обратно в Париж»[79].
Оставаться в родном и любимом городе живописец не планировал – об этом хором свидетельствуют все биографы. Некоторые места лучше любить на расстоянии.
Брак с Беллой был неравным – в том смысле, что очевидно нищий художник заключал союз с представительницей очень богатого семейства. О степени устроенности М. Шагала в этот первый петербургско-парижский период его жизни может свидетельствовать тот факт, что его даже арестовывали за жизнь в столице без разрешения. Арест этот описан в «Моей жизни»: «“Эй, сюда, арестуйте вот этого… он въехал в столицу без разрешения. Для начала подержите его в кутузке, пусть посидит до утра, а там переведем в тюрьму”. Сказано – сделано. Господи! Наконец мне спокойно. Уж здесь-то, по крайней мере, я живу с полным правом. Здесь меня оставят в покое, я буду сыт и, может быть, даже смогу вволю рисовать? Нигде мне не было так вольготно, как в камере, куда меня привели облаченным в арестантскую робу, предварительно раздев догола. Мне нравился цветистый жаргон воров и проституток. И они не задирали, не обижали меня! Напротив, относились с уважением. Позднее меня перевели в изолированную камеру, где я сидел с придурковатым стариком. Я любил потолкаться лишний раз в длинной, узкой умывалке, перечитывая надписи, испещрявшие стены и двери, задержаться в столовой за длинным столом, над миской баланды»[80].
Невеста же М. Шагала была из семейства, державшего самую крупную сеть ювелирных магазинов в городе[81]. Сам художник пишет, что магазинов было три, в их «…витринах переливались всеми цветами радуги драгоценные кольца, броши и браслеты. Тикали всевозможные часы: от висячих до обыкновенных будильников». Живописец в упоении описывает свою с Беллой разницу в социальном происхождении: «У них раза три в неделю пекли огромные пироги с яблоками, с творогом или с маком, от одного вида которых я чуть не терял сознание. Их подавали на блюдах к завтраку, и все набрасывались на них в каком-то раже обжорства. У нас же дома стол походил на скудный натюрморт Шардена. Ее отец лакомился виноградом, а мой – луком. Птица, которую мы позволяли себе раз в году, накануне Судного Дня, у них не сходила со стола»[82]. Естественно, родные Беллы были против ее замужества – художник «никогда не заработает на жизнь», «Художник! Куда это годится? Что скажут люди?[83]» – но Белла уперлась.
Сразу после свадьбы, устроенной по традиционной церемонии, с большим размахом, Белла отпаивала живописца молоком – так, что к осени на нем «с трудом сходились одежки»[84].
В сентябре пришло время возвращаться во Францию и брать с собой свою молодую богатую супругу. И тут М. Шагала ожидал чудовищный удар. «Отыскав в кармане парижский паспорт, бегу к градоначальнику просить разрешение на выезд. И возвращаюсь подавленный – мои документы изъяли и опечатали. Я чувствую себя так, будто меня раздели догола, да в придачу я оброс бородой и шерстью»[85]. А. Шатских передает эту трагедию лаконично: «Разразившаяся катастрофа опрокинула все планы…»[86]
М. Шагал прибыл в Витебск в июне 1914 г. и планировал выехать во Францию в сентябре 1914 г. Первая мировая война началась 28 июля, в августе Германия вторглась на территорию Франции и зашла так глубоко, что ко 2 сентября правительство было эвакуировано из Парижа в Бордо. Россия участвовала в войне на стороне Антанты, оккупация Франции Германией, которая состояла в Тройственном союзе, не позволяла оставлять французский вид на жительство у подданного России. Путь из Витебска в европейском направлении был закрыт. Родной город стал ловушкой с лазейками, ведущими лишь в Петербург и Москву, при том что необходимо было решать вопрос с воинской повинностью в условиях всеобщей мобилизации. Освобождение от службы художник получил благодаря шурину, устроившему М. Шагала на канцелярскую должность в Военно-промышленный комитет в Петрограде[87]. Неизвестно, кстати, как закончилась бы история с его призывом, не успей М. Шагал стать частью большой и влиятельной семьи за несколько дней[88]до того, как громыхнула война: его отец, торговавший селедкой, вряд ли смог бы помочь сыну избежать мясорубки. В связи со службой возникла необходимость покинуть Витебск, чтобы очень скоро, после революции, Шагал вернулся в город уже в другом качестве.
Легко представить себе ужас, испытанный художником в тот момент, когда его пропуск в мир изящного искусства, парижских друзей и кафешантанов был со скрежетом замкнут в громоздком сейфе Витебской городской управы. Жужжала муха, пылился фикус, из коридора были слышны гулкие шаги – атмосферу такого рода присутствий легко себе представить, почитав А. Чехова. Индивидуальный апокалипсис был наверняка встречен непоколебимым бюрократическим равнодушием. («Что смыслит чиновник в живописи!» – восклицает тут сам М. Шагал.)
Если бы живописец успел уехать, его французский период обогатился бы новыми подробностями и был бы созвучен биографии Х. Сутина этих времен: получение статуса беженца, отъезд из Парижа в провинцию, вино, вареный картофель, пейзажи, небо, тоска. «Витебской школы», Народного художественного училища, шествий, скандалов, ссор, К. Малевича, анонимок, супрематической революции – всего этого не случилось бы.
«Какое горе!» – вздохнет искусствовед. «Какое было бы счастье!» – улыбнулся бы сам маэстро.
Специфика провинциальной славы
За два года до возвращения М. Шагала в Витебск в статусе уполномоченного по делам искусств, весной 1916 г., в губернской прессе появилось несколько публикаций о нем. Статьи рассказали горожанам об их набирающем славу земляке и могли восприниматься как признак того, что о М. Шагале в городе помнили, за его успехами следили.
Статьи появились 6 и 13 апреля 1916 г., а затем – 18 и 19 мая того же года (в мае в двух номерах была опубликована одна статья с продолжением) в газете «Витебский листок».
Публикация 6 апреля называлась «Ремизов черты оседлости»[89]и начиналась с описания внешности художника: «Многим витебчанам в прошлом году, вероятно, неоднократно приходилось встречать на улицах, в кофейнях и в театрах живописного молодого человека, лет 25, со странными широкими глазами, смотрящими из-под буйных кудрей». Автор «Витебского листка» со ссылкой на «известного критика Луначарского» называл обладателя кудрей «Ремизовым черты оседлости», отмечал «загадочную психологическую содержательность» работ Шагала. По мнению витебского журналиста, «…картины Шагала производят впечатление необузданной капризности. Но это капризничает не сам Шагал, а демон, который сидит в его душе». По наблюдению автора, «…фантазии М. Шагала заимствованы из скучной, пришибленной, неуклюжей жизни пригородного мелкого люда в Литве. И, словно рванувшись из тисков серых людей, Шагал все это перемешал и перепутал. И становится страшно от его черных окон, завешанных занавесками, искривленных лиц, каких-то странных, косых ламп, размахивающихся маятников, неуклюжих поз, прозы пополам с кошмаром».
Чтение этой публикации оставляет ощущение гордости за то, как удивительно тонко устроен внутренний мир эссеистов, которые работали в губернской печати Витебска в 1916 г. «Демон, сидящий в душе у Шагала», «капризный мастер» – все это действительно сильно. Но вот ведь беда: если сопоставить данный текст с тем, что написал о Шагале сам Луначарский – в той самой публикации про «Ремизова», которую цитирует аноним, – убедишься, что перед нами стопроцентный, ничем не измененный плагиат. Все это: и про «демона», и про «капризность», и про «пришибленную жизнь пригородного мелкого люда в Литве» – выдумано будущим комиссаром искусств и опубликовано двумя годами ранее в Киеве[90].
Вторая публикация называлась «Картины М. Шагала в Петрограде»[91]и посвящена вернисажу художника в бюро Н. Добычиной. Тут снова видим мощные обороты: «Явная местами литературность тем выливается в оригинальную живопись и привлекает несколько болезненной искренностью как бы выстраданных впечатлений от жизни. Шагал – своеобразный поэт оригинального уголка на окраинах Витебска, где древнюю деревянную православную церковку окружают гнетущие хибарки еврейской бедноты. Но именно живопись художника с ее жидковатой фактурой, с как бы придуманными иногда красками, очень неровна»[92]. Как несложно предположить, и эта статья – плагиат. По сути, в ней воспроизводится «фрагмент с анализом работ Шагала из статьи известного критика А. Ростиславова»[93], сообщает нам В. Шишанов, современный исследователь М. Шагала. Отзыв А. Ростиславова был помещен за три дня до этого в «Речи»[94].
Более подробна третья витебская публикация о М. Шагале за 1916 г. – статья «Марк Шагал», опубликованная в двух майских номерах «Витебского листка»[95]. Тут есть достаточно точные общеэстетические рассуждения, например: «Искусство больно. Виновата в этом, конечно, треклятая жизнь, не уготовившая ему в своей среде подобающего места, где оно могло бы тихо виться вокруг естественных задач, на радость себе и другим как в старину»[96]. Долго задаваться вопросом о том, откуда анонимный автор губернской газеты знает выражения «скуррильность quasi-реализма», не приходится: и эта статья полностью, до запятой заимствована из очерка М. Сыркина в «Еврейской неделе»[97].
Все три публикации о Шагале, увидевшие свет в 1916 г., «не оригинальны, это – перепечатки, переработки материалов иных изданий»[98]. По сути, Витебск не восхвалял своего уроженца, а служил пещерой, по которой разносились отголоски эха из столицы. Никто из сограждан М. Шагала не задался целью написать о нем отдельно – встретиться с родными и знакомыми, поинтересоваться биографией.
Вместе с тем эти ретрансляции столичных дискурсов сыграли свою позитивную роль: через три года они представят М. Шагала не только как управленца, но и как человека, чего-то добившегося за пределами губернии. Вместе с тем М. Шагал навсегда останется для жителей города «своим», «витебским», а потому не до конца, не по-настоящему знаменитым, – ибо как может быть европейской или столичной знаменитостью человек, родившийся в одних с тобой Песковатиках, отец которого был известен тем, что его рубаха всегда была забрызгана селедочным рассолом и с нее сыпалась рыбья чешуя?[99]
И в этом заключалось трагическое для М. Шагала отличие от рожденного под Киевом К. Малевича, прибывшего в город в статусе неоспоримой и явной «московской знаменитости».
Первая неудача: годовщина Октября
Шагал получил пост уполномоченного по делам искусств в конце сентября 1918 г. Ту задачу, которую он сам видел главной – организацию в Витебске художественного училища, – пришлось на несколько месяцев отложить, так как губисполкомом была задана более срочная цель: устроение годовщины Октябрьской революции. Годовщина праздновалась по новому, а не по старому календарю, 7 ноября, а не 25 октября 1918 г.: это давало дополнительные две недели. Оформление города к этому событию было первым масштабным экспериментом художника в Витебске. Он готовился к годовщине так, как будто хотел удивить взыскательную и уже видевшую многое парижскую публику, а не население губернского городка, в котором мало кто слышал о европейском авангарде. Неумение сообразовывать цели и масштаб с местом действия вообще свойственно гениям.
В распоряжении у Шагала были достаточные – особенно с учетом плавно подступавшей к Витебску разрухи – средства. Культура в эти первые после революции годы воспринималась как часть пропаганды и агитации и финансировалась пока щедро. Представление о масштабах смет, отпускаемых на культуру бюджетом, можно получить из сообщений печати и телеграфного агентства. В сентябре 1919 г. «Окна РОСТА» написали о том, что бюджет Витебского горсовета на вторую половину 1919 г. составил 108 миллионов рублей. Больше чем половина этих средств, 65 миллионов рублей, была выделена на расходы, связанные с образованием и культурой[100].
Неизвестно, к годовщине какой именно революции готовился художник и чиновник Марк Шагал, но явно не только той, которая была устроена в Петрограде вооруженными большевиками. Революция виделась им идиллично, как освобождение от оков старой эстетики, как выход в тот мир настоящего искусства, который доселе был закрыт буржуазными предпочтениями и ожиданиями, диктуемыми живописи. Попугаи, гирлянды из хвои, мишура, клоуны, влюбленные на флагах – все это было триумфом шагаловской образности, реваншем того сокровенного мира волшебного детства, который наконец получил выход на улицы.
Но обо всем по порядку. Ряд свидетельств позволяет предположить, что действительное руководство комиссией по праздничному украшению города осуществлял сам М. Шагал[101], хотя А. Ромм впоследствии в воспоминаниях напишет, что формально ею командовал он: «Прибываю в октябре 1918 года, он [Марк Шагал] назначает меня председателем комиссии по украшению Витебска к годовщине Октября»[102]. Тем не менее именно в статусе руководителя комиссии М. Шагал пишет в «Известия» распоряжение всем мастеровым города Витебска перестать выполнять свои заказы на вывески и явиться в комиссию: «Витебские живописцы и декораторы обязаны 1) немедленно оставить все работы по исполнению заказов на вывески, декорации и проч. и перейти в распоряжение худкомиссии по украшению города Витебска к Октябрьским дням, 2) явиться в 3-х дневный срок со дня издания настоящего постановления в Подотдел изо (от 10 до 3 часов дня) для регистрации и получения очередных работ»[103].
Со сформированной таким образом «трудовой армией» М. Шагал поступил следующим образом: он сам, а также Д. Якерсон, А. Ромм и другие рисовали эскизы, которые декораторы переносили на панно и штандарты «по клеткам» (метод, когда на эскиз наносится мелкая сетка, аналог которой изображается на крупном полотне. Воспроизводя элементы, помещенные в ячейках клетки, неопытным копировальщикам проще соблюсти пропорции композиции).
Поскольку не хватало не только рабочих рук, но и средств производства, еще через пять дней после авральной мобилизации декораторов М. Шагал объявил и временную экспроприацию мольбертов: «Всем лицам и учреждениям, имеющим мольберты, предлагается передать таковые во временное распоряжение художественной комиссии по украшению г. Витебска к Октябрьским праздникам»[104].
Сохранились воспоминания подмастерьев, участвовавших в изготовлении панно и плакатов; они сообщают нам бесценные детали: «Лично я по эскизам Шагала (вместе с юной Женей Магарил и Левой Ципперсоном) создавал плакаты с изображением пылающего факела на фоне развернутой книги – символа народного просвещения. Также на одном из трамваев, что ходил по улицам Смоленской, Замковой и Вокзальной, расписали фигуру рабочего в голубой рубашке, который яростно бил молотом по наковальне. Под присмотром Шагала с Эммой Гуревич я создал панно на фасаде городского театра»[105].
Вот как процесс подготовки к коммунистической годовщине описан у самого М. Шагала: «У нас, как и в других городах, готовились встретить праздник, надо было развесить по улицам плакаты и лозунги. Маляров и мастеров по вывескам в Витебске хватает. Я собрал их всех, от мала до велика, и сказал: Вы и ваши дети станете на время учениками моей школы. Закрывайте свои мастерские. Все заказы пойдут от школы, а вы распределяйте их между собой. Вот дюжина образцов. Их надо перенести на большие полотнища и развесить по стенам домов, в городе и на окраинах. Все должно быть готово к тому дню, когда пойдет демонстрация с флагами и факелами. Все мастера – бородатые как на подбор – и все подмастерья принялись перерисовывать и раскрашивать моих коз и коров»[106]. Отметим, что склонность художника к мистификациям не обошла и этот фрагмент – как А. Ромм представлял себя руководителем комиссии по украшению города, каковым не являлся, так и М. Шагал в воспоминаниях рисует себя единственным автором эскизов плакатов. Тогда как таковых было несколько, причем, по мнению А. Шатских, один из наиболее интересных фрагментов праздничного оформления был подготовлен Д. Якерсоном: «Эскиз, воплотившийся в панно Слава труду, удивлял предельной найденностью лозунга, в дальнейшем на долгие десятилетия вошедшего в арсенал официальной пропаганды»[107]. И далее, там же: «Другие эскизы монументальных панно Якерсона демонстрировали любопытный ход в художественном мышлении этого мастера: его композиции повторяли схему житийных икон, где вокруг центрального поля располагались клейма – эпизоды революционной борьбы. Здесь, в отличие от сюжетов шагаловских панно, выламывавшихся из бравурно-лобовых агитационных клише, предвосхищены многие пластические формулы праздничного пропагандистского убранства площадей и улиц; оно, как известно, с необыкновенной быстротой сумело выродиться в казенное искусство».
Подготовка закончена, по витебским улицам пошло праздничное шествие. Из-за экономии средств масштабы отмечания годовщины в последний момент было решено сократить: отменили запланированный карнавал и с четырех дней праздник сократили до двух. Тем не менее в празднике приняло участие не менее 60 тыс. витебчан – при том что, по сообщению РОСТА, в 1919 г. в городе проживало 99 тыс. 260 человек[108]. В шагаловском празднике приняло участие больше 50 % всех жителей Витебска – «большая половина», как выразился бы В. И. Ленин.
«Проснувшись рано утром, они (жители города. – В. М.) стали свидетелями удивительного зрелища: 450 огромных плакатов, флаги, гирлянды украшали дома, семь триумфальных арок возвышались на площадях. На улицах можно было видеть панно, созданные по эскизам Шагала, с лозунгами: Мир хижинам, война дворцам, Вперед, вперед без остановки! а также – Революция слов и букв»[109], – напишет К. Ле Фоль. Плакатов и панно было куда больше, эскизы к некоторым из них можно увидеть в Израильском музее Иерусалима и в Государственной Третьяковской галерее. Вот художник на фоне кривых витебских изб держит в небе свою возлюбленную (и называется этот вариант знаменитой «Прогулки» – «Привет Луначарскому»), вот бородатый мужик поднимает над головой домик с роскошным фронтоном, украшенным пилястрами.
А. Ромм вспоминает, что для праздника он подготовил композицию «Свержение вандомской колонны», о детищах же М. Шагала отзывается очень пренебрежительно: «Мужик в красной рубахе на зеленой лошади (композиция “Кулерво в походе” А. Галлена)(имеется в виду то, что М. Шагал скопировал эту композицию. – В. М.), летящий еврей, жена Шагала вверх ногами, расстрел Николая II, где одинаково смехотворны и царь, и его неуклюжие убийцы, и даже сентиментальная оценка (столь потом распространенная в советской тематике) – мать с младенцем и вдали воины». На самом деле воспоминаниям А. Ромма верить нужно крайне избирательно: в 1919 г. он поссорился с М. Шагалом (об этом конфликте мы расскажем в отдельной главе) и с того момента в своей публицистике систематически его очернял. Но одна деталь относительно панно с царем нам показалась заслуживающей внимания: «Этот плакат с Николаем II, кстати сказать, недешево обошелся Шагалу. Уже после праздника прошел слух о наступлении немцев, стоявших в Полоцке, на Витебск. (На самом деле происходила их эвакуация после революции 8 ноября.) Шагал из геройского комиссара превратился в перепуганного обывателя. Первым делом уничтожил все экземпляры этого плаката, который в его воображении сулил ему ту же участь, что и осмеянному им царю. Но и после этого продолжал дрожать»[110].
Вот как вид города воспроизводит в своих более поздних воспоминаниях И. Абрамский[111]: «Здание собора на центральной площади города было затянуто огромными разрисованными полотнищами: длиннобородые старики на ярко-зеленых в яблочках конях устремлялись в небо.<…> Трамвайные вагоны с прицепом, бойко бегавшие по улицам, были в эти дни расписаны в футуристическом стиле. Огромные разноцветные кубы и треугольники отпугивали пассажиров»[112].
С этими «кубами и треугольниками» связан комичный эпизод: симпатизировавший, как мы знаем, М. Шагалу А. Вознесенский написал о них в своем эссе в 1987 г.: «Горожане в шинелях, узкоплечих пальто, усищах, с бантами в петлицах, семенят на параде, машут нам широкополыми шляпами. Женщины несут палки для шествия на ходулях. Улицы убраны гирляндами, шагаловским панно “Мир хижинам, война дворцам” и другим, где на гербе Витебска вместо рыцаря с мечом восседает на коне веселый трубач. На полотнищах бескомпромиссные и наивные формулы: “Дисциплина и труд буржуев перетрут” или “Революция слов и звуков”»[113]. Тут как никогда хорошо видно правило: чем больше авторов пишут о каком-то явлении, тем больше путаницы они создают. У Ле Фоль, напомним, плакат, процитированный А. Вознесенским, воспроизводится так: «Революция слов и букв». При этом перед Вознесенским, как он сам говорит, – «искрящаяся от времени» документальная кинолента празднования 1-й годовщины Октября в Витебске (на мероприятие действительно приглашали кинематографистов), т. е. в вопросе о том, как точно выглядел плакат, он не мог ошибиться.
Но дадим возможность ошибиться и Вознесенскому. Читаем у него дальше: «Обезумев, несется супрематийно размалеванный трамвай». Трамвай в данном случае – тот самый, который описан журналистом Абрамским, «с кубами и треугольниками». Но это бедное рельсовое транспортное средство не могло быть расписано «супрематийно». Ведь до прибытия в Витебск К. Малевича, изобретателя и носителя слова «супрематизм», с которым плотно свяжут город, оставался еще почти год! Трамвай, таким образом, был просто «футуристическим», передавал привет всем тем беспредметным направлениям, которые повидал М. Шагал на выставках в Париже.
Нашлось в украшенном к годовщине переворота Витебске место и чистой красоте и сказке: «…заменены вывески в школах. На новых вывесках были изображены целые стаи попугаев, сидящих на деревьях, размалеванных во все цвета радуги»[114]. «…панно, знамена, плакаты, вкупе с гирляндами из хвои и огромным количеством красных бантов создавали феерическое зрелище. Таким и запомнилось празднество первой годовщины революции в Витебске – буйной красочностью, изобильностью и сказочностью»[115], – дополняет впечатление А. Шатских.
Марк Шагал украшал свой город «под себя», на свой вкус, со всей присущей ему искренностью – это доказывается хотя бы тем обстоятельством, что он впустил в это «казенное» мероприятие сюжеты только-только созданных им картин, картин настолько важных для его образности, что они будут воспроизводиться в разных комбинациях до самой его смерти. «Прогулка» с летящей по воздуху возлюбленной на панно, посвященном А. Луначарскому, прекрасный тому пример. Он подарил городу своих клоунов, своих лошадок и своих попугаев – и виноват ли он в том, что над его сказочными животными, над его любовью и его трогательностью посмеялись? Мог ли в принципе он это предсказать – он, клавший фиолетовую краску рядом с изумрудной так, что от этого сжимается сердце? Присутствовала ли в личности Шагала такая черта, как предусмотрительность? И как сильно обескуражен был он тем, что произошло дальше?
Оговоримся: в каком-то последнем, вселенском смысле празднование годовщины революции, оформленное Марком Шагалом, не было «неуспехом», как об этом говорится в названии главы. В этом глобальном измерении оно оставило в городе след, который Витебску, может быть, спустя сотню или две сотни лет еще предстоит вспомнить с благодарностью, а не презрительной гримасой.
Пока же, в 1918 г., Шагала не поняли и подняли на смех. И было бы преступлением против истории утверждать обратное.
«Впервые Шагал, равно как и другие левые, приветствовавший революцию, безусловно поддерживавший ее, лицом к лицу встретился с теми, кого, по революционной фразеологии, принято было называть “народом” – с широкими массами людей, далеких от искусства, не подготовленных к его восприятию (в чем не было ни капли их вины). Конфликт выявился сразу: агрессивное непонимание, насмешки с одной стороны, растерянность – ведь все делалось с самыми лучшими намерениями – с другой. Для Шагала это было сильным эмоциональным потрясением – равно как и для многих других художников»[116], – обобщает А. Шатских.
«Жители города собирались кучками, боязливо разглядывали загадочные панно и торопливо расходились, подавленные и обеспокоенные»[117], – читаем у Абрамского. Художника не понял даже его учитель Ю. Пэн: «“Что ты нарисовал на своих панно? Куда летят эти седобородые старики на зеленых лошадях?” “Неужели непонятно? – изумлялся Шагал. – Очистительный вихрь революции смел все преграды… А лошади – это человеческая мечта: молодая и зеленая, как расцветающий сад, как молодая надежда”. “Вот как, – вздыхал Пэн. – К сожалению, это понятно только тебе одному”»[118].
Еще болезненнее для самолюбия М. Шагала должно было быть то, что газеты в этом конфликте были на его стороне: он был «властью», а потому его истерично защищали. Но не потому, что понимали, а именно и только потому, что он был «властью».
Красноречивее всего был отклик в витебских «Известиях губернского Совета крестьянских, рабочих, солдатских и батрацких депутатов». Тут надо понимать, что за газета были эти «Известия»: их роль в пределах города была сопоставима с ролью, которую в масштабах РСФСР играл орган РКП, газета «Правда». «Известия» были самыми многотиражными не только в городе, но и в будущем, после образования БССР, самыми массовыми среди всех областных изданий Советской Белоруссии. На них – в отличие от часто писавшего о Шагале «Витебского листка» – была заведена обязательная подписка, причем не только для ведомств, но и для «физических лиц». Так, в мае 1919 г. читаем: «Президиум витебского уездисполкома установил обязать домохозяйства, крестьян уездов в лице их представителей выписать газету “Витебские известия”»[119].
По случаю годовщины Октября «Известия» вышли специальным выпуском, весь тираж был отпечатан не черной, а красной типографской краской. Корреспонденция была разбита на подзаголовки, повествующие о встречах праздника на разных площадках и в трудовых коллективах. Один из разделов, «Вид города», напрямую характеризовал работу комитета по оформлению, возглавляемого М. Шагалом.
«Украшение города в дни праздника было самым точным из того, что сделано для пролетарского праздника, – писала газета. – Яркие художественные тоны плакатов, их сюжеты и размещение, – все это придало городу некоторый необычный вид. Особенно торжественен был город вечером, когда зажгли гирлянды и электрические огни. Исключительно удачно было украшено здание революционного трибунала, Народный пролетарский банк»[120].
И хотя фраза про «некоторый необычный вид» и выдает замешательство автора перед увиденным на празднике, общая интонация отзыва позитивна. Вчитаемся в эти строчки: широкая и явно избыточная в плане описания фраза про «яркие художественные тоны плакатов (как будто «тоны» могут быть не художественными. – В. М.), их сюжеты и размещение» – не что иное, как попытка за дефицитом деталей скрыть ту истину, которая дала бы о себе знать, попытайся автор хоть сколько-нибудь конкретно описать происходившее в городе: «Попугаи на вывесках школ выглядели революционно». Или, например: «Товарищ в клоунских брюках на плакате “Вперед, вперед без остановки” подчеркивал оптимизм, с которым страна трудящихся шагает ко второй годовщине Великого Октября». Или «представители трудовых коллективов и индивидуальные граждане с энтузиазмом обсуждали выполненное с помощью красок панно, на котором представители еврейской народности были изображены имеющими зеленоватый цвет лица: преступная политика царизма загнала национальные меньшинства в загон, но уже к юбилею…» – Б. Р. В-вов не мог сообщать детали, ибо они, по его мнению, были скандальными. Оттого он использовал типовую форму написания корреспонденции с митинга, почерпнутую из какой-нибудь центральной газеты. Общие формулировки про «торжественный вид города» говорят сами за себя.
Предложение про особенно торжественный вид города, получившийся, «когда зажгли гирлянды и электрические огни», можно воспринимать как мягкую форму осознанного или неосознанного упрека: в темноте не было видно авангардистских картин и панно. Не это ли пытался сообщить нам Б.Р. В-вов? Отдельно хочется отметить вот этот фрагмент: «Исключительно удачно было украшено здание революционного трибунала, Народный пролетарский банк». Как именно был украшен Народный пролетарский банк, восстановить сейчас не получится, но здание ревтрибунала, находившееся на пл. Свободы возле Губревкома, хорошо просматривается на упомянутой А. Вознесенским кинохронике: оно было убрано завесами из хвои, т. е. элементарно, зеленью. Никакой «живописи» на нем не значилось.
Острой горечью пропитаны воспоминания М. Шагала об этих днях: «Рабочие проходили мимо с пением “Интернационала”. Глядя на их радостные лица, я был уверен, что они меня понимают», – пишет он в «Моей жизни». И далее он пытается представить все так, что «народ» его как будто понимал, не понимали же – «комиссары». «Ну а начальство, комиссары, были, кажется, не так довольны. Почему, скажите на милость, корова зеленая, а лошадь летит по небу? Что у них общего с Марксом и Лениным? Иное дело гипсовые бюсты, которые наперебой заказывали скульпторам-недоучкам. Боюсь, их всех давно размыло витебскими дождями. Бедный мой Витебск!»[121]
На самом деле, как видно из сопоставления отзывов очевидцев с мнениями, высказывавшимися в печати (ретранслировавшей позицию власти), ситуация была как раз обратная: сограждане, зрители М. Шагала не понимали, власти, похоже, пока на искусство было просто плевать: фронт приближался к городу.
Прошел месяц, выпал снег. За Шагала заступился Г. Грилин в «Витебском листке»: сам факт этого заступничества показывает, что причины «впрягаться» и объяснять читателям эксперименты по украшению Витебска были: «С какой иронией их встретило наше мещанство, как издевалось и оплевывало оно того самого Марка Шагала, которым восхищаются лучшие знатоки живописи, картины которого вызвали вокруг себя так много шуму, такое количество интересных статей и даже книг в Париже, Берлине, Голландии и России. Весь Витебск, вплоть до его интеллигенции, усматривает в Шагале отщепенца и даже фигляра. Как это ни странно, но это так»[122].
Шагал, как человек мудрый, должен был прекрасно понимать изменчивый характер помощи, которую оказывает тебе советская пресса: через полгода, когда наступит время травли авангардистов по всему РСФСР, этот же Г. Грилин начнет выводить «футуриста Шагала» на чистую воду в том же «Витебском листке».
Время шло, праздник стал забываться, летающие евреи, арлекины, лошадки и козы больше не вызывали ярости. Сам характер критики в адрес М. Шагала поменялся: в городе стали подсчитывать, сколько всего полезного можно было сделать из пошедшей на оформление материи. «Шагалу долго вспоминали его расточительность и подсчитывали, сколько же рубашек можно было сшить из потраченного на банты кумача»[123], – пишет А. Шатских. «Потратили столько материи, что можно было одеть всех горожан, сильно обносившихся»[124], – злобствует А. Ромм. Попугаев можно было ощипать и поджарить, а ходули, на которых во время шествия передвигались некоторые товарищи, прекрасно подошли бы на растопку и обогрев.
Переживания, испытанные М. Шагалом в дни годовщины, нашли не только отложенный отклик, опубликованный в «Моей жизни» лишь в 1931 г. Они вылились в пропитанную обидой и горечью статью, напечатанную в «Витебском листке» через две недели после праздника.
Статья открывалась отчаянным призывом, причем непонятно к кому: «Дайте же нам дорогу!»[125]И далее: «Меньшинство в искусстве – слишком обидное меньшинство. Но нам возразят и скажут: чего же вы в меньшинстве? Вас никто, по крайней мере, в нашем городе, буквально никто – не понимает, мы все в недоумении перед вашими произведениями – в то время как за нашей политической революцией – большинство»[126]. М. Шагал пытается оправдаться тем, что настоящее искусство всегда в меньшинстве, и предсказывает слияние «политической и духовной» революций, когда его наконец поймут: «Да, творцы революционного Искусства были и есть в меньшинстве. Они в меньшинстве с того самого момента, когда пала величественная греческая культура. C тех пор – мы – меньшинство. Но мы им не будем! Не даром земля трясется! За нами придет большинство, когда две революции: политическая и духовная шаг за шагом искоренят наследие прошлого со всеми предрассудками. Но будет ли с нами большинство сейчас или позже – это нас не останавливает. Мы упорно и властно, подчиняясь внутреннему голосу художественной совести, предлагаем и навязываем наши идеи, наши формы, формы и идеи нового революционного Искусства, имеем мужество думать, что за нами будущее»[127].
Ярость ли, обида или немотивированный оптимизм двигали рукой М. Шагала, когда он, сбиваясь и нагромождая повторы существительных, пророчествовал, что за «левым Искусством» – будущее, что «преобразившийся трудовой народ приблизится к тому высокому подъему культуры и Искусства, который в свое время переживали отдельные народы и о котором пока нам остается лишь мечтать»[128], – он оказался неправ.
По крайней мере в масштабах одной страны и одного города.
Для РСФСР в целом левое искусство скоро заменят «для народа» самым ненавидимым авангардистами реализмом, его выхолощенной и оптимистичной версией. В масштабах же города произойдет полное и безвозвратное очищение от любых авангардистских экспериментов по украшению улиц. Причем случится это уже буквально к следующему крупному коммунистическому празднику, к Первому мая.
29 апреля 1919 г. состоялось заседание пленума горсовета, на котором «товарищ Пикман сделал доклад про работу комиссии по организации празднования 1 мая в Витебске»[129]. Комиссия имеет несколько секций, сообщает газета: агитационную, организационную, снабжения, распорядительную, театрально-музыкальную. И далее «Витебский листок» перечисляет, что сделала каждая из секций. Отмечая, что «агитационная секция проработала лозунги партийного содержания, в основу коих положит третий Интернационал и борьбу с Колчаком», текст совершенно походя, через запятую, уничтожает М. Шагала и его единомышленников: «По вопросу об украшении города, сталкиваясь с отделом изобразительных искусств, пришлось выдержать напор футуристов»[130]. Можно себе представить этот напор: попугаи и клоуны, лошадки, олицетворяющие человеческую мечту, молодую и зеленую, как расцветающий сад[131]. Еще недавно все это срабатывало, и это даже через силу хвалили газеты, называя оформление «самым точным из того, что сделано для пролетарского праздника»[132]. Но веха сменилась. Весной 1919 г. мнение «футуристов», засевших в отделе изо, так и не было выслушано: «…комиссия(по организации празднования Первого мая. – В. М.) устроила жюри, которое и приняло 8 эскизов». Эскизов М. Шагала и других авангардистов среди одобренных не было. «Город будет украшен зеленью», – сообщала газета.
Конфликт с М. Добужинским
Следующей большой задачей, которую предстояло решить М. Шагалу в Витебске, была организация Витебского народного художественного училища. Как мы уже отмечали, многие исследователи полагают, что причина, по которой художник в принципе согласился на административную должность, заключалась в намерении создать свою «школу», что без бюрократического поста было неисполнимо[133]. Как пояснил живописец в 1920 г. в письме искусствоведу П. Эттингеру, «идея об организации Худож. учил. пришла мне в голову по приезде из-за границы, во время работы над “Витебской серией” этюдов»[134], т. е. М. Шагал «придумал» училище в 1914 г. – в тот самый момент, когда понял, что ему придется остаться в Витебске.
По мнению А. Лисова, первоначальной задачей М. Шагала могло быть создание академии искусств, но это мнение основано лишь на цитате из «Моей жизни»: «Мне хотелось совместить воедино академию, музей и общественные студии». Нам представляется, в данном случае понятие «академия» использовано широко – как оппозиция «музею», научный центр.
Для того чтобы придать учреждению вес и престиж, Шагал пригласил на пост его директора известного московского художника, что характерно – представителя модернистского течения «Мир искусства» М. Добужинского. С М. Добужинским М. Шагал был знаком лично: мирискусник был вторым преподавателем курсов Е. Н. Званцевой, которые посещал М. Шагал в Петербурге. Первым преподавателем являлся Л. Бакст – тот самый, с «неприступной служанкой», «любящий поспать до обеда», «приходивший в студию раз в неделю».
Причиной эпизодических приездов М. Добужинского в Витебск летом и осенью 1918 г. было то, что сюда из Вильнюса переселился его отец[135]. В декабре ходатайство о назначении М. Добужинского главой Витебского народного художественного училища было утверждено телеграммой из Петрограда: «Утверждены коллегией Добужинский директор, руководители Радлов, Тильберг, Шагал, Любавина»[136]. Официально училище открылось 28 января 1919 г. и почти сразу же, в конце января – начале февраля, знаменитый М. Добужинский оставил и училище, и Витебск. «Пребывание Добужинского в Витебске было недолгим. Семья художника оставалась в Петрограде, и уже в конце января 1919 года Добужинский оставляет работу в училище»[137], – сообщает нам один из первых хроникеров жизни училища. Из этой фразы, «семья художника оставалась в Петрограде», можно сделать вывод, что Добужинский отбыл по естественным причинам, не желая переживать разлуку с семьей. Об этом же читаем у А. Лисова: «Первоначально на должность директора училища он приглашает М. В. Добужинского<…> Но директорство его оказалось формальным, потому что по-настоящему влиться в работу человек, живший “в поезде между Петроградом и Витебском” (выражение Г. И. Чугунова, автора монографии о художнике), не мог»[138].
По мнению А. Шатских, М. Добужинского с поста директора училища, созданного М. Шагалом, принудило навсегда уйти «изготовление декораций к спектаклю “Свинопас” (его петроградская премьера состоялась 28 апреля 1919 года)»[139]. Но что это за причина для художника, «живущего в поезде между Петроградом и Витебском»? После премьеры спектакля можно было вернуться в Витебск.
Н. Гугнин обращает внимание на одну странность витебского периода в жизни М. Добужинского: «И еще одна загадка. В своих мемуарах Добужинский лишь однажды упоминает вскользь имя Шагала и совсем (!) не вспоминает о Витебском художественном училище»[140].
Почему уехал М. Добужинский? Почему, уехав, никогда больше не возвращался в город?[141]И даже автолитографии 1923 г. «Витебск. Вывеска», «Витебск. Лестница», «Витебск. Цирк» выполнял по ранним витебским эскизам? Почему никогда больше не вспоминал о Витебске?
Ответ – на виду. Ответ – в «Моей жизни» М. Шагала. «Один из таких людей, которого я назначил ни много ни мало директором, только и делал, что отправлял посылки своему семейству. На почте и в райкоме пошли нехорошие разговоры о преподавателях, которых набрал товарищ Шагал»[142]. Отметим, что художник не называет своего бывшего учителя по фамилии, но иных, кроме М. Добужинского, людей, «назначенных Шагалом директорами», в училище попросту не было. Кроме того – мы не можем этого не подчеркнуть специально, – М. Добужинского директором назначил все-таки не М. Шагал, а петроградская коллегия изо Наркомпроса.
«По сравнению со столицами Витебск благоденствовал, здесь еще не было такого жестокого голода, как в Москве и Петрограде. Открывшаяся возможность поддерживать близких продовольственными посылками была для петроградцев просто спасительной»[143], – проясняют ситуацию слова А. Шатских.
Нигде – ни в воспоминаниях, ни в печати, ни в архивах – не сохранилось подробностей конфликта, отзвуки которого описаны в «Моей жизни». Только вопль М. Шагала «Да как вы можете!»[144]из автобиографии.
Столичные светила приехали в Витебск, откликнувшись на зов уполномоченного по делам искусств, вовсе не развивать провинциальную культуру, не нести передовые пластические приемы в широкие (и далекие от метрополии) массы. Их интересы были крайне приземленными. Но даже колбасы, яиц, хлеба и дров оказалось недостаточно, чтобы мотивировать их к работе.
Как писал сам М. Шагал в эти январские дни 1919 г., «и почему все-таки столичного полуголодного человека с таким трудом удается заманить сюда для культурной работы? Да, я их понимаю, но что же делать, какими калачами нам все же заманить тех левых деятелей, новаторов в области Искусства, которые так необходимы нам в настоящее время для местной художественной и культурной жизни у нас в городе и губернии?»[145]
Училище осталось без именитого директора, а стало быть, без налета столичного флёра. М. Шагал возглавлял его вплоть до самого своего отъезда из города в 1920 г. Во время отсутствия М. Шагала замещала прибывшая в апреле 1919 г. В. Ермолаева. Сложно сказать, были ли М. Шагал и М. Добужинский большими друзьями и стали ли они откровенными врагами после того, как первый упрекнул второго в продовольственном меркантилизме. Сложно даже утверждать, что описанная в «Моей жизни» ссора действительно имела место – с учетом склонности героя нашего повествования к описанию скандалов, которых не было, и умалчиванию скандалов, которые были.
Одно приходится констатировать с уверенностью: в жизни М. Добужинского, в его воспоминаниях и автобиографии на месте М. Шагала и города Витебска образовалось пятно молчания, сохранившееся на всю оставшуюся жизнь.
Конфликт с обществом им. И. Л. Переца
Суммируя и выстраивая в хронологическом порядке скандалы, которыми было окружено пребывание Марка Захаровича в должности уполномоченного по делам искусств, поневоле удивляешься тому, что столько плохого могло случиться в столь сжатый срок – менее чем за два года (с осени 1918 г. по лето 1920 г.). За что бы ни брался Шагал, это встречало сопротивление коллег и сограждан – когда организованное, когда имевшее форму скрытого саботажа, когда выливавшееся в персональные конфликты. М. Шагал был умным, тихим и несклочным человеком; его миролюбие отчетливо прослеживается в его творчестве и его многочисленных интервью, где способность к миру, уклонению от конфронтации преподносится в качестве наивысшего блага. Работая в Витебске, он руководствовался самыми благородными целями: развития искусства – того искусства, которое он сам искренне считал «новым» и «настоящим»; художественного образования масс; превращения родного города в значимый культурный центр.
Не менее милыми были и те люди, которые его окружали; столь же очевидно позитивными были и их цели. Но почему-то общение М. Шагала с соотечественниками постоянно заканчивалось «войнами». Быть может, сказывалась атмосфера маленького городка, где все друг друга знали и постоянно стремились свести старые счеты. Быть может, авторитет М. Шагала был неочевидным в среде губернской интеллигенции, которая в принципе не склонна подчиняться иерархиям, основанным на символическом капитале, знаниях и качестве творчества – пусть даже заслужившего к тому моменту международное признание.
Одним из конфликтов, не отраженным в «Моей жизни» и слабо представленным (если не замолчанным вообще) в литературе о художнике, стал протест Общества им. И.Л. Переца против деятельности М. Шагала по «концентрации заказов».
Тут необходимо два пояснения. Первое – о том, что означает эта самая «концентрация заказов» и почему она вызвала возмущение у коллег Марка Шагала.
До революции отношения между художниками и заказчиками в Витебске строились следующим образом: когда мещанину требовались какие-то связанные с оформлением витрины или жилища работы, например изготовление вывески или перенос фотографического снимка на холст «с сохранением портретного сходства», как обещала реклама в газетах, он обращался непосредственно к мастеровому. Этой устаревшей практике М. Шагал решил дать бой, создав при училище нечто вроде профессиональной артели, которая централизованно получала бы заказы, рассматривала их и распределяла между собой, деля доходы поровну. «Комиссар Шагал» в марте 1919 г. подписал на эту тему специальное постановление, исполнение которого было обязательным: «1). Все учреждения, торгово-промышленные заведения и частные лица обязаны сдавать все заказы на декоративные и живописно-малярные работы как-то по писанию вывесок, плакатов, афиш, театральных декораций, росписи и окраске зданий исключительно коммунальной мастерской при Витебском народном художественном училище. 2). Передача и исполнение таковых работ помимо коммунальн. мастерской воспрещается»[146].
Далее, 2 апреля 1919 г., М. Шагал потребовал «обязательной регистрации» профессиональных союзов художников в подотделе изобразительного искусства, т. е. предпринял попытку объединить всех витебских мастеровых и вывесочников под крылом «коммунальной мастерской»: «Все организации художников и живописцев – союзы, коммуны, артели и т. п. должны быть зарегистрированы при Подотделе изо искусств (Бухаринская, 10). Не зарегистрированные лишаются права получить худ. работу от Подотдела изо искусств»[147].
Наработанная годами клиентская база, связи, индивидуальное признание и тарифы – все это аннулировалось инициативой по концентрации заказов. Возможно, кому-то из мастеровых от «артелизации» их привычного уклада жизни и работы стало лучше, но были и явно потерпевшие. В конечном итоге единственным безусловно выигравшим в этой ситуации являлся М. Шагал, символический капитал которого существенно возрос: именно от него теперь зависело, кто и сколько работы и денег будет иметь в городе. «Шагал – надменный, парадный, повелительный, – вспоминает саркастично Ромм. – Он глубоко презирает их и как европейская знаменитость, и как начальство: заставляет упрашивать себя…» Неудивительно, что новая практика вызвала реакцию.
Второе пояснение, требующееся перед тем, как мы перейдем к выдвинутым против М. Шагала обвинениям, – о том, что такое «Общество им. И. Л. Переца» и почему оно решило публично и громко пойти против «комиссара искусств». В некотором смысле Общество было чем-то средним между московской «Культур-лигой» и той самой «коммунальной мастерской», над попыткой устроения которой трудился уполномоченный по делам искусств. Организация являлась координатором и донором жизни витебских евреев: судя по публикациям губернской прессы, она устраивала книжные ярмарки, выставки и занималась изучением еврейского наследия.
Общество было образовано еще до революции, ориентировочно в 1915 г.; тогда оно называлось «Еврейское литературно-художественное Общество»[148]. Общество имело ярко выраженную либерально-демократическую направленность и в сложившемся виде оформилось во время Февральской революции. Что характерно, за устроением и финансированием этого общественного образования стояло частное лицо – меценат, богатый витебчанин Рахмиэль (Йерахмиэль) Родинсон[149].
Итак, именно эта либеральная еврейская организация решила выступить против М. Шагала весной 1919 г. 4 апреля в «Витебском листке» появилось открытое письмо, подписанное президиумом Общества им. И. Л. Переца.
«Товарищи, – обращались члены Общества к коллегии изо в целом и М. Шагалу в частности. – Общество им. Переца получило ваше напоминание о концентрации всех платных и бесплатных заказов в подотделе изобразительных искусств. Это невинное на первый вид напоминание на самом деле является серьезной мерой подотдела изобразительных искусств по отношению ко всем общественным организациям. Что такое концентрация бесплатных художественных заказов? Стоит лишь какой-нибудь организации заявить о своем желании хотя бы разукрасить свое помещение, как вы поспешите послать туда для безвозмездного труда именно тех художников, которых Общество укажет? Очевидно, нет. Невинная концентрация ваша имеет в виду другое. Если кто из художников пожелает, даже безвозмездно, работать в близкой ему организации, то извольте испросить у нас разрешение на это»[150].
Далее президиум Общества им. И. Л. Переца переходит к обвинениям, либеральный пафос которых звучит несколько комично в городе, где в газетах регулярно публикуются списки расстрелянных за «уклонение от рытья окопов»: «Концентрация эта есть ни что иное, как предварительная цензура данных работ. В условиях местной художественной жизни это обозначает, что витебская художественная власть не желает допустить своих идейных противников даже к безвозмездной общественной работе. Даже там, куда их усиленно приглашают и где радуются их творчеству. Ясно, что напоминание сделано потому, что мы пригласили расписать стены нашего помещения некоторых художников, принадлежащих к тем течениям, которые вы самым настойчивым образом не пропускаете к общественной и художественной деятельности, и что оно является требованием без вашего разрешения впредь этого не делать»[151].
Видно, что Общество осознает, что жалуется на советского руководителя в советскую же газету. Поэтому оно пытается представить свой поход на подотдел изо и М. Шагала как борьбу с новыми веяниями в искусстве, которые в городе явно не одобряют. Ставка сделана именно на это: представить ситуацию так, как будто «авангардисты» не дают представителям уютного и реалистического еврейского искусства украшать интерьеры еврейского же Общества, что является явным нарушением человеческих устоев и морали: «Это попытка силой влиять на художественную деятельность частных организаций. Против этой попытки ввести предварительную цензуру художественной деятельности Общество имени Переца самым категорическим образом протестует»[152].
На основании вышеизложенного представители общественной организации явно и прямо заявляют о неподчинении М. Шагалу: «Что же касается нас, то заявляем: не знаем, как это произойдет с моральной стороны, но по существу мы этой цензуре не подчинимся»[153].
Налицо управленческий тупик: общественность города публично заявляет о торпедировании решения, принятого властями города. Пусть даже с невнятной оговоркой, высказанной с поистине одесским стилистическим обаянием: «Не знаем, как это произойдет с моральной стороны…» В условиях Гражданской войны и быстрых судов, вершившихся за куда менее серьезные проступки, можно было бы ожидать исключительных мер наказания либо в отношении президиума Общества им. И. Л. Переца, либо в отношении губернского подотдела изо Наркомпроса, превысившего служебные полномочия.
Не произошло ни того ни другого. Газета «Витебский листок» не стала утруждать себя даже расследованием этого дела. Вместо этого она разместила примирительную оговорку: «Редакция полагает, что сюда внесен элемент страстности, ибо трудно предположить, чтобы художники какого бы то ни было течения покушались бы такими негодными средствами на своих идейных противников и чинили бы насилие над общественными организациями. Это демонстрировало бы только их идейное убожество и художественное бессилие. В Витебской коллегии состоят художники, которым вряд ли приходится прибегать к недостойным приемам, которые усмотрены коллегией Общества им. Переца»[154].
Конфликт был исчерпан: Общество им. И. Л. Переца просуществовало до 1922 г.[155]и прекратило свою деятельность в связи с тем, что после смерти Рахмиэля Родинсона в 1920 г. вынуждено было существовать в условиях самоокупаемости. Право М. Шагала, подотдела искусств и коммунальной мастерской при Народном художественном училище «концентрировать заказы» больше никто публично не оспаривал, хотя есть документальные свидетельства того, что Общество им. И. Л. Переца распоряжение «комиссара искусств» игнорировало и осуществляло самостоятельное распределение и финансирование художественных работ.
Так, Общество самостоятельно заказало и оплатило декорации к бенефису руководителя еврейской театральной студии И. Миндлина[156]в мае 1919 г. А 16 октября 1919 г., т. е. через полгода после попытки М. Шагала завязать на себя всю «художественную работу», в клубе им. Борохова Обществом им. И. Л. Переца была устроена «Еврейская выставка». Подотдел изо в подготовке этого мероприятия не участвовал.
«Не знаем, как это произойдет с моральной стороны, но по существу мы этой цензуре не подчинимся» – эту фразу можно считать девизом того, как Витебск «подчинялся» распоряжениям своего комиссара искусств. М. Шагал, надо отдать ему должное, игнорирование коллег, подчиненных и всего города переживал тихо и без ответных оргвыводов на уровне правоохранительных и карательных органов, в силах которых было быстро и эффективно заставить горожан подчиняться художнику.
Какие бы ошибки ни совершал Шагал, за эту деталь можно простить ему многое, если не все.
Черты к портрету М. Шагала
Думается, тут самое время сообщить несколько малоизвестных подробностей о том, каким человеком и управленцем был наш герой в витебские годы. Читаем в «Моей жизни»: «В косоворотке, с кожаным портфелем под мышкой, я выглядел типичным советским служащим. Только длинные волосы да пунцовые щеки (точно сошел с собственной картины) выдавали во мне художника. Глаза азартно блестели – я поглощен организаторской деятельностью. Вокруг – туча учеников, юнцов, из которых я намерен делать гениев за двадцать четыре часа. Всеми правдами и неправдами ищу средства, выбиваю деньги, краски, кисти и прочее. Лезу из кожи вон, чтобы освободить учеников от военного набора»[157].
Мы видим, каким себя хотел бы оставить в истории сам М. Шагал, как он предлагает себя вспоминать. Это образ чиновника-энтузиаста, как будто выскочивший из советских фильмов 1930-х гг.: вихры, портфель, денное и нощное радение за общее благо. «Весь день в бегах. На подхвате – жена»[158], – уточняет художник. Гомогенизировано личное и общественное, нет границ между интимным миром и службой, мобилизованы в помощники и секретари даже родственники.
Но, оказывается, этот «энтузиаст» передвигался по городу с вооруженной охраной – об этом нам сообщает в книге «Вяртанне імёнаў»[159]Борис Крепак. Согласимся с тем, что начальник, разгуливающий по городу с охранником, и энтузиаст, окруженный «тучей учеников, юнцов», – несколько разные персонажи.
Характерно, что в ГАВО – архиве, где хранятся все документы, касающиеся «Витебской школы», нет ни одного упоминания о чекисте или красноармейце, который был приставлен к комиссару искусств. Вместе с тем этот человек обязательно должен был оставить документальные следы: приказ о назначении, сметы на выдачу обмундирования, документальное обеспечение ношения оружия и боеприпасов, жалованье, наконец. Он должен был где-то жить, что-то есть и т. д. Но «невидимому» охраннику может быть найдено простое объяснение: документы, касающиеся деятельности губернского НКВД, МГБ и ВЧК, хранятся в специальных местах, которые пока не открыты и вряд ли будут открыты в ближайшее время. К тому же за охрану лиц, находящихся на ответственных постах (а вместе с тем и за их сопровождение во всех смыслах этого слова), в городе гарантированно отвечало одно из названных выше спецведомств, история которых документируется особым образом.
То, что охранник не был мифом, доказывает интервью, которое Б. Крепаку удалось с ним сделать: «В 1977 году на 10-м съезде художников БССР я познакомился с гостем форума – известным художником-графиком из Казахстана, Валентином Антощенко-Оленевым. В беседах с ним выяснилось, что он был в революционном Витебске… частным охранником у новоиспеченного “комиссара” Шагала и, перевязанный пулеметными лентами, с парабеллумом в деревянной кобуре, всегда сопровождал по городу “товарища Шагала”, который всегда ходил в вышитой косоворотке и с кожаным поношенным портфелем под мышкой»[160].
Об Антощенко-Оленеве упоминается и в книге А. Шатских[161], с одним нюансом: там он представлен учеником Витебского народного художественного училища. Поговорить с ним вживую А. Шатских не удалось, так как он умер в 1984 г. Поэтому она цитирует фрагмент переписки с его сыном. Об экзотической роли В. Антощенко-Оленева при комиссаре искусств не упоминается вовсе. Двойственная функция будущего казахского художника-графика не должна удивлять: в действительности он одновременно мог быть и учащимся, и стрелком вооруженной охраны, и еще много кем (это совершенно в духе обычаев, царивших в специальных ведомствах революционной России 1917–1940 гг.; любой желающий может это увидеть по открытым архивам КГБ Литовской Республики). Сам Антощенко-Оленев свидетельствует, что М. Шагал привлекал его к изготовлению визуальной агитации к годовщине Октябрьской революции, подготовка к которой описана в предыдущих главах. По свидетельству деятеля искусств Казахстана, Шагал тогда «поднял на ноги» вообще всех, в том числе и тех, кто только-только начал рисовать, как сам Антощенко-Оленев.
Записи двух бесед Б. Крепака с охранником М. Шагала в 1977 г. оставляют очень мало деталей о бэкграунде этого опоясанного пулеметными лентами товарища. Известно, что В. Антощенко-Оленев «имел некоторую боевую практику в декабрьских революционных боях 1917 года» (?!) и с Шагалом «был рядом почти каждый день до конца августа 1919 года, пока меня не мобилизовали в Красную гвардию»[162].
Отношения комиссара искусств с этим интересным и многогранным персонажем стали бы хорошим предметом для отдельного исследования и почти наверняка помогли бы пролить свет на некоторые нюансы тех драм, о которых мы либо почти ничего не знаем, либо знаем очень мало[163]. Беда в том, что для такого рода исследований нужен специальный уровень доступа, а люди, обладающие им, обычно не только исследований не пишут, но и воспоминаний не оставляют. Кстати, В. Антощенко-Оленев не оставил книги мемуаров о своих витебских годах.
Не совпадает образ вихрастого управленца-энтузиаста, каковым себя видел Марк Захарович, с той изменчивой и царственной особой, какой он нарисован в воспоминаниях у А. Ромма: «У Шагала очень развита<…> способность “входить в любую роль”. В 1916 году он – чиновник Военно-промышленного комитета, и, посетив его на службе, удивляюсь как будто давно усвоенным манерам сухого петербургского бюрократа, скупого на слова, исполнительного канцеляриста поневоле (отсрочка по призыву). В 1918 году встречаюсь с ним снова в Санкт-Петербурге, куда он ненадолго приехал из Витебска. Он в новой роли большевика. Зовет работать с ним в Витебск, где он – комиссар искусств. Прибываю в октябре 1918 года<…>. Шагал – надменный, парадный, повелительный»[164].
Сколь бы надменным руководителем ни был М. Шагал, добиваться своего у него не получалось. «В Губисполкоме выпрашивал субсидию из городского бюджета. Председатель демонстративно спал все время, пока я докладывал. А в самом конце пробудился и изрек: “Как по-вашему, товарищ Шагал, что важнее: срочно отремонтировать мост или потратить деньги на вашу академию Искусств?”»[165]. В этом фрагменте – все: и то, как его не слушали (председатель спал), и то, как его инициативы блокировались. М. Шагал сообщает, что витебские власти требовали от него «подотчетности» и даже «грозили тюрьмой», но он «отказался наотрез»[166]. Но не нужно думать, что при этом он был сколько-нибудь самостоятелен: неподотчетность Витебскому губисполкому означает только и всего тот факт, что он подчинялся напрямую Петрограду, комиссару коллегии изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения Н. Пунину, а также председателю Наркомпроса А.В. Луначарскому. Это подчинение было настолько повсеместным, что вплоть до лета 1920 г. малейшие кадровые движения в Народном художественном училище Витебска нуждались в телеграфическом подтверждении из Петрограда[167]. Уполномоченный коллегии изо в Витебске не имел права даже устанавливать себе или своим подчиненным жалованье – он был связан по рукам и ногам многочисленными ведомственными иерархическими ограничениями.
Пылкий, но растерянный, с портфелем, но без автомобиля[168], всемогущий, но не смогший даже «сконцентрировать» все художественные заказы при училище – вот каким он был, Марк Шагал эпохи председательства в Витебской художественной коллегии.
Понимая термин «власть» широко[169], мы можем заключить, что Шагал в его витебские годы был помещен сразу в несколько систем властных иерархий:
1. Круг отношений с витебскими евреями.
2. Круг отношений с исполнительной вертикалью города.
3. Круг отношений с другими художниками в рамках «поля искусства».
В первом кругу его репутация была ослаблена продолжительным отсутствием в городе, тем, что он не участвовал в схемах умножения социального капитала, развивавшихся в годы, предшествовавшие революции. В то время, когда он жил в Петербурге и в Париже, в этой среде устанавливались долгосрочные контакты, происходила кристаллизация авторитетов и оформление центров силы. Кроме того, против М. Шагала тут было сомнительное социальное происхождение (сын торговца селедкой), которое слабо выправил эффектный брак с представительницей видной и богатой семьи Розенфельд (слабо – потому, что внутри новой семьи М. Шагал оставался очевидным маргиналом).
Во втором кругу его социальный капитал с самого начала был невелик, так как «культура и искусство» не были значимыми сферами в системе отношений, где доминировали силовые ведомства: ВЧК, Военный комиссариат и проч. «Художник» среди «здоровенных парней», «стучащих багровыми кулаками по столу»[170]– позиция в принципе слабая. «Поправка на Луначарского» срабатывала только в первое время, пока не оказалось, что А. Луначарский не может защитить М. Шагала и своих петроградских и московских друзей-авангардистов от начатой в 1919 г. газетной травли, санкционированной, судя по всему, лично В. И. Лениным.
Для третьей системы властных отношений, «поля искусства», М. Шагал был «выскочкой», нашумевшим где-то за пределами города, но ничего не представляющим в черте Витебска. «Концентрация заказов», предпринятая почти наверняка для усиления позиций и авторитета в художественной среде, привела к обратным результатам: к тому, что против «выскочки» ополчились не желающие вступать с ним в отношения подотчетности лавочники. Эффектный демарш Общества им. И. Л. Переца показал, что так вести себя с М. Шагалом в принципе можно, а его гуманное нежелание проблематизировать ситуацию с помощью силовых структур города было трактовано как позиция слабости.
Продолжающиеся попытки М. Шагала привлечь к преподаванию в Народном художественном училище людей, с городом не связанных, могут с этой точки зрения восприниматься не только как его желание придать «Витебской школе» блеск крупного европейского художественного центра. Приглашение М. Добужинского, В. Ермолаевой, согласие на приезд К. Малевича и других столичных деятелей могут быть увидены как попытка художника выстроить новую иерархию социальных капиталов, новое поле искусства, в котором достижения представителей старой витебской среды будут сведены к нулю. Сам же М. Шагал на правах «центра» этого водоворота обретет тот вес, которого ему катастрофически не хватало.
Тот факт, что и этот его эксперимент провалился, что один из приглашенных «столичных» деятелей отобрал всех учеников М. Шагала, может свидетельствовать не только об отсутствии у художника прозорливости, но и о том, что он не умел интриговать, не знал, как подлы бывают люди.
Марк Шагал – неудачливый комиссар искусств – куда приятнее и милее того Шагала, которого мы бы увидели перед собой, если бы ему удалось всех «выстроить», запугать и подчинить себе.
Искусство может сосуществовать с политической властью, смеяться над ней, оно может ее пропагандировать, причем талантливо, как это было в Витебске в ноябре 1918 г. Но никогда искусство не может быть компонентом власти как системы принуждения и страха, тем инструментом, с помощью которого порабощается воля и ломается творчество. «В косоворотке, с кожаным портфелем под мышкой…» М. Шагал так и остался художником, наивным и добрым. Даже когда вокруг было страшно, страшно, страшно.
Конфликт с А. Роммом и первая попытка уехать
А. Ромм был другом юности М. Шагала, а по итогам витебских лет стал врагом всей его жизни: самым едким и яростным злопыхателем, оставившим воспоминания, которые в контексте шагаловской полемики с наслаждением цитируют антисемиты.
Они познакомились на курсах Е. Званцевой в Петербурге: М. Шагалу было 22 года, А. Ромму – 23. Шагал в Петербурге сначала жил на «10 руб. в месяц»[171], выдаваемые ему бароном Д. Гинзбургом, к которому М. Шагал пришел с письменной рекомендацией от скульптора И. Гинцбурга. Барон «потчевал его поучениями» и в первую очередь рекомендовал найти хорошую жену, «не как у Антокольского», затем просто через лакея передал, что М. Шагал стипендии лишается («Подумал ли барон или его домашние, что будет со мной, когда я выйду из его роскошной передней?»[172]). Тогда М. Шагала взял в лакеи адвокат Гольдберг – закон разрешал юристам брать в слуги евреев, но с тем условием, что «я должен был жить и столоваться у него»[173]. Вот в такой жалкой роли и пребывал М. Шагал, когда впервые встретился с А. Роммом. Ромм был сыном богатых родителей, учившимся в престижном Петербургском университете и говорившим на трех европейских языках[174]. Разница в социальном положении была огромной. Но они подружились, несмотря на это. А может быть, благодаря этому.
Сохранилась их совместная фотография периода юности (1911 г., Париж, Люксембургский сад): А. Ромм одет в превосходную летнюю пару, двубортный костюм, белоснежную рубашку с накладным воротничком по моде, со скругленными уголками. Нижняя пуговица пиджака расстегнута, левая рука заведена за спину и согнута в локте – поза несколько комично выглядящего сейчас изящества. Нога выдвинута вперед, из-за чего его массивная фигура выглядит танцующей. На голове – невероятная шляпа с приспущенными краями (писк парижской моды 1910-х, конструкция – «колокол»). Он похож на сытого и ленивого кота. Ах да, забыл упомянуть: все это – и костюм, и шляпа, и туфли – белоснежные.
М. Шагал рядом – исхудавший, в рубашке с дешевым воротничком «акулий плавник», без накладных манжет, на которые, похоже, не было денег. На плечах у него – не то роба, не то пыльник, не то удлиненный пиджак: одежка на все случаи жизни. На голове – сплющенная шляпка-canotier из тех, которые можно увидеть на картинах Э. Мане (читай – устаревшая на 50 лет). На ногах – демисезонные ботинки со сбитыми носами, в то время как элегантные туфли А. Ромма даже не запылились – несмотря на известное свойство Люксембургского сада поднимать облака оседающей на обуви пыли.
«Принц и нищий», «денди и бродяга», «богач и бедняк»: таким был внешний расклад. Внутренний же, психологический расклад заключался в том, что А. Ромм, как пишет А. Шатских[175], признавал абсолютное превосходство необразованного, не говорящего на языках М. Шагала. Ромму хватало опыта знакомства с европейской живописью, чтобы понимать: его собственные рисуночки – а занимался он всегда только графикой – не стоили вообще ничего. Есть наблюдение: чем более начитан человек, тем больше он склонен ни во что не ставить свой вклад в культуру и искусство. Образования А. Ромму было не занимать. Но никакого образования не хватило бы, чтобы понять явную, болезненную пронзительность картин его бедного друга. Самолюбие молчало – оно было удовлетворено тем простым фактом, что друг этот в любой компании не имел против богатого, жеманного и знающего манеры А. Ромма ни единого шанса.
Так они дружили. После Парижа Шагал застрял в Витебске, Ромм колесил по Италии, посещал «выставки и музеи, изучал архитектуру Рима, Флоренции, Сиены, Равенны»[176]. Потом один из них стал «комиссаром» искусств и начал обустраивать Народное художественное училище. Второй сделался классово чуждым пролетарской власти интеллигентиком с сомнительным происхождением и бесполезными иностранными языками. Они поменялись местами.
Чем руководствовался М. Шагал, приглашая А. Ромма – в числе первых – преподавателем в свою школу? Старой дружбой? Но и намека на Ромма нет в списке друзей, тщательно задокументированном М. Шагалом в «Моей жизни», в жанре «те, кому я верил и кто меня предал». Желанием отыграться, в формате «кем ты был и кто ты сейчас»? Но даже отголоска подобного не видно в воспоминаниях М. Шагала. Кажется, он был просто выше и чище таких эмоций и хода мысли.
В Народном художественном училище А. Ромм получил должность руководителя мастерской рисунка и лектора по истории искусств. Из печати видно, что он часто выступал с рассказами о живописи не только в стенах училища, но и на других площадках в городе, его излюбленной темой являлся Эль Греко. И если бы всегда было так, если бы Ромм преподавал, а М. Шагал управлял, конфликта с выяснением, «кто есть кто в городе», не случилось бы.
Весной 1919 г. А. Ромм получил пост заведующего подотделом искусств губернского отдела народного образования[177](не путать с должностью руководителя подотдела искусств Наркомпроса, занимаемой М. Шагалом). Ранее, в апреле 1919 г., М. Шагал, утомленный административной работой, подал ходатайство в Наркомпрос о своем уходе с руководящего поста в администрации и сохранении за собой лишь позиции в училище. Ходатайство не былоудовлетворено центром, об этом написали «Известия»: в телеграмме из Петрограда сообщалось, что он «должен остаться на своем посту»[178].
Но 10 мая 1919 г. «Витебский листок» опубликовал сообщение, окончательно запутавшее современных исследователей: «Заслушав доклад тов. Шагала центр по предложению Шагала утвердил тов. Ромма губуполномоченным по делам искусств в Витебской губернии. Заведующим училищем остается тов. Шагал»[179]. Все выглядело так, как будто Ромм получил кресло Шагала и стал полноправным новым уполномоченным Наркомпроса в Витебске вместо пригласившего его в город живописца.
«Дело в том, что местная пресса время от времени помещала на своих страницах не совсем точные корреспонденции, – пишет Л. Хмельницкая. И делает логичный вывод: – Если еще 24 апреля центр был против сложения Шагалом своих полномочий и настаивал на том, что тот “должен остаться на своем посту”, то маловероятно, что за следующие две недели решение было кардинально изменено»[180]. Еще одно важное обстоятельство: на летние месяцы М. Шагал получил отпуск с сохранением содержания по отделу и отбыл из города на отдых – документы о назначении ему 2000 руб. из больничной кассы сохранились в ГАВО[181].
Таким образом, наиболее вероятный сценарий следующий: на время отдыха М. Шагала по взаимной договоренности сторон А. Ромму были на местном уровне, местными властями, временно делегированы полномочия, которые по праву принадлежали М. Шагалу[182].
Эта версия Л. Хмельницкой полностью подтверждается следующим парадоксом. В ГАВО хранится заявление об уходе, написанное в июле 1920 г. Марком Шагалом перед его окончательным отъездом из города. В документе рядом с фамилией художника читаем следующие регалии: «Заведующий секцией изобраз[ительных] искусств, заведующий Вит[ебским] Высш[им] Народным Художествен[ным] Училищем и профессор-руководитель живописной мастерской». Если бы, как об этом поспешил в мае 1919 г. написать «Витебский листок», центр действительно утвердил А. Ромма новым уполномоченным, Шагалу не требовалось бы просить об увольнении с поста завсекцией (т. е. подотдела) искусств [Наркомпроса].
А. Лисов делает очень емкое обобщение, которое полностью объясняет ту силовую линию, по которой развернулся конфликт: М. Шагал остался представителем центра (мы это будем видеть по характеру скандала), А. Ромм же сделался «представителем местной власти»[183](так как с мая 1919 г. был легитимным заведующим подотделом искусств губернского отдела народного образования – опять же, не путать с должностью руководителя подотдела искусств Наркомпроса).
Интересный поворот событий: приезжий петербуржец А. Ромм сделался «большим витебчанином», явным и значимым авторитетом для губернской бюрократической среды, а уроженец Витебска М. Шагал – нет. Нам кажется, это многое говорит как об административных способностях живописца, так и о характере того сообщества, в которое он был помещен в 1919 г. Их отношения – плавно оттесняемого Витебском витебчанина и приезжего петербуржца – начали портиться[184]: в частности, прекратилась переписка, имевшая ранее настолько доверительный характер, что Шагал подписывался своим «домашним именем Моисей»[185].
Прорвало же эти взаимные и пока неявные ощущения нарастающей неприязни, как это часто случалось в советской практике, на банальном жилищном вопросе.
Причем этот новый скандал случился менее чем через полгода после ситуации с «концентрацией заказов». Марк Шагал с супругой и новорожденной дочерью жил на съемной квартире возле казарм. Читаем в «Моей жизни»: «Мы натыкались на взгляды соседей, как на шпаги. “Вот подожди, скоро в Витебск придут поляки и убьют твоего отца”, – говорили их дети моей дочке. А пока нас допекали мухи. Мы жили рядом с казармами, оттуда-то и вырывались полчища бравых мух, которые набивались в дом через все щели. Садились на столы, на картины, кусали лицо, руки, изводили жену и дочку так, что малышка даже заболела»[186].
Наконец, в сентябре 1919 г. художник не выдержал и решил воспользоваться своим положением директора училища, в здании которого на ул. Бухаринской имелись помещения для жизни преподавателей. Натурально, что к этому моменту все они были заняты – с момента начала работы учебного учреждения прошло почти полгода.
Вот как развитие событий описывает А. Лисов: «Шагал вынудил Ромма выехать из квартиры в здании народного художественного училища, где тот проживал, в то время как сам захватил под свою квартиру помещение из двух комнат, предназначенное под музей современного искусства, который должен был развернуться в училище»[187]. Из этого фрагмента мало что можно понять, ведь выходит, что Ромм освободил под давлением «комиссара искусств» одно помещение, а занял М. Шагал другое, которое было «предназначено под музей». Ситуация становится яснее из прочтения воспоминаний самого А. Ромма: «Осенью 1919 года мне стало известно, что Шагал добивается моего выселения из здания художественного училища. Я выехал, с трудом найдя другую комнату. Потом стало известно, что Шагал решил занять квартиру в этом же здании»[188]. М. Шагал не мог выкинуть своего друга с Бухаринской просто так, потому что его донимали мухи. Он сделал это, мотивировав тем, что освобождает помещение под музей современного искусства. После того как представитель «витебских властей» А. Ромм комнаты оставил, Шагал въехал на жилплощадь на Бухаринской сам.
А. Ромм апеллировал к жилищному отделу горхоза, отдел выписал предписание на имя директора училища «немедленно предоставить три комнаты на ул. Бухаринской, 10 для Музея живописи» – это уведомление сохранилось в ГАВО[189]. М. Шагал это распоряжение игнорировал.
Тогда А. Ромм написал в губернский отдел просвещения докладную записку о «незаконных действиях заведующего художественным училищем», а губоно направило жалобу на Шагала в Витебский губернский совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. В документе, как сообщает нам Л. Хмельницкая, введшая его в научный оборот, выдвигалось несколько «пунктов обвинений», главным из которых было то, что «основываясь на факте получения кредитов непосредственно из Центра, гр. Шагал не считается с распоряжениями местной власти в лице губотдела просвещения и горсовета». В качестве примера приводился отказ художника «предоставить пустующие 3 комнаты в здании Художественного училища под Музей» и «занятие их под собственную частную квартиру. Кроме того, Шагал<…> заявил секретарю подотдела искусств губотдела, что он подчинен исключительно Центру и с местными властями считаться не намерен»[190]. В заключение губотдел просвещения (т. е. А. Ромм) просил губисполком «оказать самое энергичное воздействие на гр. Шагала и провести на деле фактическое подчинение Художественного училища губотделу просвещения в отношении финансовом и административном»[191].
Как мы видим, сложилась ситуация двоевластия: представитель «местной» художественной власти А. Ромм оспаривал решения ставленника «центральной» художественной власти М. Шагала. Что характерно, председатель губисполкома Сергиевский полностью встал на сторону А. Ромма: «Поставить на вид тов. Шагалу, что сепаратические стремления будут в корне пресекаться губисполкомом и поэтому Худ училище безуслов. должно быть подчинено в административном и финансовых отношениях губотделу просвещения».
Документальных свидетельств тому не осталось, но в «Моей жизни» мы читаем, что художника с семьей буквально выгнали из его жилья: «Однажды, когда я в очередной раз уехал доставать для школы хлеб, краски и деньги, мои учителя подняли бунт, в который втянули и учеников. Да простит их Господь! И вот те, кого я пригрел, кому дал работу и кусок хлеба, постановили выгнать меня из школы. Мне надлежало покинуть ее стены в двадцать четыре часа».
М. Шагал переехал на новую квартиру, которой владел «богатый старик, решивший приютить нас, в надежде, что я как директор академии заступлюсь за него. Перед кем? Но его, в самом деле, не тронули. Этот старикан, одинокий вдовец и скряга, ел скудно, как больной пес. Кухарка вздыхала над пустыми кастрюлями и злорадно дожидалась смерти хозяина. Никто никогда к нему не заходил. На дворе революция. А ему и дела нет. Он занят: ревниво стережет свое добро»[192]. Л. Хмельницкая делает предположение, что «богатым стариком» в данном случае был тот самый Израиль Вульфович Вишняк, который некогда владел особняком на Бухаринской, 10 – пока его не экспроприировали под нужды училища. Это допущение основано на том, что обратный адрес для входящей корреспонденции в конце 1919 г. М. Шагал указывал своим корреспондентам так: «Витебск, Задуновская улица, дом номер 9». Владельцем этого объекта в 1918 г. был записан именно И. Вишняк.
Опала маэстро не могла пройти незамеченной среди подчиненных М. Шагала. Когда директора с женой и малолетней дочерью «в двадцать четыре часа» предписанием заставляют «освободить жилплощадь», его авторитет неизменно падает. В педсоставе произошел раскол, однако большинство встало все-таки на сторону М. Шагала. В середине сентября было созвано общее собрание учащихся, на котором обсуждался вопрос о положении дел в заведении (т. е. де-факто вопрос противостояния А. Ромма и М. Шагала). Резолюция общего собрания была опубликована в полном виде в витебских «Известиях»:
«Заслушав доклад т.т. Циперсона и Кунина о критическом положении училища в связи с намерением М. З. Шагала покинуть училище, а вместе с тем и город Витебск и принимая во внимание
1) что М. Шагал является не только одним из первых пионеров на пути этого великого дела;
2) что М. Шагал является единственной моральной опорой училища, без которой последнее существовать не может;
3) что уход М. Шагала при подобном положении может послужить гибелью для художественного училища, которое уже показало свою жизнеспособность, что видно по результатам 1-ой отчетной выставки;
4) что действия некоторых лиц, создавших в школе за последнее время невозможную атмосферу для деятельности М. З. Шагала как заведующего училищем, являются абсолютно недопустимыми и заслуживающими резко-отрицательного отношения;
5) что единственной гарантией, могущей возвратить жизнь школы в свое обычно-спокойное русло, является коренное изменение условий, при которых работа сделалась бы возможной; общее собрание учащихся обращается непосредственно к М. З. Шагалу с настоятельной просьбой не покидать школу.
Общее собрание выражает М. Шагалу полное и безусловное доверие и обещает поддержку во всех действиях и начинаниях. Равным образом общее собрание выносит суровое порицание тем лицам, которые своими действиями создали настоящее положение»[193].
Несмотря на то что преподаватели и ученики были пока явно с ним, М. Шагал настолько расстроился в связи с этой историей, что предпринял попытку окончательно уехать из Витебска уже тогда, осенью 1919 г. Во время своего визита в Москву 17 ноября 1919 г. он подал во Вторые государственные художественные мастерские заявление, в котором содержалась просьба зачислить его в число преподавателей и предоставить мастерскую[194]. Просьба не была удовлетворена.
А потому свой авторитет в Витебске Марку Шагалу нужно было как-то восстанавливать. Губисполкомовское обвинение в «сепаратических стремлениях» было слишком серьезным в условиях военного времени, чтобы на него вообще никак не реагировать. Рано или поздно упрек и «постановка на вид» могла закончиться визитом товарищей в хрустящих портупеях, которые облекли бы упрек в форму бодрого уголовного дела.
Отметим, кстати, отдельно, как странно большевистский городской голова Сергиевский трактовал понятие «сепаратический»: оно для него было проявлением желания М. Шагала не подчиняться местным властям и иметь подотчетность исключительно центру. В то время как вообще-то «сепаратизм» – это нечто прямо противоположное: стремление провинции не подчиняться метрополии, отделиться от всех. Если кого-то в этой ситуации и можно было заподозрить в «сепаратических стремлениях», так это самого Сергиевского и его протеже А. Ромма. Но, по всей видимости, товарищ Сергиевский слово «сепаратический» слышал пару раз в жизни, в контексте популярного тогда выражения «сепаратный мир» – так назывались попытки государств германской коалиции договориться о прекращении огня без ведома своих союзников. Логика Сергиевского была такова: раз Шагал договаривается с Москвой в обход своих союзников в Витебске, то он – «сепаратист». Ленинская ликвидация безграмотности в 1919 г. еще только начиналась, а из какой среды набирались управленческие кадры в это время, легко догадаться.
Так или иначе, М. Шагал сделал то единственное, что мог сделать: в последний раз «включил Луначарского». Где-то в период между 15 сентября и 1 ноября 1919 г. он обратился в Наркомпрос с просьбой о поддержке. Письма или телеграммы на этот счет в архивах не сохранилось, нам приходится лишь догадываться о том, что именно говорилось в апелляции к центральным властям. Нельзя, кстати, исключать и того, что М. Шагал встретился с представителями Наркомпроса лично во время одной из своих поездок в центр.
Заступничество Москвы[195]было оформлено в виде письма, отправленного в Витебск 4 ноября 1919 г. Письмо подписал новый заведующий отделом изобразительных искусств Наркомпроса Д. Штеренберг: «Отдел изобразительных искусств Наркомпроса, ознакомившись с материалами по делу тов. Шагал [опять заметим, что фамилия не склоняется], выражает тов. Шагал полное доверие, признает, что он поставил Витебские Государственные Худож<ественные> мастерские на должную высоту и выражает лицам, предпринявшим по отношению тов. Шагал ряд принудительных мер вплоть до выселения, включительно, свое порицание. Считая подобное отношение к своим представителям на местах недопустимым, отдел просит впредь оказывать им при исполнении возложенных на них обязанностей всяческое содействие»[196].
Из этого документа можно сделать несколько выводов:
1) М. Шагал в ноябре 1919 г. оставался полноправным «представителем» отдела изо, т. е. уполномоченным Наркомпроса. Заметку в «Витебском листке» нужно трактовать как временную передачу А. Ромму шагаловских функций.
2) М. Шагала с семьей к этому моменту действительно выселили из помещения, которое он занимал в возглавляемом им училище («ряд принудительных мер вплоть до выселения»).
3) М. Шагал, несмотря на явно пошатнувшуюся репутацию в городе, по-прежнему был непререкаемым авторитетом для Москвы. В то время как в Витебске над ним уже вовсю издевались газеты, а коллеги по городской администрации, не понимавшие «футуризм», перешли в наступление на его искусство и лишили права оформлять Витебск ко второй годовщине революции, Москва выражала ему «доверие» и признавала, что он поставил обучение в училище «на должную высоту».
Понятно, что не в последнюю очередь эта поддержка была продиктована тем, что в самой Москве пока культурой и искусством управляли те самые «футуристы». Искусство того же Давида Штеренберга в своей наивной пластичности было созвучно картинам Марка Шагала: и у Штеренберга – кривые улочки, сине-зеленые дома, смесь кубизма с naïve. Именно этот человек будет определять из центра художественную жизнь России вплоть до 1920 г.!
Но в заступничестве такого рода есть еще один аспект, вневременной. В провинции всегда меньше свободы и готовности понимать новое, чем в центре. Мы будем видеть это значительно позже, когда в БССР творчество Василя Быкова, Владимира Короткевича попадет в опалу, а в Москве они продолжат издаваться. Алеся Адамовича затоптали бы, будь он исключительно белорусским публицистом и писателем: выход на Москву, контакты со столичными коллегами заставляли к нему прислушиваться. (Могилу его в г. Глуша до сих пор регулярно разрушают вандалы в отместку за его публицистику времен перестройки: в дремучих головах консерваторов Адамович был одним из ответственных за развал СССР мыслителей, за что ему и мстят после смерти.) Ровно ту же ситуацию мы увидим дальше и в шагаловском вопросе: когда в 1987 г. про художника писал журнал «Огонек», в Минске проходили пленумы компартии, на которых осуждалась «шагаломания».
Так или иначе, после веского слова, сказанного в защиту М. Шагала Наркомпросом, Витебский губисполком не мог дальше «утюжить» художника. А. Ромм потерпел поражение, пусть даже ситуация с его выселением из здания училища и сейчас кажется не слишком красивой. То, что это было именно поражение, доказывается его уходом с позиции заведующего подотделом искусств губернского отдела народного образования[197](к работе в секции изо он сможет вернуться только в июне 1920 г., когда М. Шагал навсегда уедет из города). Ромм покинул и Народное художественное училище – по всей видимости, ученики и преподаватели не смогли восстановить ровное к нему отношение после общего собрания, резолюцию которого опубликовали в сентябре «Известия».
Вообще судьба этого парижского модника в белой паре и рубашке со скругленным воротничком сложилась не самым приятным образом: в Витебске в январе 1920 г. он возглавил комиссию по охране памятников старины, писал в журналы. Стал одним из самых ядовитых критиков, уничтожавших «Витебскую школу», подтверждая тезис о том, что самый озлобленный рецензент – бывший художник-неудачник.
В 1921 г. в витебском журнале «Искусство»[198]можно было прочитать его саркастические заметки о супрематистах – единственной оставшейся к тому моменту в Витебске авангардистской группе. Он обвинял их в «нарождении» нового «супремокубистического академизма» (?)[199]взамен академизма реалистического, бытовавшего до 1917 г. Что такое «супремокубистический академизм», А. Ромм не объяснял, но по тону статьи было понятно, что это какая-то гадость.
А. Ромм заключал, что витебские мастерские (которыми заведовал уже К. Малевич) не способны дать «кадры всесторонне подготовленных для производственной работы художников»[200]. Свои искусствоведческие познания он использовал для предметной, похожей на доносительство критики учебных методик: «Программа Государственных художественных мастерских, составленная в духе “Уновиса”, согласно которой вся педагогическая деятельность сводится к изучению новейших систем, начиная с кубизма, отвергнута центром»[201]. Или: «Где же<…> конкретные доказательства постижения новых живописных систем (первооснова всей работы “Уновиса”)? То, что было показано, как образец кубистической живописи, едва ли заслуживало этого названия»[202].
Он смеялся над проунами[203]Эль Лисицкого – «углубившись в выставленные проэкты убеждаешься, что авторы их очень плохо представляют себе самые основы всякого архитектурного построения<…> Вызывает сомнение, могут-ли вообще юные “новые строители” осмыслить трудную проблему архитектурного ансамбля…»[204]. «Сезаннист» Л. Зевин для него недостаточно мастеровит, «сезаннист» Э. Волхонский – «черноват по цвету»[205].
Там же, в «Искусстве», А. Ромм поливал ядом и «реалистов»: «Выставка учеников Пэна в клубе Комола не дала ничего утешительного. На этой выставке ясно выступало полнейшее неумение видеть цвет, банальное постижение рисунка, поверхностность, плюс подражание Ю. М. Пэну, но отнюдь не лучшим его живописным работам»[206].
В 1922 г. А. Ромм уехал из Витебска в Москву, до 1924 г. работал в музее А. Луначарского, заведовал картинной галереей в г. Фрунзе. Эта должность – провинциального галерейщика – была самым большим карьерным достижением знающего три языка человека в парижской шляпе колоколом.
К моменту, когда он завершил свой сборник статей о еврейских художниках с брезгливыми воспоминаниями о бывшем друге[207], имя М. Шагала уже звучало по всему миру наравне с именами Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Что ощущал Ромм, вспоминая его потешный наряд: мятый пыльник, сплющенную шляпку-canotier и демисезонные ботинки со сбитыми носами?
Газетная травля
Все эти драмы, выселения, жалобы и скандалы случались под аккомпанемент становившейся все громче газетной ругани. Первое заблуждение, которое следует развеять в связи с газетным освещением деятельности М. Шагала и той эстетической революцией, которую он спровоцировал в крохотном губернском городке, – то, что о М. Шагале в принципе много писали[208].
Откликов в «Известиях» в режиме «заметка в три строки» удостаивалась в основном административная деятельность художника, т. е. то, что касалось его должности уполномоченного коллегии Наркомпроса. Его живопись, его взгляды на образование – все это было вне фокуса внимания витебской печати. Характерно, что за все это время в Витебске с ним не было взято ни одного интервью[209]. Это странное обстоятельство может быть объяснено тем, что интервью как жанр в принципе было слабо представлено в советской послереволюционной печати. Также с момента упомянутых ранее рецензий 1916 г., являвшихся не авторскими материалами, а перепечатками чужих статей, в Витебске не было написано ни строчки собственно об искусстве «комиссара». В период его жизни с 1918 по 1920 г. в Витебске не было напечатано ни одной рецензии[210]о творчестве Марка Захаровича, в то время как в России выходили монографии, посвященные маэстро[211]. Витебская печать вела себя так, будто на посту главы подотдела работает заурядный бюрократ – к чему озадачиваться отзывами о том, что этот бюрократ малякает после работы?
Чтобы понять, о чем и как писали витебские газеты, вчитаемся в эту заметку из издания «Просвещение и культура» – официального органа Витебского городского отдела народного образования: «Учителя бегут из Витебской губернии. И занимаются всякими делами, которые попадаются под руку. Были случаи найма учителей в пастухи! Более слабые кончают даже жизнь самоубийством (11 случаев), развивается проституция, наблюдались одиночные случаи ухода в бандиты»[212].
Соответственно, газетная критика 1919–1920 гг. не была руганью собственно М. Шагала: он персонально не воспринимался достаточно значимым объектом для того, чтобы переводить на него типографскую краску и шершавую, похожую на тонко раскатанный кусок хозяйственного мыла (и такую же липкую, как это советское мыло) бумагу. Его «прикладывали» в числе прочих «футуристов».
Первым, кто сменил ровный тон отзывов об авангардистах и М. Шагале на обличительный, был тот самый Г. Грилин, который в декабре 1918 г. посчитал нужным вступиться за него. Помните, как он «пропечатывал» мещанство, которое «издевалось и оплевывало… того самого Марка Шагала, которым восхищаются лучшие знатоки»?[213]
Уже к февралю 1919 г. Г. Грилин одумался: «Для того чтобы доказать, является ли футуризм искусством пролетарским, или буржуазным, необходимо доказать, есть ли футуризм искусство вообще». К сожалению, художники-футуристы об этом совершенно не говорили»[214]. Нужно понимать, что в каждой из этих статей вместо слова «футуризм» можно ставить слово «Шагал» – значение сильно не поменяется: супрематизма пока в городе не было, так что комиссар искусств олицетворял самое революционное для города направление в живописи. Вот как Г. Грилин «прошелся» по М. Шагалу и его ученикам-«футуристам» в контексте полемики вокруг Л. Андреева, которого центральная советская печать в тот момент избрала мишенью для поучительной критики за меньшевизм и белогвардейство: «Нужно ли доказывать, что Максим Горький, пишущий так просто и, вместе с тем, так талантливо, – писатель пролетарский? А Леонид Андреев с его революцией, буйными громами и молниями есть художник буржуазный? Это и так ясно для всех. И смешно было бы доказывать, что Леонид Андреев с его Саввой, Жизнью человека, Тот кто получает пощечины, Анфисой, Моими записками и т. д. и т. д., есть пролетарский писатель! Несмотря на то, что и в этих произведениях мы чувствуем бунт. Так почему футуристам необходимо так много доказывать, что они творцы пролетарские? Потому, что их не понимают»[215].
Далее мы видим издевательства над тезисами, ранее высказанными М. Шагалом[216], пробовавшим собственной непонятностью гордиться и предсказывать время, когда «левых художников» наконец поймут: «Тогда задачей футуристов как пролетарских творцов должно было явиться сделать свои произведения как можно понятнее массам. Нельзя же на самом деле целому классу людей преподносить произведение, ему непонятное и утверждать, что это – произведение его»[217]. Завершается этот опус еще одним озвученным сомнением в том, что футуризм является искусством, а также допущением, что футуризм есть проявление «вырождающегося города».
В марте 1919 г. «Витебский листок» в числе прочих газет по всей революционной России перепечатал этапный отзыв «Коммунара» о футуристическом шествии в Москве: «В сочетании красного с желтым – символ революции, обслуживаемой скоморохами с желтыми билетами. Полюбуйтесь этим бесподобным пятном: не то звезда от ловко запущенного в стену насиженного яйца, не то раздавленная копытом лягушка. Не характерны ли сами по себе эти краски разбитого и размозженного, не характерны ли они для людей с разочарованным сознанием, для буржуазных последышей, как лягушат, раздавленных революцией? Лягушата содрогаются в предсмертной судороге. И ужас в том, что кто-то их вздрагивающие лапки любовно обмакивает в краску и подставляет поудобней к полотну. Потом плоды с этим судорожным, животным творчеством выставляет в величайший праздник победоносного коммунизма. Стыдно, если наши враги будут тыкать пальцем на зараженную красную Москву. Смотрите, дескать, Социалистическая республика рисует на самое себя карикатуры. На тех самых стенах, под которыми в Октябрьские дни умирали пролетарии, знамя свободы и социализма»[218].
Что характерно, републикация сопровождалась комментарием-доносом все того же Г. Грилина. Автор как будто сообщал по инстанциям фамилии товарищей с должностями, потворствовавших «футуристам», дабы те кто нужно «взяли на карандаш» и приняли меры: «Только недавно мы слышали на художественном митинге-диспуте много красивых слов о том, что футуризм – пролетарское искусство. На помощь футуристам даже пришли представители местных коммунистов в лице председателя горсовета товарища Марголина и инспектора труда товарища Швайнштейна, произнесших речь, полную симпатии и сочувствия к футуристам»[219]. В отношении обоих должны были последовать скорые меры, ибо, как выходило из статьи, именно они отчасти виноваты, что в городе разгулялись «футуристы» (т. е. М. Шагал с его учениками), которые размахивают лапками мертвых лягушек, обмакнутыми в краски, перед теми самыми стенами, под которыми в Октябрьские дни умирали… ну и так далее.
Что самое интересное, Шагал пытался защищаться. Об этом известно мало, но на страницах некоторых витебских газет, при минимальном интересе к себе и своему творчеству, он развернул полноценную полемику, в которой отвечал Г. Грилину и другим критикам. Предметный анализ газетной публицистики М. Шагала витебского периода при всей ее интересности и слабой изученности не является задачей этого нашего исследования, но дадим же художнику защитить себя хотя бы кратко: Грилин требовал сделать искусство «понятней массам»; Шагал говорил о том, что уровень масс нужно подтянуть до уровня искусства. «Коммунар» писал о красках «разбитого и размозженного», характерных для людей «с разочарованным сознанием, для буржуазных последышей», Шагал возражал: реалистично написав рабочего, пролетарского искусства не создать, пролетарское искусство – это когда рабочий берет в руки кисть и пишет что-то сам. Читаем в «Школе и революции» (июль 1919 г.): «…неужели думаете вы, что если сюжет этот вдохновенно изображает жизнь рабочего и крестьянина, а не жизнь насекомых, это и есть искусство пролетарское? Нет. Пролетарским же будет названо искусство того, кто с мудрой простотой и внутренне и внешне порывает с тем, что не может быть названо иначе, как “литература”. Итак, определять пролетарское искусство будущего мы должны с большой осторожностью. И в первую очередь определять пролетарское искусство нужно не из его идеологической содержательной стороны в обычном смысле этого слова. Именно эту сторону мы должны окончательно обесценить. Пролетарское искусство – не искусство для пролетариев и не искусство о пролетариях. Но запомним раз и навсегда: оно искусство пролетариев»[220].
Тезис прост, с ним сложно спорить, но от него отмахиваются. М. Шагалу с его взглядами на «левую живопись» как живопись рабочего класса отвечал будущий издатель «Искусства» П. Медведев в «Просвещении и культуре»: «Да и вообще, крайние левые течения, видимо, как-то не прививаются. Недаром и на нашей выставке они неприятно поражают отсутствием оригинальности, самостоятельности и рабским повторением азбуки новейшего искусства»[221], – пишет он.
Окончательный приговор витебским «футуристам» вынесли в ноябре 1919 г. «Известия»: «Революция еще не успела выдвинуть дарование, сколько-нибудь соответствующее по масштабам величию переживаемых событий. С этим надо мириться. Сколько бы мы ни торопились создавать сейчас в настоящий момент пролетарское искусство, это пока не получится. Пролетарское искусство – дело будущего»[222], – констатировала газета. Таким образом, ни М. Шагал, ни уже действовавший в Витебске К. Малевич с его амбициями зачинателя «новой системы в искусстве» представителями «пролетарского искусства» не являлись: «сейчас в настоящий момент» такового не просматривалось.
В этой статье снова ставилась магистральная задача сделать живопись понятнее – с тем лишь различием, что мнение Г. Грилина в «Витебском листке» можно теоретически было воспринимать как его собственную точку зрения. Но напечатанное в «Известиях» – официальном печатном органе Витебского губернского совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депутатов – являлось консолидированной точкой зрения местной власти: «Каковы же задачи, которые являются в настоящий момент насущными? – задавался вопросом журналист С. П. [С. Раппопорт[223]]. —…распространить искусство наиболее широкой массе, демократизировать его, прибавить к искусству, к художественным переживаниям наибольшее число людей. Мы можем с успехом выполнить ту работу, которая была немыслима при буржуазном строе – пролетаризировать наше искусство. Важно, что рабочие, до этого лишенные всяких художественных переживаний, теперь не только могут, но и должны их иметь»[224].
Рабочий должен трудиться, считала власть большевиков. Рабочий должен рисовать, полагал М. Шагал. Кто из них был более гуманным в своих взглядах – губисполком, видевший в людях только тягловую силу, или М. Шагал, пытавшийся разбудить в них красоту?
Рабочий должен быть объектом искусства, кричат все процитированные нами статьи большевистских журналистов из витебских газет. Рабочий должен быть субъектом искусства, не соглашается с ними М. Шагал.
Пролетарское искусство должно быть просто и понятно, чтобы доступным языком ретранслировать рабочему в голову идеологию революции, – так мыслили задачу художественной деятельности витебские комиссары. Пролетарское искусство должно создаваться рабочими, которым рассказали о том, что такое искусство вообще, возражал М. Шагал.
Непонятное искусство есть искусство буржуазных последышей, повышали голос комиссары и тянулись за парабеллумом. В этой полемике у художника не было ни единого шанса.
Он воспитал целое поколение учеников, которые без его Народного художественного училища трудились бы мастеровыми, лудили бы крыши или чистили трубы. Но больше никогда в жизни он не предпринимал попытки лепить юные дарования из детей сапожников и городской бедноты. Иные раны заживают слишком долго, иные обиды даются чересчур тяжело – как те, что были получены Шагалом в родном Витебске.
Те же и Казимир
Со всем этим: директором М. Добужинским, посылающим родственникам продукты и немедленно уезжающим после того, как это стало невозможным; с поучающими газетами; с мещанами, насмехающимися над твоими попугаями; с губисполкомом, выкидывающим тебя из жилья, – так вот, со всем этим можно было как-то сосуществовать, пока было училище – чудо, созданное «в провинциальной “дыре” <…> где когда-то коснел какой-то Юр. Клевер и доживает жалкое передвижничество»[225].
Приехавший К. Малевич забрал это последнее и самое ценное – забрал, не претендуя на административный пост директора; забрал, попросту сделав всех учеников Шагала своими апостолами. Малевич был не художником, вернее – не только художником. Он был стихией, мистиком, образом мысли. Он был ходячим богом, убеждавшим других людей в том, что учение его верно, а все другие учения – ересь. Соревноваться с ним для М. Шагала было тем же самым, как если бы Деррида попытался бросить вызов К. Кастанеде в период зенита его славы: их труды предполагали принципиально разную степень читательской вовлеченности. Первый был философом, второй основал религию. Так было и тут, в Витебске: М. Шагал был живописцем, а К. Малевич учредил культ.
Причем большой вопрос, развернулось бы дарование К. Малевича в полной мере, останься он в Москве, где его поучительный тон, «осведомленность в истории искусств», статус «лектора» и «гуру» натыкались бы на рефлективность защищенных знаниями людей. В конце концов, тот факт, что он не смог найти издателя для своей брошюры «О новых системах в искусстве» в метрополии (пусть и переживающей голод и разруху), о чем-то да говорит.
Теория, на которой базировалось его учение, очень проста и может быть изложена в нескольких абзацах. Репрезентативное искусство придумали первобытные люди: «Дикарь первый положил принцип натурализма: изображая свои рисунки из точки и пяти палочек, он сделал попытку изображения себе подобного»[226]. Затем в Риме и Греции реализм был «опомажен, опудрен вкусом эстетизма»[227]. «Давид» Микеланджело – уродливость, так как мастера Возрождения, преуспев в анатомии, не достигли «правдивости во впечатлении тела». Эта «правдивость» часто звучит в воспоминаниях о лекциях Малевича. Например, Л. Юдин приводит пример беседы о храме: живописное изображение храма не дает «впечатление» от нахождения внутри постройки. В этом смысле кубистическое, например, изображение храма как бы «выворачивает» его наизнанку и передает саму идею здания[228].
Футуристы заметили, что при передаче движения цельность вещей исчезает[229]: впечатление от вещи стало важней копирования ее черт. Импрессионизм, кубизм отказались от точного следования реальности, но не осознали, что истинное творчество – в полном освобождении форм: «Расписанные лица в зеленую и красную краски убивают до некоторой степени сюжет, и краска заметна больше. А краска есть, чем живет живописец: значит, она есть главное»[230].
К. Малевич полагал, что все предыдущие направления в искусстве являлись лишь ступенями к миру полной свободы двухмерных геометрических фигур на плоскости, и приводил в пример собственную творческую биографию, в которой он также начинал с импрессионизма, прошел через кубизм, «сезаннизм» с тем, чтобы в итоге изобрести супрематизм – наивысшую форму художественной деятельности, апофеоз эволюции визуальности, осуществляющейся при помощи «прибавочного элемента», коим он провозглашал «экономию».
Что важно: после того как часть ранних работ К. Малевича исчезла в Берлине в 1927 г., он для сохранения целостности своей теории и соответствия ей собственного наследия восстановил часть написанного в молодости в импрессионистской манере, проставив иную датировку и сильно сбив с толку искусствоведов. Классическим примером тут может быть «Пейзаж под Киевом», выполненный в импрессионистской стилистике 1904 г., датированный 1904 г., но на самом деле написанный в 1930 г.[231], когда никаким импрессионизмом в творчестве К. Малевича уже, конечно, не пахло.
Сразу после своего эффектного «входа» в учебный коллектив К. Малевич занял должность руководителя мастерской Народного художественного училища. Методика его преподавания была необычной для деятельности тьютора в сфере художественных практик: он не исправлял работы, не заставлял учеников отрабатывать технику рисования на гипсовых головах и постановках с кувшинами и драпировками. Вместо этого он вещал, или, как высказывается А. Шатских, «читал лекции»: «В архивах витебской школы сохранились документы, зафиксировавшие необычайную интенсивность лекторской деятельности Малевича: в ведомостях фигурировала плата за многие часы лекций»[232].
Главным в подходе К. Малевича была передача знания той теории супрематизма, которую мы изложили выше в нескольких абзацах. «Супрематистом», готовым художником, являлся ученик, в достаточной степени усвоивший систему взглядов своего учителя, начавший подражать его мистическому восприятию мира и умеющий ретранслировать его дискурс. Умение закомпоновать геометрические разноцветные фигуры на белой плоскости было не так важно, как навык распространять знания в теоретических статьях. И скоро М. Шагала стало просто не слышно за хором голосов юных супрематистов, поднявшимся в стенах училища.
Вопрос о том, являлась ли педагогическая методика Казимира Севериновича собственно научной, остается за скобками – его труды написаны подчеркнуто экспрессивно, в них отсутствует то, что помещает любое высказывание в парадигму трудов по теории живописи, а именно метод. По сути, трактаты К. Малевича – это набор эффектных строк, местами маскирующихся под поэзию, местами – под теософию, местами – под искусствоведение; строк, из которых крайне сложно выделить стойкий терминологический инструментарий. «Итак, Бог задумал построить мир, чтобы освободиться навсегда от него, стать свободным, принять в себя полное “ничто”»[233], – эти звучащие как футуристический манифест слова являются фрагментом теоретического трактата «Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный покой», написанного в Витебске. Казимир Северинович учил не живописи или графике – он учил «супрематизму», расширял собственное субъективно-мистическое учение с помощью системы художественного просвещения, с большим трудом выстроенной М. Шагалом. Все это происходило в атеистической России, в городе, где самого М. Шагала еще совсем недавно ругали за «непонятность».
14 февраля 1919 г. растущая армия адептов К. Малевича объединилась в группу Утвердителей Нового Искусства «Уновис»: они выпускали рукописные альманахи тиражом 5 экземпляров[234], издавали брошюры своего учителя, ставили спектакли и вообще сделались главной художественной силой, определявшей теперь внешний вид города. Здание Комитета по борьбе с безработицей было декорировано горячим (теперь уже) супрематистом Эль Лисицким по эскизу К. Малевича. Сохранилась фотография этого здания, сделанная в декабре 1919 г. (оцените скорость: всего через месяц после прибытия «гуру» в город): на стены между окон помещены исполинские черные треугольники, над окнами первого этажа идет «супрематический фриз» из повторяющегося рисунка наклоненных квадратов и прямоугольников. Геометрические фигуры хорошо просматриваются и в оформлении зала на юбилейном заседании Комитета по борьбе с безработицей, состоявшемся в Городском театре 17 декабря 1919 г.: флаг Комитета, в нижней левой части которого доминировал красный круг, которому противостояла армия узких черных и серых прямоугольников, был изготовлен Эль Лисицким к заседанию[235].
Квадратом, прямоугольниками и линиями был украшен даже вход в витебское отделение Российского телеграфного агентства.
Весной 1919 г. супрематисты, а не М. Шагал с его учениками украшали город к Первомаю: геометрические фигуры «прыгнули» на трамваи, вывески магазинов. Уновис разработал даже дизайн продовольственных карточек, которыми пользовались все, в том числе и наш бедный герой, которому в этой главе было уделено примерно столько же внимания, сколько доставалось ему после ноября 1919 г. в Витебске.
Черты к портрету К. Малевича
Прежде чем перейти к тому, почему московский супрематист Малевич оказался убедительнее для витебских учеников, чем витебский живописец М. Шагал, остановимся на нескольких чертах характера и личности К. Малевича, на которые редко обращается внимание.
Эрудиция
Казимир Северинович был самородком – в том смысле, что его беспокойная мысль не стремилась считаться с существованием чьих-то еще мыслей, которые высказывались на те темы, к которым Малевич обращал свой пылающий взор. Его теоретическая работа не опиралась ни на какие чужие теории, книжек он не читал, но своим высказываниям неизменно придавал псевдоакадемическую форму. Из-за этого его принято считать одним из видных теоретиков русского авангарда. Ни в коей мере не умаляя его заслуг в определении черт нефигуративного искусства 1920-х, позволим себе несколько цитат, дополняющих впечатление от Малевича.
Письмо М. О. Гершензону: «Во тьме мир, я понимаю тьму, в которой нет ничего, ни воли, ни представления. А Шопенгауэр озаглавил свою книжку “Мир как воля и представление”. Конечно[236], я ее не читал, но заглавие на витрине прочел, очень я над этим заглавием не думал, но немного рассудил, что Мир бывает только там, где нет ни воли, ни представления, – где же эти двое есть, там мира не бывает, там борьба представлений»[237]. Фрагмент дает исчерпывающее представление о степени свободы, с которой К. Малевич обращается с чужим терминологическим инструментарием.
Витебское письмо М. Гершензону от 21 декабря 1919 г.: «Когда приходил в храм, становился передо мною Булгаков[238], тоже сытый, здоровый, бурный, духовно ритмический[…через 4 страницы рассуждений о Булгакове и его отношениях с Богом] Такова промелькнула во мне мысль о Булгакове, которого только один раз видел и не читал ни одной его книги»[239].
Из следующего фрагмента переписки можно получить представление о том, как относились к К. Малевичу витебские интеллектуалы: «Получил Ваше письмо от Медведева[240], это самый заядлый враг мой <…> на публичных лекциях всегда ругает, даже выкидышем называет человеческим, так запаляется; сейчас же, очевидно, Вы с ним, может говорили обо мне, вижу ваши определения, что я папуас; он теперь на каждом месте все об этом говорит, так что я теперь за папуаса иду среди образованной и грамотнонаучной медьведевщины <…> Меня доняли своею литературщиной, советуют учиться писать или чтобы поправлять рукопись, но я не выдержал и сказал, что дуракам не даю исправлять»[241].
И, обобщая: «Один тип[242] написал обо мне, что некогда я был тайной, но теперь сплошной эпигон, неграмотный, косоязычий[243]<…> Правда, я неграмотен, это верно, но нельзя сказать, чтобы грамматика была всем, или если бы я знал грамматику, то поумнел бы<…> А, может быть, еще хуже делаю, изобретаю или пишу то, что уже в тысячу раз было лучше и сильнее сказано»[244].
Осмыслив процитированные фрагменты, можно понять очень многое о теоретическом наследии Казимира Севериновича: чрезвычайную подвижность смысловых границ используемых им понятий; противоречивость высказываний; игнорирование парадигм, из которых «выдергивались» те или иные термины[245]. «…и сижу с утра и учусь сам у себя, хожу, смотрю и думаю», – писал К. Малевич, который познавал философию чтением названий книг в витринах магазинов, М. Гершензону, которого А. Шатских называет одним из наиболее начитанных интеллектуалов Москвы 1920-х гг.[246]
При этом многие изучавшие К. Малевича подчеркивают эту особенность его риторического поведения – он вовсе не стремился к тому, чтобы его понимали. Напротив, порой он как будто специально излагал мысли темно, запутывал, противоречил себе, использовал аббревиатуры и им самим придуманные термины. В его письмах можно найти парадоксальное объяснение этому: «Я пришел к заключению, что чем яснее представляешь вопрос, тем круг его понимания ýже; я в своих записках все дальше и дальше углубляюсь к чистоте ответа, и лекция моя показала, что вся моя ясность представления совсем темна окружающему, – чем точнее, тем темнее»[247].
Четкая интерпретация сужает понимание, она создает возможность для предметного спора, в котором К. Малевич ввиду тех черт его натуры, которые явно выпячиваются этой перепиской, мог «утонуть». Поэтому «темнота» изложения, открывающая максимальную широту разнообразным взглядам на сказанное, по К. Малевичу, – благо. Не умеющий грамотно писать «академик», специально темнивший перед доверчивой аудиторией, – таков портрет Казимира Малевича витебских лет с точки зрения эрудиции и начитанности.
Конструирование образа celebrity
В то время как М. Шагал постоянно мистифицировал своих биографов, сознательно пуская их по ложному следу, характерной чертой К. Малевича являлась склонность к эффектам. Что в письмах, что в жизни он окружал себя полем значительности, предпринимал усилия, чтобы поставить себя.
В витебскую «ссылку»[248]он приехал, как мы отмечали ранее, главным образом из-за относительного благополучия города, из-за того, что здесь его обеспечили жильем, продовольствием, а также возможностью издать брошюру. Впрочем, он и не думал быть здесь «одним из многих», опускаться до провинциального уровня: он сразу объяснил всем, что прибыла именно «звезда»[249]. Представление о том, как сильно на первых порах этот образ «звезды» не соответствовал реальному восприятию К. Малевича в городе, позволяет получить череда простейших сопоставлений.
Читаем в его послании М. Гершензону, отправленном сразу после прибытия в Витебск: «Как только я приехал, через день уже все в Витебске знали о моем приезде. Разговор не смолкал, все больше и больше поднималась зыбь, ибо в газете была заметка, гласившая “приехал известный знаменитый художник-футурист, побивший рекорд в искусстве супрематизмом”. Только позабыли добавить, что в скором времени будет перегрызать железную кочергу, пить расплавленную медь и глотать лошадиные подковы.<…> На другой день опять чревовещательная заметка, и наконец, наступает желанный вечер[250]. Народу переполнено. Все ждали зрелища, ибо в заметке было “первый раз в Витебске известный чемпион мира”. Час пробил – “знаменитость” у столика, какая-то дама ставит стакан чаю, шепнув мне на ухо, что с сахаром, я поклонился. Водворилась тишина, лектора дрожали, стоя тут же за моей спиной»[251].
Из этого отрывка возникает впечатление, что Малевич произвел фурор своим появлением в городе. Что его ждала как публика, так и журналисты Витебска, прекрасно осведомленные о нем, воспринимавшие его как знаменитость, которая будет «пить расплавленную медь», и именно в таком качестве – «чемпиона мира» – его приезд анонсировавшие. Особенно поразительны слова К. Малевича, из которых следует, что витебская пресса в ноябре 1919-го употребляла слово «супрематизм». Причем употребляла она его еще до первой публичной лекции, на которой она могла это слово услышать и запомнить. Что достаточно странно, так как даже в Москве о нем мало кто слышал – первая теоретическая брошюра художника, напомним, еще только-только готовилась к изданию.
Разочарование в степени информационного резонанса, которым была встречена первая публичная лекция К. Малевича в Витебске, постигает, как только проверяешь соответствие написанного напечатанному. Оказалось, что сам приезд К. Малевича был встречен в витебских «Известиях» информационной заметкой следующего содержания: «Поездом из Москвы прибыл художник Малевич». Что же касается его слов о том, что «все ждали зрелища, ибо в заметке было “первый раз в Витебске известный чемпион мира”», то здесь явное искажение действительности. Приводим анонс, помещенный в «Известиях» без всякого названия, только под шапкой рубрики («Городская жизнь») полностью, без сокращений: «Секция изо Губотдела наркомобраза, идя навстречу интересам широких масс населения к вопросам искусства, решила устроить ряд лекций, который начинается 17 ноября лекцией художника Малевича на тему “Новейшие системы в искусстве”»[252]. Эта анонимная заметка-анонс была помещена на последней полосе «Известий» и не могла претендовать на хвалебную восхищенность не только по содержанию, но и по своей форме. А то обстоятельство, что «Известия» анонсировали не столько саму лекцию Малевича, сколько то, что секция изо наркомобраза станет устраивать такие лекции регулярно, низводила Малевича до ранга обычного лектора.
Перед тем как делать вывод о том, что К. Малевич рассказал М. Гершензону не совсем правду об обстоятельствах той встречи, которую ему устроила витебская печать, нами были изучены не только «Известия», но и другие ежедневные газеты, которые могли бы анонсировать первую публичную лекцию художника. Номера за середину ноября 1919 г. сохранились в большинстве подшивок – оговорка, увы, важная с учетом степени сохранности газетного материала периода Гражданской войны, когда за иные месяцы газеты «выпадают» целыми месяцами, оставшиеся же в фондах редкой книги истерты настолько, что вообще не подлежат прочтению. Однако 10–20 ноября 1919 г. – период, по счастливому стечению обстоятельств, легко отслеживаемый.
Так вот, ни в «Витебском листке», ни в «Борьбе», ни в «Известиях ученических депутатов», ни «К оружию», ни в «Молодом горне», ни в «Просвещении и культуре», ни даже в окнах РОСТА анонсов лекции Малевича не было. Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно о процитированной заметке из «Известий» пишет К. Малевич в письме М. Гершензону.
Несоответствие выражения «известный чемпион мира», «побивший рекорд в искусстве супрематизмом» и скромного «поездом из Москвы прибыл художник Малевич» – налицо. Возможно, М. Гершензон улыбался, читая то, как его приятель-папуас[253]преподносит себя, возможно, он верил, возможно (и скорее всего), не обращал большого внимания на это и, уж конечно, не думал проверять – в конце концов, какая разница, как Малевича встретили в Витебске.
Но на провинциальную публику это раздувание собственной значимости Малевичем действовало самым благоприятным образом: в Витебске действительно очень быстро начали считать художника большим ученым, разбирающимся в искусстве куда лучше всех остальных «лекторов». В этом смысле вот эта фраза совершенно точна, и это подтверждается персональной трагедией М. Шагала, который в ноябре 1919 г. еще не понимал, кто приехал в город: «Все витебские лекторы сразу полетели в корзину, ибо им говорили, что они слабы и ничтожны; на третий день ко мне пришла делегация с просьбой прочесть лекцию о кубизме и футуризме; в делегации были и лекторы, которые объявили, что публика подготовлена ими включая импрессионизм, и немного посвящена в кубизме. При этом слове бывшие здесь знатоки Искусства сразу стали упрекать лекторов в невежестве, и мне насилу удалось их успокоить»[254].
Главной чертой характера К. Малевича-преподавателя был артистизм: без умения сделать значительное лицо, говорить веско все его «методы» выглядели бы комично, представим, например, вот это: «Сам Малевич через год-два [т. е. в 1921–1922 гг.] в качестве доказательства “супрематической реальности” привлекал фотографии, сделанные с аэроплана: они должны были убедить людей с обыденным сознанием в справедливости его теории»[255]. М. Шагал как человек, рожденный в Витебске, просто не имел нужной дистанции для того, чтобы воспринимать витебчан как людей «с обыденным сознанием» – он тщился в каждом из них усмотреть Аполлинера и общался с ними без снобизма и заносчивости. За это, кстати, и пострадал.
И снова жилплощадь
К. Малевич приехал в Витебск через девять месяцев после того, как училище открылось и сформировался его педагогический коллектив. Как мы уже отмечали в главе про выселение семьи М. Шагала, еще в сентябре 1919 г. все жилые помещения на Бухаринской, 10 были полностью разобраны преподавателями. Вместе с тем в своих письмах из Витебска К. Малевич пишет, что живет в училище, и дает обратный адрес: «Витебск, Бухаринская, 10». На этом основании можно сделать вывод, что М. Шагал, после конфликта освободивший комнаты на Бухаринской по предписанию губисполкома, так и не занял их впоследствии: «примирительное» письмо из Наркомобраза, в котором Д. Штеренберг подтверждал его полномочия и выражал порицание лицам, предпринявшим к М. Шагалу «принудительные меры», было отправлено из Москвы 4 ноября и просто не успело бы дойти к 15-му, когда К. Малевич прибыл в город. «Таким образом, Шагал из злополучных комнат на Бухаринской улице съехал, “музей живописи” в них так и не был развернут. Похоже, что именно одно из этих помещений вскоре досталось Казимиру Малевичу, приехавшему в Витебск в начале ноября 1919 г.»[256], – пишет Л. Хмельницкая. К. Малевич «захватил его мастерскую и перетащил к себе его учеников»[257], напишет в воспоминаниях живой свидетель тех событий. Поскольку отдельных «мастерских» в те неблагополучные годы не было, можно воспринимать это наблюдение И. Абрамского как еще одно подтверждение того, что К. Малевич расположился в комнатах, принадлежавших директору того училища, в котором преподавал.
К чести К. Малевича следует отметить, что, скорее всего, он этого нюанса не знал, во всяком случае – на первых порах. Нигде в его письмах или дневниках не встречаем злорадствований по поводу жилплощади, отнятой у местного «лектора», как пренебрежительно он отзывался о коллегах. Малевич вообще крайне мало внимания уделял нюансам отношений в той среде, в которую прибыл и которую, как ему представлялось, «всколыхнул». Для Шагала же заносчивый москвич, обосновавшийся в помещении, которое ему пришлось оставить по унизительному предписанию, должен был с самого начала стать сильным раздражителем.
Почему М. Шагал уступил К. Малевичу?
Об этой загадке задумывался каждый, кто хотя бы раз затрагивал тему пребывания этих двух художников в одном губернском городе: почему К. Малевич с его достаточно сложным для понимания супрематизмом, с его «Черным квадратом на белом фоне», ставящим в тупик обывателей до сих пор, оказался более успешным преподавателем, чем М. Шагал, пластический язык которого был смесью экспрессионизма, кубизма и индивидуальной, внестилевой манеры?
Почему «группа М. Шагала»[258]с самого начала оказалась малочисленнее, чем «группа К. Малевича»[259], а со временем исчезла вовсе, в то время как количество супрематистов в Витебске постоянно росло?
Первой причиной нам кажутся методы обоих. М. Шагал учил рисовать, правда со скидкой на собственный парижский опыт. Ставил натюрморты, но давал к ним лишь три краски, например синюю, красную, желтую. Некоторых учеников это побуждало к творчеству, и они начинали, как сам Шагал, наделять предметы «абсолютно не свойственным им» цветовым колоритом[260](так писал о Марке Захаровиче А. Луначарский). Других это раздражало, они не понимали, как натюрморт можно написать тремя лишь цветами. Читаем в воспоминаниях славного ученика М. Шагала, того самого «охранника» Антощенко-Оленева: «Два раза занимался в студии М. Шагала. Студия – это была моя мечта – стала нечто близким к сумасшедшему дому. Сидел за развернутым холстом и любовался обнаженной красивенькой натурщицей, а как ее писать? Синей с красной или желтой?<…> школа М. Шагала меня обескураживала. Натурщицу писать, имея на палитре только три цвета – красный, желтый и синий?!? Огорчался, обвиняя себя в отсталости и даже невежестве. Я не мог представить, каким я буду художником. А студийцы все писали “такие” этюды»[261].
К. Малевич же с самого начала учил скорей спорить, обосновывать, мыслить, нежели только рисовать. «Теории у нас не было, а были жаркие споры. То, что Малевич писал в своих статьях о супрематизме, это и было содержание лекций. Это была пропаганда своего собственного метода творчества»[262], – вспоминает ученик Народного художественного училища В. Зейлерт.
Через месяц-два обучения в классе у К. Малевича ученик считался полностью сформировавшимся художником, подключался к деятельности «Уновиса», допускался к оформлению брошюр и книг. Естественно, метод К. Малевича достаточно скоро стал считаться более передовым, так как завершал формирование юных творцов в куда более сжатые сроки – никому не хотелось просиживать в училище годами без результатов или почти без результатов. Быстрый и очевидный эффект – то, к чему стремятся многие молодые люди, приходя за образованием.
Вторым обстоятельством, гарантировавшим отток людей из классов М. Шагала и обретение новых учеников К. Малевичем, был «коллективный», «массовый» характер его педагогической деятельности. Вовлекая в число супрематистов все большее число «адептов», он каждого из них делал новым Малевичем, подражавшим «оригинальному» Малевичу как в манере высказываться, так и в живописи. Витебский период Эль Лисицкого почти неотличим от супрематических композиций К. Малевича этих лет – если не принимать во внимание «проуны» Лисицкого, мы видим у него все ту же «жизнь геометрических фигур на белом фоне». М. Шагал же всегда был именно одиночкой. «Еще И. Гаврис очень точно характеризовал метод Шагала как “индивидуально-новаторский”, – пишет А. Лисов. – Все творчество его индивидуалистично по своей сути, его манера не поддается какой бы то ни было типологизации. Хотя он имел опыт педагогической работы, руководил мастерскими, но настоящих учеников-последователей у него не было никогда<…> Метод Малевича, наоборот, содержит идею коллективного творчества. Эта идея, этот принцип лежит в основе деятельности УНОВИСА, который был объявлен его создателем партией в искусстве»[263].
Партия всегда эффективнее одиночки – это касается политики, это же касается всех других активностей, в которых в той или иной степени присутствует такая субстанция, как власть.
Третья причина проигрыша М. Шагала заключается в особенности восприятия этих двух противостоящих друг другу гениев витебскими горожанами. Живопись Марка Захаровича была хотя бы условно, интенционально фигуративна, на его картинах можно было узнать домики, пусть и кривые, евреев, пусть и перевернутых вверх ногами, и коров, пусть и зеленых. У обывателя была возможность вовлечься в обсуждение этого искусства на его маргинальном уровне, отметить, что «еврей перевернут» или «корова зеленая». И что зеленых коров не бывает в природе, а потому художник «соврал»: обывателю казалось, что, высказываясь таким образом, он участвует в обсуждении и критическом осуждении М. Шагала.
Творчество К. Малевича такой возможности ему не оставляло, оно было непрозрачным для интерпретаций людьми, не имеющими специальной подготовки, незнакомыми с теоретическими установками К. Малевича. Что мещанин мог сказать по поводу «Супрематизм. Желтое и черное» (1916)? Что черные линии недостаточно динамичны, а правая сторона требует напряженного цветового пятна для того, чтобы композиция стала более уравновешенной? Но для такого рода высказываний нужно было хотя бы прочитать «Точку и линию на плоскости» В. Кандинского[264], чего, конечно же, ни один из пробовавших смеяться над зелеными коровами М. Шагала не делал. К. Малевич лишал их права критического высказывания о своих работах, причем делал это дважды: сначала непрозрачным для понимания и разговора мещан творчеством, затем эффектной полемической манерой, умением вести диспуты о супрематизме, сбивать с толку критиков неожиданными аргументами и железной уверенностью в себе.
В этом интересный парадокс: тянущегося к простым людям М. Шагала осуждали преимущественно необразованные мещане, которым не нравилось, например, что еврей на картине летит, – по их мнению, еврей как в жизни, так и по Витебску может только ходить ногами, иначе возникает непорядок. К. Малевича, излучавшего вокруг себя ауру «академизма», критиковали в основном искусствоведы, П. Медведев и А. Ромм – образованные люди, способные увидеть слабые места в теории прибавочного элемента, могущие указать на алогизм тезисов в «О новых системах в искусстве», умеющие доказать никчемность композиций некоторых его учеников. Критика К. Малевича была невидима для масс, поскольку была запрятана в специальные журналы типа «Искусства», критика же М. Шагала была слышна и явна, так как в ней участвовал (поскольку умел) весь город.
Тут нужно помнить и о том, что К. Малевич зачастую специально путал, усложнял, сбивал с толку (вспомним фрагмент «чем яснее представляешь вопрос, тем круг его понимания ýже»). М. Шагала, когда он говорил о пролетарском искусстве, еще как-то можно было понять человеку без специального образования. Язык К. Малевича расшифровке нефилософами не поддавался, художник был отделен от витебских маргиналов когнитивной стеной, через которую те прыгать не решались (если барин говорит так сложно, значит, он действительно умен).
Плюс к этому то трагическое для М. Шагала обстоятельство, что он был местным, витебским, его торговавшего селедкой отца знали тут все и готовы были припомнить тоже все. Рожденный же под Киевом К. Малевич воспринимался «московской» знаменитостью и делал все для того, чтобы из этого образа не выпасть. Мессианская риторика очень органично сообразовывалась с его своеобразным типом артистизма.
И, наконец, последняя, пятая причина – то, что М. Шагал был «властью», уполномоченным московского Наркомпроса и ему как «власти» витебчане готовы были припоминать все те беды, которые переживал в эти сложные годы Витебск: разруху, экспроприации, уже упомянутые обязательные работы по рытью окопов[265]. Наивное и прекрасное оформление города провоцировало такое раздражение горожан еще и потому, что было официальным мероприятием власти. Витебск не понимал его именно как меру, насажденную сверху в директивном порядке, – быть может, увидев тех несчастных попугаев в вернисаже, мещане не стали бы злобствовать. К. Малевич, что характерно, в свой витебский период в газетах, являющихся печатными органами власти большевиков, не выступал вовсе: все его статьи о новом искусстве транслировались с площадок, которые он сам и создавал, и «Альманах Уновис» является прекрасным примером такой стратегии.
«Уновис», как и всякая секта[266], создавал своего рода государство в государстве. Государство с собственной идеологией, не сообразовывавшейся с атеистическими спазмами большевиков, с собственной иерархией, которая слабо соотносилась с властной иерархией города. М. Шагал был директором того училища, главным человеком в котором – и это подтверждалось двухкомнатными апартаментами на Бухаринской, в которые Шагал так и не въехал, – сделался К. Малевич. Причастность к «Уновису» давала ученикам ощущение пребывания в коммуне счастья, которая совершает эстетическую революцию и говорит на языке будущего. М. Шагал с его козами, евреями и лошадками из «футуриста», «левого художника», каковым себя сам считал, превращался в воплощение того самого «старого искусства», с которым «Уновис» яростно боролся. Внутривидовая борьба всегда самая яростная.
Для обывателей М. Шагал был слишком большим «футуристом». Для «уновисцев» он являлся «обывателем», «мещанином», «недостаточным футуристом», не понимающим подлинной «революции в искусстве» и позорящим себя «пещерным реализмом». К. Малевич при этом для обывателей был «своим» – поскольку прибыл из Москвы, а с московскими вкусами не спорят. Шагалу в этих условиях не оставалось места ни в родном городе, ни в созданном им учебном заведении. К весне 1920 г. художник остался в той компании, к которой всегда подспудно стремился и в которой только и чувствовал себя совершенно органично: совершенно один, наедине с холстом и красками.
Невидимый Шагал на фотоснимке
Когда он решил уезжать окончательно, на любых условиях, в любой город, лишь бы из Витебска? В апреле 1920 г., когда писал П. Эттингеру: «Ныне группировки “направлений” достигли своей остроты; это 1) молодежь кругом Малевича и 2) молодежь кругом меня. Оба мы, устремляясь одинаково к левому кругу искусства, однако, различно смотрим на средства и цели его»? [267]
Или в мае, когда «молодежи кругом Шагала» просто не осталось, ибо, как писал И. Гаврис, «Шагал под напором влияний самого левого искусства не смог основательно обосновать идеологию своего индивидуально-новаторского направления. Его аудитория была разагитирована. В учениках чувствовалось недовольство своей работой»?[268]То, что в мае 1920-го у М. Шагала не осталось последователей, подтверждается и документально. В самом конце «Альманаха Уновис № 1» – машинописного издания, созданного группой К. Малевича в Витебске, – есть более поздняя вклейка: ее отличает шрифт, так как она была изготовлена на другой печатной машинке (все тексты Альманаха, напомним, были изготовлены в один печатный заход под копирку, отсюда и тираж – 5 экз.). «25 мая 1920. Заявление о желании вступить в путь коллектива Уновиса как “единственный ведущий к творчеству” бывших подмастерьев “индивидуалистической” мастерской в полном составе. Таким образом все мастерские Вит. Госуд. Своб. Худож. Маст.[269] за исключением одной академической[270] и скульптурной[271] объединены под флагом Уновис»[272]. Это объявление из «Примечаний к движению Уновис» – прямое и исчерпывающее подтверждение массового исхода всех учеников нашего героя.
Интересный нюанс: в «Моей жизни» досталось вообще всем, по списку: и Л. Баксту, недостаточно оценившему талант М. Шагала в Петербурге, и М. Добужинскому, таскавшему продовольственные посылки на почту в Витебске, и даже барону Д. Гинзбургу, переставшему снабжать художника десятирублевками, когда юный Марк в них нуждался. Иногда складывается впечатление, что единственной целью написания этой автобиографии являлось расставление всех обидчиков по местам, подведение итогов «русского периода», с выявлением и поименным указанием тех нехороших людей, которые отравляли жизнь и творчество. В конце концов, эту книгу, если верить авторской датировке под текстом (мы бы ей не верили), художник создал всего в 35 лет – возраст слишком ранний для автобиографии человека, который прожил почти до ста! Зачем же ее было писать, как не для того, чтобы отыграться словесно на тех, кто выдавил с родины?
Так вот, единственный, кого там вообще нет, – Казимир Малевич. Фамилия Малевича – основного отравителя жизни Шагала в Витебске – в «Моей жизни», во всех ее редакциях, включая раннюю берлинскую, не встречается ни разу. О том, что Малевич существовал в природе, можно судить лишь по следующим двум (!) предложениям: «Еще один преподаватель, живший в самом помещении Академии, окружил себя поклонницами какого-то мистического “супрематизма”. Не знаю уж, чем он их так увлек»[273]. Больше – ни слова. Ни об учениках-перебежчиках, ни об оформлении города к Первому мая, которое было отдано на откуп супрематистам, ни о «группировках направлений», ни о том хотя бы, что помещение, в котором жил этот «еще один преподаватель», должно было бы принадлежать Шагалу, директору училища…
В чем причины этого лаконизма в отзывах о главном витебском оппоненте Шагала? В нежелании ворошить старые обиды? Или в боязни тащить призраки с собой в эмиграцию? И легко ли далось Шагалу такое деликатное обхождение с главной занозой, засевшей в памяти? То есть понятно, почему Витебск накрыло пятном молчания в воспоминаниях М. Добужинского: в конце концов, история с посылками – не из тех, о которой можно было бы с удовольствием рассказывать. Но почему Шагал, старательно сводя счеты с Бакстом, служанкой Бакста, Луначарским, Марксом, Роммом, комиссарами, паспортными чиновниками и прочая, прочая, отворачивается от Малевича? «Окружил себя поклонницами какого-то мистического “супрематизма”. Не знаю уж, чем он их так увлек». Все!
К апрелю 1920-го Шагал потерял коммуникацию (не будем в целях исторической корректности употреблять слово «поссорился») с даже самыми бесконфликтными и старыми своими приятелями. Например, с Лазарем Мовшевичем Лисицким, тем самым Лазарем, с которым вместе учились у Пэна, которого он, Шагал, лично позвал в училище и который теперь, под воздействием «мистического супрематизма», стал зваться Элем. Читаем в уже упомянутом весеннем письме Эттингеру, в ответ на просьбу Эттингера передать Лисицкому привет: «Лисицкого, к сожалению, не вижу и не могу передать Ваш привет, да и не смог бы»[274]. Лисицкий в это время находится в соседнем от Шагала помещении по училищу, на одном с ним этаже, в одном с ним городе, они наверняка сухо здороваются утром и вечером каждый день. Приписка «…да и не смог бы» много объясняет. Вижусь, но не вижу его. Не вижу в упор. Передать привет ему не смог бы. Не смог бы раскрыть рот и сказать: «Павлуша Эттингер шлет тебе, Лазарь, привет» – ведь для этого нужно улыбнуться и изобразить приветливость. Слишком длинная фраза. Слишком обидно.
Тут также стоит упомянуть про аресты, чтобы впечатление о психологических факторах, воздействовавших на Шагала в эти весенние дни 1920 г., было полным. Первой «взяли» мать Беллы, еще в 1919 г. Жуть ее ареста описана в «Моей жизни» игриво, с инфернальной веселостью. «Твердя себе, что это просто пацаны, напускающие на себя важный вид, хоть они [комиссары] и стучат на собраниях багровыми кулаками по столу, я шутливо толкал плечом и шлепал пониже спины то девятнадцатилетнего военкома, то комиссара общественных работ.<…> Это весьма укрепляло уважение городских властей к искусству. Хотя и не помешало им арестовать мою тещу, в числе других зажиточных земляков, за то лишь, что они не были бедны»[275].
Некоторые косвенные обстоятельства, почерпнутые из витебской печати 1918–1920 гг., позволяют предположить, что теща М. Шагала стала жертвой достаточно редкой в те первые послереволюционные годы практики: чекисты помещали под стражу представителей нескольких зажиточных семейств, а потом выставляли претензии о том, какая сумма должна быть внесена родственниками и «друзьями-буржуями» в городской бюджет, чтобы арестованных освободили. Богатые люди собирали необходимый выкуп, и, как правило, «взятых в заложники» удавалось избавить от преследования. Что характерно, никакая уголовная или административная статья «условно задержанным» в данном случае не предъявлялась, с тем чтобы не запускать абсолютно не нужный в данном случае юридический механизм. И вот, судя по всему, мать Беллы Розенфельд была «взята» в рамках одного из таких дел и не отпущена – либо в связи с отсутствием «выкупа», либо в связи с его недостаточностью, либо в связи с появлением адресного доноса на Розенфельдов. М. Шагал, защищая родных Беллы, ездил в Москву и даже встречался с Горьким, однако тот не помог: «Войдя, я увидел на стенах до того безвкусные картины, что усомнился, не ошибся ли дверью. Лежа в постели, Горький поминутно харкал то в платок, то в плевательницу. Он терпеливо выслушал мои фантастические идеи об искусстве, разглядывая меня и пытаясь угадать, кто я такой и откуда взялся»[276].
Следующая описанная в «Моей жизни» трагедия – экспроприация богатств Розенфельдов, дату которой сложно установить по причинам, изложенным в главе «Черты к портрету М. Шагала»: судя по всему, это был все тот же 1919-й либо начало 1920 г.: «Дом тестя давно разорен. Как-то вечером у освещенных витрин остановились семь автомобилей ЧК и солдаты стали выгребать драгоценные камни, золото, серебро, часы из всех трех магазинов. Потом вломились в квартиру проверить, нет ли и там ценностей. Забрали даже серебряные столовые приборы – только их успели помыть после обеда <…> Открыть сейфы они не смогли или сочли их слишком ценными, только и их тоже, не без труда, погрузили в автомобили. Наконец, удовлетворившись, они уехали. Разом постаревшие хозяева онемели и застыли, уронив руки и глядя вслед автомобилям<…> Взяли все подчистую. Ни одной ложки не осталось. Вечером прислугу послали достать хоть каких-нибудь. Тесть взял свою ложку, поднес к губам и уронил. По оловянному желобку в чай стекали слезы. К ночи чекисты вернулись с ружьями и лопатами. – Обыск! Под руководством “эксперта”, злого завистника, они протыкали стены и срывали половицы – искали укрытые сокровища».
Денег не оставалось – ни у родных, ни в городе. Учреждения культуры одно за другим переводились на самоокупаемость. Директору училища, уполномоченному Наркомпроса Шагалу, стали выдавать жалованье вполовину меньшее, чем получали его учителя, в том числе те учителя, которых он старательно обходит вниманием в «Моей жизни». Возможно, именно это обстоятельство чисто финансового характера и стало той последней каплей, оформившей окончательное решение М. Шагала покинуть город.
В ГАВО хранится рукописное заявление М. Шагала в профсоюз работников просвещения, который, кстати, подчинялся губисполкому, т. е. местным властям, в отношениях с которыми у нашего героя из-за сентябрьского конфликта с А. Роммом была напряженность по поводу подотчетности. А. Лисов, первый публикатор этого документа, подчеркивает, что М. Шагал в июне 1919 г. не получал заработка уполномоченного Наркомпроса, так как не являлся членом Работпроса[277]. Таким образом, его зарплата слагалась только из оклада директора училища. Жалоба М. Шагала, датированная 14 июля, была направлена в адрес тарифно-расценочной комиссии профсоюза: «Местной и Центральной Тарифно-Расценочной Комиссии. Губотдел просвещения систематически выплачивает мне оклад 4800 р[ублей] в то время когда инструктора и др[угие] в свое время мною же приглашенные на службу получают 8400 (основной). Такое положение вещей не дало-б конечно мне жить и работать в Витебске. Я не только материально теряю, но морально оскорблен. Ужели я, основавший здесь Вит[ебское] Народ[ное] Художеств[енное] Училище, заведующий и проф[ессор]-руководит[ель] его, работающий с октябрьской революции в Витебске в области художественного просвещения – не заслужил того, чтоб получить хотя бы… инструкторского оклада. Если Комиссии признают за мною работоспособность хотя бы школьного инструктора – я прошу выписать мне разницу. Заведующий секцией изобраз[ительных] искусств, заведующий Вит[ебским] Высш[им] Народным Художествен[ным] Училищем и профессор-руководитель живописной мастерской. М. Шагал»[278].
«Моральное оскорбление» художника вполне объяснимо – сложности были у всех, но особенно ущемленным в условиях этих сложностей оказывался именно директор. Что характерно, через полгода после отъезда М. Шагала Казимиру Малевичу в условиях еще больше углубившихся разрухи и нищеты будет назначен персональный оклад, превышающий зарплату уехавшего директора уже не в два, а в тридцать (!) раз. О персональной ставке для Малевича перед заведующим Витгубнаробразом ходатайствовала входившая в группу супрематистов и исполнявшая роль директора училища В. Ермолаева[279]. Вот как она обосновала свой запрос: «Профессор Витебских государственных художественных мастерских т. Малевич с 1-го ноября 1919 года[280] ведет специально выработанный курс теории и практики нового искусства в художественных мастерских, практические занятия в трех мастерских и в них же курс лекций. Являясь единственным теоретиком и исследователем по вопросам нового искусства, т. Малевич своим присутствием создает учебную жизнь целого ряда учебных коллективов мастерских и поэтому присутствие т. Малевича в Витебских мастерских безусловно необходимо. Между тем, ставка, выработанная для руководителя, ниже прожиточной нормы, академический паек больше не выдается, и посему мастерские ходатайствуют об утверждении т. Малевичу персональной ставки в размере 120 000 р. в месяц, дабы он мог оставаться на работе в Витебске»[281].
Шагал же так и не был удостоен оклада на уровне школьного инструктора[282]. Он уехал из города, будучи самым низкооплачиваемым из работающих в училище коллег.
«Мой город умер. Пройден витебский путь <…> Моя память обожжена.<…> Письмо с известием о его гибели [имеется в виду отец художника, которого задавил грузовик] от меня спрятали. Зачем? Все равно я почти разучился плакать. В Витебск я больше не приезжал»[283]. И снова в этом фрагменте, как куда позже, в московской сцене с Андреем Вознесенским и васильками, Витебск и слезы будут стоять рядом. Он не разучился плакать. Он просто выплакал все предназначенное ему судьбой для этого доэмиграционного периода. Но слезы – субстанция восстановимая. Иначе мы были бы совсем беззащитными.
В личном архиве Л. Юдина хранился снимок, которому после первой его публикации в Дрездене в 1978 г.[284]суждено было стать самой часто воспроизводимой визуальной иконой Уновиса. Речь идет о коллективном портрете, сделанном в Витебске в июне 1920 г. перед отправлением освященного черным квадратом поезда, загруженного едущими на выставку в Москву супрематистами и их предводителем. Эта выставка принесет им мировую славу и станет их первым громким триумфом. В их лицах читается предвкушение взрыва, который они произведут своим искусством и своей художественной религией. Приближающаяся слава – мимический оттенок куда более явный, чем приближающаяся смерть.
Малевич с супрематическим тондо в руках – посередине, вокруг него – два десятка преданных ему людей. Казимир серьезен и торжественен, он знает, что смотрит с этого переполненного витебского вагона прямо в историю. Рука повелительно вытянута, на голове картуз. Торс чуть откинут назад, в то время как гирлянды учеников вокруг него подались вперед. Глаза Малевича находятся вровень с объективом – эффект чудесный с учетом того, что он стоит на одной из верхних ступенек подножки и должен был нависать над снимающим его. Всматриваясь в композицию, замечаешь в левом нижнем углу металлическую клепаную стенку с поручнем: фотограф делал снимок не с перрона, а с площадки другого вагона, стоявшего прямо напротив «супрематического состава», на соседних путях.
Отсюда – дополнительная коннотация, ощущение, что вагоны со снимающим супрематистов человеком (т. е. с нами, зрителями, видящими эту сцену глазами фотографа) и с Казимиром Малевичем сейчас плавно двинутся в разные стороны: Малевич поедет на Восток, в Москву, в славу и триумф, в арест и забвение (его могила теперь находится под ступенями подъезда построенного под Москвой жилого комплекса), снимающий же поедет в прямо противоположном направлении: в нищету, эмиграцию и – кто знает, куда еще.
Фамилии фотографа не сохранилось. Судьбы тоже.
Но есть одно обстоятельство, наделяющее этот снимок дополнительной символической нагрузкой. «О летней поездке в Москву вместе с Шагалом и Малевичем неоднократно рассказывал автору М. Лерман. Все это заставляет предположить, что вагон, украшенный черным квадратом, вез в Москву пассажира, не пожелавшего сфотографироваться вместе со всеми перед отбытием»[285], – пишет А. Шатских.
Какова гримаса истории: поезд, навсегда увозивший М. Шагала из родного города, имел супрематический квадрат на своих бортах. Это было прощальным поцелуем Витебска: фотография Малевича и его учеников, на которой совсем не видно Шагала. Отъезд маэстро, который задокументирован триумфальным, иконическим снимком его противников.
Слезы – субстанция восстановимая. Иначе мы были бы совсем беззащитными.
Послесловие ко второй части. Витебские трофеи
До сих пор могло показаться, что родной город был проклятием Шагала, местом неудач, пропиской житейского горя. Об этом сообщает нам каждая страница его витебской летописи. Если рассматривать биографию лишь как набор карьерных эпизодов, если измерять ее числом приобретенных и потерянных друзей, сохранностью полотен, исполненностью целей, к которым стремился, время с 1914-го по 1920-й было всего лишь опытом упущенных возможностей.
Впрочем, жизнь художника складывается не только из материального, видимого глазу и подлежащего описанию в газетной заметке.
Безнадежно влюбленного человека на улице не отличить от интересующегося лишь футболом и погодой товарища. Оба имеют две руки, две ноги, которыми одинаково успешно пользуются. Оба могут стоять в магазине в очереди за пельменями и соусом песто.
«Комиссар искусств Шагал», администратор училища в период с 1914-го по 1920-й носил в себе целый невидимый глазу космос, дополнительное измерение себя, которым вообще никто в Витебске не интересовался. Измерение это было шагаловской образностью, его палитрой, его линией, той живописью, которая расцветала у него в душе и на его картинах.
Собственно, если бы живописец не застрял в «проклятом Витебске» в 1914 г., он имел все шансы законсервироваться на том уровне, которого достиг в «Улье». На его парижских полотнах мы видим подающего надежды, но безнадежно вторичного мастера. Он мог копировать Сезанна, как это отчетливо видно на полотне «Модель» (1910, обратим внимание на общую пастельную гамму, на характерные для Сезанна приемы отработки деталей крепировки платья), он мог следовать по стопам фовистов за А. Матиссом (Nu aux fleurs, 1911, отметим декоративность отработки листвы деревьев, расположенных по сторонам от модели, на световые пятна на руках и ногах, на общую пластику фигуры с ее перекрещенными ногами, усиленными контурной линией), мог демонстрировать явное влияние кубизма («Пьяница», 1911–1912; «Святой кучер», 1911–1912; «Поэт Мазин», 1911–1912: во всех трех работах имеем характерные для кубизма приемы расщепления пространства на геометрические фигуры и линии, смещение перспективы для каждой из отдельно взятых частей).
Гамма картин Шагала довитебского периода – блеклая, очевидная, характерная для многих творцов, обретавшихся в Париже в 1910-х гг.
Витебские годы, время видимых глазу неудач, предательств и разочарований, неустроенное, а местами и страшное время, дало нам именно того Шагала, которого мы любим и которого только и называем Шагалом (подтверждением тому является выходная стоимость на аукционах Sotheby’s и Christie’s картин, созданных им до и после 1914 г.).
Чем больше его травили, не понимали и осмеивали, тем ярче зацветали на его полотнах цветы и цвета.
Одиссею, чтобы стать героем, пришлось уехать в странствие.
Шагалу, чтобы стать гением, пришлось уехать, вернуться и застрять дома на 6 лет.
Когда я начинал работу с этой темой, я недолюбливал Шагала. Малевич, лаконичный и мощный, загадочный и непонятный, казался мне куда более цельной личностью. По мере погружения в биографию Шагала нелюбовь к его творчеству достигла почти брезгливого отторжения – вещь распространенная, называемая чаще всего «болезнью биографа». Незадолго до докторской защиты я попал в Музей им. Ж. Помпиду в Париже. Нужно понимать, что в этом художественном центре собрана если не самая большая, то уж точно самая репрезентативная в Европе коллекция современников Шагала. Так вот, этаж за этажом тебя пробуют впечатлить эксперименты с формой, цветом, сюжетами, нерепрезентативностью, постреализмом и проч. А потом ты выходишь в коридор и издали замечаешь полыхание на стенах. Складывается впечатление, что до этого, в других залах, ты смотрел не живопись (тем более не ту живопись, которую в конце XX в. называли «современным искусством»), а графику. И что ты наконец понял и почувствовал, что такое цвет.
«Двойной портрет с бокалом вина» (1918), экспонируемый в Помпиду, задевает не фирменными шагаловскими цветовыми сочетаниями, не взрывами алого на фиолетовом фоне, но таким сложным для анализа живописи показателем, как простая интенсивность цвета.
Шагал писал теми же масляными красками, что и все его современники, использовал тот же растворитель и те же приемы грунтования холста. Но по какой-то причине его картины начиная с витебского периода и далее насыщенней по колориту, настойчивее по воздействию на зрение. Этому можно дать теоретически безупречное искусствоведческое объяснение: он использовал преимущественно «открытые» (т. е. не смешанные с другими, чистые) цвета на больших плоскостях, лишь немного оттеняя их нюансировками светотени, которые накладывал для придания фигурам объема. Это такие картины его витебского периода, как «Свадьба» (1918, красный ангел решен в одном цвете, с минимальной теневой прорисовкой деталей), «Явление» (1918, два световых сегмента с левой и правой стороны картины залиты «открытым» серым и «открытым» голубым фоном) и почти все то, что он создавал далее.
Кроме простоты палитры Шагал «обострял» цвета также использованием сочетаний, расположенных на разных полюсах цветового спектра[286]и считающихся слабо сочетаемыми (например, изумрудный и рубиновый оттенки).
Однако разбор цветовой гаммы Шагала, раскрытие его цветовых секретов – задача для отдельного исследования.
Тут же нас интересует то обстоятельство, что под воздействием травмирующего давления родины, под гнетом комиссаров, непонимания, критики, прекрасно описанных в «Моей жизни», Шагал выработал свой цветовой язык, который именно интенсивностью, яркостью выделил его из ряда не просто других, но вообще всех остальных творцов, занимавшихся созданием образов на холстах в Европе.
Не зря ведь Пикассо говорил, что есть лишь два человека, понимающих, что такое цвет: Шагал и Матисс.
Впрочем, изменения в 1914–1920 гг. происходили не только с палитрой, но и с линией художника.
Интересно, что для того, чтобы полностью отказаться от копирования общих мест современного ему кубизма, Шагалу понадобилось погрузиться в уютный раек предметной живописи. «Разжигание» цвета, а также окончательное утверждение той нервной, неправильной линии, по которой мы и узнаем маэстро, происходило через «дачный» период 1915–1918 гг., в который живопись его сделалась почти чисто репрезентативной.
«Окно на даче» (1915), «Лежащий поэт» (1915), «Клубника. Белла и Ида за столом» (1915), «Ландыши» (1916), «Белла и Ида у окна» (1916), «Окно в сад» (1917), «Интерьер с цветами» (1918), «Дача» (1918), «Летний домик. Задний двор» (1918) – все это примеры реалистической фиксации тех березок, сосен, цветов и полей, которые окружали Шагала в провинции.
Витебск позвал его, и Шагал отвернулся на секунду от кубизма. Когда же Шагал снова принялся за свой нерепрезентативный стиль, он был уже совсем другой: линия больше не подражала Браку и Пикассо, приобретя ту самую напряженность, которую невозможно воспроизвести.
В начале 2000-х друг-дизайнер пожаловался мне: одно белорусское предприятие заказало ему фирменный стиль для своей продукции, но поскольку заплатить за покупку прав семье наследников Шагала оно не могло, попросило выполнить «стилизацию под Шагала». Задача, на первый взгляд казавшаяся очень простой, спустя месяц мучительных усилий была объявлена нереализуемой. Кажущаяся неуверенность и неверность шагаловских контуров просто невоспроизводима в режиме «стилизации под». Единственный способ изобразить козу так, как это делал Шагал, – взять один из его образов козы, что как раз в случае с заказчиками было наказуемо. Они не поверили моему другу и обратились к другому дизайнеру. Помучившись еще несколько недель, заказ не выполнил и тот.
Впрочем, самым главным шагаловским «трофеем», который он вынес из витебских обид, была образность. О том, что «влюбленные у Шагала впервые полетели в Витебске», писали еще при жизни маэстро (отсчет этого «полета» можно вести с «Прогулки» 1918 г.).
Но тут, в Витебске, в период с 1914 по 1920 г. появились перевернутые верх тормашками евреи, деревянные хаты, заборы, церкви, петухи, козы, ангелы, скрипки, часы с маятником и проч.
И принципиально тут даже не то, что этот образный пантеон возник в Витебске. Принципиально то, что именно этот пантеон с очень небольшими дополнениями, перечисление которых легко впишется в одно предложение, воспроизводился Шагалом до самой смерти.
На его картинах 1940-х появился распятый Христос, 1960-х – цирк, 1970–1980-х – Эйфелева башня… Все это выглядело небольшими и малосущественными добавками к основной образной галерее, подаренной родным городом в 1914–1920 гг.
Смех окружающих, предательство учеников, ссоры с друзьями, выселение из квартиры и, наконец, одиночество – глухое как стена и выпячиваемое аплодисментами из чужих мастерских – куда более благоприятный творческий фон для того, чтобы вы́носить у себя в сердце Вселенную. Потом, когда будут слава, деньги и покой, образность забуксует, а творчество будет вариативным повторением нарисованного в Витебске.
Родина обидела Марка Шагала – человека. Она отняла у него видимое глазу. Родина одарила Марка Шагала – художника. Она дала ему то, что глазу не видно. То, что делает богатым гения.
Часть третья Очистка города от тени
Уничтожение наследия
«Нисколько не удивлюсь, если спустя недолгое время после моего отъезда город уничтожит все следы моего в нем существования и вообще забудет о художнике, который, забросив собственные кисти и краски, мучился, бился, чтобы привить здесь Искусство, мечтал превратить простые дома в музеи, а простых людей – в творцов»[287], – писал М. Шагал в «Моей жизни». Он оказался по-пророчески точен: действительно, город уничтожил все следы существования в нем Шагала, причем принялся за это дело почти сразу, еще до того, как художник превратился в эмигранта.
Собственно, исчезать картины Шагала начали, еще когда он был директором училища. Витебский педагог В. Зейлерт, учившийся в 1920–1922 гг. в Витебском народном художественном училище, описывает в своих воспоминаниях[288], как однажды, зайдя к Ю. Пэну, обнаружил у него М. Шагала, который принес на суд учителя одну из своих картин. Как и все живописные работы М. Шагала, она была выполнена в манере, не встречавшей горячего одобрения любителя строгой классики Ю. Пэна. Вот как ее сюжет описывает В. Зейлерт: «Голова, выпуклый глаз и час ть черепной коробки была снята. Вот в этих извилинах были нарисованы коза, стог сена и изгородка. Все, больше ничего. Коза, стоящая у стога сена и раздумывающая, кусок, вернее, клок сена, отделить пожевать или нет»[289]. Пэн, понятное дело, Шагала поучал, тот его слушал «как прилежный ученик». Пэн, в частности, был недоволен тем, что глаз на полотне – непропорционально «огромный», Шагал пытался оправдать это тем, что глаз человека на самом деле больше, чем виден из-за прищуренных век, – словом, такой анатомический у учителя и ученика был разговор. Так вот, впоследствии картина с «глазом и козой» пропала, причем произошло это еще при Шагале. Ее искали, но не нашли – она бесследно и совершенно необъяснимо исчезла. Работ с подобными сюжетами нет, кстати, ни в одном из полных академических каталогов маэстро.
Но В. Зейлерт догадывается, куда могло деться это бесценное творение, стоимость которого с учетом того, что создал его зрелый Шагал в технике «холст, масло», по современным нам ценам явно превышает 1 млн. долларов: «Я знаю, где этот холст мог затеряться, исчезнуть. Дело в том, что Шагал свои холсты часто хранил в шкафах, встроенных в мастерские. Там, как по лестнице подняться на второй этаж, слева была глухая стена. Это были встроенные шкафы, а дальше шел вестибюль полукруглый и три двери в мастерские Ермолаевой, Малевича и Лисицкого. Так вот, в этих шкафах хранились работы, во-первых, учащихся лучшие работы и преподавателей. И было там много холстов Шагала. Мы, первокурсники, холста не имели, лазили туда и воровали холсты. Много было, видимо, потаскано холстов. Вполне вероятно, что этот холст там и пропал»[290].
Нуждается ли в объяснении то, зачем витебские первокурсники, ученики М. Шагала (или даже так: ученики К. Малевича в училище, которое создал М. Шагал) воровали холсты? Явно делали они это не для того, чтобы сохранить их и продать за миллион долларов на аукционе Sotheby’s. Не имея собственных холстов, они малевали свои ученические этюды поверх гениальных, пронзительных, мощных полотен М. Шагала, которого не понимали и над которым, как вспоминает Антощенко-Оленев, «посмеивались»: «Должен сказать, что к Шагалу как художнику жители Витебска относились очень приязненно. Каждый, кто видел его на улице, желал с ним лично поздороваться, снять перед ним шляпу, или – еще лучше – поздороваться за руку. Хотя временами посмеивались над его монументальными изображениями разных фантастических животных и людей, которые летели в голубых небесных просторах навстречу новой жизни»[291]. Этот еще один ученик Шагала все перепутал: к Шагалу как человеку жители Витебска относились нормально, настолько нормально, что здоровались с ним – снимали шляпу или даже трогали его за руку. А вот над Шагалом-художником они посмеивались. Что ценного в той картине, на которой коза и глаз?
Мне вот что интересно: разрывали ли ученики холсты Шагала на лоскуты или замалевывали их всей плоскостью? Тушкой они использовали его живопись или в разруб? И еще одна мысль: можно ли себе представить еще какую-нибудь художественную среду, будь то времен Средневековья, Возрождения или даже Античности, где ученики настолько не уважали своего учителя, настолько ни во что его не ставили, что воровали его рисунки и пускали их на бумагу для собственного рисования? Возможно ли это где-нибудь еще, кроме Витебска 1920-х?
Слышим пренебрежительный голос А. Ромма из его воспоминаний о Шагале: «Утром он мог позировать как грозный революционер, вечером, узнав, что у его тестя – богатого ювелира – опять был обыск, он шептал о том, что такая жизнь – сплошное безобразие и пр. Однако стоило пропасть одному его эскизу, и он повесил на стене мастерской приказ: “В случае ненахождения будут приняты строжайшие меры вплоть до расстрела!” Это вызвало негодование художников, и я, не спросясь Шагала, велел удалить эту бумажку»[292].Это ж насколько важен был для нашего героя этот «эскиз», что он угрожал за его кражу «расстрелом»! «Эскиз» ли это был вообще? Или язвительность в отношении бывшего друга помешала признаться А. Ромму в том, что украли вовсе не эскиз, а полноценное полотно, написанное на холсте; ведь какой смысл ученикам из бедноты воровать эскизы, которые обычно создавались на картоне, а вот холст – совсем другое дело! И первое ли это было полотно, исчезнувшее у бедного Шагала в Витебске? Сколько вообще его картин было разорвано на фрагменты и замалевано ученическими постановками? Что характерно, в процитированном отрывке из Ромма мы видим, как вслед за «эскизом» бесследно и необъяснимо (для Шагала) исчезает и бумажка с просьбой вернуть живопись.
Витебск сделался черной дырой, высасывавшей в пустоту, в небытие, в забвение все, чего тут касалась рука М. Шагала. Исчезали живописные полотна, исчезали панно, исчезло враз, полностью и навсегда вообще все праздничное оформление города для первой годовщины Октябрьской революции, о котором шла речь во второй части.
А. Шатских отмечает[293], что торжественное убранство зданий и улиц 7 ноября 1918 г. было специально подготовлено таким образом, чтобы панно, банты, гирлянды и попугаев можно было бережно снять, поместить на склад и достать к следующему празднику. Поскольку плакаты и панно были в большинстве случаев выполнены на долговечных материалах и качественными красками, законсервировав их определенным образом (т. е. аккуратно свернув и поместив на хранение в сухом помещении), их можно было бы использовать к 7 ноября долгие годы – вплоть до войны, а может, и после нее. Однако кумач, холсты по эскизам Шагала и панно комитета по украшению улиц исчезли уже к 7 ноября 1919 г.: футуристический карнавал, как мы видим из газет, не повторился, был единственным в своем роде.
Козы и арлекины, думается, еще долгое время призраками проступали на многочисленных витебских агитационных стендах и транспарантах: тут рядом со словом «Даешь!» выглянет плохо, в один слой, закрашенное сказочное животное, там возле призыва «Долой!» взмахнет крылом ангел.
И даже письма, которые после эмиграции Шагал слал в Витебск из Парижа своим немногочисленным адресатам, оказались изуродованы, причем как пошло! Из-за ярких заграничных марок! Холсты шли на ученические эскизы, а слова – вместе с выдранными по живому штампиками – в кляссеры неизвестных филателистов. Читаем у Вознесенского: «…высвобождает из казенного конверта парижскую открытку, помеченную 7 января 1937 года: “г. Витебск. Художнику И. М. Пэну. Как Вы живете? Уже давно от Вас слова не имел, и как поживает мой любимый город? Я бы, понятно, не узнал его… И как поживают мои домики, в которых я детство провел и которые вместе с Вами писали…” Остальные слова погублены, вырезаны из открытки вместе с маркой любителем филателии. Знал бы он, что эти слова на обороте клочка картона ценнее любой марки!.. Остались обрывки фраз: “Когда помру… обещаю Ва… Преданн…”»[294]. Что значит этот «Преданн…»? «Преданный Вам» или «Преданный Витебском»? Ответ – где-то в истлевших кляссерах.
Пришел в упадок и музей, коллекция которого с большим трудом была собрана М. Шагалом из картин тех витебских, московских и берлинских знаменитостей, которые звучали в 1920-х. Именно для этого музея в стенах училища художник когда-то съезжал из комнат в здании на Бухаринской – он понимал, что музей с настоящей, а не салонной живописью важен для города, для воспитания его вкусов и выращивания будущих художников из среды детей сапожников – не менее важен, чем собственно училище, где обучали бы живописи. Перед отъездом маэстро передал в коллекцию музея несколько собственных картин, которые исчезли вместе с остальными собранными там творениями.
А. Крусанов пишет, что «ввиду отсутствия в Витебске органа, интересующегося работами современных художников, все эти картины были свалены в склады помещения художественной школы»[295]. Через семь лет после заката «витебского ренессанса» Р. Майоров написал репортаж «Музейное кладбище» для газеты «Витебский пролетарий», где констатировал, что Витебский государственно-исторический музей уже утратил произведения «Шагала, Кандинского, Ермолаевой, Малевича и др.». «Те же из полотен, что сохранились, экспонируются в очень невыгодных условиях, в отличие от портретов польских помещиков»[296], – заключал Р. Майоров.
Куда делись они? Пошли на растопку? На одеяла? А может, из них шили мешки для картошки, как это случалось с картинами еще одного белорусского гения этой эпохи, Я. Дроздовича?
Через четыре года, в 1933-м, в Третьем рейхе пройдут выставки «дегенеративного искусства», на которых будет обильно представлен Шагал. Немецкое аутодафе его работам было более милостивым, чем то, что устроили большевики в Витебске: часть картин была не уничтожена, а без лишнего шума продана Третьим рейхом за большие деньги для обогащения казны и продававших их нацистов; таким образом, в долгосрочной перспективе эти холсты Шагала сохранились для человечества. Чего нельзя сказать о полотнах, которые миролюбивые ученики директора училища, искренне не видевшие ценности в его «козах», пускали на свои юношеские подмалевки.
И вот это момент, который очень сложно объяснить иностранцам: как так получилось, что в городе, в котором некогда творил великий художник, которому он оставил так много созданного, не осталось вообще ничего? Д. Симанович вспоминал о своем разговоре с В. Быковым: «Знаешь, сказал Быков, – всюду, когда приезжаю за границу, как только узнают, откуда я родом, сразу первый же вопрос о Шагале, есть ли картины в его городе, есть ли музей, что вообще сохранилось. Отвечаю кратко: была война – и Витебск был разрушен»[297]. Но, как мы видим, война тут совершенно ни при чем, статья «Музейное кладбище», в которой сообщается о полной утрате картин Шагала Витебском, написана за 12 лет до вторжения гитлеровцев в СССР.
Наследие – замалеванное, растащенное, сожженное, просто сгнившее – Беларусь потеряла навсегда. Первая живописная картина М. Шагала (оговоримся специально, что речь не идет об офортах и книжных иллюстрациях) появилась в Беларуси лишь в 2012 г. – спустя 82 года после отъезда художника с этой территории.
Если допустить, что где-то существует рай, в который попадают уничтоженные произведения искусства, то картины М. Шагала, созданные им в Витебске и навсегда в Витебске (призраками) оставшиеся, должны были собой этой рай наполнить. Хотя бы за собственную многострадальность. В конце концов, живописным холстам сложнее, чем людям. Ведь они, когда их разрывают на части, грунтуют и замалевывают, не могут заплакать.
Шагал? А кто это?
Пару лет после отъезда нашего героя в Париж о нем еще продолжали как-то вспоминать: вышла статья Н. Касперовича в журнале «Молодняк»[298], посвященная состоянию искусств в городе. Шагалу уделили в ней целую страницу текста, он был назван «экспрессионистом», «еврейским национальным художником», одним из «наиболее известных персонажей витебской краевой культуры». Имя Шагала протиснулось в книгу «Витебск в гравюрах Юдовина»[299]И. Фурмана, где автор связал мастерство Соломона Юдовина с тем, что тот был учеником «витебских мэтров» М. Шагала и К. Малевича.
Последним упоминанием имени Марка Шагала в искусствоведческой печати БССР можно считать статью И. Гавриса, ректора Витебского художественно-практического института – заведения, в которое было преобразовано училище, созданное М. Шагалом. В статье, написанной в 1928 г., он отмечал, что «живописные достижения кубизма [т. е. Шагала] не пошли на ветер, а использовались способными художниками и учениками в живописи среднего толка – реализме, импрессионизме и неоимпрессионизме. Беспредметность бросила луч света на графическую, декоративную, орнаментальную работу»[300].
С этого момента и до самой гибели БССР в 1991 г., с единственным (!) исключением[301], М. Шагал был вне художественного контекста Беларуси. «С грустью приходится констатировать, что несколько поколений жителей Беларуси выросли без знания творчества Шагала, ни одной репродукции работ которого не было издано в нашей стране до самого начала 1990-х годов»[302], – сообщает Л. Хмельницкая.
В 1989 г., будучи учеником Детской художественной школы № 1, я имел счастье слушать лекции по истории искусств Кирилла Владимировича Зеленого – легендарного советского искусствоведа, который, после того как ему предложили включить в кандидатскую диссертацию по М. Врубелю главу о влиянии на творчество этого художника взглядов РСДРП и В. И. Ленина, покинул аспирантуру престижной ленинградской Академии художеств им. Репина и пошел учителем в простую детскую школу в столице Беларуси. Несмотря на явный диссидентский флёр в имидже, на фундаментальные знания про русский авангард (Эль Лисицкий, Петров-Водкин и т. д.), которыми он, выпускник филфака ЛГУ и Академии художеств, обладал и делился, Кирилл Владимирович не сказал нам ни слова про Марка Шагала и «Витебскую школу». И дело не в том, что он чего-то боялся, подчеркнем, из-за собственной принципиальности он уже однажды уехал в «ссылку» из Ленинграда в Киев. Проблема была в его педагогическом языке. Преподавание К. В. Зеленого велось на основе слайдов, которые он демонстрировал и объяснял слушателям своих искусствоведческих курсов. Слайдов с картинами М. Шагала в 1989 г. в Минске было просто физически невозможно достать (см. процитированный выше отрывок из Л. Хмельницкой).
Уточним: на первых порах, пока М. Шагал не набрал славы и не стал восприниматься КГБ и партийными органами как удачный пример эмиграции из СССР, его игнорировали не по политическим причинам. Это, наверное, еще страшнее, но соотечественники великого маэстро просто не понимали, чем он так примечателен, что о его жизни в Витебске нужно помнить и как-то гордиться. Сказано же: «персонаж витебской краевой культуры»!
В 1929 г., т. е. спустя год после последнего упоминания М. Шагала в искусствоведческой статье, директор Белорусского государственного музея, писатель и ученый В. Ластовский сообщал: «Современное белорусское искусство – дитя Октябрьской Революции, дитя Белорусской Советской Социалистической Республики[созданной в 1924 г., когда М. Шагала уже не было в СССР]. Аристократизм в искусстве, романтизм и символизм не могут иметь места, современное белорусское искусство должно быть национальным по форме и пролетарским по содержанию»[303].
Понятно, что В. Ластовский, автор мистического романа «Лабиринты», пытался последней строчкой скорей очиститься от имиджа «символиста» сам, чем намеренно исключить из контекста художественной культуры «символиста» М. Шагала. Возможно, В. Ластовский, живший в Вильнюсе и Минске, о «Витебской школе» в тот момент просто ничего не слышал. Нельзя отрицать и того, что В. Ластовский намеренно мог вынести «еврейскую среду» Витебска за рамки формирования белорусского национального государства под покровительством коммунистов, на которое все они – поэты и ученые 1920-х – очень сильно надеялись. Так или иначе, к середине 1930-х годов большевики наигрались в «право наций на самоопределение» и начали заменять в союзных республиках национально окрашенные управленческие элиты новыми, по-советски интернациональными. В. Ластовский был расстрелян одним из последних, в 1938 г., и его имя на долгое время исчезло из всех энциклопедий – подобно тому, как не без помощи В. Ластовского исчезало в начале 1930-х из энциклопедий имя Шагала, «недостаточно белорусского» для того, чтобы олицетворять искусство БССР. И к тому же – еврея и эмигранта.
Впрочем, у этих двух типов исчезновений – того, как исчезали из научного дискурса деятели белорусской интеллигенции после того, как были расстреляны, и того, как исчез из художественной культуры БССР М. Шагал, – было как минимум одно отличие. В. Ластовский, Ц. Гартный (он же – Д. Жилунович) и многие другие, общим числом более сотни человек, все же имели надежду на реабилитацию, часть из них была возвращена в энциклопедии после смерти И. Сталина в 1953 г. Избежавший их трагической судьбы М. Шагал репрессирован не был, а потому и реабилитировать его не могли.
Вот несколько примеров того, как подчеркнуто не писали о М. Шагале в БССР. Искусствовед Н. Щекотихин, ученый секретарь Инбелкульта (1929 г.): «В эти первые годы не сыграли важной роли ни случайные художественные выставки 1921 года в Бобруйске и Минске, ни то, что на протяжении 1919–1921 годов не менее случайно Витебск на время стал остановкой для определенного числа русских художников, которые временно внесли в него оживленность художественной жизни вплоть до крайних “левых” течений живописи, а потом разъехались, не оставив там серьезного следа»[304]. В 1955 г. в сборнике статей по изобразительному искусству БССР М. Кацар: «Инициатива создания Народного художественного училища в Витебске принадлежала партийным организациям»[305]. Где Шагал? Кто такой Шагал? В 1965 г. В. Дышиневич издала большой библиографический справочник по белорусскому искусству[306], в котором такой словарной статьи, как «М. Шагал», не было в принципе. Фамилия художника не употребляется даже в связи с теми людьми, у которых он учился или кого учил в Витебске: так, статья про Ю. Пэна не содержит ни одной отсылки к самому знаменитому ученику Юрия Моисеевича.
Нельзя сказать, что М. Шагала в БССР в 1930-х запретили. На родине запретят его позже, в 1987 г., когда во всем остальном Союзе пройдет кампания по его реабилитации и восхвалению. Нельзя даже сказать, что Шагала как-то специально очерняли, ибо упрек в «рабской зависимости от западноевропейской упадочной, буржуазной культуры»[307]– не та форма, на которую в СССР можно было бы обижаться. Владимира Высоцкого упрекали в рабской зависимости от буржуазной культуры, и ничего – арестантской судьбы И. Бродского Высоцкий из-за этого не повторил.
В период с 1930 по 1987 г. М. Шагала в Беларуси просто игнорировали, замалчивали, смотрели на Витебск 1918–1920 гг. и не видели там его робкой фигуры с обшарпанным кожаным портфелем под мышкой.
И это страшнее любого запрета. Потому что с запретом, имеющим писаную форму, пусть даже и форму страшного решения «тройки» НКВД, можно спорить – хотя бы потомкам. Можно приводить в пример абсурдность выдвинутых претензий и на этом основании возвращать имя в энциклопедии и справочники.
С молчанием спорить невозможно. Молчание можно только нарушать, помня о том, что в пространстве, где нет воздуха, крик, даже самый громкий и надрывный, не распространяется вовсе.
Шагал в Вандее
Для того чтобы понять, как все последующие события в принципе стали возможны, нужно хорошо представлять себе, чем была БССР в момент 100-летия со дня рождения Марка Шагала, в 1987-м, и почему ее до сих пор называют Вандеей.
В январе этого года в Москве на январском пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь М. Горбачев объявил о начале перестройки – процесса мягких реформ, предусматривавшего плюрализм, гласность, дебюрократизацию, уменьшение государственного давления на личную и общественную жизнь. В метрополии старт перестройки привел к достаточно заметным сдвигам: осмелели газеты и журналы, стали публиковать тексты диссидентов, граждане узнали об истинном масштабе репрессий 1930-х гг. Росту антикоммунистических настроений и симпатиям к Горбачеву способствовал еще и разворачивающийся параллельно с перестройкой экономический кризис, выражавшийся в продовольственном и товарном дефиците.
Перестройка имела почти мгновенный эффект и в некоторых союзных республиках, таких, например, как страны Прибалтики, где антисоветские настроения традиционно были выше, чем в БССР или УССР. В Литве, Латвии и Эстонии возникли национальные фронты, численность которых была заметной, а степень влияния на принятие политических решений очень скоро сделалась значительной. Впоследствии, в 1991-м, руководители этих фронтов, не всегда имеющие явно диссидентское прошлое, войдут в новые правящие элиты объявивших независимость прибалтийских республик, а национал-капитализм станет той идеологией, которая обеспечит процессы разгосударствления, обогащающие достаточно узкие и – снова – не всегда антисоветские в прошлом группы интересов.
В Беларуси же разворачивание перестройки наткнулось на два обстоятельства. Во-первых, БССР была относительно благополучной республикой, товарный дефицит тут ощущался не так остро, как в иных местах, оттого чаяния реформаторов не находили откликов у населения. Во-вторых, эта республика являлась наиболее советской из всех входивших в состав СССР. Практически стертая национальная идентичность позволяла с легкостью заменить ощущение «я – белорус» на ощущение «я – советский человек». Советские мифы о «всесоюзной житнице», «партизанской республике», «родине грузовиков и тракторов» вытеснили с помощью традиционных андерсоновских инструментов конструирования идентичности (школы, карты, музея)[308]. Мифы, которые лежали в основе белорусского самоощущения при первых подходах к формированию нации в конце XIX – начале XX в.: никто тут уже даже не вспоминал ни о Великом княжестве Литовском, ни о первой в Европе конституции, ни о собственном языке, ставшем средством коммуникации узкой группы культурной интеллигенции.
Соответственно, перестройка не нашла большого отклика среди граждан БССР; очень часто в современных текстах об устройстве и обществе Беларуси можно прочитать тезис о том, что перестройка в этой стране не наступила до сих пор[309]. Несмотря на тезисы январского пленума ЦК КПСС, тут сохранялась полная монополия государства на любую инициативу в области общественной жизни, цензура и идеологизированность печати.
Демократические инициативы, тенденции к плюрализму и гласности как-то рассеивались на пути из Москвы в Минск, в котором контроль и давление каким-то странным образом по мере разворачивания перестройки лишь крепчали, создавая что-то вроде реваншистской микросистемы, своего рода внутренней цитадели внутри разваливающейся коммунистической крепости. Исчерпывающим образом настроения в БССР в год 100-летия Шагала воплотились в знаковой статье, которую написал для всесоюзного журнала «Огонек» писатель и сценарист Алесь Адамович[310].
В ней рассказывалось об обнаружении в идилличном жилом массиве «Зеленый луг» на окраине Минска целой области, хранящей останки тысяч жертв сталинских репрессий: «Оказывается, там, где многие минчане любили отдыхать семьями, с детьми, устраивали пикники – холмистое, заросшее сосняком место, – там кости, простреленные черепа, запрятанное преступление (близко, под травкой, под желтым песочком!). Тысячи и тысячи убитых были упрятаны более чем в пятистах общих могилах! То-то же странно как-то корчилась земля, ни одного метра без бугорка, без провала, провисания!..»[311]
Дальше Адамович рассказывал о том, как причудливо трансформируется эта страшная новость в сознании коммунистических властей БССР, которые сначала пытались оправдать массовые репрессии историческими прецедентами («Все революции пожирают своих детей»), затем – исторической неизбежностью и попыткой перевести стрелки на немцев («Курапаты на самом деле – место захоронения именно расстрелянных фашистами людей») и т. д. Адамович ретранслирует поразительную логику позднесоветских руководителей БССР: «…объяснять истребление 80 процентов белорусских писателей такой “логикой”: Купалу же и Коласа не посадили? Вот то-то же, даже хозяйка, если она умная, морковку на грядке прореживает ради того, чтобы крупной расти было более споро. Вот так – в лицо всему институту белорусской литературы, и мы его не вышвырнули за дверь, а некоторым даже провожать его пришлось к поезду…»[312]
На основании всего этого Адамович делает вывод о том, что БССР стараниями «некоторых обществоведов и идеологических начальников» заслужила «печальную репутацию антиперестроечной Вандеи»[313]. Он перечисляет фамилии людей, возводящих «барьер против перестройки»: «Павлов, и Бовш, и Залесский, и Бегун, и Игнатенко»[314]– некоторых из них мы встретим позже как главных борцов и запретителей М. Шагала.
Слово «Вандея» стало главной метафорой перестроечной Беларуси, о нем пишутся научные тексты и словарные статьи: «Во времена коммунистов каждый образованный белорус знал про Вандею, так как Великой французской революции отводилось много места в истории КПСС <…> С легкой руки А. Адамовича слово Вандея мгновенно приобрело широкую популярность. Когда в 1989 г. на Деды[315] возле закрытых ворот Московского кладбища плотные ряды милиции со всех сторон сознательно сжимали многотысячную толпу, чтобы люди раздавили друг друга, единственное, что мы тогда могли противопоставить карателям, – крик “Вандея! Вандея! Вандея!”»[316].
Что же означала эта запущенная в оборот Адамовичем метафора? Вандея (Vendée) – территория на западе Франции, которая (как знал любой образованный советский белорус) категорически отказалась от достижений Великой французской революции: ее жители хотели строить свой быт по-старому, совсем как белорусские коммунистические элиты и белорусские граждане в 1987 г.
«Вандея перестройки», монархисты в стране осужденного на смерть короля – вот что такое БССР 1987 г. Характерна в этом контексте судьба самого автора метафоры: сравнение Беларуси с Вандеей настолько разозлило местные коммунистические элиты, что А. Адамович был вынужден срочно уезжать из республики, причем не в далекую эмиграцию, а всего-навсего в Москву, где его идеи были вполне созвучны эпохе перемен и гласности. В 1987 г. он благополучно занял пост директора Всесоюзного НИИ кинематографии, продолжал активно публиковаться в «Огоньке» и «Литературной газете».
«Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», – писал И. Бродский. Как хорошо видно из атмосферы в БССР в 1987 г., отъезд в провинцию, подальше от столиц, являлся приемлемым вариантом в то время, пока империя была сильна. Когда она зашаталась и стала рушиться, в Москве стало куда больше свободы, чем в Минске.
Последнее обстоятельство места и времени, которое нужно учитывать в контексте преследований М. Шагала на родине через два года после его смерти, – позднесоветский антисемитизм белорусских коммунистических элит.
Вообще, принято считать, что пиком нагнетания антиеврейских настроений в СССР был конец 1960-х – начало 1970-х гг., когда советские руководители по итогам Шестидневной войны окончательно разуверились в возможности собственного влияния на Израиль, на которое до этого этапа как-то надеялись. С этого момента в советские газеты стал с возрастающей частотой проникать термин «сионизм», израильтян и евреев стали упрекать в связях с «американским империализмом». Однако в масштабах отдельно взятой БССР поздние 1980-е можно считать одним из пиков антисемитизма. Тут совпало несколько факторов. Во-первых, сыграла роль инерция, с которой до регионов доходят идеологические и мировоззренческие установки из центра. Симптоматично, например, что БССР плотно напиталась советскими идеями как раз к тому моменту, когда Советский Союз приготовился умирать. Потребовалось время, чтобы тезис о том, что Израиль – государство, которое дружит с «американской военщиной», каждодневно ретранслировавшийся в международных блоках новостей по Центральному телевидению, усвоился настолько, что стал как-то коррелировать с бытовой сферой, употребляться как почва для ненависти к конкретным соседям или сотрудникам.
Во-вторых, в середине 1980-х в столице БССР проживало несколько ученых, являвшихся видными антисионистскими мыслителями общесоюзного масштаба. В 1987 г. «Советская культура» называла В. Бегуна одним из создателей версии о существовании сионистского заговора в стране[317](под страной имеется в виду весь СССР). Старший научный сотрудник Института философии Академии наук БССР В. Я. Бегун, как мы скоро увидим, был человеком, публично в 1987 г. утверждавшим, что «в институте[имеется в виду Народное худ. училище М. Шагала] нашли прибежище дезертиры, спекулянты и другие темные личности»[318].
В-третьих, новой идеологией, постепенно набиравшей силу в позднем БССР по мере ослабления ретрансляции идеологии советской, был панславизм или слегка отредактированное славянофильство. Для идеи объединения всех «славян» с центром в Минске был необходим склеивающий всех «враг», которым вполне в духе позднего коммунизма была избрана смесь «сионизма» с американским «империализмом». Позднее, в 1990-х гг., окажется, что социалистический империализм и панславизм – идеи не нуждающиеся друг в друге, хотя имеют в своем центре идею объединения «всех здоровых сил», «дружбы близких народов». Так, после ликвидации общесоюзной Коммунистической партии значительное число ее идеологов перекочевали в пропагандировавшие «славянскую соборность» объединения, источавшие «нетерпимость к сионизму», маскировавшую откровенный антисемитизм.
В-четвертых (а возможно, по-прежнему в-третьих), одним из крайне специфических последствий ослабления участия государства в политической жизни во время перестройки стало усиление общества «Память» – организации русско-славянского толка, выросшей из зарегистрированного в Москве в 1980 г. историко-культурного клуба. «Память» умело воспользовалась горбачевским плюрализмом, проводила митинги, встречи, лектории, стала своего рода «вторым голосом» в стране, вещавшим как бы «из низов», при явных симпатиях к себе со стороны коммунистов. Общество «Память» боролось с сионизмом «стихийно», «по собственной инициативе», лекторами этой организации «правда о Шагале» страстно неслась в массы, принимая те формы, от которых государственная пропаганда воздерживалась, так как была именно государственной, т. е. обязана была соблюдать хотя бы какие-то идейные и стилистические рамки[319].
Многочисленные голоса, обратившиеся против художника на родине, сливались в один негодующий хор. Москва реабилитировала и признавала, Вандея требовала крови. Если бы наследие Марка Захаровича не было утрачено еще в 1930-х, вполне возможно, публичное сожжение его картин устроили бы в БССР 1987-го, сопроводив лекцией об опасности сионизма и факельным шествием.
Выпиленный Шагал
Вещи, о которых пойдет речь дальше, крайне неприятно читать и еще сложней их было суммировать, обобщать, выстраивать в связный нарратив. В шагаловедении они, как правило, описываются одной-двумя стыдливыми строчками. Наше намерение подробно реконструировать события, происходившие в Витебске и Минске во время перестройки, мотивировано не садизмом и не кровожадностью и даже не желанием раз и навсегда закрыть эту тему, перечислив имена людей, воевавших с тенью художника уже после того, как он навсегда утратил возможность возразить или хотя бы заплакать от обиды.
Просто нам кажется, описанные ниже события больше маленького Витебска и больше БССР как таковой. Они шире антисемитизма конкретных пещерных «мыслителей», «академиков» и «докторов наук» ибо затрагивают вечные темы памяти и признания, по итогам анализа которых можно сделать выводы, касающиеся того, как и почему творцов запрещают, какими подземными реками ненависти питается их преследование. История Марка Шагала – прекрасная модель для рефлексии, так как вбирает в себя все компоненты, присущие такого рода историям: бедное детство, отъезд в Париж, возврат на родину, дела, которые никто не понял, добро, за которое никто не поблагодарил; снова отъезд, оставленное наследие, которое истлело, наконец, всемирная слава, которую местные инструкторы ЦУ объявили ненастоящей.
Гений умер в марте 1985 г. так и не признанным в родном городе. Как и следовало ожидать, первая волна попыток его реабилитировать прикатилась из Москвы.
В 1987 г. в результате дарованной перестройкой гласности журнал «Огонек» перестал быть изданием, которое буквально в каждом своем номере страстно разоблачало израильскую военщину и связанных с американским империализмом «сионистов». Примерно с февраля 1987 г. «Огонек» стал печатать несколько иные истории, одной из которых было слово, сказанное в защиту М. Шагала его старым приятелем А. Вознесенским. Тот съездил на родину художника, в город, васильковых полей которого Марк во время визита в СССР так и не увидел, и написал текст, в котором призывал построить в Витебске музей. Текст вышел в марте 1987 г.[320]
Собирая материалы для своего эссе в Витебске, А. Вознесенский согласился провести творческий вечер, отголосков которого в местной печати нам отыскать не удалось. Некоторые косвенные обстоятельства позволяют предположить, что вечер состоялся примерно в январе – феврале 1987 г. Сохранились свидетельства очевидцев[321], на этом вечере присутствовавших. И вот, оказывается, встречаясь с витебчанами, Вознесенский не только и не столько читал свои стихи, послушать которые собрались горожане. Он рассказывал им – непомнящим – про своего друга. Славного друга, который плакал от собственной невозможности вернуться в Витебск в 1973-м. Поэт повествовал «об огромном влиянии на современную культуру», оказанную их земляком, «о том, что весь мир знает о Витебске благодаря его картинам»[322]. Вечер «перешел… фактически в первый серьезный разговор о МШ с его земляками»[323]. Тут, в Витебске, А. Вознесенский тоже говорил о необходимости музея М. Шагала. Он особенно подчеркивал, что больших денег это не потребует, так как дом, в котором жил маэстро, сохранился почти без изменений.
Такая «интервенция» из Москвы, да еще и осуществленная знаменитым поэтом в общесоюзном журнале, – явление не из тех, которое местным руководителям можно было бы игнорировать. В научном архиве музея М. Шагала хранится ценнейший документ, свидетельствующий о брожениях в витебских советских элитах по шагаловскому вопросу в 1987-м.
Горком поручил инструктору Витебского комитета КПБ Г. Рябушеву «исследовать» вопрос о том, является ли упомянутый А. Вознесенским в его эссе дом по адресу Витебск, ул. Дзержинского, 11, принадлежащий семье Мейтиных, имуществом, которым некогда владел отец М. Шагала. Инструктор горкома вопрос «исследовал» и написал уже упоминавшуюся «Справку по проверке факта проживания в доме номер 11 <…> художника Шагал М. З.»: «Итак: 1) приписывать место рождения М. З. Шагал Витебску неосновательно; 2) в доме по ул. Дзержинского, 11 проживал ли он – это необходимо изучать более основательно. Как? Сейчас сказать трудно. Наконец, так ли уж важно установить и что это даст? Основание создать его музей? Но о чем должен быть этот музей? О его жизни и деятельности? Но тогда возникает очень существенный вопрос: достоин ли этот человек, чтобы к ней привлекать внимание советских людей?»[324] Снова мы видим, как Шагал стал лицом женского рода – совсем как в «мандате 3051».
Впрочем, все это было только началом. Андрей Вознесенский вряд ли мог предположить, что его эссе, а также приуроченная к 100-летию М. Шагала выставка – первая в СССР с момента крохотного вернисажика в 1973-м, – вызовет такую контратаку на родине художника. Раньше Шагала тут не замечали. Теперь, в перестроечный 1987-й, заметили и начали самозабвенно травить – по тем странным причинам, которые изложены в предыдущей главе.
Почти сразу после публикации статьи в «Огоньке», т. е. в марте[325]1987 г., в Витебск прибыл уже известный нам кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии АН БССР В. Бегун с задачей, совпадавшей по форме с той, которую ставил А. Вознесенский: встретиться с публикой, а потом написать эссе. Правда, интенции у В. Бегуна были принципиально иными. Л. Хмельницкая уточняет[326], что В. Бегун прибыл по приглашению областного комитета КПБ и выступал в редакции газеты «Витебский рабочий». В его лекции говорилось, что живопись Шагала «абсолютно чужда и искусству, и нашему народу, и белорусской культуре», а музей «повесит на город» «миллионные расходы»[327].
Далее местные власти взялись за то, что у них получалось лучше всего: за запреты. В июне 1987 г. краеведческий клуб, в который входил самый горячий сторонник реабилитации М. Шагала в Витебске, сотрудник местной телестудии Д. Симанович, по собственной инициативе подготовил «выставку» произведений знаменитого земляка. «Выставка» заключалась в экспонировании в областной библиотеке цветных репродукций М. Шагала, вырезанных из каталога выставки, проходившей в эти же дни в Москве. Повторимся, игнорирование маэстро в родном городе и родной стране было настолько повсеместным, отсутствие альбомов и вообще любых воспроизведений картин – настолько плотным, что даже показ репродукций мог стать значимым событием в жизни города. А историкам-энтузиастам к тому же удалось сделать в ГАВО фотокопии некоторых знаковых документов[328]о жизни художника в городе: приказов и распоряжений, под которыми стояла подпись М. Шагала, и т. п. Эти фотокопии украшали экспозицию вместе с цветными иллюстрациями из каталога. На вечер, приуроченный к открытию выставки, планировали приехать младшая сестра и племянница Марка Захаровича[329].
Но реабилитации Шагала в Витебске в 1987-м не суждено было случиться. За три дня до начала вернисажа в библиотеку позвонили из обкома КПБ и запретили мероприятие[330]. Стенды пришлось демонтировать. Под запрет попал и сам краеведческий клуб, в который входил Д. Симанович.
Но самое трагикомичное не закрытая выставка репродукций, не лектор, по приглашению обкома рассказывающий о том, что живопись Шагала «чужда искусству», а то, что случилось с первой попыткой скульптурно увековечить память о художнике. К выставке, которая должна была состояться весной 1987 г., молодой скульптор А. Гвоздиков подготовил триптих, посвященный родоначальникам витебской художественной школы. Композиция включала в себя фигуры К. Малевича, М. Шагала, а также И. Репина – русского художника, имевшего дачу под Витебском. К выставке был издан каталог, работа А. Гвоздикова была в нем указана. Запрещать всю выставку было слишком скандально, изымать произведение Гвоздикова – невозможно, так как оно имелось в каталоге. И вот тогда по приказу инструктора Витебского обкома партии, как свидетельствует Л. Хмельницкая[331], фигура Шагала была «изъята». «Изъятие» фигуры из законченной скульптурной композиции – вещь непростая, поэтому даем разъяснение: «Фигура “приверженца сионизма” была отпилена, и образ ненавистного художника отделен от его сподвижников»[332]. Инструктор обкома партии с лобзиком, пыхтя, «изымающий» М. Шагала из художественной истории Витебска, – сцена, сама по себе достойная скульптуры. Что сделал бы Марк, увидев, как его «выпилили» из родного города, из памяти об училище, которое создал он, а не Репин с Малевичем? Смог бы он рассмеяться?
Ровно за месяц до 100-го дня рождения маэстро о нем говорили на VIII пленуме Минского горкома КПБ, причем говорили в контексте перестройки, которая, по мнению белорусских коммунистов, требовала не ослабления идеологического давления на общество, как это виделось в Москве, а его усугубления[333]. О содержании работы на этом пленуме можно прочесть в газете «Вечерний Минск»: с докладом выступил заведующий отделом критики буржуазной философии и идеологии антикоммунизма Института философии и права АН БССР, доктор философских наук, профессор В. Бовш, который осудил «крикливую кампанию в связи со 100-летием художника-модерниста Шагала» и выступил против «навязывания советским людям фальшивых авторитетов».
Ветры перемен не долетали до Минска, тут по-прежнему было затхло, как в музее истории КПСС.
Впрочем, основной «подарок» был подготовлен непосредственно к дню рождения нашего героя, в июле 1987 г. Журнал «Политический собеседник», выпускаемый ЦК КПБ, опубликовал этапную статью вернувшегося в Минск из Витебска В. Бегуна. Вышедшая в странновато озаглавленной рубрике «Диалог с автором сердитого письма», она была оформлена по-перестроечному игриво: слева помещался рисунок фонаря, выполненный монохромной акварелью. Под фонарем шли веселенькие завитушки, на которых покоился чугунный заголовок: «Украденный фонарь гласности».
«Долг каждого честного гражданина, каждого коммуниста и комсомольца – разоблачать демагогов, ловкачей, лжецов, показывать людям, как иногда высокие идеи и принципы превращаются в пустое словоговорение»[334], – содержалась цитата в левом нижнем углу. Цитата была выдержкой из письма некоего И. Воронина, в «диалоге» с которым В. Бегун и разворачивал полотно своей мысли. «Действительно, И. Воронин прав, – подхватывал мысль Бегун. – Был я недавно в Витебске и обнаружил одно характерное явление. Суть его состоит в том, что находятся люди, которые сознательно извращают истину и навязывают общественности создаваемый ими миф в качестве обязательного символа веры»[335].
Дальше Бегун перечисляет три публикации в местной и общесоюзной прессе, в которых говорится о том, что Марк Шагал родился в Витебске: «Поскольку авторы буквально пальцем указывают на “одноэтажный белый дом” и указывают его номер, неосведомленный читатель верит написанному. Однако каждое из приведенных здесь высказываний – вранье. По той простой причине, что “волею судеб” художник родился не в Витебске, а в Лиозно»[336]. Собственно, на этом доказательная база В. Бегуна относительно места рождения витебского гения исчерпывается. Он не вникает в его анкетные данные, не копается в дневниках и автобиографии, он не проверяет в архивах записи о рождении, как это сделала А. Шатских[337]. Он просто сообщает: «волею судеб» родился в Лиозно. Вот и все. Воля судеб – железный аргумент. Дальше В. Бегун клеймит тех, кто считает, что Шагал – витебчанин: «Но Витебск выгоднее и солиднее Лиозно, а потому он избран для развертывания “шагаломании”, которая соотносится с истиной точно так же, как и болтовня о цветной занавеске в окне белого дома»[338].
Далее без всяких преамбул, в продолжение тезиса о «не истинности» (?) шагаломании, В. Бегун переходит к творчеству художника: «Достаточно привести два из множества фактов: на картине “величайшего” художника, названной “Россия, ослы и другие”, нашу страну символизирует осел, женщина без головы и купол церкви с крестом; внимания к Лиозно или Витебску он не подтвердил ничем, зато его любовь к Израилю общеизвестна»[339]. Подчеркнем: картина «с женщиной без головы» приведена как доказательство того, что М. Шагал не родился в Витебске. «Как видим, истинное место рождения этого художника, его дела, подлинные воззрения и симпатии тщательно скрываются»[340], – продолжает Бегун после фрагмента, где описано, как М. Шагал «ублажал подарком Голду Меир» и «получил премию имени Вольфа». Возможно, тут В. Бегун допускает, что М. Шагал родился и не в Лиозно, а в Израиле, иначе пафос фразы остается не вполне раскрытым.
Наконец, кандидат философских наук переходит к прямым обвинениям М. Шагала в совершении уголовно наказуемых дел: «Витебский художественно-практический институт, которым некогда руководил Шагал, имел, по докладу губернской комиссии рабоче-крестьянской инспекции, “исключительно отрицательные стороны, заключающиеся в причинении ущерба республике”. Ущерб состоял в том, что в институте нашли прибежище дезертиры, спекулянты и другие темные личности, а подлинных художников было мало»[341].
Несмотря на то что с такими публикациями спорить не принято, приведем одно фактологическое разъяснение. Витебский художественно-практический институт действительно проверяла губернская рабоче-крестьянская инспекция. Материалы ее проверки за подписью старшего инспектора Витебского губотдела К. Ю. Макке хранятся тут, в ГАВО[342]. Но дело в том, что проверяли контролеры не Народное художественное училище М. Шагала и даже не Витебский художественный институт эпохи директорства в нем В. Ермолаевой (т. е. сразу после отъезда М. Шагала). Проверка состоялась в конце 1922 г., формализована в акты и материалы в апреле 1923 г. Разъяснения по ней давал совсем другой ректор, И. Гаврис. Его ответы на предъявленные претензии инспекция признала исчерпывающими, так как после самой проверки И. Гаврис своей позиции не потерял. К Гаврису (не к М. Шагалу!) действительно выдвигались вопросы по поводу несоответствия числа принятых (610 человек) и присутствующих на занятиях в день проверки (60 человек), но первая цифра касалась всего времени существования этого художественного заведения с момента его создания в 1919 г., поэтому число находящихся в аудиториях на момент ревизии ни о чем свидетельствовать в принципе не могло (и уж тем более не доказывало оно вины М. Шагала, который эту явку студентов мог проконтролировать разве что из Парижа). Особенно подчеркнем: фамилия М. Шагала в материалах проверки не фигурирует ни в каком качестве – ни в качестве подозреваемого, ни в качестве обвиняемого в чем-либо.
Далее В. Бегун отвлекался от Шагала и переходил на более высокий уровень обобщений, оперируя такими терминами, как «демократизация», «идеалы», «принципы партийности и высокой нравственности». Рядом был помещен его портрет: высокий лоб, седина на висках, галстук и, как и у всех людей, два глаза, нос, уши, рот и брови.
Но «Политический собеседник» не унимался. Через четыре номера орган ЦК КПБ вернулся к разоблачениям М. Шагала. В ноябре 1987 г. издание поместило подборку писем читателей, одобрявших позицию В. Бегуна, а также «экспертное заключение ученых», касающееся нашего героя. «Хочу поблагодарить автора за информацию, которая вносит ясность в этот вопрос. Дело в том, что в Витебске ведутся разговоры о том, открывать музей Шагалу или нет. Поскольку, однако, Шагал искал признание везде, в т. ч. и в Израиле, но не в Витебске, то вряд ли стоит делать это»[343], – писал читатель Гололобов. «Наконец наступили времена гласности, правды. Ведь действительно, мы – неосведомленные читатели. Отдельные люди говорят: “Ах, у нас родился М. Шагал, а вы, белорусы, не почитаете его. Мы бы рады почитать, но истина дороже”»[344]– это уже коллективное письмо, подписанное: «Максимова, Антонович, Зеленкевич, Степанов, г. Минск». Или вот еще одно, подтверждающее, что право клеветать на М. Шагала и есть главное достижение перестройки в Вандее: «Мы всем отделом читали статью Бегуна “Украденный фонарь гласности”. Автор действительно показывает необходимость гласности и демократии. Как хорошо, что наступили времена, когда людям можно сказать правду!»[345]
Писали в это время и в Витебский обком, чтобы ни в коем случае тот не прислушался к сигналам из центра и не «легализовал» Шагала. В научном архиве Витебского музея хранится оригинал одного из таких писем, подписанного ветераном Великой Отечественной войны Калашниковым Михаилом Тимофеевичем из поселка Новогрозненский Гудермесского района Чечено-Ингушской АССР. Товарищ Калашников не был в курсе, что «Гала Шагала» в названии статьи А. Вознесенского из «Огонька» – это не имя художника, а указание на то, что у него открылась гала-ретроспектива картин: «20 миллионов сложили головы на поле брани, защитили Родину-мать Россию не для того, чтобы увековечивать врагов революции, подобных Гала Шагала. Мне, пацану, было 8–9 лет, и я как сейчас вижу тех красногвардейцев, как они стояли у нас на квартире. Отец мой плел им лапти, а мать чинила шинели. Два брата ушли добровольно защищать Родину от Колчака, Юденича, Петлюры и Краснова, а Гала Шагала помогал долларами иностранной интервенции, чтобы задушить нашу молодую республику Советов»[346].
«Экспертное заключение», которое стояло под письмами в пятом номере официального органа ЦК КПБ, было подписано фамилиями сразу четырех видных деятелей науки и искусств БССР. Первым в списке значился академик Академии художеств СССР, народный художник СССР Михаил Савицкий. Один из самых узнаваемых антивоенных художников СССР, он прошел через фашистский концлагерь и создал галерею образов, на которых зверства, крематории, лагеря смерти были изображены с такой экспрессионистской убедительностью, что посещать его выставки и сейчас может только психологически устойчивый человек: чувство жути и отвращения к войне при просмотре картин сообщается зрителю на физическом уровне. И вот настолько явный и последовательный антифашист неожиданно показал себя одним из самых яростных борцов с «сионизмом», высказывая свои идеи широко и публично. Кроме того, М. Савицкий был, как и М. Шагал, уроженцем Витебска, а потому борьба тут велась как будто еще и за то, кто будет «главным художником Витебска ХХ в.». Остальными экспертами-подписантами «заключения», опубликованного под письмами в пятом номере «Политического собеседника», были профессор В. Бовш, доктор философских наук, профессор В. Нефед, член-корреспондент АН БССР, доктор искусствоведения, профессор А. Малашко, доктор исторических наук. Воедино были собраны художник, философ, искусствовед и историк. И все они заключали, например, что «в западных энциклопедических изданиях, в частности во французских и английских, творчество М. Шагала оценивается невысоко». Ссылки на издания не приводились.
Далее историк, художник, философ и искусствовед выражали собственное мнение о творчестве великого земляка: «Вряд ли можно причислить к гениальным творениям “беременную женщину”, которая почему-то превращается, да еще “щемяще”, в Эйфелеву башню, или зеленых свиней, или ослов, в изобилии присутствующих на полотнах Шагала»[347]. Интересно, что в «гениальности» тут М. Шагалу отказывают просто перечислением сюжетов: изображение «беременной женщины» или «ослов» «вряд ли» может быть «гениальным». Других аргументов не нужно!
Далее авторы переходят к разбору «мировоззрения художника» на основе витражей в иерусалимской синагоге: «Трудно сказать, что на них изображено – подобия каких-то ослов и коз, неких птиц, но весьма четко смотрятся символы иудаизма: шестиконечная звезда, менора, скрижали завета»[348]. Чувствуется, что эта «научная комиссия» подталкивает нас к выводу о том, что «мировоззрение художника» было иудейским, а стало быть, «о каком патриотизме может быть речь»?
Снова возвращаясь к «преступлениям» Шагала на посту директора Народного художественного училища, академики ловят его на слове: «Позже, в 1927 г., М. Шагал опубликовал в сионистском журнале автобиографию, в которой признал, что “во время первых лет большевистского господства… допустил в свою школу ремесленников”»[349]. Это, по мнению уважаемого хурала, доказывает, что его студентами были «дезертиры, спекулянты», которые хотели уклониться от армии и получали «щедрые продовольственные пайки»[350]. Академики не читали витебской публицистики Шагала и не понимают, что он сознательно собирал «ремесленников», «вывесочников», которых стремился превратить в художников.
Миф о «злоупотреблениях» Шагала на посту директора училища гуляет по антисемитской литературе до сих пор, обрастая все новыми «преступлениями», такими, например, как «хищение дорогой мебели из особняка Вишняка» и т. д., – все авторы, порой сами того не зная, опираются на те самые материалы проверки, акт которой мы цитируем выше. Повторяемость, зацикленность аргументов вообще характерны для критики этого художника в БССР и, позднее, в независимой Беларуси. Но мы не будем больше мучить читателя статьями из «Политического собеседника». Процитированных текстов достаточно для того, чтобы получить исчерпывающее представление о том, в какую сторону развернулась память о нем в год 100-летнего юбилея в республике, в которой теперь находился родной город.
Вместо воспроизводства аргументов перестроечных врагов и хулителей Шагала мы бы задались иным вопросом: о Шагале ли в действительности были все процитированные нами фрагменты? За право понять, как творчество живописца виделось сознанию инструктора горкома ЦК КПБ в 1987-м, мы бы, не сомневаясь, отдали всю сохранившуюся у нас подшивку «Политического собеседника».
Очевидно, что их понимание Шагала было иным, чем наше. Это видно даже по тому, как они описывают картины маэстро. Савицкий, Бовш, Нефед и Малашко, например, обращают особое внимание, что на одном из полотен изображен Ленин в цирке, причем «Ленин стоит на одной руке вверх ногами в присутствии молящегося иудея и сидящего на стуле осла»[351].
Книг, способных научить доктора искусствоведения, члена-корреспондента АН БССР В. Нефеда правильно «читать» экспрессионистское или кубистическое искусство, в СССР не издавалось. Мы бы не стали исключать, что этот доктор искусствоведения с трудом отличил бы картину, сделанную знаменитым экспрессионистом или кубистом, от этюда ученика общеобразовательной школы. Единственное, в чем были экспертами цитируемые нами авторы, – это научный коммунизм и социалистический реализм. Получив задачу вынести суждение о М. Шагале, они принимались деконструировать его по тем законам, по которым ранее «разбирали» понятное и знакомое им реалистическое искусство. И сразу же столкнулись с тем, что на полотнах Шагала они просто не видят нужных им знаков, денотирующих смыслы, к которым привыкли в горкоме ЦК КПБ.
Не видя среди «ослов» и «неких подобий птиц» почвы для разговора о пролетариате и империализме, о революции или контрреволюции, они начали обращать внимание на частности, хорошо им понятные. Например, на то, что «Ленин – в цирке», «перевернутый». Или на то, что рядом с Лениным – «еврей» и «осел», т. е. они читали живопись таким образом, что означиваемые ими частности приобретали ярко выраженный антисоветский оттенок.
Причем идеологизация М. Шагала свойственна не только процитированным авторам. Этим же грешил А. Вознесенский, сужавший восприятие М. Шагала до повестки дня, актуальной в 1987 г. Разговор о Шагале во время перестройки изначально строился как разговор либо антисоветский (Ленин в цирке! Ура! Это смешно!), либо ревизионистско-просоветский (Ленин в цирке! Это антисоветчина! Это нужно запретить!), и на столкновении этих двух типов дискурсов и было построено суженное восприятие мирового наследия нашего героя позднесоветскими гражданами в Москве и Минске.
«Знаки сионизма» – «шестиконечная звезда, менора, скрижали завета» и т. д., включая такие национально нейтральные символы, как, например, «бородатый мужчина» или «скрипач», запускали в инструкторах ЦК КПБ второй когнитивный ряд: актуальный для позднесоветской БССР антисемитизм. Таким образом, глядя на искреннюю картину влюбленных, которых чувство вознесло в небо над Витебском, они с помощью имеющихся в сознании клишированных интерпретант видели «сионистов, летящих бомбить советские города».
Если держать в голове эту специфику восприятия 1987 г., статьи про Шагала и дальнейшие, еще более жесткие действия Витебского горкома и Минского ЦК в отношении его памяти не будут восприниматься откровенно шизофренично: даже в его наивных попугаях эти люди разобрали бы «некие подобия птиц», помещенные на холст с целью выполнить «важнейшее требование иудаизма – не изображать то, что на небе наверху, на земле внизу и в водах ниже земли»[352].
Запрет фильма о запрете
История с возвратом Витебску памяти о М. Шагале, как капля доисторической смолы, вмещает в себя причудливых созданий времен советского мезозоя. По этой узкой теме – биографии одного художника, ставшего гением во всем мире, но оставшегося неудачником на родине, по запрету его, а также по попыткам «разрешить» – можно изучать историю постсоветских стран. Тут запечатано в янтаре времени все: как запрещали выставки, как увольняли с работы, как не выносились на защиту диссертации. Это история про все стороны советской и постсоветской жизни, в ней прекрасно видно советское общество с его причудливой иерархией культурных авторитетов, с его перманентным страхом, с его подземными течениями, не видными обычному человеку, находящемуся вне системы, и мотивирующими странные поступки руководства. В этой истории видно, что такое советский и постсоветский суд, что такое «телефонное право», что такое советская гуманитарная наука (в Беларуси наука до сих пор во многом – советская), кто в ней в большинстве случаев является авторитетом и почему.
Самое же интересное явление – советская память, короткая, как июньская ночь. Именно благодаря этой памяти люди до сих пор (т. е. спустя 26 лет после публикации А. Адамовича о Вандее) ходят на пикники в Курапаты, там уже стоит жилой массив; как на могиле К. Малевича под Москвой, скоро будет и развлекательный центр: массовые расстрелы забыли в очередной, второй по счету раз.
События, о которых пойдет речь дальше, с трудом припоминают уже даже их непосредственные очевидцы и участники – именно поэтому их нужно оставить в контексте шагаловской полемики. Если когда-нибудь потомок задастся вопросом; как же М. Шагала могли запрещать? за что? – достаточно будет прочесть одну эту главу.
Итак, только факты. В 1987 г. завершалась подготовка к выпуску пятого тома «Энциклопедии литературы и искусства Белоруссии». Сотрудник Государственного художественного музея В. Буйвол[353]по заказу редактора БСЭ Ирины Шиленковой[354]подготовил статью о М. Шагале. Статья была «очень добросовестной»[355]. Однако она не устроила заместителя главного редактора «Энциклопедии литературы и искусства Белоруссии» А. Петрашкевича[356]. Тот поручил И. Шиленковой заменить статью В. Буйвола на статью про М. Шагала, подготовленную уже известным нам В. Бегуном: «Что ему[редактору] мнение мировой общественности, отзывы о Шагале авторитетных искусствоведов? Ведь имеется свой, доморощенный специалист по всем проблемам – кандидат философских наук В. Бегун<…> у Бегуна метод отработанный: он смотрит прежде всего на паспортные данные, а уж анализ будет соответствовать, ни один искусствовед не совладает с доводами нашего знатока живописи». А. Рудерман уточняет, что эту новую статью про М. Шагала готовил не В. Бегун в одиночестве, а «группа авторов», среди которых был В. Бегун в качестве «крупного» специалиста по Шагалу[357].
Тогда И. Шиленкова отправила гранки этой новой статьи в редакцию Большой советской энциклопедии на рецензию. Из Москвы пришел отзыв, что «написано безграмотно и тенденциозно»[358]. Статью, в создании которой участвовал В. Бегун, заменили на ту «очень добросовестную», которую написал В. Буйвол. И тогда И. Шиленкову уволили с работы. Причем уволили, как это всегда происходит в таких случаях в постсоветских странах, не по статье, без всякой вообще связи с этой историей вокруг Шагала: за то, что она не прошла аттестацию. Особенно подчеркивалось, что И. Шиленкова уволена в полном согласии с мнением трудового коллектива (см. выше про перманентный страх).
И. Шиленкова попробовала оспорить свое увольнение в суде. Этой историей заинтересовался режиссер-документалист, работавший в тот момент на киностудии «Беларусьфильм», Аркадий Рудерман. Он вместе со съемочной группой стал ходить на заседания судов и документировать все происходящее там. Его идея была созвучна той, что лежит в основе этой книги: он хотел сделать картину о запрете М. Шагала на родине.
Впрочем, как свидетельствует друг А. Рудермана Я. Басин, первоначально Рудерман желал лишь сделать праздничный фильм к 100-летнему юбилею М. Шагала; в скандал затея превратилась тогда, когда на студии заявку А. Рудермана заблокировали с формулировкой «если мы о каждом эмигранте будем картины снимать…»[359]. Документалист принял решение делать кино вопреки воле начальства и за свой счет. Выбрал название: «Театр времен перестройки и гласности».
«В фильме есть замечательная по точности фраза одного из персонажей, заместителя директора Белорусской советской энциклопедии. Он принимал решение по одному вопросу, который косвенно касался Шагала. И этот чиновник, обращаясь к суду, говорил: “Не мы же решаем!”» – вспоминал в 1991 г. Рудерман. «Вот как, например, говорит об этом с простодушной улыбкой режиссеру народный заседатель, принимавший участие в рассмотрении дела Шиленковой[360]: “Судье позвонили… Ну а что ему делать? У него ведь дети… Жить надо…”» – пересказывают фрагмент фильма С. Букчин и Ю. Градов. Впоследствии, уже в нулевые, эти фразы – «а что ему делать? Жить надо» и «не мы же решаем» – трансформируются в более емкое постулирование, характерное, кажется, не только для современной Беларуси, но для всего того пространства, на котором когда-то был СССР. Это фраза «Вы же сами понимаете». Ей объясняют действия очевидно подлые по сути, не имеющие никакой внятной мотивировки, но неизбежные для совершающего в результате объективации его карьерных или житейских страхов.
Дальше с фильмом А. Рудермана начало происходить то же самое, что накануне происходило с М. Шагалом: «…пленку с фильмом на студии после просмотра по команде руководства изъяли – извлекли непосредственно из проекционного аппарата…»[361], режиссер пригрозил директору обращением в милицию, и тогда коробки вернули в монтажную. Однако «…исходные материалы фильма были, тем не менее, арестованы, и Аркадий уже сам был вынужден их выкрасть со склада киностудии и ближайшим поездом вывезти в Москву»[362].
В Москве, напомним, в 1987–1988 гг. была уже совсем другая эпоха. Материалы, привезенные А. Рудерманом, получили специальный приз на I Всесоюзном фестивале документальных фильмов в Свердловске, а осенью 1988 г. были показаны по второй программе Центрального телевидения в передаче «На перекрестках мнений»[363]. Казалось бы, демонстрация по ЦТВ – это полная реабилитация, но в БССР к нашумевшему в России фильму продолжали относиться особенно: худсовет «Беларусьфильма» картину не принял, А. Рудерману пришлось уволиться со студии[364]– это была вторая за год отставка «из-за Шагала».
Группа белорусских интеллигентов – кандидаты филологических наук, лауреаты госпремий – описали эту ситуацию в письме для «Советской культуры», в котором констатировали, например, что «непризнание всемирно известного художника-гуманиста Марка Шагала на его родине стало поистине “делом жизни” для некоторых наших бойцов идеологического фронта»[365]. За фильм вступился председатель Центральной ревизионной комиссии Союза кинематографистов СССР А. Симонов, назвавший картину «талантливой». Он озвучил официальные претензии к ней, воспроизводившиеся «Беларусьфильмом»: фильм – «неэтичный», а кроме того, он сделан «не по сценарию». На первую претензию А. Симонов возразил: «Обвинять Рудермана в нарушении профессиональной этики по отношению к его герою – все равно что обвинять зеркало, что у тебя нечищеные ботинки»[366]. На вторую ответил так: «Все отлично знают, что сценарий док. фильма есть не что иное, как направление поиска, обозначение болевых точек материала»[367].
Но, несмотря на это, Рудерману не только не дали доделать его кино, но даже отказались выслать в Москву по запросу Госкино отснятые материалы: «…директор студии “Беларусьфильм” на нашу просьбу показать материал картины “Театр времен перестройки и гласности” заявил, что такой картины на студии нет. И в выступлении на секретариате подтвердил свое право показывать или не показывать продукцию своей студии “заезжим эмиссарам из Москвы”»[368]. Снова, как и 70 лет назад, мы видим конфликт местных властей, которые «против Шагала», и Москвы, в которой Шагала пытаются защищать.
Фильм так и не удалось спасти – его постигла ровно та же участь, что и витебские картины нашего главного героя. В 1991 г. Рудерман пояснял: «Фильма ведь как такового нет. Мне его закончить не дали. В Свердловске я показывал “материалы к фильму”… У меня теперь осталась только одна, подслеповатая от сотен просмотров, видеокопия»[369]. Сам режиссер погиб через год после этого интервью: в 1992 г. он поехал в Таджикистан снимать фильм о происходившей там войне по заказу студии «Политика» телекомпании «Останкино», на которую работал после увольнения с «Беларусьфильма». По дороге из Нузрека в Душанбе, на перевале Каскадов (Шар-Шар) 22 сентября[370]его машина влобовую столкнулась с шедшим навстречу транспортом. В этой аварии была всего одна жертва: А. Рудерман. Версия о политическом убийстве высказывается в статьях о Рудермане до сих пор.
Вряд ли, впрочем, его ликвидировали из-за Шагала: в Душанбе тех времен было достаточно своих причин для устроения случайной катастрофы, а режиссер продолжал активно интересоваться вещами, интересоваться которыми было опасно. Рано или поздно его пришлось бы кому-то остановить.
Вы же сами понимаете.
И моя история о М. Шагале
В 1999 г. я окончил БГУ и поступил в аспирантуру. «С отрывом от производства», – подсказывает мне сохранившаяся переписка тех времен. Научным руководителем у меня была завкафедрой литературно-художественной критики БГУ Л. Саенкова – человек мудрый и опытный. Она предложила мне разрабатывать тему «Витебской школы», так как считала, что это важно было тогда, в начале нулевых, когда первые неуверенные статьи на эту тему только-только начали появляться в специализированных журналах, а сам термин еще не устоялся и вызывал полемику. За эту идею, за погружение в мир Витебска 1918–1922 гг. я безмерно благодарен Людмиле Петровне.
В течение трех последующих лет я сдал все необходимые экзамены и опубликовался во всех требуемых для добропорядочного аспиранта «братских могилах», как называют сборники научных трудов, материалы конференций и рецензируемые журналы.
Дело шло к защите: тема, утвержденная научным советом факультета и прошедшая многочисленные согласования в университетском отделе аспирантуры, казалась актуальной (иначе я не получал бы аспирантскую стипендию все эти годы), мой личный вклад в нее никто не оспаривал. Я работал над авторефератом, мы обсуждали банкет, место и размах проведения которого в защитах такого рода, когда наделяется званием бывший отличник, едва ли не главная интрига во всей процедуре.
Прошло обсуждение текста на совете факультета, определялись оппоненты и состав комиссии. И вот тут все вдруг начало буксовать. Я видел их колебания, чувствовал неуверенность, но не мог понять ее причины. Мне вдруг предложили поменять постраничные сноски на концевые, с квадратными скобками. Я ковырялся в ссылках, заново выстраивал список литературы и начинал волноваться. Мой простой и понятный мир приобретал пугающее дополнительное измерение, в котором некие невидимые мне люди принимают невидимые решения, от которых зависит моя судьба. Я не слышал всего этого: ни телефонных звонков, ни того, как Шагала ругали, ни того, как за меня заступались. Все эти мелкие факультетские драмы разворачивались под землей, там, где текут советские реки страха, которыми пропитана земля любой республики, входившей когда-то в СССР.
Университет должен был назначить дату защиты. После того как текст утвержден на научном совете, это является чистой формальностью. Но мою защиту так и не назначили.
Никогда.
И. Шиленкову уволили не из-за Шагала, а из-за того, что она не прошла аттестацию.
Фильм А. Рудермана изъяли и положили на вечное хранение в запасники не из-за Шагала, а из-за того, что он сделан без сценария и неэтичен.
Я не защитил кандидатскую по «Витебской школе» в Беларуси не потому, что она была плохой, а потому, что не дождался даты ее защиты.
Был, конечно, искренний разговор с коллегами. Они жаловались на то, «что так, как сейчас, не было даже при Советах», и сказали, что не могут предложить мне остаться преподавать на кафедре. «Ты же сам все понимаешь», – сказали они.
Я не понимал тогда, не понимаю и теперь: что случилось в 2003-м? Кому-то наверху не понравился Шагал? Или не понравился я? Или то, что я интересовался Шагалом? Звонили из ректората? Из КГБ? Из журнала «Политический собеседник»? Из 1987 г.? Звонил нарком Луначарский? В. И. Ленин? В. Бегун? Я не стал поднимать скандал, подавать в суд, как И. Шиленкова, писать в газеты, как А. Рудерман. Я просто тихо ушел.
Теперь я благодарен судьбе за то, как все сложилось. Я уехал в Вильнюс, нашел в Литве добрых друзей, которые помогли начать все почти с нуля: снова сдать экзамены, опубликоваться в европейских «братских могилах» уже на английском и литовском. «А сноски нужны постраничные или в квадратных скобках?» – волновался я. «В Литве это непринципиально. Главное – единообразие». – «А где будем проводить банкет?» – Они смеялись.
Я стал первым преподавателем Европейского гуманитарного университета, имевшим внешнюю защиту в Литве. На это мероприятие в древних залах Академии искусств Вильнюса собралась внушительная толпа, приехали специалисты из Витебска, в комиссии работал многократно упомянутый в этом тексте исследователь-первопроходчик витебской темы А. Лисов.
Эта книга – завершение истории, начатой в 2003 г. в душном кабинете старого университетского корпуса БГУ на ул. Московской. Истории, запущенной фразой «ты же сам все понимаешь».
Страх – чувство индивидуальное. Перестать бояться очень сложно, но еще сложнее – жить под одеялом страха всю жизнь. Мы боимся постоянно: смерти, старения и болезней; боимся за себя, за своих родителей и детей. Но как только страх – любой страх – становится главным мотивом поступков, он влечет за собой зло и подлость.
Шагал плакал бы куда меньше, если бы люди в его родном Витебске не боялись.
Эпилог. Признание
Последняя разгромная статья про М. Шагала в белорусской официальной газете появилась в 2002 г., когда я самозабвенно «финализировал» текст диссертации. Возможно, мне нужно было тогда меньше читать газеты 1920-х гг. и внимательнее читать газеты современной мне Беларуси, меньше бы удивлялся. Автор новой порции разоблачений был в тот момент человеком с очень серьезной должностью и общественным весом. Против Шагала выступил главный редактор «Информационного вестника Администрации президента» писатель Э. Скобелев: «…если я добавлю, что для меня фигура М. Шагала совершенно неприемлема даже и в морально-политическом плане, меня обвинят в том же самом [антисемитизме]. И что толку доказывать, что М. Шагал разворовывал народную собственность, как об этом было подробно рассказано российской прессой, избавлял от службы в Красной Армии сотни единоверцев, с которых за свои “справки” еще и лупил “комиссионные”? М. Шагал не эмигрировал, – он смылся от неминуемого уголовного наказания»[371], – заключает Скобелев. Дальше он объясняет истинную подоплеку международной славы М. Шагала: «А то, что он купил подряд, дав хорошую взятку, и “украшал” известные залы в Европе, – это еще ничего не говорит с точки зрения искусства. Надо было хорошо кормиться, и он кормился». Интересно, какую взятку и кому нужно дать, чтобы тебя пустили расписывать плафон Opéra Garnier в Париже? И много ли после такой взятки оставалось на «кормление»?
Выступления, звучавшие из уст постаревших врагов Шагала в разрозненных и редких интервью середины нулевых, были уже не так мощны, как критика поздних 1980-х: само появление этих людей в публичном пространстве стало редкостью, они теряли силу и влияние. Их слова больше не оставляли ощущения непробиваемой стены, подпертой силой некой незримой глазу системы. Их эпоха кончалась, история готовилась сделать очередной поворот.
Что интересно, «реабилитация» художника произошла на родине тихо и не была вызвана крупными политическими сдвигами, такими, например, как перестройка и гласность, сделавшими возможной первую после 1973 г. выставку в Москве. Власть в Беларуси не менялась с 1994 г., как не менялся глобально и политико-идеологический курс: страной управлял все тот же президент, последовательно выстраивающий социальную модель, основанную на сохранении советского патернализма, консервации советской идентичности, укоренении советских исторических мифов.
Шагала «легализовало» время: начали один за одним умирать от старости влиятельные преследователи, занимавшие некогда ключевые посты в науке и номенклатуре. Их дети, как правило успевшие поучиться за границей, погулявшие по музеям Западной Европы, были носителями уже совсем иных взглядов. На полотнах Шагала они видели не «перевернутого Ленина в цирке», не «сионизм» и «антисоветчину», а наивный мир детского сна, пронзительность цветовых сочетаний, причудливость пластики. Словом, эти молодые белорусы воспринимали мир примерно так же, как среднестатистический немец или француз. Возможно, им даже было стыдно за слова и дела отцов.
Параллельно с этим тихо, по капле, ослабевшую стену запретов подтачивали витебские и столичные энтузиасты. О том, как «разрешали Шагала» в период с 1991 по 2012 г., можно было бы написать книгу, по размеру сопоставимую с этой. Но, что характерно, в двух очевидно этапных моментах процесса легализации художника были задействованы явно внешние по отношению к Витебску и всей Беларуси силы.
Первый важный сдвиг произошел в 1999 г. К этому моменту горисполком уже согласился передать Дому-музею М. Шагала здание по ул. Покровской, в котором жил живописец в детстве. Но дом на бывшей Бухаринской, ныне ул. Правды, 5а, тот самый легендарный дом, который стал цитаделью авангарда в городе, дом, из которого Шагала выселяли предписанием для того, чтобы освободить площади под музей, – так вот, этот уникальный дом, чудом сохранившийся во время Второй мировой, никто и не думал сохранять.
Его могли снести, отремонтировать, перестроить в любой момент – такова уж особенность нового капитализма постсоветских стран: в разговоре девелопера с исполкомом соображения исторической ценности всплывают в самый последний момент, если всплывают вообще. Людям, хранящим память о Шагале в Витебске[372], потребовалось четыре года на то, чтобы добиться создания Дома-музея на ул. Покровской: первый призыв на эту тему прозвучал в «Огоньке» в 1987 г. из уст А. Вознесенского, под музей власти согласились отдать дом только в сентябре 1991 г.
Теперь, в 1999 г., в условиях суверенной Беларуси, уже невозможно было апеллировать к московским авторитетам, привлекать на свою сторону Советский фонд развития культуры – любое мнение России и бывшего центра на этот счет для местных властей было бы пустым звуком. И вот что придумали витебские интеллектуалы тогда: на собственные средства они изготовили памятный знак, простую металлическую табличку коричневатого цвета. Она сообщала: «В этом здании находились: 1918–1920 – Высшее народное художественное училище. 1920–1922 – Мастерские УНОВИС. 1920–1922 – Свободные художественные мастерские. 1922–1923 – Художественно-практический институт». Они могли ее просто повесить на дом, но это очевидно не защитило бы его помнящий властные шаги К. Малевича паркет от уничтожения, а сам особняк – бывшие апартаменты Израиля Вульфовича Вишняка – от перепланировки или даже сноса за «ветшанием». В Минске в эти годы был «перепланирован» весь исторический центр: дома XVIII–XIX вв. по ул. Интернациональной, Революционной и Немига заменялись выполненными из бетона субстратами, к которым современные архитекторы, сообщавшие им «состаренный» вид, забывали приделывать печные трубы – их память оказалась настолько короткой, что они не могли вспомнить, что в XIX в. дома согревались не батареями с горячей водой, а все-таки печами, требующими дымоходов.
Были все шансы на то, что табличку витебским энтузиастам просто не дадут повесить: законодательство Беларуси требует согласования любых действий по увековечиванию памяти с местными властями. Итак, они пошли ва-банк – разослали факсы, приглашающие на открытие памятной доски в Витебск всех иностранных дипломатов, аккредитованных в Беларуси. Неизвестно, на что они надеялись. Может быть, на то, что приедет какой-нибудь советник по культуре из Индии и при нем милиция постесняется «вязать» желающих увековечить Народное художественное училище.
Намеченная дата открытия таблички приближалась, было непонятно, насколько жестко власти настроены предотвращать «порчу фасада». Как показывает 1987 г., у витебской номенклатуры имеется опыт запретов, налагаемых в самый последний день. И вот за несколько дней до намеченного открытия таблички авторам «провокации» вдруг начали звонить из Минска, из посольств: «Чрезвычайный и полномочный посол Франции будет рад принять участие в церемонии открытия доски»; «Чрезвычайный и полномочный посол Германии почтет за честь приехать в Витебск для открытия памятного знака, посвященного школе, где преподавал Шагал».
«Вся улица была заставлена лимузинами с дипномерами и флагами иностранных держав. Приехали, кажется, вообще все дипломаты, аккредитованные в Беларуси. Местные чиновники перепугались – они никогда не видели такой представительной кавалькады в городе. Тогда стало понятно: что-то переломилось. Причем – навсегда», – рассказывает нам Роман, очевидец тех событий.
Здание благодаря дипломатам, явившимся на открытие таблички, отдали под музей – ничего иного просто не могло произойти по итогам такого представления. В 2015 г. там должен закончиться ремонт, после чего откроется экспозиция, увековечивающая детище, созданное М. Шагалом. Лестница на второй этаж, у выхода из которой находился шкаф, где Шагал прятал свои холсты, а неблагодарные ученики таскали их, чтобы разорвать, загрунтовать по новой и замалевать, к сожалению, не сохранилась. Но сами стены тут настолько пропитаны страстями, кипевшими в Витебске в 1920-х, что достаточно просто постоять с закрытыми глазами, чтобы услышать, как бьются крыльями о закрытые окна испуганные агрессией пролетарской толпы шагаловские попугаи. Они все тут – арлекины, ослы, зеленые коровы, летающие влюбленные: ведь всех их, воспроизводимых во Франции и Америке до самой смерти, Шагал придумал тут, именно тут.
Ему было тяжело, но воображение подхватывало на руки и несло в волшебную страну, где не было ни мордастых комиссаров, ни ветреных учеников, ни учителей-предателей, ни концентрации заказов, ни даже Общества им. И. Л. Переца. Персональный рай, причем не важно – гения ли, обычного ли человека, – место, достойное посещения массами. Быть может, кто-то почувствует хотя бы отблеск того света, который наполнял тут поносимого и преданного всеми гения.
Вторым важным для возврата памяти о Шагале моментом была выставка «Художники Парижской школы родом из Беларуси», которую Национальный художественный музей запустил в сентябре 2012 г. и на которой впервые за все времена была выставлена картина (не литография, не офорт) М. Шагала[373]. Картину «Влюбленные» (1981) тогда же, в 2012 г., приобрел для корпоративной коллекции «Белгазпромбанк» на аукционе Christie’s за 650 тысяч долларов. Впоследствии коллекция была пополнена еще несколькими большими покупками, в т. ч. в технике «холст, масло», каждая из которых публично экспонировалась. «Возврат Шагала на родину», предпринятый российским банком, близким к кремлевскому «Газпрому», был явным имиджевым шагом, совершенным в пиар-парадигме social responsibility of business. Но именно это приобретение, а также выставка и информационная кампания, организованная «Белгазпромбанком» в больших медиа, стали той последней каплей, которая окончательно изменила отношение к художнику на родине.
Массы наконец получили возможность видеть его пронзительные цвета, его нервную, тревожную линию, беспокойные контуры его фигур.
Заключение
Слово, вынесенное в заглавие этой книги, встречается в витебской публицистике Шагала лишь один раз. «Наконец мы опять на своей убогой родине»[374], – пишет художник, старательно не выделяя его большой буквой. Это бодрое вступление открывает его малоизвестную статью из «Витебского листка» (январь 1919 г.), найденную нами в фонде редкой книги президентской библиотеки и процитированную до этого трижды по куда менее интересным поводам. Маэстро жалуется, что к вечеру ему приходилось возвращаться в номер и оставаться «в темноте», так как «убогая родина» не смогла выделить художнику ни свечей, ни электричества.
Выводы здесь должны были стать попыткой оправдать эту убийственную ремарку, а также тот город и ту страну, которые теперь за ней стоят.
Каждое из начинаний, за которое брался Шагал в Витебске, заканчивалось неудачей. Оформление революционной годовщины осудили, попытку объединить художников в артель назвали цензурой, учеников увели, музей разграбили. Непонятость Шагала в момент его жизни в Витебске была понятной, ведь все вокруг разделяли мнение, что он непонятен. После его успеха в Париже эта же непонятность стала травмой для непонимающих. Это помогло городу поскорее забыть о нем. Нужно осознавать, что Шагала осуждали не только партийные органы, не только в Витебске и не только в 1980-х, и разговоры на «реабилитационной» выставке в 2012-м в Минске были поистине интересны. Нужно осознавать, что защищали его всегда единицы, а статьи из «Политического собеседника» находили горячее одобрение у читателей. Это сюжет не об отношениях художника и власти, это сюжет об отношениях художника и родины.
Гений не может быть признан в провинции, так как ее культурный уровень от культурного уровня метрополии отделяет пропасть. Художник может состояться либо в Париже, либо в губернии: в первом случае его жизнь в губернии будет неблагополучной и трагичной, во второй его появление в Париже будет встречено недоумением. Надежды на глокальность в данном случае могут не оправдаться, так как она не гомогенизирует культурный уровень сред, которые сталкивает лбами.
Вообще же даже в эпоху глокальности провинция с ее невключенностью в систему унифицированного культурного производства является ресурсом для возникновения новых, исключительных типов образности. А потому появление гениев шагаловского типа – превозносимых на чужбине и порицаемых соотечественниками – неизбежно.
«Легализация» такого художника в глазах сограждан – дело, требующее не только времени (т. е. момента, когда кубизм или экспрессионизм перестанет вызывать в провинции шок), но и привлечения сугубо внешних факторов, например проникновения явных атрибутов успешности данного художника в глубь провинциальной среды (как мы видим, перепечатка критической статьи Луначарского в местной прессе несильно помогла восприятию М. Шагала как знаменитости, но приезд кавалькады лимузинов дипкорпуса стал явным признаком того, что М. Шагал действительно не был шарлатаном).
При этом кейс памяти о Марке Шагале разительным образом отличается от кейсов Нико Пиросмани в Грузии или Микалоюса Чюрлёниса в Литве: второй и третий были апроприированы новыми грузинскими и литовскими элитами, первый же остался маргиналом и в нарождающейся независимой государственной системе. Конечно, полная исключенность памяти о Шагале из искусствоведческого дискурса в БССР делает его случай несопоставимым со случаями Чюрлёниса и Пиросмани: у них все-таки были музеи, улицы, их именами называли школы, про них говорили, писали, их исследовали, ими гордились. Шагал же был неудобен как советским управленцам, так и тем, кто с ними боролся. Русскоязычный еврей из Витебска не очень подходил на роль антисоветской иконы национального фронта. К тому же председатель первого независимого сейма Литвы Витаутас Ландсбергис оказался большим специалистом по Чюрлёнису, защитившим в 1969 г. кандидатскую диссертацию о его музыке. Человек, обладавший знанием о том, что колокольня из цикла «Весна» М. Чюрлёниса очень удачно подходит для означивания обновленного литовского общества, был близок к кругам, принимающим решения. Кадровый состав президиума белорусского Верховного совета в 1990-м был далек от искусствоведения.
Наконец, в результате событий конца 1990-х, в результате той мягкой люстрации, которая происходила если не в политике, то в сознании соседних с БССР стран, там начало актуализироваться несколько иное прошлое, нежели та его версия, которая предлагалась в книжках Гайдара и пионерских линейках. События Гражданской войны, раскулачивание, репрессии, Бунин, Набоков, эмиграция – все это представало в новом свете. Беларуси эта мягкая люстрация с ее переозначиванием героев не коснулась. Памятник Дзержинскому тут до сих пор стоит нетронутым. Прошлое для жителей этой страны вплоть до поздних нулевых состояло из надежно отлитых в 1950-х мифов, которые лишь укреплялись патерналистской идеологией, Музеем войны и гордостью за крупное промышленное производство. Тот волшебный мир, к которому отсылали первые робкие вернисажи Шагала, просто не существовал в массовом сознании, память которого о послереволюционных годах по-прежнему зиждилась на избах-читальнях, вредных кулаках и фильмах вроде «Неуловимые мстители».
Кроме того, к середине 1990-х в других постсоветских странах наряду со сложившимися пантеонами советских героев начали возникать новые имена, своего рода постсоветские «иконостасы» из реабилитированных персоналий, которых открывали заново. Археология знаний стала очень актуальна. В культуре Беларуси на плаву оставался набор фамилий, сложившийся еще при И. Сталине, а антисоветские поэты Лариса Гениюш и Наталья Арсеньева находятся под запретом до сих пор (первая запятнала себя отсидкой и связями с эмиграцией, вторая, написавшая неформальный гимн Беларуси «Магутны Божа», сотрудничала с фашистами и за это выведена за пределы памяти).
При этом, думается, Шагал мало что потерял. Характер провинциальной славы так же примитивен, как и характер травли в губернии. Про сделанные из дырчатой сетки репродукции картин Шагала в окнах витебских заправок[375]мы уже упоминали. Вместе с тем трансформация языка и образности, пережитая в результате непризнания, вписывается в творческую биографию навсегда.
Поэтому огромное спасибо Витебску, месту, которое зовется загадочным словом родина, за то, что он подарил Шагалу несчастья, а нам – Шагала.
Иллюстрации
1. «Дом с мезонином» по адресу ул. Гоголевская, 1. Фотография предоставлена Р. Вороновым. Сюда в рисовальную школу ходил юный Марк. Здание снесено в 1960-х. 1940-е гг.
2. Район Задвинья, где размещался дом Шагалов. Фотография предоставлена Р. Вороновым. В хрестоматийной фразе «Марк Шагал родился в Витебске 6 июля 1887 года» первое и второе слово прямо неверны, четвертое слово долгое время являлось предметом споров, которые не утихли до сих пор (то есть ошибки случаются в изданиях самых последних лет).
3. Задвинье. Фотография предоставлена Р. Вороновым. Причина, по которой уважаемые авторы, один за другим, совершают ошибку, отправляя Шагала рождаться в Лиозно, заключается в том, что Лиозно называет местом рождения маэстро «Большая советская энциклопедия».
4. Марк Шагал и Александр Ромм в Париже. 1911. «Принц и нищий», «денди и бродяга», «богач и бедняк»: таким был внешний расклад.
5. Ю. М. Пэн. Портрет Марка Шагала. 1914. Национальный художественный музей Республики Беларусь. Таким виделся будущий «комиссар искусств» витебской среде.
6. Витебск. Гостиница Брози. Открытка. Начало ХХ века. В этом здании жила семья Розенфельдов когда Белла познакомилась с Марком Шагалом.
7. Ильинская и Покровская церкви недалеко от дома Шагалов // А.П. Сапунов. Церковь во имя св. пророка Илии в г. Витебске. Витебск: Губернская типолитография, 1904 г. Фотография предоставлена Владимиром Горидовцом, . Оба храма не раз попадали на полотна мастера. Не сохранились.
8. Ю. М. Пэн. Портрет И. Туржанского. Национальный художественный музей Республики Беларусь. Портрет дает представление о том стиле, который считался мэйнстримом в Витебске в конце 1910-х.
9, 10, 11. Кадры из хроники «Кинонеделя», вып. 25, 25 ноября 1918 г. Режиссер, составитель – Дзига Вертов. Производство: Кинематографический комитет Народного комиссариата просвещения. Из хранилища «Фильммузея»: -mode=active). Неизвестно, к годовщине какой именно революции готовился художник и чиновник Марк Шагал, но явно не только к той, которая была устроена в Петрограде вооруженными большевиками.
12. «Витебский листок» за 8 января 1919, публикация М. Шагала «Художественные заметки». Фонд старопечатных и редких изданий Президентской библиотеки Республики Беларусь.
13. Вход в кинотеатр Красной армии, бывшую «Холодную» синагогу на Суворовской улице (ранее – Узгорская). 1932 г. С 1923 года тут были устроены помещения Витебского художественного техникума, наследника ВНХУ после отъезда авангардистов. Фотография предоставлена Р. Вороновым.
14. Преподаватели Витебского народного художественного училища. Витебск, 26 июля 1919 г. Витебск, 1919 г. Неизвестный фотограф.
15. Воспитанники и преподаватели Витебского народного художественного училища. 1920 г. Сопоставление фотографий позволяет выявить изменение расклада сил в управлении Народным художественным училищем. На снимке 1919 г. по правую руку от Шагала сидят Эль Лисицкий, В. Ермолаева, по левую – Д. Якерсон, Ю. Пэн, Н. Коган, А. Ромм. На фото, сделанном на годовщину училища, в 1920-м, В. Ермолаева сидит по правую руку от К. Малевича, рядом с Шагалом – Д. Якерсон (скоро он войдет в УНОВИС) и Ю. Пэн. Неизвестный фотограф.
16. Эль Лисицкий. Обложка книги Андерсен Г. – Х. Сказочки. Пер. Дер Нистер; обложка – Эль Лисицкий / Andersens mayselakh: Mit 30 ilustratsies / H. Andersen; Yidish – Der Nister. Киев, 1919. РНБ. Лисицкий прибыл в Витебск в мае 1919 г. и был категорически не похож на ту иконическую для русского авангарда персону, которую мы знаем по поздним фотографиям… В мае 1919 г. в Витебск приехал приятель Шагала, деятель еврейского искусства, интересовавшийся этнографией, фольклором и национальным ренессансом.
17. Эль Лисицкий. Проун.1922. Collection Van Abbemuseum, Eindhoven, Teh Netherlands.
18. Коллективный портрет УНОВИС перед отправлением преподавателей и учащихся на выставку в Москву. Июнь 1920. РГАЛИ. Попробуйте найти на этой фотографии фигуру Марка Шагала.
19. Неизвестный фотограф. Марк Шагал в своей мастерской в Малаховке пишет эскиз к панно «Введение в еврейский театр» для оформления Государственного еврейского камерного театра. 1920 г. Фотография предоставлена А. Юдашкиной.
20. Н. Ходасевич-Леже. Марк Шагал. Мозаичное панно. ©Леже Надя / ADAGP (Париж) / РАО (Москва) / 2016. Центр культуры агрогородка Зембин Борисовского района минской области, Беларусь. Фото В. Мартиновича. Панно было подарено автором СССР в 1972-м году и, по причине в т. ч. спорного статуса портретируемого, было выслано из Москвы в БССР. Изображение по сей день хранится в крохотном зале Центра культуры агрогородка Зембин (население – 700 жителей).
21. Вынос репродукции картины Марка Шагала «Над городом» в составе колонны Витебского горисполкома во время театрализованного шествия и парада на День независимости 3 июля 2014 года. © Фото С. Гудилина. При этом характер «провинциальной славы» так же примитивен, как и характер травли гения в губернии.
22. Мемориальная доска на доме по адресу: ул. газеты Правда, 5а (быв. Бухаринская, 10). Портал TUT.BY. В этом здании располагалось Народное художественное училище. Открытие этой доски превратилось в большой стресс для городских властей.
23. Торжества по случаю 100-летия свадьбы Марка Шагала и Беллы Розенфельд в Витебске. Фото И. Матвеева. Портал TUT.BY. Подъемные краны нужны, чтобы поднимать в небо ангелов.
Литература
Абакумовская, Т. Возвращение мастера: Марк Шагал / Т. Абакумовская // Рэспублiка. 1992. 8 июля. С. 3.
Абрамский, И. Это было в Витебске / И. Абрамский // Искусство. 1964. № 10. С. 64–77.
Адамович, А. Оглянись окрест / А. Адамович // Огонек. 1988. № 39. С. 28–30.
Адаскина, Н. П. Художественная теория русского авангарда: К проблеме языка искусства / Н. П. Адаскина // Вопр. искусствознания. 1993. № 1. С. 20–30.
Акудовіч, В. Вандэя / В. Акудовіч // Слоўнік Свабоды. Мінск: Логвінаў, 2012.
Альтман, Н. Футуризм и пролетарское искусство / Н. Альтман // Искусство коммуны. 1918. 15 дек. С. 2.
Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс, 2001. 288 с.
Анисимов, Г. Приезд Шагала. 80 лет назад великий художник покинул Россию, тогда ему казалось, что навсегда / Г. Анисимов // Культура. 2002. 12 авг. С. 12.
Апчинская, Н. С. Марк Шагал: графика / Н. С. Апчинская. М.: Совет. художник, 1990. 222 с.
Арватов, Б. И. Изобразительные искусства / Б. И. Арватов // Печать и революция. 1922. № 7. С. 141–142.
Арватов, Б. И. Пути пролетариата в изобразительном искусстве / Б. И. Арватов // Пролет. культура. 1920. № 13–14. С. 67–77.
Аркин, Д. Вещное искусство / Д. Аркин // Художеств. жизнь. 1920. № 4–5. С. 6.
Балашова, Т. П. Многоликий авангард / Т. П. Балашова // Сюрреализм и авангард: Материалы рос. – франц. коллоквиума, состоявшегося в Ин-те мировой лит. / Редкол.: С. А. Исаев [и др.]. М.: ГИТИС, 1999. С. 22–33.
Басин, Я. Театр абсурда советских времен / Яков Басин [электронный ресурс]. Режим доступа: . Дата доступа: 27.08.2014.
Бахтин, М. М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. М.: Художеств. лит., 1990. 541 с.
Бегун, В. Украденный фонарь гласности / В. Бегун // Полит. собеседник. 1987. № 1. С. 20–21.
Белков, А. К. Большевистская печать в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства / А. К. Белков. М.: Тип. Высш. партийн. шк., 1950. 31 с.
Белков, А. К. Партийная и советская печать в годы установления народного хозяйства (1921–1925) / А. К. Белков. М.: Тип. Высш. партийн. шк., 1956. 175 с.
Белорусское искусство. Библиографический справочник. Изобразительное искусство. Живопись / Сост. В. Дышиневич. Минск: Сектор искусства, 1965. 183 с.
Бенефис И. Миндлина // Витеб. листок. 1919. 15 мая. № 1214.
Бенуа, А. Последняя футуристическая выставка / А. Бенуа // Речь. 1916. 9 янв. С. 2.
Бенуа, А. Революция в художественном мире / А. Бенуа // Новая жизнь. 1917. 14 мая. С. 3.
Березов, В. Письмо в редакцию / В. Березов // Вечерняя газ. (Витебск). 1921. 21 сент. С. 2.
Бобринская, Е. А. Футуризм / Е. А. Бобринская. М.: Галарт, 2000. 192 c.
Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. М.: Добросвет, 2000. 364 c.
Борецкая, М. О художественных недоносках / М. Борецкая // Коммунар. 1919. 20 апр. С. 2–3.
Б. Р. В-вов. Вид города / Б. Р. В-вов // Изв. губерн. Совета крестьян., рабочих, солдат. и батрац. депутатов и Витеб. революцион. Совета солдат. и рабочих депутатов. 1918. 9 нояб. С. 1.
Брик, О. М. Наш долг / О. М. Брик // Художеств. жизнь. 1919. № 1. С. 3–4.
Брик, О. М. Художник и Коммуна / О. М. Брик // Изобразит. искусство. 1919. № 1. С. 25–26.
Брик, О. Дренаж искусству / О. Брик // Искусство коммуны. 1918. 7 дек. С. 1.
Брик, О. Художник-пролетарий / О. Брик // Искусство коммуны. 1918. 15 дек. С. 1.
Бубновый валет // Вечерние новости. 1917. 14 окт. С. 4.
Булацкий, Г. В. Печать Белоруссии в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства республики (1935–1937) / Г. В. Булацкий. Минск: Белорус. гос. унт, 1960. 68 с.
Бурлюк, Д. Виктор Никандрович Пальмов / Д. Бурлюк // Нова Генерацiя. 1929. № 10. С. 54.
Бычков, В. В. Византийская эстетика / В. В. Бычков. М.: Наука, 1977. 321 с.
Вiцебскi рабочы: 80 год / Рэд. абл. газ. «Вiцеб. рабочы»; рэд. – склад. У. Р. Скапа. Вiцебск, 1997. 223 с.
Вознесенский, А. Гала-ретроспектива Шагала / А. Вознесенский // Марк Шагал. Каталог выставки. М., 1987. С. 10–21.
Вознесенский, А. Гала Шагала / А. Вознесенский // Огонек. 1987. № 4. C. 12–24.
Войтеховская, О. В. Изобразительное искусство Беларуси: Живопись 20–30 годов 20-го столетия / О. В. Войтеховская // Нар. асвета. 1995. № 5. С. 58–66.
Воронин, И. Редакционная почта / И. Воронин // Полит. собеседник. 1987. № 1. С. 20.
Выставка Ольги Розановой // Искусство. 1919. 22 февр. С. 2–3.
Гаврис, И. Образное искусство в Витебске (начало и конец первого 10-летия Октябрьской Революции) / И. Гаврис // Витебщина. 1928. № 2. С. 168–173.
Ганичев, В. Н. Боевой опыт комсомольской печати (1917–1925) / В. Н. Ганичев. М.: Моск. рабочий, 1973. 208 с.
Герман, М. У. Марк Шагал: ранний период / М. У. Герман, С. Форестье. СПб.: Аврора, 1996. 188 с.
Гласность есть правда / М. Савицкий [и др.] // Полит. собеседник. 1987. № 5. С. 24.
Гололобов, А. Письмо в редакцию / А. Гололобов // Полит. собеседник. 1987. № 5. С. 24.
Горнфельд, А. П. Новое искусство и его идеология / А. П. Горнфельд // Лит. зап. 1922. № 2. С. 5–6.
Городская жизнь // Изв. губерн. совета крестьянских, рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. 16 нояб. С. 2.
Грилин, Г. Музыка для буржуазии / Г. Грилин // Витеб. листок. 1919. 3 янв. С. 2.
Грилин, Г. Право на одиночество / Г. Грилин // Витеб. листок. 1918. № 1059. 7 дек. С. 2–3.
Грилин, Г. Уголок культуры в Витебске / Г. Грилин // Витеб. листок. 1919. 30 янв. С. 2.
Грилин, Г. Футуризм и пролетариат. По поводу митинга-диспута об искусстве / Г. Грилин // Витеб. листок. 1919. 11 февр. С. 2.
Грилин, Г. Футуризм и революция / Г. Грилин // Витеб. листок. 1919. 1 марта. С. 2.
Гугнин, Н. Из истории Витебской художественной школы // Шагаловский сб.: Мат. I–V Шагаловских дней в Витебске (1991–1995). Витебск: издатель Н. А. Паньков, 1996. С. 101–115.
Деятелям искусств // Правда. 1917. 11 марта. С. 4.
Диспут союза художников нового искусства // Искусство. 1919. № 3. С. 3.
Дорошевич, А. Н. Авангардизм / А. Н. Дорошевич // Краткая литературная энцикл.: В 9 т. / Гл. ред. А. А. Сурков. М.: Совет. энцикл., 1978. Т. 9. С. 24.
Дробов, Л. Н. Живопись Белоруссии XIX – начала XX в. / Л. Н. Дробов. Минск: Наука, 1974. 357 с.
Евсевьев, М. Ю. Из истории художественной жизни Петрограда в 1917 – начале 1918 г. / М. Ю. Евсевьев // Проблемы искусствознания и художеств. критики. 1982. № 2. С. 148–182.
Егоров, И. М. Казимир Малевич / И. М. Егоров. М.: Знание, 1990. 56 с.
Заборов, М. Букет изгнаний. О художнике Марке Шагале / М. Заборов // Белоруссия. 1995. 9 дек. С. 8.
Зарницын, А. Издевательство над революцией / А. Зарницын // Коммунар. 1919. 1 апр. С. 4.
Зерницкий, М. С. Газета «Звязда» в борьбе за победу Октябрьской революции в Белоруссии / М. С. Зерницкий. М.: Госиздат БССР, 1957. 164 с.
И. И. Диспут об искусстве / И. И. // Жизнь искусства. 1919. 6 мая. С. 1.
Игнатьева, г. Минск. Письмо в редакцию // Полит. собеседник. 1987. № 5. С. 24.
Идеологическую работу – на уровень январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС: [С VIII пленума Мин. горкома КПБ] // Вечерний Минск. 1987. 22 июня. С. 1.
Из деятельности Народного Художественного училища // Школа и революция. 1919. № 24–25. С. 13.
Информационное сообщение // Изв. Витеб. губерн. совета красноарм., рабочих, крестьян. и батрац. депутатов. 1919. 9 апр. С. 4.
Информация по губернии // Просвещение и культура. 1919. 14 июня. С. 2.
К открытию живописной мастерской // Витеб. листок. 1919. 9 янв. С. 4.
Кабаков, И. В будущее возьмут не всех: Эссе о художнике Казимире Малевиче / И. Кабаков // Декоратив. искусство СССР. 1989. № 6. С. 26–27.
Казимир Малевич: Каталог выставки / М-во культуры СССР, Муниципалитет Амстердама, Стеделик Музеум; сост. Н. А. Барабанова [и др.]. М.; Л.; Амстердам, 1989. 280 с.
Казовский Г. Еврейское искусство в России. 1900–1948. Этапы истории / Г. Казовский // Советское искусствознание. М., 1974, 229 с.
Калаушин, Б. М. Бурлюк: Цвет и рифма. Отец русского футуризма / Б. М. Калаушин. СПб.: Аполлон, 1994. 864 c.
Каменский, А. А. Марк Шагал – художник из России: К столетию со дня рождения / А. А. Каменский // Искусство. 1987. № 7. С. 61–69.
Каменский, А. А. Марк Шагал и Россия / А. А. Каменский. М.: Знание, 1988. 55 с.
Каменский, А. А. Шагал: Краска, чистота, любовь: [Публ. беседы с фр. художником Марком Захаровичем Шагалом, записанной в 1973 г.] / А. А. Каменский // Огонек. 1987. № 27. С. 24–25.
Кандинский, В. В. Избранные труды по теории искусства: В 2 т. / В. В. Кандинский. М.: Гилея, 2001. Т. 1. 392 c.
Кандинский, В. В. Избранные труды по теории искусства: В 2 т. / В. В. Кандинский. М.: Гилея, 2001. Т. 2. 344 c.
Кандинский, В. В. Шаги Отдела Изобразительных искусств в международной художественной политике / В. В. Кандинский // Художеств. жизнь. 1920. № 3. С. 16.
Картины М. Шагала в Петрограде // Витебский листок. 1916. № 82. 13 апр. С. 3.
Касьпяровiч, М. Матар’ялы да вывучэньня Вiцебскай краёвай лiтаратуры iмастацтва / М. Касьпяровiч // Маладняк. 1927. № 6. С. 69–71.
Кацар, М. П. Изобразительное искусство Советской Белоруссии / М. П. Кацар. Минск: Мастацтва, 1955. 260 с.
Клеберг, Л. К. К проблеме социологии авангардизма / Л. К. Клеберг // Вопр. лит. 1992. № 3. С. 140–149.
Клеберг, Л. К. Критика и авангард / Л. К. Клеберг // Новое литератур. обозрение. 1999. № 1 (39). С. 333–336.
Княжин, В. П. Футуризм и революция / В. П. Княжин // Вестн. жизни. 1919. № 6–7. С. 79.
Ко всем деятелям искусства // Русс. воля. 1917. 25 мая. С. 3.
Ковтун, Е. Казимир Северинович Малевич: О творческом пути художника (1878–1935) / Е. Ковтун // Огонек. 1988. № 33. C. 8.
Ковтун, Е. Малевич. Теория прибавочного элемента в живописи: К изучению творч. наследия художника / Е. Ковтун // Декоратив. искусство СССР. 1988. № 11. С. 33–41.
Козовский, Г. Г. Художники Витебска: Иегуда Пэн и его ученики / Г. Г. Козовский. М.: Реклам. – издат. дом «Имидж», 1994. 304 с.
Колоницкий, Б. И. Символы власти и борьба за власть. К изучению политической культуры российской революции 1917 года / Б. И. Колоницкий. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. 351 c.
Коммунисты-футуристы // Искусство коммуны. 1919. 26 янв. С. 3.
Котович, Т. В. Энциклопедия русского авангарда / Т. В. Котович. Минск: Экономпресс, 2003. 415 с.
Крайний, К. П. Художественные итоги октябрьского празднества / К. П. Крайний // Вестн. жизни. 1919. № 3–4. С. 120–122.
Крепак, Б. А. Витебский авангард / Б. А. Крепак // Спадчына. 1991. № 4. С. 30–40.
Крусанов, А. В. Русский авангард: В 3 т. / А. В. Крусанов. М.: Новое лит. обозрение, 1996. Т. 1: Боевое десятилетие. 321 с.
Крусанов А. В. Русский авангард: В 3 т. / А. В. Крусанов. М.: Новое лит. обозрение, 2003. Т. 2: Футуристическая революция 1917–1921. 606 c.
Крэпак, Б. А. Вяртанне імёнаў / Б. А. Крэпак. Мінск: Маст. літ., 2013. 460 с.
Культурология. XX век / Под общ. ред. Л. В. Скворцова. СПб.: Университ. кн., 1997. 632 c.
Кунин, М. Об Уновисе / М. Кунин // Искусство. 1921. № 2–3. C. 15–16.
К уходу М. Шагала // Изв. Витеб. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. 24 апр. № 88. С. 4.
Л. М-н. Еще о вечере Уновис / Л. М-н. // Вечерняя газета (Витебск). 1921. 22 сент. С. 2.
Лаврова, Н. Страницы художественной критики (1918–1920) / Н. Лаврова // Творчество. 1970. № 11. С. 5–6.
Лайне, С. В. Деятельность комсомольской печати по организации социалистического соревнования в годы первых пятилеток / С. В. Лайне. М.: ВКШ при ЦК ВЛКСМ, 1981. 211 с.
Ле Фоль, К. Витебская художественная школа (1897–1923) / К. Ле Фоль. Минск: Пропилеи, 2007. 240 с.
Лерман, М. Из воспоминаний о мастере. К 100-летию со дня рождения Марка Шагала / М. Лерман // Творчество. 1987. № 6. C. 32–33.
Лившиц, Б. Полутораглазый стрелец. Воспоминания / Б. Лившиц. М.: Худ. лит., 1991. 252 c.
Лiсаў А. Двое вялікіх пад адным дахам / А. Лісаў // Беларуская мінуўшчына. 1996. № 5. С. 45–70.
Лисицкий, Эль. Коммунизм труда и супрематизм творчества / Эль Лисицкий // Альманах Уновис. 1920. № 1. С. 12.
Лисицкий, Эль. Новая культура / Эль Лисицкий // Школа и революция. 1919. № 24–25. C. 11.
Лисицкий, Эль. Проун. Не мировидение но мирореальность / Эль Лисицкий // Альманах Уновис. 1920. № 1. С. 14.
Лисицкий, Эль. Супрематизм миростроительства / Эль Лисицкий // Альманах Уновис. 1920. № 1. С. 13.
Лисов, А. Художник и власть: Марк Шагал – уполномоченный по делам искусств / А. Лисов // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 2. С. 85–94.
Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре / Ю. М. Лотман. СПб.: Искусство, 1994. 420 с.
Луначарский, А. Марк Шагал. Из цикла «Молодая Россия в Париже» / А. Луначарский // Киевская мысль. 1914. № 73. 14 марта.
Луначарский, А. Ремизов черты оседлости / А. Луначарский // Киевская мысль. 1914. № 73. 14 марта. С. 4.
Луначарский и Союз деятелей искусства // Новая жизнь. 1918. 21 апр. С. 4.
Лурье, С. Я. Демокрит / С. Я. Лурье. М.: Наука, 1979. 321 с.
Лыкова, И. «Единственная любовь Марка Шагала… и две другие» / И. Лыкова [электронный ресурс]. Режим доступа: -chagall.ru/library/edinstvennaya-lubov-marka-shagala.html. Дата доступа: 18.08.2015.
Люторович, П. В. Искусство Советской Белоруссии / П. В. Люторович. Минск: Мастацтва, 1959. 242 с.
Майоров, Р. Музейное кладбище. Что выявил «налет» рабкоровской бригады на государственно-исторический музей / Р. Майоров // Витеб. пролетарий. 1929. 30 окт. С. 2.
Максимова, Антонович, Зеленкевич, Степанов. Письмо в редакцию // Полит. собеседник. 1987. № 5. С. 24.
Малевич, К. С. Собрание сочинений: В 5 т. / К. С. Малевич; гл. ред. Д. В. Сарабьянов. М.: Гилея, 1995. Т. 1: Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы (1913–1929). 393 с.
Малевич, К. С. Черный квадрат / К. С. Малевич. М.: Азбука, 2001. 576 c.
Малевич, К. Задачи искусства и роль душителей искусства / К. Малевич // Анархия. 1918. 7 апр. С. 1.
Малевич, К. К новой грани / К. Малевич // Анархия. 1918. 30 марта. С. 4.
Малевич К. Мертвая палочка / К. Малевич // Анархия. 1918. 1 апр. С. 4.
Малей, А. Уникальный шанс всемирной культуры: Витеб. период К. Малевича / А. Малей // Мастацтва. 1995. № 3. С. 6–15.
Малинин, К. О футуризме / К. Малинин // Вечер. изв. Моск. совета. 1919. 6 марта. С. 1.
Марк Шагал / Публикация А. Лисова // Шагаловский междунар. ежегодник, 2002. Витебск, 2003. С. 121–125.
Марк Шагал об искусстве и культуре: Сборник под ред. Б. Харшава. М.: Текст, 2009. 401 с.
Мартинович, В. В. Витебская губернская печать 20-х годов о художественном авангарде / В. В. Мартинович // Вестн. Белорус. гос. ун-та. Сер. 4. 2003. № 3. C. 93–97.
Мартинович, В. В. Витебское авангардное искусство на страницах журнала «Мастацтва» и газеты «Культура» (1990-е годы) / В. В. Мартинович // Журналистика-2000. Материалы междунар. науч. – практ. конф. / БГУ. Минск, 2000. С. 12.
Мартинович, В. В. Русский авангард начала века как феноменальное явление мировой художественной культуры / В. В. Мартинович // Материалы респ. конф. НИРС 2000: В 5 ч. / Гродненский университет. Гродно, 2000. Ч. 3. С. 25–27.
Мартинович, В. В. Социокультурные предпосылки возникновения Витебского авангарда / В. В. Мартинович // Материалы 59-й науч. конф., 25–26 марта 2002 г. / БГУ. Минск, 2002. С. 34–36.
Мартинович, В. Пять лет молчания. Пресса Витебска 20-х годов о художественном авангарде (1917–1922 гг.) / В. Мартинович // Мат. респ. науч. чтений. Минск: БГУ, 2002. С. 35–38.
Мастерская современного прикладного искусства Витебского Народного училища // Изв. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. 21 янв. С. 2.
Медведев, П. Первая отчетная выставка в художественном училище / П. Медведев // Просвещение и культура. 1919. 6 июля. С. 2.
Мельчайшина // Вечерняя газ. (Витебск). 1921. 20 сент. С. 2.
Меньшой, А. Футуристы и революция / А. Меньшой // Коммунар. 1919. 11 марта. С. 2.
Мир Велимира Хлебникова: Сб. науч. ст. / Сост. В. В. Иванов [и др.]. М.: Языки русской культуры, 2000. 880 с.
Мир искусства // Вечерние новости. 1917. 20 окт. С. 4.
Миронова, Л. Н. Цветоведение / Л. Н. Миронова. М.: Высш. шк., 1984. 420 c.
Митурич, П. М. Записки сурового реалиста эпохи авангарда: Дневники. Письма. Воспоминания. Статьи / П. М. Митурич. М.: RA, 1997. 310 с.
Михайловский, Б. П. Предшественники современного абстракционизма / Б. П. Михайловский // О литературно-художественных течениях XX века: Сб. ст. / Под ред. Л. Г. Андреева, А. Г. Соколова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. С. 61–98.
Мочульский, К. В. Александр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов / К. В. Мочульский. М.: Наука, 1997. 413 c.
Муштаков, А. Октябрь в искусстве / А. Муштаков // Искусство коммуны. 1918. 15 дек. С. 1–2.
Наказ деятелей искусства // Новая жизнь. 1917. 23 апр. С. 6.
Наливайко, Л. Д. К истории художественной жизни Витебска: 1918–1922 гг. / Л. Д. Наливайко. Витебск: Витеб. художеств. музей, 1994. 38 с.
Н. К-н. Открытие 1-й Витебской Народной школы / Н. К-н. [М. Кунин] // Изв. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. 30 янв. С. 3.
Наливайко, Л. Д. Первые художественные школы Беларуси (1918–1923) / Л. Д. Наливайко // Маладосць. 1995. № 9. C. 246–253.
Недошивин, Г. Социалистический реализм в идейно-художественной борьбе 30-х годов: К изучению традиций социалистического реализма / Г. Недошивин // Проблемы социалист. реализма. 1965. № 7. С. 65–100.
Объявления // Витеб. листок. 1919. 7 марта. С. 4.
Объявления // Изв. Витеб. губревкома и губкома РКП(б). 1920. 9 апр. С. 4.
Объявления // Просвещение и культура. 1919. 6 июля. С. 2.
Обязательная выписка известий // Витеб. листок. 1919. 3 мая. С. 4.
От Комиссии по украшению города Витебска к Октябрьским дням // Изв. Витебского губсовета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депутатов. 1918. № 219. 11 окт. С. 2.
Открытие первой выставки Народного Художественного училища // Школа и революция. 1919. № 23. C. 16.
Открытие школы // Изв. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. 5 нояб. С. 2.
О фильме времен перестройки и гласности / С. Букчин [и др.] // Советская культура. 1988. 27 окт. С. 5.
Очеретянский, А. Антология авангардной эпохи: Россия, первая треть XX столетия: Поэзия / А. Очеретянский, Дж. Янечек. СПб.: Глаголъ, 1995. 380 с.
Пальмов, В. И. Проблема цвета в станковой картине / В. И. Пальмов // Нова Генерацiя. 1929. № 7. C. 47.
Пелипенко, А. А. Культурная динамика в зеркале художественного сознания: От авангарда к тоталитар. искусству / А. А. Пелипенко // Человек. 1994. № 4. С. 58–76.
Первая выставка учеников художественного училища // Изв. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. 1 июля. С. 4.
Первая отчетная выставка Витебского художественного училища // Школа и революция. 1919. № 22. C. 16.
Петров, А. В плену предвзятостей: концепция национальных корней творчества художника М. Шагала / А. Петров // Художник. 1990. № 11. С. 30–34.
Письма Марка Шагала Павлу Эттингеру (1920–1948) / Публ. А. С. Шатских // Сообщения Гос. музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. М.: Сов. художник, 1980. Вып. 6. С. 192. [Письмо от 2 апреля 1920 г.]
Письмо рабочего // Коммунар. 1919. 1 апр. С. 4.
Подлипский, А. М. Васильковые годы Марка Шагала, или Витебск в судьбе художника / А. М. Подлипский. Витебск: Витеб. краевед. фонд им. А. Сапунова, 1997. 71 с.
Подлипский, А. М. Витебские адреса Марка Шагала / А. М. Подлипский. Витебск: Обл. тип., 2000. 55 с.
Подлипский, А. М. Периодическая печать Витебска / А. М. Подлипский. Витебск.: Витеб. обл. тип., 2002. 160 c.
Празднование 1 мая в Витебске // Витеб. листок. 1919. 29 апр. С. 4.
Президиум общества имени И. Л. Переца. Открытое письмо // Витеб. листок. 1919. 4 апр. С. 2.
Пуни, И. Творчество жизни / И. Пуни // Искусство коммуны. 1919. № 5. С. 1.
Пунин, Н. К новому искусству / Н. Пунин // Красная газ. 1919. 4 дек. С. 4.
Пунин, Н. Н. Искусство и пролетариат / Н. Н. Пунин // Изобразит. искусство. 1919. № 1. С. 10–24.
Пунин, Н. Старое и новое искусство / Н. Пунин // Искусство коммуны. 1919. 5 янв. С. 2–3.
Редакционный комментарий // Витеб. листок. 1919. 4 апр. С. 2.
Резолюция о футуризме и т. п. // Правда. 1919. 9 апр. С. 4.
Ремизов черты оседлости // Витебский листок. 1916. № 76. 6 апр. С. 3.
Родченко, А. Товарищам анархистам / А. Родченко // Анархия. 1918. 26 марта. С. 4.
Ромм, А. Г. Витебская государственная художественная мастерская / А. Г. Ромм // Искусство. 1921. № 2–3. С. 24.
Ромм, А. Г. Выставка в Витебске 1921 г. / А. Г. Ромм // Искусство. 1921. № 4–6. С. 41–42.
Ромм, А. Г. О музейном строительстве и витебском музее современного искусства / А. Г. Ромм // Искусство. 1921. № 2–3. С. 6–7.
Ромм, А. Г. Ю. М. Пэн: К 25-летию его художеств. деятельности в Витебске / А. Г. Ромм // Искусство. 1921. № 4–6. С. 24–25.
Ромм, А. Разные роли М. Шагала: Из воспоминаний А. Ромма / А. Ромм // Независимая газ. 1992. 30 дек. С. 5.
Ромм, А. Сборник статей о еврейских художниках / А. Ромм. М.: Астрея, 2005. 207 с.
Ромм, А. Юбилейная выставка Ю. М. Пэна / А. Ромм // Изв. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1921. 7 сент. С. 4.
Ростиславов, А. Выставка современной русской живописи / А. Ростиславов // Речь. 1916. № 98. 9 апр. С. 2.
Ростиславов, А. Демагоги в искусстве / А. Ростиславов // Речь. 1917. 23 марта. С. 2.
Рудерман, А. Арестованный фильм. Интервью с режиссером-постановщиком / А. Рудерман // Витебский курьер. 1991. 12 янв. С. 2.
Русский авангард 1910–1920-х годов в европейском контексте: Сб. ст. / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации; под. ред. Г. Ф. Коваленко. М.: Наука, 2000. 312 c.
Русский авангард 1910–1920-х годов и театр: Сб. ст. / Гос. ин-т искусствознания; отв. ред. Г. Ф. Коваленко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 408 с.
С. П. Художественная работа / С. П. // Изв. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. 26 нояб. С. 2.
Савицкий, С. К юбилею Известий / С. Савицкий // Факел друкара. 1934. 11 июня. C. 4.
Салтыкова, М. Он ненавидел слово «эмигрант» [О выставке «Русский период М. Шагала] / М. Салтыкова // Огонек. 1991. № 27. С. 24.
Самарин, Р. М. Проблема традиции и новаторства в западноевропейской литературе 1920–1930-х годов / Р. М. Самарин // О литературно-художественных течениях ХХ века: Сб. ст. / Под ред. Л. Г. Андреева, А. Г. Соколова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. С. 99–124.
Сарабьянов, Д. В. Выставка Ларионова / Д. В. Сарабьянов // Совет. живопись. 1982. № 5. С. 196–197.
Сарабьянов, Д. В. Казимир Малевич и искусство первой трети 20-го века / Д. В. Сарабьянов // Искусство. 1988. № 11. С. 34–38.
Сарабьянов, Д. В. Неизвестный русский авангард / Д. В. Сарабьянов. М.: Искусство, 1992. 287 с.
Сарабьянов, Д. В. Ускользающий лик Шагала: К 100-летию со дня рождения художника / Д. В. Сарабьянов // Творчество. 1987. № 6. С. 29–31.
Сведения о подписке // Витеб. листок. 1919. 21 июня. С. 2.
Свободные государственные художественные мастерские // Искусство. 1919. 5 янв. С. 2.
Сидоров, А. А. О «новом реализме» / А. А. Сидоров // Творчество. 1920. № 5–6. С. 32–33.
Симанович, Д. Витебск, Марк Шагал и тоталитарная система / Д. Симанович // Мiжнародны кангрэс у абарону дэмакратыi i культуры «Посттаталiтарнае грамадства: асоба i нацыя». Тэксты. Дакументы. Матэрыялы. Мінск, 1994. С. 196–197.
Симанович, Д. «Не отлучить Шагала от Витебска!..» Василь Быков о великом художнике / Д. Симанович // Бюллетень Музея Марка Шагала. Витебск: Витеб. обл. тип., 2009. Вып. 16–17. С. 67–69.
Симонов, А. Комментарий председателя Центральной ревизионной комиссии Союза кинематографистов СССР / А. Симонов // Советская культура. 1988. 27 окт. С. 5.
Сироткин, Н. С. Эстетика авангарда: футуризм, экспрессионизм, дадаизм / Н. С. Сироткин // Вестн. Челяб. ун-та. 1999. № 2. С. 119–128.
Скобелев, Э. Всему давать оценку каждый вправе / Э. Скобелев // Народная газета. 2002. 23 нояб. С. 3.
Слука, А. Г. Беларуская журналiстыка: Вучэбн. дапам. для студэнтау: В 3 ч. / А. Г. Слука. Минск: Беларус. дзярж. ун-т, 2000. Ч. 1. 230 с.
Сологуб, Ф. О футуристах / Ф. Сологуб // Биржевые ведомости. 1915. 5 мая. С. 4.
Сообщение продкома // Стенная газ. Витеб. губерн. бюро РОСТА. 1919. 4 сент. С. 1.
Специальный выпуск РОСТА // Изв. Витеб. губерн. Совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. 9 авг. С. 1.
Сполошная, Л. Комиссар искусств Витебска: К 100-летию ко дню рождения М. Шагала / Л. Сплошная // Трезвость и культура. 1988. № 8. С. 57–61.
Среди художников // Коммунист. труд. 1920. 8 дек. С. 4.
Среди художников-живописцев // Раннее утро. 1917. 26 мая. С. 2.
Сурис, Б. Д. Страница художественной жизни России в 1917 г. / Б. Д. Сурис // Искусство. 1972. № 4. С. 62–67.
Сучаснае беларускае мастацтва: праваднiк па аддзеле сучаснага беларускага малярства i разьбярства / Апрац. М. Шчакацiхiн i В. Ластоўскi. Менск, 1929. С. 5–6.
Счастный, В. Художники парижской школы из Беларуси / В. Счастный. Минск: Четыре четверти, 2012. С. 8.
Сыркин, М. Марк Шагал / М. Сыркин // Еврейская неделя. 1916. № 20. 15 мая. С. 41–48.
Сычев, Л. П. Китайский костюм / Л. П. Сычев, В. Л. Сычев. М.: Наука, 1975. 260 с.
Троцкий, Л. Преданная революция. Что такое СССР и куда он идет / Л. Троцкий. М.: Республика, 1994. 217 с.
Турчин, В. С. Татуированный ангел: сто лет авангарда / В. С. Турчин // Творчество. 1990. № 9. С. 6–10.
Удальцова, Н. А. Жизнь русской кубистики: Дневники, статьи, воспоминания / Н. А. Удальцова. М.: Искусство, 1994. 346 с.
Успенский, П. Д. Tertium Organum: Ключ к загадкам мира / П. Д. Успенский. СПб.: Академ. проект, 1992. 247 c.
Утвержден бюджет горсовета // Стенная газ. Витеб. губерн. бюро РОСТА. 1919. 7 сент. С. 1.
Уход тов. Шагала // Известия. 1919. 19 сент. С. 2.
Флоренский, П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях / П. А. Флоренский. М.: Прогресс, 1993. 212 с.
Фриче, В. Литературное одичание / В. Фриче // Вечерн. изв. Моск. совета рабочих и красноарм. депутатов. 1919. 15 февр. С. 1.
Фуко, М. Интеллектуалы и власть / М. Фуко. М.: Праксис, 2002.
Фуко, М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М. Фуко. М.: Ad Marginem, 1999.
Фурман, I. П. Вiцебск у гравюрах Юдовiна / І. П. Фурман. Вiцебск, 1926. 126 с.
Футуристы // Правда. 1919. 6 марта. С. 2.
Хан-Магомедов, С. О. Живскульптарх / С. О. Хан-Магомедов // Декоратив. искусство СССР. 1987. № 5. С. 32–35.
Харджиев, Н. И. Статьи об авангарде / Н. И. Харджиев. М.: RA, 1997. 392 с.
Харэўскі, С. Сто твораў ХХ стагоддзя: Нарысы па гісторыі беларускага мастацтва найноўшага часу / С. Харэўскі; навук. рэд. М. Баразна. Мінск: ЕГУ; Прапілеі, 2011.
Хмельницкая, Л. М. Шагал в художественной культуре Беларуси 1920–1990-х годов / Л. М. Хмельницкая // Шагаловский сборник. Вып. 3: Мат. X–XIV Шагаловских чтений в Витебске (2000–2004). Минск: Рифтур, 2008. С. 92–100.
Хмельницкая, Л. Витебские годы Александра Ромма: председатель Комиссии по охране памятников / Л. Хмельницкая // Бюллетень Музея Марка Шагала. Витебск: Витеб. обл. тип., 2010. Вып. 18. С. 36–57.
Хмельницкая, Л. Марк Шагал и Витебск / Л. Хмельницкая. Минск: Рифтур, 2003. 96 с.
Хмельницкая, Л. Сентябрьский конфликт 1919 года в Народном художественном училище / Л. Хмельницкая // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2003. № 2 (10). С. 17–20.
Хмельницкая, Л. Улица Покровская в Витебске, которую знают в мире: здесь родился М. Шагал / Л. Хмельницкая // Голас Радзiмы. 1995. 28 сент. С. 5.
Хмельницкий, Д. Зодчий Сталин / Д. Хмельницкий. М.: Новое лит. обозрение, 2007. С. 11–16, 114–134.
Хольтхузен, И. В. Модели мира в литературе русского авангарда / И. В. Хольтхузен // Вопр. лит. 1992. № 3. С. 150–160.
Художественная жизнь // Жизнь искусства. 1919. 26 дек. С. 2.
Царькова, Т. С. Слова и краски: Надписи на картинах русского авангарда / Т. С. Царькова // Рус. лит. 1994. № 3. С. 141–151.
Цуканов, А. П. Авангард есть авангард / А. П. Цуканов // Новое лит. обозрение. 1999. № 39. С. 286–292.
Черкизов, А. О подлинных ценностях и мнимых врагах / А. Черкизов // Сов. культура. 1987. № 46. Июнь.
Шагал. Великие художники. 44 / Предисл. С. Королевой. М.: Директ-Медиа; ИД «Комсомольская правда». М., 2010. 50 с.
Шагал, М. З. Моя жизнь / М. З. Шагал. СПб.: Азбука, 2000. 411 с.
Шагал, М. З. Моя жизнь: Отрывки из книги художника / М. З. Шагал // В мире книг. 1987. № 12. C. 57–59.
Шагал, М. З. О Витебском Народном Художественном Училище (К первой отчетной выставке учащихся) / М. З. Шагал // Школа и революция. 1919. № 24–25. C. 7–8.
Шагал, М. Искусство в дни Октябрьской годовщины / М. Шагал // Витеб. листок. 1918. 20 нояб. С. 3–4.
Шагал, М. Как я работал в еврейском камерном театре в 1921–1928 годах / М. Шагал // Ди идише вельт. 1928. № 2. С. 4.
Шагал, М. Мой мир. Первая автобиография Шагала. Воспоминания. Интервью / М. Шагал; под ред. Б. Харшава. М.: Текст, 2009. 405 c.
Шагал, М. Моя жизнь / М. Шагал; пер. с фр. Н. С. Мавлевич; послесл., комментарий Н. В. Апчинской. М.: Эллис Лак, 1994. 208 с.
Шагал, М. О еврейском искусстве / М. Шагал // Штром. 1922. № 1. С. 23.
Шагал, М. От Уполномоченного по делам искусств Витебской губернии / М. Шагал // Изв. Витебского губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1918. № 220. 12 окт. С. 1.
Шагал, М. Письма Павлу Эттингеру (1920–1948) / М. Шагал; публикатор А. С. Шатских // Сообщения Гос. музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 1980. № 6. С. 192.
Шагал, М. Письмо из Витебска // Искусство коммуны. 1918. 23 дек. С. 1.
Шагал, М. Художественные заметки Марка Шагала / М. Шагал // Витеб. листок. 1919. 8 янв. С. 1.
Шагаловский сборник: Мат. I–V Шагаловских дней в Витебске (1991–1995 гг.) / Витеб. обл. отд-ние Белорус. фонда Сороса; ред. – сост. Д. Симанович. Витебск: Паньков, 1996. 304 с.
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства / А. С. Шатских. М.: Языки рус. культуры, 2001. 256 c.
Шатских, А. С. Гоголевский мир глазами Марка Шагала / А. С. Шатских. Витебск.: Витеб. обл. тип., 1999. 189 с.
Шатских, А. С. Казимир Малевич в Витебске: К творч. биографии художника / А. С. Шатских // Искусство. 1988. № 11. С. 38–43.
Шатских, А. С. Казимир Малевич. Живопись. Теория / А. С. Шатских, Д. В. Сарабьянов. М.: Искусство, 1993. 356 с.
Шатских, А. С. Как и где родился Марк Шагал / А. С. Шатских // Искусство. 1989. № 1. C. 68.
Шатских, А. С. Малевич и наука / А. С. Шатских // Художеств. журн. 1996. № 14. С. 20–22.
Шатских, А. Деятельность Общества имени И. Л. Переца (1918 – начало 1920-х гг.) / А. Шатских // Шагаловский сб.: Мат. VI–IX Шагаловских чтений в Витебске (1996–1999). Витебск, 2004. Вып. 2. С. 100.
Шатских, А. С. Русская академия в Париже / А. С. Шатских // Совет. искусствознание. 1987. № 21. C. 352–365.
Шеньо-Жандрон, Ж. Понятие поэтического субъекта в творчестве сюрреалистов и авангардистов. Проблемы методологии / Ж. Шеньо-Жандрон // Сюрреализм и авангард: Материалы рос. – франц. коллоквиума, состоявшегося в Ин-те мировой лит. / Редкол.: С. А. Исаев [и др.]. М.: ГИТИС, 1999. С. 9–22.
Шершеневич, В. Искусство и Советская власть / В. Шершеневич // Труд и воля. 1919. 28 апр. С. 2.
Шершеневич, В. Пролетарское искусство / В. Шершеневич // Труд и воля. 1919. 28 апр. С. 3–4.
Шишанов, В. К вопросу о «первом опыте обращения к творчеству М. Шагала в местной печати» / В. Шишанов // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2004. № 2 (12). С. 12.
Шкловский, В. Пространство выставки и супрематисты / В. Шкловский // Жизнь искусства. 1919. 23 июля. С. 2.
Штеренберг, Д. О новом искусстве / Д. Штеренберг // Изв. Центр. исполн. ком. Советов крестьян., рабочих и солдат. депутатов и Петрогр. совета рабочих и солдат. депутатов. 1917. 29 сент. С. 1–2.
Штеренберг, Д. П. Отчет о деятельности Отдела изобразительных искусств Наркомпроса / Д. П. Штеренберг // Изобраз. искусство. 1919. № 1. С. 71–72.
Экскурсия учеников художественного училища // Витеб. листок. 1919. 13 мая. С. 4.
Энвельчинская, Л. Культ искусства как рассадник мещанства / Л. Энвельчинская // Коммунист. труд. 1920. 10 июня. С. 3.
Эренбург, И. О Марке Шагале: [Творч. портрет художника] / И. Эренбург // Декоратив. искусство СССР. 1967. № 13. С. 33–37.
Эфрос, А. Искусство Марка Шагала / А. Эфрос, Я. Тугендхольд. М.: Геликон, 1918. 52 с.
Эфрос, А. Малевич (Ретроспективная выставка) / А. Эфрос // Художественная жизнь. 1920. № 3. C. 39–40.
Эфрос, Н. М. Записки чтеца / Н. М. Эфрос. М.: Искусство, 1980. 340 с.
Я. Не гладьте себя по головке! (ответ Л. М-ну) // Вечерняя газ. (Витебск). 1921. 23 сент. С. 2.
Яров, С. В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917–1923 гг. / С. В. Яров. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 352 с.
Annensky, S. The Jewish artistic heritage / S. Annensky. Moscow: RA, 1994. 320 p.
Chagall, M. Ma Vie / M. Chagall; préface d’Anré Salmon. Paris: Stock, 1931.
Douglas, Ch. G. The New Russian Art and Italian Futurism / Ch. G. Douglas // Art J. 1975. № 34. P. 44–89.
Harshav, B. Marc Chagall and his times / B. Harshav. Stanford: Stanford University Press, 2003. 1056 p.
Harshav, B. Marc Chagall and the Jewish Theater / B. Harshav. New York: Guttenheim Museum, 1992.
Henderson, L. D. The Merging of the Time and Space: The Fourth Dimension in Russia from Ouspensliy to Malevich / L. D. Henderson // The Structurist. 1975. № 6. P. 32–75.
Kafetsi, A. P. Russian Cubo-futurism. A Term and Some Questions that it Raises / A. P. Kafetsi. Athens: G. Costaris, 1995. 472 p.
Kamenskiy, A. Chagall. The Russian years 1907–1922 / A. Kamenskiy. New York: Charles Philldare, 1989. 307 p.
Kruchenich, A. Our arrival. From the history of Russian futurism / A. Kruchenich. Moscow: RA, 1995. 289 p.
Marc Chagall on Art and Culture / Introduced and annotated by B. Harshav, translated by B. and B. Harshav. Stanford: Stanford University Press, 2003. 225 p.
Martinovich, V. Marc Chagall: Vitebsk’s Unwanted son / V. Martinovich // Institute for Human Sciences IWM Post. Vienna, 2015. № 115. P. 20.
Martinovich, V. Mimetic and symbolic in Vitebsk’s myth about Chagall: logoepistemic fragments in autobiographic discourse / V. Martinovich // Collection of articles done by Moscow’s state university / Филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Материалы конференции, состоявшейся в Москве 4–5 декабря 2014 г.
Martinovich, V. Strategies of constructing of Vitebsk’s myth in first Russian translation of Chagall’s autobiographical book Ma Vie / V. Martinovich // Collection of articles of BSU. Minsk, 2014. P. 106–113.
Martinovich, V. What made Vitebsk’s avant-garde: causes that created phenomena / V. Martinovich // Acta Academiae Artium Vilensis. 2007. № 47. P. 2–7.
Meyer, Meret. Biography of Marc Chagall / M. Meyer. New York, 2000.
Shadova, Larissa. Suche und Experiment / Larissa Shadova. Dresden: Verlag der Kunst, 1978.
Wiliams, R. C. Artists in Revolution: Portraits of the Russian Avant-Garde 1905–1925 / R. C. Wiliams. Indiana: Indiana University Press, 1977. 302 р.
Wiliams, R. C. Culture in Exile / R. C. Wiliams. Ithaca: Cornell University, 1972. 179 р.
Yurchak, Alexei. Everything was forever until it was no more: The last Soviet generation / Alexei Yurchak. Princeton University Press, 2006. 331 p.
Примечания
1
См.: Курило, Д. Оргкомитет по празднованию 125-летия Марка Шагала создан в Витебске / Диана Курило [электронный ресурс]. Режим доступа: . Дата доступа: 10.09.2015.
(обратно)2
При этом в русскоязычной «Википедии» в настоящий момент подано две даты рождения в одной статье одновременно. В самом начале сообщается, что он рожден «7 июля 1887 года», далее, в разделе «Биография» – «(6 июля) 1887 года» [электронный ресурс]. Режим доступа: /Шагал,_Марк_Захарович. Дата доступа: 10.09.2015.
(обратно)3
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства / А. С. Шатских. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 20.
(обратно)4
Marc Chagall on Art and Culture / Introduced and annotated by B. Harshav; transl. by B. Harshav, B. Harshav. Stanford: Stanford University Press, 2003.
(обратно)5
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 44.
(обратно)6
Шагал, М. О еврейском искусстве / М. Шагал // Штром. 1922. № 1. С. 23.
(обратно)7
Шагал, М. Как я работал в еврейском камерном театре в 1921–1928 годах / М. Шагал // Ди идише вельт. 1928. № 2. С. 4.
(обратно)8
См., например, анкету Института искусств в Чикаго, заполненную в 1937 г.
(обратно)9
Марк Шагал об искусстве и культуре: Сборник под ред. Б. Харшава. М.: Текст, 2009. 401 с.
(обратно)10
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 20.
(обратно)11
См., например, описание кишиневского погрома 1903 г. у Вл. Короленко в «Доме номер 13».
(обратно)12
Лыкова, И. «Единственная любовь Марка Шагала… и две другие» / И. Лыкова [электронный ресурс]. Режим доступа: -chagall.ru/library/edinstvennaya-lubov-marka-shagala.html. Дата доступа: 18.08.2015.
(обратно)13
Шагал, М. Моя жизнь / М. Шагал; пер. с фр. Н. С. Мавлевич; послесл., комментарий Н. В. Апчинской. М.: Эллис Лак, 1994. 208 с.
(обратно)14
Цукунфт. 1925. Март – июль. С. 158–162, 211–214, 290–293, 359–361, 407–410.
(обратно)15
Chagall, M. Ma Vie / M. Chagall; préface d’Anré Salmon. Paris: Stock, 1931.
(обратно)16
Шагал, М. Мой мир: Первая автобиография Шагала. Воспоминания. Интервью / М. Шагал; под ред. Б. Харшава. М.: Текст, 2009. С. 57.
(обратно)17
Там же.
(обратно)18
Шагал. Великие художники. 44 / Предисловие С. Королевой. М.: Директ-Медиа; ИД «Комсомольская правда», 2010.
(обратно)19
Там же. С. 3.
(обратно)20
Там же.
(обратно)21
Там же.
(обратно)22
Вознесенский, А. Гала-ретроспектива Шагала / А. Вознесенский // Марк Шагал. Каталог выставки. М., 1987. С. 12.
(обратно)23
Шагал, М. Моя жизнь. С. 24.
(обратно)24
Шатских, А. С. Как и где родился Марк Шагал / А. С. Шатских // Искусство. 1989. № 1. C. 68.
(обратно)25
Крэпак, Б. А. Вяртанне імёнаў / Б. А. Крэпак. Мінск: Маст. літ., 2013. С. 234.
(обратно)26
Анкета Института искусств в Чикаго, заполненная в 1937 г.
(обратно)27
Хмельницкая, Л. М. Шагал в художественной культуре Беларуси 1920–1990-х годов / Л. М. Хмельницкая // Шагаловский сборник. Вып. 3. Материалы X–XIV Шагаловских чтений в Витебске (2000–2004). Минск: Рифтур, 2008. С. 92–100.
(обратно)28
Шагал, М. Моя жизнь. С. 36.
(обратно)29
Там же. С. 52.
(обратно)30
Там же.
(обратно)31
Марк Шагал об искусстве и культуре: Сборник под ред. Б. Харшава. С. 35.
(обратно)32
Там же.
(обратно)33
Шагал, М. Моя жизнь. С. 21.
(обратно)34
Луначарский, А. Марк Шагал. Из цикла «Молодая Россия в Париже» / А. Луначарский // Киевская мысль. 1914. № 73. 14 марта.
(обратно)35
Шагал, М. Моя жизнь. С. 165.
(обратно)36
Шагал, М. Художественные заметки Марка Шагала / М. Шагал // Витебский листок. 1919. 8 янв. С. 1.
(обратно)37
Лыкова, И. «Единственная любовь Марка Шагала… и две другие».
(обратно)38
Марк Шагал об искусстве и культуре: Сборник под ред. Б. Харшава. С. 112.
(обратно)39
Ле Фоль, К. Витебская художественная школа (1897–1923) / К. Ле Фоль. Минск: Пропилеи, 2007. С. 101.
(обратно)40
Вознесенский, А. Гала-ретроспектива Шагала / А. Вознесенский // Марк Шагал. Каталог выставки. С. 10.
(обратно)41
Лисов, А. Художник и власть: Марк Шагал – уполномоченный по делам искусств / А. Лисов // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 2. С. 87.
(обратно)42
Шагал, М. Моя жизнь. С. 179.
(обратно)43
Ле Фоль, К. Витебская художественная школа (1897–1923). С. 106.
(обратно)44
Малевич, К. С. Черный квадрат / К.С. Малевич. М., 2001. С. 80.
(обратно)45
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 49.
(обратно)46
Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 680. Оп. 1. Ед. хр. 1017. Л. 708: Заявление К. С. Малевича.
(обратно)47
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 50.
(обратно)48
А. Шатских, восстановившая эту сцену по итогам опроса нескольких свидетелей «входа» К. Малевича в коллектив, особенно подчеркивает, что об этой «взбудоражившей восприятие театрализованной сцене» вспоминали вообще все, кто там был. Но никто не мог восстановить одной детали: сопровождались ли эти «физические упражнения» (термин А. Шатских) какой-либо речью. Подробнее см. здесь: Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 50.
(обратно)49
Шатских, А.С. Казимир Малевич в Витебске. К творч. биографии художника / А.С. Шатских // Искусство. 1988. № 11. С. 38–43.
(обратно)50
Там же.
(обратно)51
Вознесенский, А. Гала-ретроспектива Шагала / А. Вознесенский // Марк Шагал. Каталог выставки. С. 11.
(обратно)52
Райхельсон, Г. О Шагале / Г. Райхельсон // Наше наследие. № 13 (363) [электронный ресурс]. Режим доступа: -bazaar.com/ru/content/2382.htm#sthash.24cHAYd3.dpuf. Дата доступа: 10.09.2015.
(обратно)53
Марк Шагал об искусстве и культуре: Сборник под ред. Б. Харшава. С. 7.
(обратно)54
Лыкова, И. «Единственная любовь Марка Шагала… и две другие».
(обратно)55
Вознесенский, А. Гала-ретроспектива Шагала / А. Вознесенский // Марк Шагал. Каталог выставки. С. 18.
(обратно)56
Там же.
(обратно)57
Каменский, А. А. Шагал: Краска, чистота, любовь: [Публ. беседы с фр. художником Марком Захаровичем Шагалом, записанной в 1973 г.] / А. А. Каменский // Огонек. 1987. № 27. С. 24–25.
(обратно)58
Цит. по: Подлипский, А. М. Витебские адреса Марка Шагала / А. М. Подлипский // Шагаловский сборник. Материалы I–V Шагаловских дней в Витебске (1991–1995). Витебск: Паньков, 1996. С. 199–208.
(обратно)59
Вознесенский, А. Гала-ретроспектива Шагала / А. Вознесенский // Марк Шагал. Каталог выставки. С. 19.
(обратно)60
См. раздел данной книги, посвященный мифу о мандате, якобы выданном М. Шагалу Луначарским.
(обратно)61
Марк Шагал об искусстве и культуре: Сборник под ред. Б. Харшава. С. 203.
(обратно)62
Крусанов, А. В. Русский авангард: В 3 т. / А. В. Крусанов. М.: Новое литературное обозрение, 1996–2003. Т. 2: Футуристическая революция 1917–1921.
(обратно)63
Крусанов, А. В. Русский авангард. Т. 2. С. 102.
(обратно)64
Цит. по: Вознесенский, А. Гала-ретроспектива Шагала / А. Вознесенский // Марк Шагал. Каталог выставки.
(обратно)65
Шагал, М. Художественные заметки Марка Шагала. С. 1.
(обратно)66
Харэўскі, С. Сто твораў ХХ стагоддзя: Нарысы па гісторыі беларускага мастацтва найноўшага часу / С. Харэўскі; навук. рэд. М. Баразна. Мінск: ЕГУ; Прапілеі, 2011.
(обратно)67
Имеются в виду компоненты нации, атрибутируемые тут: Андерсон, Б. Воображаемые сообщества / Б. Андерсон. М.: Канон-Пресс, 2001.
(обратно)68
Под метрополией тут мы будем понимать РСФСР с ее центром Москвой.
(обратно)69
Малевич, К. Задачи искусства и роль душителей искусства / К. Малевич // Анархия. 1918. 7 апр. С. 1.
(обратно)70
Об этом см.: Хмельницкий, Д. Зодчий Сталин / Д. Хмельницкий. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 11–16, 114–134.
(обратно)71
Там же. С. 8.
(обратно)72
Мариенгоф, А. Циники. Роман без вранья. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги / А. Мариенгоф. Л.: Худ. лит., 1988. 480 с.
(обратно)73
Ромм, А. Юбилейная выставка Ю. М. Пэна / А. Ромм // Изв. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1921. 7 сент. С. 4.
(обратно)74
В наименовании главы обыгрывается название трагифарса К. Шахназарова 1988 г. Этот фильм рассказывает про советского инженера Алексея Варакина, приехавшего из Москвы в провинцию, чтобы согласовать технические детали выпускаемой продукции. В результате несуразной цепи событий оказывается, что обратные билеты на вокзале города отсутствуют, что дороги никуда не ведут, а таксист вместо железнодорожной станции привозит его в лес, в котором почему-то работает местный краеведческий музей с невероятной экспозицией, в которой смешались все нации и эпохи – от Элвиса Пресли до коммунистических руководителей страны. Малолетний сын местного электрика спокойно сообщает оторопевшему Алексею, что тот никогда не уедет из этого города, и называет год его смерти и имена четырех дочерей, которым предстоит в этом городе родиться.
(обратно)75
Счастный, В. Художники парижской школы из Беларуси / В. Счастный. Минск: Четыре четверти, 2012. С. 8.
(обратно)76
Там же.
(обратно)77
Шагал, М. Моя жизнь. С. 14.
(обратно)78
Счастный, В. Художники парижской школы из Беларуси. С. 23.
(обратно)79
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 20.
(обратно)80
Шагал, М. Моя жизнь. С. 45.
(обратно)81
Счастный, В. Художники парижской школы из Беларуси. С. 12.
(обратно)82
Шагал, М. Моя жизнь. С. 26.
(обратно)83
Там же.
(обратно)84
Там же.
(обратно)85
Там же.
(обратно)86
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 20.
(обратно)87
Марк Шагал об искусстве и культуре: Сборник под ред. Б. Харшава. С. 47.
(обратно)88
Брак с Беллой был заключен 12 июля 1914 г., Первая мировая началась 28 июля 1914 г.
(обратно)89
Ремизов черты оседлости // Витебский листок. 1916. № 76. 6 апр. С. 3.
(обратно)90
Луначарский, А. Ремизов черты оседлости / А. Луначарский // Киевская мысль. 1914. № 73. 14 марта. С. 4.
(обратно)91
Картины М. Шагала в Петрограде // Витебский листок. 1916. № 82. 13 апр. С. 3.
(обратно)92
Там же.
(обратно)93
Шишанов, В. К вопросу о «первом опыте обращения к творчеству М. Шагала в местной печати» / В. Шишанов // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2004. № 2 (12). С. 12.
(обратно)94
Ростиславов, А. Выставка современной русской живописи / А. Ростиславов // Речь. 1916. № 98. 9 апр. С. 2.
(обратно)95
Цит. по: Марк Шагал. Публикация А. Лисова // Шагаловский междунар. ежегодник, 2002. Витебск, 2003. С. 121–125.
(обратно)96
Там же.
(обратно)97
Сыркин, М. Марк Шагал / М. Сыркин // Еврейская неделя. 1916. № 20. 15 мая. С. 41–48.
(обратно)98
Шишанов, В. К вопросу о «первом опыте обращения к творчеству М. Шагала в местной печати» / В. Шишанов // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2004. № 2 (12). С. 12.
(обратно)99
Шагал, М. Моя жизнь. С. 21.
(обратно)100
Утвержден бюджет горсовета // Стенная газ. Витеб. губерн. бюро РОСТА. 1919. 7 сент. С. 1.
(обратно)101
От Комиссии по украшению города Витебска к Октябрьским дням // Изв. Витебского губсовета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депутатов. 1918. № 219. 11 окт. С. 2.
(обратно)102
Ромм, А. Сборник статей о еврейских художниках / А. Ромм. М.: Астрея, 2005. С. 18.
(обратно)103
Шагал, М. От Уполномоченного по делам искусств Витебской губернии / М. Шагал // Изв. Витебского губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1918. № 220. 12 окт. С. 1.
(обратно)104
Цит. по: Ле Фоль, К. Витебская художественная школа (1897–1923). С. 118.
(обратно)105
Крэпак, Б. А. Вяртанне імёнаў. С. 237.
(обратно)106
Шагал, М. Моя жизнь. С. 97.
(обратно)107
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 22.
(обратно)108
Сообщение продкома // Стенная газ. Витеб. губерн. бюро РОСТА. 1919. 4 сент. С. 1.
(обратно)109
Ле Фоль, К. Витебская художественная школа (1897–1923). С. 119.
(обратно)110
Ромм, А. Сборник статей о еврейских художниках. С. 18.
(обратно)111
Абрамский И. в 1919 году работал корреспондентом газеты «Витебский листок», публиковался под псевдонимом Амский.
(обратно)112
Абрамский, И. Это было в Витебске / А. Абрамский // Искусство. 1964. № 10. С. 71.
(обратно)113
Ле Фоль, К. Витебская художественная школа (1897–1923). С. 119.
(обратно)114
Абрамский, И. Это было в Витебске. С. 69.
(обратно)115
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 23.
(обратно)116
Там же.
(обратно)117
Абрамский, И. Это было в Витебске. С. 69.
(обратно)118
Там же.
(обратно)119
Обязательная выписка «Известий» // Витеб. листок. 1919. 3 мая. С. 4.
(обратно)120
Б. Р. В-вов. Вид города / Б. Р. В-вов // Изв. губерн. Совета крестьян., рабочих, солдатских и батрац. депутатов и Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов. 1918. 9 нояб. С. 1.
(обратно)121
Шагал, М. Моя жизнь. С. 112.
(обратно)122
Грилин, Г. Право на одиночество / Г. Грилин // Витеб. листок. 1918. № 1059. 7 дек. С. 2–3.
(обратно)123
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 23.
(обратно)124
Ромм, А. Сборник статей о еврейских художниках. С. 19.
(обратно)125
Шагал, М. Искусство в дни Октябрьской годовщины / М. Шагал // Витеб. листок. 1918. 20 нояб. С. 3.
(обратно)126
Шагал, М. Искусство в дни Октябрьской годовщины. С. 3.
(обратно)127
Там же. С. 4.
(обратно)128
Там же.
(обратно)129
Празднование 1 мая в Витебске // Витеб. листок. 1919. 29 апр. С. 4.
(обратно)130
Там же.
(обратно)131
См.: Абрамский, И. Это было в Витебске. С. 69.
(обратно)132
Б. Р. В-вов. Вид города. С. 1.
(обратно)133
Лисов, А. Художник и власть. С. 87.
(обратно)134
Шагал, М. Письма Павлу Эттингеру (1920–1948) / М. Шагал; публикатор А. С. Шатских // Сообщения Гос. музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 1980. № 6. С. 192.
(обратно)135
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 26.
(обратно)136
Цит. по: Гугнин, Н. Из истории Витебской художественной школы / Н. Гугнин // Шагаловский сб.: Мат. I–V Шагаловских дней в Витебске (1991–1995). Витебск: издатель Н. А. Паньков, 1996. С. 101–115.
(обратно)137
Там же.
(обратно)138
Лисов, А. Художник и власть. С. 90.
(обратно)139
Шатских, А.С. Витебск. Жизнь искусства. С. 26.
(обратно)140
Гугнин, Н. Из истории Витебской художественной школы. С. 101–115.
(обратно)141
Там же.
(обратно)142
Шагал, М. Моя жизнь. С. 121.
(обратно)143
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 26.
(обратно)144
Шагал, М. Моя жизнь. С. 121.
(обратно)145
Шагал, М. Художественные заметки Марка Шагала / М. Шагал // Витебский листок. 1919. 8 янв. С. 1.
(обратно)146
Цит. по: Лисов, А. Художник и власть. С. 93.
(обратно)147
Информационное сообщение // Изв. Витеб. губерн. совета красноарм., рабочих, крестьян. и батрац. депутатов. 1919. 9 апр. С. 4.
(обратно)148
Шатских, А. Деятельность Общества имени И. Л. Переца (1918 – начало 1920-х гг.) / А. Шатских // Шагаловский сб. Мат. VI–IX Шагаловских чтений в Витебске (1996–1999). Витебск, 2004. Вып. 2. С. 100.
(обратно)149
Там же.
(обратно)150
Президиум общества имени И. Л. Переца. Открытое письмо // Витеб. листок. 1919. 4 апр. С. 2.
(обратно)151
Там же.
(обратно)152
Там же.
(обратно)153
Президиум общества имени И. Л. Переца. Открытое письмо // Витеб. листок. 1919. 4 апр. С. 2.
(обратно)154
Редакционный комментарий // Витеб. листок. 1919. 4 апр. С. 2.
(обратно)155
Шатских, А. Деятельность Общества имени И. Л. Переца (1918 – начало 1920-х гг.). С. 100.
(обратно)156
Бенефис И. Миндлина // Витеб. листок. 1919. № 1214. 15 мая.
(обратно)157
Шагал, М. Мой мир. С. 102.
(обратно)158
Там же.
(обратно)159
Крэпак, Б. А. Вяртанне імёнаў. С. 358.
(обратно)160
Там же.
(обратно)161
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 20.
(обратно)162
Крэпак, Б. А. Вяртанне імёнаў. С. 358.
(обратно)163
Нельзя исключать и вариант мистификации, предпринятой самим Антощенко-Оленевым: ведь даже в воспоминаниях А. Ромма нет ни слова о человеке с парабеллумом, который следовал за М. Шагалом по пятам. Вместе с тем уж такую-то аппетитную деталь этот пышущий злостью «биограф» художника гарантированно бы нам сообщил. Охранник же, о котором не знает никто, кроме спецведомства и наблюдаемого объекта, обычно называется несколько иным словом.
(обратно)164
Ромм, А. Сборник статей о еврейских художниках. С. 17–19.
(обратно)165
Шагал, М. Мой мир. С. 102.
(обратно)166
Там же.
(обратно)167
См., например, циркуляр, подтверждающий право назначения Радлова, Шагала и Любавиной преподавателями Народного художественного училища тут: Гугнин, Н. Из истории Витебской художественной школы / Н. Гугнин // Шагаловский сб.: Мат. I–V Шагаловских дней в Витебске (1991–1995). С. 101–115.
(обратно)168
Тот факт, что у М. Шагала не было личного автотранспорта, подтверждается тем фрагментом его воспоминаний, где он признается, что ему приходилось ездить «верхом на комиссаре», т. е. подсаживаться на чужой автомобиль.
(обратно)169
См.: Фуко, М. Интеллектуалы и власть / М. Фуко. М.: Праксис, 2002; Он же. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М. Фуко. М.: Ad Marginem, 1999.
(обратно)170
Шагал, М. Мой мир. С. 102.
(обратно)171
Шагал, М. Моя жизнь. С. 34.
(обратно)172
Там же.
(обратно)173
Там же.
(обратно)174
Шатских, А.С. Витебск. Жизнь искусства. С. 34.
(обратно)175
Шатских, А.С. Витебск. Жизнь искусства. С. 34.
(обратно)176
Хмельницкая, Л. Витебские годы Александра Ромма: председатель Комиссии по охране памятников / Л. Хмельницкая // Бюллетень Музея Марка Шагала. Витебск: Витеб. обл. тип., 2010. Вып. 18. С. 36–57.
(обратно)177
Лисов, А. Художник и власть. С. 89.
(обратно)178
К уходу М. Шагала // Изв. Витеб. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. № 88. 24 апр. С. 4.
(обратно)179
Назначение художника Ромма // Витеб. листок. 1919. № 1209. 10 мая. С. 3.
(обратно)180
Хмельницкая, Л. Сентябрьский конфликт 1919 года в Народном художественном училище / Л. Хмельницкая // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2003. № 2 (10). С. 17–20.
(обратно)181
См.: Там же. С. 19.
(обратно)182
Автор этой версии Л. Хмельницкая особенно оговаривает, что это было сделано «с полного согласия самого Шагала» и именно на губернском уровне.
(обратно)183
Лисов, А. Художник и власть // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 2. С. 88.
(обратно)184
Об этом см.: Лисов, А. Художник и власть // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 2. С. 84.
(обратно)185
Шатских, А.С. Витебск. Жизнь искусства. С. 34.
(обратно)186
Шагал, М. Моя жизнь. С. 101.
(обратно)187
Лисов, А. Художник и власть. С. 90.
(обратно)188
Разные роли Марка Шагала. Из воспоминаний Александра Ромма. Вступление, публикация и примечания Александры Шатских // Независимая газ. 1992. 30 дек. С. 5.
(обратно)189
См.: Хмельницкая, Л. Сентябрьский конфликт 1919 года в Народном художественном училище. С. 17–20.
(обратно)190
См.: Хмельницкая, Л. Сентябрьский конфликт 1919 года в Народном художественном училище. С. 17–20.
(обратно)191
Там же.
(обратно)192
Шагал, М. Моя жизнь. С. 103.
(обратно)193
Уход тов. Шагала // Известия. 1919. 19 сент. С. 2.
(обратно)194
Об этом см. тут: Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 53.
(обратно)195
Перенос столицы РСФСР из Петрограда в Москву был начат в марте 1918 г., к ноябрю 1919 г. Наркомпрос уже полностью базировался в новом месте.
(обратно)196
Цит. по: Хмельницкая, Л. Сентябрьский конфликт 1919 года в Народном художественном училище. С. 18.
(обратно)197
Хмельницкая, Л. Витебские годы Александра Ромма. С. 36–57.
(обратно)198
Первое искусствоведческое периодическое издание, появившееся на территории современной Беларуси после революции. В других областях теперешней Беларуси (тогда – губерниях России и воеводствах Польши) подобные специализированные СМИ появились только в 1930-х годах. Издателями «Искусства» являлись губернский союз работников искусства и губернский отдел народного образования. Журнал «Искусство» просуществовал 1 год, все 6 его номеров (2–3 и 4–6 были объединенными) вышли в 1921 году. Тираж первых двух выпусков составлял 500 экз., тираж последнего – 1000 экз. Во многом симпатию «Искусства» к художникам-авангардистам предопределил его авторский состав. Редактировал его начинающий литератор П. Медведев, окончивший юридический факультет Петроградского университета в 1914 г. и приехавший в Витебск в 1917 г., спасаясь от голода и разрухи. П. Медведев был хорошим другом М. Бахтина и М. Шагала. Журналу принадлежит основная часть полемики о «Витебской школе». Подробнее об этом см.: Мартинович В. Витебский авангард 1917–1922 гг.: социокультурный контекст и художественная критика. Текст докторской диссертации, защищенной в 2008 г. в Академии искусств г. Вильнюса.
(обратно)199
Ромм, А. Г. Витебская государственная художественная мастерская / А. Г. Ромм // Искусство. 1921. № 2–3. С. 24.
(обратно)200
Там же.
(обратно)201
Ромм, А. Г. Витебская государственная художественная мастерская / А. Г. Ромм // Искусство. 1921. № 2–3. С. 24.
(обратно)202
Ромм, А. Г. Выставка в Витебске 1921 г. / А. Г. Ромм // Искусство. 1921. № 4–6. С. 42.
(обратно)203
Проун – «проект утверждения нового», трехмерные супрематические построения, выполненные Эль Лисицким в витебский период из бумаги и картона, а также на плоскости, в технике черчения.
(обратно)204
Ромм, А. Г. Выставка в Витебске 1921 г. С. 42.
(обратно)205
Там же.
(обратно)206
Там же.
(обратно)207
Сборник этот не будет издан при жизни А. Ромма: первое упоминание о нем прозвучит лишь через семь лет после смерти М. Шагала, в 1992 г.: именно тогда фрагменты книги, посвященные герою нашего текста, републикует в «Независимой газете» А. Шатских. Отдельной книгой «Сборник» появится в 2005 г.
(обратно)208
Об этом подробнее см.: Мартинович, В. Пять лет молчания. Пресса Витебска 20-х годов о художественном авангарде (1917–1922 гг.) / В. Мартинович // Мат. респ. науч. чтений, посвящ. 80-летнему юбилею д-ра филолог. наук, профессора М. Я. Тикоцкого / Минск: БГУ, 2002. С. 35–38.
(обратно)209
Там же.
(обратно)210
Там же.
(обратно)211
Эфрос, А. Искусство Марка Шагала / А. Эфрос, Я. Тугендхольд. М.: Геликон, 1918. 52 с.
(обратно)212
Информация по губернии // Просвещение и культура. 1919. 14 июня. С. 2.
(обратно)213
Грилин, Г. Право на одиночество / Г. Грилин // Витеб. листок. 1918. № 1059. 7 дек. С. 2–3.
(обратно)214
Грилин, Г. Футуризм и пролетариат. По поводу митинга-диспута об искусстве / Г. Грилин // Витеб. листок. 1919. 11 февр. С. 2.
(обратно)215
Грилин, Г. Футуризм и пролетариат. По поводу митинга-диспута об искусстве. С. 2.
(обратно)216
Шагал, М. Искусство в дни Октябрьской годовщины. С. 3.
(обратно)217
Грилин, Г. Футуризм и пролетариат. По поводу митинга-диспута об искусстве. С. 2.
(обратно)218
Грилин, Г. Футуризм и революция / Г. Грилин // Витеб. листок. 1919. 1 марта. С. 2.
(обратно)219
Грилин, Г. Футуризм и революция. С. 2.
(обратно)220
Шагал, М. З. О Витебском Народном Художественном Училище (К первой отчетной выставке учащихся) / М. З. Шагал // Школа и революция. 1919. № 24–25. C. 8.
(обратно)221
Медведев, П. Первая отчетная выставка в художественном училище / П. Медведев // Просвещение и культура. 1919. 6 июля. С. 2.
(обратно)222
С. П. Художественная работа / С. П. // Изв. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. 26 нояб. С. 2.
(обратно)223
Подлипский, А. М. Периодическая печать Витебска / А. М. Подлипский. Витебск, 2002. С. 157.
(обратно)224
С. П. Художественная работа. С. 2.
(обратно)225
Шагал, М. Письмо из Витебска // Искусство коммуны. 1918. 23 дек. С. 1.
(обратно)226
Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 30.
(обратно)227
Там же. С. 33.
(обратно)228
Дневники Юдина Л. А. Витебск 1921–1922 // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Ф. 1000.
(обратно)229
Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 42.
(обратно)230
Там же. С. 40.
(обратно)231
Казимир Малевич: Каталог выставки / М-во культуры СССР, Муниципалитет Амстердама, Стеделик Музеум; сост. Н. А. Барабанова [и др.]. М.; Л.; Амстердам, 1989. С. 196.
(обратно)232
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 128.
(обратно)233
Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 162.
(обратно)234
Имеется в виду Альманах Уновис (1920. № 1). Был отпечатан на машинке, тираж определялся числом копий, которые можно сделать на обычной печатной машинке, текст печатался без знаков препинания, компоновался в различные геометрические фигуры. Все иллюстрации были сделаны от руки на бумаге и даже на ткани.
(обратно)235
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 57.
(обратно)236
Выделение наше.
(обратно)237
Отправлено 13.10.1924. Цит. по: Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 458.
(обратно)238
Имеется в виду теософ С. Н. Булгаков.
(обратно)239
Отправлено 21.12.1919. Цит. по: Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 435.
(обратно)240
Имеется в виду тот самый П. Медведев, который впоследствии в Витебске будет издавать журнал «Искусство».
(обратно)241
Отправлено 15.10.1921 из Витебска в Москву. См.: Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 452.
(обратно)242
Имеется в виду московский искусствовед А. Эфрос, автор первой монографии о М. Шагале.
(обратно)243
Эфрос, А. Малевич (Ретроспективная выставка) / А. Эфрос // Художественная жизнь. 1920. № 3. C. 39–40.
(обратно)244
Письмо из Витебска в Москву от 24.11.1920. См.: Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 446.
(обратно)245
В дневнике К. Малевича, хранящемся в Стеделик Музеуме (г. Амстердам), читаем, по мотивам уже высказанного наблюдения: «На книжке Шопенгауэра написано “Мир как воля и представление”. Я бы написал “Мир как беспредметность”; если существуют представления, то значит мира нет, а если есть воля для направления и овладевания представлением, значит ясно, что мира нет, а борьба». Цит. по: Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 542.
(обратно)246
Шатских, А.С. Казимир Малевич в Витебске. С. 38–43.
(обратно)247
Письмо М. Гершензону от 18.11.1919 из Витебска. Цит. по: Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 427.
(обратно)248
Повторяющееся выражение из его писем тех лет.
(обратно)249
Выражение из письма М. Гершензону от 18.11.1919 в Москву из Витебска. Слово «звезда» использовано в современном значении, как синоним слова celebrity – «они увидели “звезду”». Цит. по: Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 427.
(обратно)250
Из содержания письма можно понять, что речь идет о первом публичном выступлении супрематиста перед витебской публикой 17 ноября 1919 г.
(обратно)251
Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 426–427.
(обратно)252
Городская жизнь // Изв. губерн. совета крестьян., рабочих, красноарм. и батрац. депутатов. 1919. 16 нояб. С. 2.
(обратно)253
Следует отметить, что в этом наименовании у М. Гершензона не было ни толики оскорбительности, напротив, им он подчеркивал стихию и первобытную энергию, кипевшую в творчестве и самой персоне К. Малевича, – ту самую стихию, которой так не хватало, по мнению М. Гершензона, столичной «высокой» и «образованной» культуре.
(обратно)254
Письмо М. Гершензону от 18.11.1919 из Витебска. Цит. по: Малевич, К. С. Черный квадрат. С. 427.
(обратно)255
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 106.
(обратно)256
Хмельницкая, Л. Сентябрьский конфликт 1919 года в Народном художественном училище. С. 17–20.
(обратно)257
Абрамский, И. Это было в Витебске. С. 71.
(обратно)258
И. Мазель, Л. Зевин, С. Юдовин, Л. Лейтман, М. Кунин. Об этом подробнее: Мартинович, В. Витебский авангард 1917–1922 гг.: социокультурный контекст и художественная критика. Текст докторской диссертации, защищенной в 2008 г. в Академии искусств г. Вильнюса.
(обратно)259
Эль Лисицкий, Н. Коган, Д. Якерсон, В. Ермолаева, И. Чашник, А. Векслер, Л. Юдина, Б. Цейтлина и др. См.: Мартинович, В. Витебский авангард 1917–1922 гг.: социокультурный контекст и художественная критика. Текст докторской диссертации, защищенной в 2008 г. в Академии искусств г. Вильнюса.
(обратно)260
Ремизов черты оседлости // Витеб. листок. 1916. № 76. 6 апр. С. 3.
(обратно)261
Воспоминания Антощенко-Оленева цитируются А. Шатских по письму его сына И. В. Антощенко-Оленева, присланному ей в Москву из Калуги 24 октября 1991 г. уже после смерти самого автора «этюдов». См.: Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 37.
(обратно)262
Цит. по: Гугнин, Н. Из истории Витебской художественной школы. С. 101–115.
(обратно)263
Лисов, А. Художник и власть. С. 87.
(обратно)264
Кандинский, В. В. Избранные труды по теории искусства: В 2 т. / В. В. Кандинский. М., 2001. Т. 2: 1918–1938. С. 187–188.
(обратно)265
Мы не можем сейчас восстановить полную и социологически безупречную картину отношений между обществом и управленческими структурами в РСФСР; однако, как нам кажется, очень атмосферную (пусть и совершенно ненаучную!) подсказку может дать чтение литературы тех лет, в первую очередь «Циников» А. Мариенгофа.
(обратно)266
Употребляем это слово в переносном значении.
(обратно)267
Письма Марка Шагала Павлу Эттингеру (1920–1948) / Публ. А. С. Шатских // Сообщения Гос. музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. М.: Сов. художник, 1980. Вып. 6. С. 192. [Письмо от 2 апреля 1920 г.].
(обратно)268
Гаврис, И. Образное искусство в Витебске (начало и конец первого 10-летия Октябрьской Революции) / И. Гаврис // Витебщина. 1928. № 2. С. 171.
(обратно)269
Новое название Народного художественного училища, менявшего в период с 1918 по 1922 г. свою вывеску 4 раза.
(обратно)270
Преподаватель – Ю. Пэн.
(обратно)271
В этот момент преподаватель мастерской Х. Тильберг, однако уже с 1 сентября 1919 г. скульптурную мастерскую возглавит член круга К. Малевича супрематист Д. Якерсон.
(обратно)272
Уновис. 1920. № 1. С. 12.
(обратно)273
Шагал, М. Моя жизнь. С. 151.
(обратно)274
Письма Марка Шагала Павлу Эттингеру (1920–1948). С. 192. [Письмо от 2 апреля 1920 г.]
(обратно)275
Шагал, М. Моя жизнь. С. 149.
(обратно)276
Там же.
(обратно)277
Лисов, А. Художник и власть. С. 92.
(обратно)278
Там же.
(обратно)279
Ходатайство подписано «Уполномоченный Витсвомас В. Ермолаева».
(обратно)280
На самом деле – с 15 ноября 1919 г.
(обратно)281
ГАВО. Ф. 837. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 91.
(обратно)282
Лисов, А. Художник и власть. С. 92.
(обратно)283
Шагал, М. Моя жизнь. С. 160.
(обратно)284
Shadova, Larissa. Suche und Experiment / Larissa Shadova. Dresden: Verlag der Kunst, 1978.
(обратно)285
Шатских, А. С. Витебск. Жизнь искусства. С. 20.
(обратно)286
Миронова, Л. Н. Цветоведение / Л. Н. Миронова. М.: Высшая школа, 1984. 420 c.
(обратно)287
Шагал, М. Моя жизнь. С. 198.
(обратно)288
Цит. по: Гугнин, Н. Из истории Витебской художественной школы. С. 101–115.
(обратно)289
Там же.
(обратно)290
Там же.
(обратно)291
Расшифровку аудиозаписи беседы, записанной Б. Крепаком с Антощенко-Оленевым в середине 1970-х, можно почитать тут: Крэпак, Б. А. Вяртанне імёнаў. С. 358.
(обратно)292
Ромм, А. Сборник статей о еврейских художниках. С. 22.
(обратно)293
Шатских, А.С. Витебск. Жизнь искусства. С. 22.
(обратно)294
Вознесенский, А. Гала-ретроспектива Шагала / А. Вознесенский // Марк Шагал. Каталог выставки. С. 12.
(обратно)295
См.: Крусанов, А. Русский авангард. Т. 2. С. 123.
(обратно)296
Майоров, Р. Музейное кладбище. Что выявил «налет» рабкоровской бригады на государственно-исторический музей / Р. Майоров // Витеб. пролетарий. 1929. 30 окт. С. 2.
(обратно)297
Симанович, Д. «Не отлучить Шагала от Витебска!..» Василь Быков о великом художнике / Д. Симанович // Бюллетень Музея Марка Шагала. Витебск: Витеб. обл. тип., 2009. Вып. 16–17. С. 67–69.
(обратно)298
Касьпяровiч, М. Матар’ялы да вывучэньня Вiцебскай краёвай лiтаратуры iмастацтва / М. Касьпяровiч // Маладняк. 1927. № 6. С. 69–71.
(обратно)299
Фурман, I. П. Вiцебск у гравюрах Юдовiна / І. П. Фурман. Вiцебск, 1926. С. 31.
(обратно)300
Гаврис, И. Образное искусство в Витебске (начало и конец первого 10-летия Октябрьской Революции) / И. Гаврис // Витебщина. 1928. № 2. С. 168–173.
(обратно)301
Имеется в виду статья «Это было в Витебске» И. Абрамского, каким-точудом опубликованная в белорусском журнале «Искусство» в номере 10 за 1964 год (с. 63–70). Но даже в этой статье добрых слов о Шагале не было, вспоминалось оформление города к годовщине Октября, «кубы и треугольники» на трамваях, которые «отпугивали пассажиров», сообщалось, что жители были «подавлены и обеспокоены» «загадочными панно», которые подготовил М. Шагал.
(обратно)302
Хмельницкая, Л. М. Шагал в художественной культуре Беларуси 1920–1990-х годов / Л. М. Хмельницкая // Шагаловский сб.: Мат. X–XIV Шагаловских чтений в Витебске (2000–2004). Минск: Рифтур, 2008. Вып. 3. С. 92–100.
(обратно)303
Сучаснае беларускае мастацтва: праваднiк па аддзеле сучаснага беларускага малярства i разьбярства / Апрац. М. Шчакацiхiн i В. Ластоўскi. Менск, 1929. С. 5–6.
(обратно)304
Сучаснае беларускае мастацтва… С. 10.
(обратно)305
Кацар, М. П. Изобразительное искусство Советской Белоруссии / М. П. Кацар. Минск: Мастацтва, 1955. С. 151.
(обратно)306
Белорусское искусство. Библиографический справочник. Изобразительное искусство. Живопись / Сост. В. Дышиневич. Минск: Сектор искусства, 1965. 183 с.
(обратно)307
Люторович, П. В. Искусство Советской Белоруссии / П. В. Люторович. Минск, 1959. С. 87.
(обратно)308
Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс, 2001. С. 165.
(обратно)309
То есть до 2014 г.
(обратно)310
По его сценариям было снято несколько иконических фильмов, посвященных Второй мировой войне: «Иди и смотри», «Я из огненной деревни» и т. д.
(обратно)311
Адамович, А. Оглянись окрест / А. Адамович // Огонек. 1988. № 39. С. 28–30.
(обратно)312
Адамович, А. Оглянись окрест. С. 29.
(обратно)313
Там же.
(обратно)314
Там же. С. 30.
(обратно)315
Имеется в виду акция, устроенная БНФ в традиционный для белорусской культуры День поминовения усопших.
(обратно)316
Акудовіч, В. Вандэя / В. Акудовіч // Слоўнік Свабоды. Мінск: Логвінаў, 2012.
(обратно)317
Черкизов, А. О подлинных ценностях и мнимых врагах / А. Черкизов // Сов. культура. 1987. № 46. Июнь.
(обратно)318
Бегун, В. Украденный фонарь гласности / В. Бегун // Политический собеседник. 1987. № 1. С. 20–21.
(обратно)319
Больше об идейной атмосфере позднего СССР, о трансформации «авторитетного дискурса», произошедшей после смерти Сталина, можно прочесть в книге профессора Калифорнийского университета А. Юрчака: Yurchak Alexei. Everything was forever until It was no more: The last Soviet generation / Alexei Yurchak. Princeton University Press, 2006. 331 pp.
(обратно)320
Вознесенский, А. Гала Шагала / А. Вознесенский // Огонек. 1987. № 4. C. 12–24.
(обратно)321
См.: Райхельсон, Г. О Шагале.
(обратно)322
Там же.
(обратно)323
Там же.
(обратно)324
Цит. по: Хмельницкая, Л. М. Шагал в художественной культуре Беларуси 1920–1990-х годов. С. 92–100.
(обратно)325
См.: Райхельсон, Г. О Шагале.
(обратно)326
Хмельницкая, Л. М. Шагал в художественной культуре Беларуси 1920–1990-х годов. С. 97.
(обратно)327
Там же.
(обратно)328
Симанович, Д. Витебск, Марк Шагал и тоталитарная система / Д. Симанович // Мiжнародны кангрэс у абарону дэмакратыi i культуры «Посттаталiтарнае грамадства: асоба i нацыя». Тэксты. Дакументы. Матэрыялы. Мінск, 1994. С. 196–197.
(обратно)329
Райхельсон, Г. О Шагале.
(обратно)330
Симанович, Д. Витебск, Марк Шагал и тоталитарная система. С. 196–197.
(обратно)331
Хмельницкая, Л. М. Шагал в художественной культуре Беларуси 1920-1990-х годов. С. 98.
(обратно)332
Райхельсон, Г. О Шагале.
(обратно)333
Идеологическую работу – на уровень январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС. С VIII пленума Минского горкома КПБ // Вечерний Минск. 1987. 22 июня. С. 1.
(обратно)334
Воронин, И. Редакционная почта / И. Воронин // Полит. собеседник. 1987. № 1. С. 20.
(обратно)335
Бегун, В. Украденный фонарь гласности. С. 20.
(обратно)336
Там же.
(обратно)337
Шатских, А. С. Как и где родился Марк Шагал. C. 68.
(обратно)338
Бегун, В. Украденный фонарь гласности. С. 20.
(обратно)339
Там же.
(обратно)340
Там же.
(обратно)341
Бегун, В. Украденный фонарь гласности. С. 20.
(обратно)342
ГАВО. Ф. 244. Оп. 1. Д. 310. Л. 95.
(обратно)343
Гололобов, А. Письмо в редакцию / А. Гололобов // Полит. собеседник. 1987. № 5. С. 24.
(обратно)344
Максимова, Антонович, Зеленкевич, Степанов. Письмо в редакцию // Полит. собеседник. 1987. № 5. С. 24.
(обратно)345
Игнатьева, г. Минск. Письмо в редакцию // Полит. собеседник. 1987. № 5. С. 24.
(обратно)346
Цит. по: Хмельницкая, Л. М. Шагал в художественной культуре Беларуси 1920–1990-х годов. С. 98.
(обратно)347
Гласность есть правда / М. Савицкий [и др.] // Полит. собеседник. 1987. № 5. С. 24.
(обратно)348
Там же.
(обратно)349
Гласность есть правда. С. 24.
(обратно)350
Там же.
(обратно)351
Там же.
(обратно)352
Гласность есть правда. С. 24.
(обратно)353
Рудерман, А. Арестованный фильм. Интервью с режиссером-постановщиком / А. Рудерман // Витебский курьер. 1991. 12 янв. С. 2.
(обратно)354
«Советская культура» дает другое написание фамилии – «И. Шеленкова», см. здесь: О фильме времен перестройки и гласности / С. Букчин [и др.] // Советская культура. 1988. 27 окт. С. 5.
(обратно)355
См. оценку А. Рудермана там же.
(обратно)356
О фильме времен перестройки и гласности. С. 5.
(обратно)357
Рудерман, А. Арестованный фильм. С. 2.
(обратно)358
Там же.
(обратно)359
Басин, Я. Театр абсурда советских времен / Яков Басин [электронный ресурс]. Режим доступа: . Дата доступа: 27.08.2014.
(обратно)360
Басин использует третье написание фамилии пострадавшей: «Шуленкова» – ощущение, что все, что приближается к шагаловской теме, приходит в волшебное колебание и начинает искажаться – точно так же, как даты и место рождения, имя и фамилия самого маэстро.
(обратно)361
Басин, Я. Театр абсурда советских времен.
(обратно)362
Там же.
(обратно)363
Хмельницкая, Л. М. Шагал в художественной культуре Беларуси 1920–1990-х годов. С. 92–100.
(обратно)364
Басин, Я. Театр абсурда советских времен.
(обратно)365
О фильме времен перестройки и гласности. С. 5.
(обратно)366
Симонов, А. Комментарий председателя Центральной ревизионной комиссии Союза кинематографистов СССР / А. Симонов // Советская культура. 1988. 27 окт. С. 5.
(обратно)367
Там же.
(обратно)368
Симонов, А. Комментарий председателя Центральной ревизионной комиссии Союза кинематографистов СССР. C. 5.
(обратно)369
Рудерман, А. Арестованный фильм. С. 2.
(обратно)370
Басин, Я. Театр абсурда советских времен.
(обратно)371
Скобелев, Э. Всему давать оценку каждый вправе / Э. Скобелев // Народная газета. 2002. 23 нояб. С. 3.
(обратно)372
Перечислим поименно ядро этого витебского «шагаловского сопротивления»: Л. Хмельницкая, Т. Кириллова, Д. Симанович, А. Лисов – когда-нибудь город должен поставить памятник и им, без них гарантированно он не поставил бы памятник М. Шагалу.
(обратно)373
Нашлись скептики, обратившие внимание на то, что «Влюбленные» созданы в технике гуаши на картоне с добавлением пастельных штрихов, в то время как по международной классификации живописью может считаться лишь произведение, созданное масляными красками на холсте.
(обратно)374
Шагал, М. Художественные заметки Марка Шагала. С. 1.
(обратно)375
Заправка «Белнефтехим» на въезде в Витебск, зафиксировано 20 мая 2014 г.
(обратно)


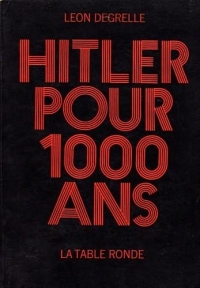


Комментарии к книге «Родина. Марк Шагал в Витебске», Виктор Валерьевич Мартинович
Всего 0 комментариев