Чарльз Уиллер Тейер Медведи в икре
ВВЕДЕНИЕ
Никто из молодых людей, вошедших в состав первого американского посольства в Советском Союзе зимой 1933–1934 года, не забыл приобретенный тогда опыт. Это был совершенно уникальный период истории, одновременно и волнующий, и бросавший им вызов. Он стал особым моментом в карьере каждого из них. «У меня не хватит слов, — спустя тридцать лет писал Джордж Кеннан, — если я попытаюсь передать… волнение, удовольствие, возбуждение и разочарование от начала службы в Москве», которая вспоминалась им «как высокий момент жизни… по меньшей мере в том, что касается товарищества, веселья и интенсивности обретения опыта»[1]. И всему остальному миру повезло, что этот опыт таким запоминающимся образом был запечатлен Чарльзом Тейером в его ставших классическими мемуарах «Медведи в икре», впервые опубликованных в 1951 году и теперь переизданных издательством «Рашн Лайф Букс».
Установив дипломатические отношения с Советским Союзом в декабре 1933 года, Соединенные Штаты последними из держав Запада признали большевистский режим. Своим первым послом в Москве Франклин Рузвельт назначил Уильяма Буллита — человека блестящего, наделенного кипучей энергией, хотя и изменчивого. Буллит работал в составе делегации США, посланной в Версаль Вудро Вильсоном, а в 1920 году отправился с мирной миссией к Ленину в самый разгар Гражданской войны. Буллит питал большие надежды на успех новой дипломатической миссии и своей первой задачей считал поиск наилучших и самых ярких людей для службы в своем посольстве[2].
Они сформировались в выдающуюся группу, большей частью состоявшую из карьерных дипломатов. Джордж Кеннан и Чарльз Болен[3] (будущий зять Тейера) в ожидании этого момента несколько лет изучали русский язык. Им обоим предстояло прославиться в качестве экспертов и послов в Советском Союзе. В составе этой группы были и другие будущие послы, упомянем лишь Лоя Хендерсона, Элбриджа Дарброу, Джона Уайли. И кроме них, в эту группу входил Чарли Тейер, который приехал в Москву раньше всех.
Родом из патрицианской семьи Филадельфии, выросший в пригороде Мэйн-Лайн[4], Чарльз Тейер, как он сам вспоминает об этом в книге «Медведи в икре», вскоре после окончания Вест-Пойнта[5] решил, что военная карьера — это не для него, и вознамерился стать дипломатом. Поскольку в то время в Госдепартаменте прием на работу новых сотрудников был временно прекращен, ему подсказали, что единственная возможность поступить на дипломатическую службу — выучить русский язык. Следуя этому совету, он, прихватив чемодан с личными вещами, направился в конце 1933 года в Москву — «в надежде», как он выразился, «что однажды там будет посольство и меня возьмут на службу»[6]. Это было удивительно смелое решение, но Чарли, как отмечали его коллеги, был авантюристом по натуре[7]. И неудивительно, что на протяжении нескольких следующих месяцев, как позже он сам признавался, «нередко бывало, что я отчаивался и считал, что такая глупая идея могла прийти в голову лишь полному идиоту»[8].
В конце 1933 года Москва была более свободной и более терпимой к иностранцам, чем когда-либо позже, но даже тогда жизнь была трудной, а власти — подозрительными и настороженными. Тем не менее поразительно, что Тейеру удалось снять комнату у русской семьи. В последующие несколько месяцев он находил для себя то одну, то другую временную работу в среде американских журналистов, находившихся в Москве: в то время это были единственные американцы в России. Что более важно, он нашел себе русского преподавателя и быстро сдружился с группой русской молодежи, в основном из театрального мира. Он посетил и другие районы Советского Союза. К тому времени, когда в декабре 1933 года Буллит приехал, чтобы предъявить свои верительные грамоты, Тейер, после шести месяцев пребывания в Москве, уже обладал знанием языка и непосредственным опытом советской жизни, что оказалось бесценным для нового американского посольства. Как позднее об этом скажет сам посол: «… Американцы прибыли в Москву, абсолютно не представляя себе, с чем им предстоит встретиться, за исключением одного молодого человека, прекрасно знавшего Россию»[9].
Итак, во время первого краткого пребывания Буллита в Москве в декабре 1933 года к нему в отель «Националь» явился курносый юноша, уповавший на узнаваемость его фамилии, чтобы предложить свои услуги в налаживании работы нового посольства. Джорджу Кеннану, сопровождавшему посла в поездке в Москву, предстояло остаться здесь, чтобы устроить посольство и руководить этой работой. После беседы с Тейером он сказал Буллиту: «Он отличный паренек» и рекомендовал принять его на службу[10]. Так начались приключения Тейера, столь ярко описанные в его книге. На протяжении нескольких месяцев вся команда состояла из него самого, Кеннана и одного из сотрудников Государственного департамента, пока в марте 1934 года не вернулся Буллит в сопровождении полного состава посольства.
Все, что случилось потом, было временем беспримерных конфузий, уморительных, нелепых ситуаций, позднее описанных Боленом как «шутовской период, когда посольство напоминало цирк»[11]. Посольство было переполнено талантами; заметно не хватало только тех, как вспоминал Кеннан, «кто постоянно был бы на месте, обладал квалификацией и был нацелен на то, чтобы принять на себя административную ответственность»[12]. Простая, в сущности, проблема организации нового посольства в этом городе, где все — от гвоздя до лезвий для бритья — приходилось импортировать, преодолевая каждодневное отчаяние от сражений с советской бюрократией, превращалась в формулу хаоса, еще более осложнявшуюся пристрастием самого Буллита к несоблюдению инструкций и стремлением все делать по-своему. В течение нескольких месяцев посольство едва работало; достаточно упомянуть, что постоянно нарушались официальные часы работы. Как писал об этом Джон Уайли, «борьба за существование отнимала почти всю [нашу] энергию[13]. Но эти молодые люди забывали о разочарованиях, потешались над абсурдностью советской бюрократии и продолжали делать свою работу, двигая ли мебель, или носясь по округе на мотоцикле в поисках вешалок для одежды. «Я доволен каждым человеком в своем штате», — писал Буллит президенту Рузвельту[14]. Они были молоды, им было весело, и все это было большим развлечением.
Не последнюю роль во всем этом играло и то, что молодых американцев объединяло очарование Советским Союзом, знания о стране они теперь черпали из первых рук, и это был именно тот момент, ради которого они учились и к которому готовились. Что еще делало этот период особенным больше чем что-либо другое, так это возможность свободно общаться с русскими. Тот промежуток времени лежал как раз на полпути между ужасом сталинской коллективизации и порожденным ею голодом, с одной стороны, и бессмысленной кровавой баней репрессий — с другой. Настрой был оптимистическим: многие русские верили, что все самое худшее осталось позади и что впереди — более светлое будущее, в котором их ждали «растущая свобода и личная безопасность»[15]. Революционный идеализм еще не погиб. Тейер и его коллеги могли общаться с любыми русскими людьми — балеринами, театральным людом, музыкантами, даже с политическими фигурами и военными. Буллит поощрял встречи своих дипломатов за пределами посольства; он сам образовал широкий круг приглашаемых в Спасо-хаус, где можно было встретить такие легендарные фигуры большевистской революции, как Николай Бухарин, Карл Радек или маршал Буденный: последний был героем Гражданской войны, «открытой душой с парой усов длиной с фут»[16]. В те дни москвичи не боялись приходить в резиденцию американского посла.
Посольская жизнь постепенно становилась все оживленнее, подпитываясь любовью Буллита ко всему необычному, «его пристрастием к тому, чтобы все делалось весело», как выразился Кеннан, и его решительным отказом «позволить жизни вокруг него впадать в тупость и тоску». Он все время был в поиске совершенно новых путей и действий — от бейсбола до поло — для того, чтобы установить с русскими более тесные отношения. Все эти развлечения тоже далеко выходили за обычные рамки, и, чтобы их организовать, он обращался к своему помощнику Чарли Тейеру, которому поручил следить за порядком в Спасо-хаусе и, что еще более важно, — за проводимыми публичными мероприятиями[17].
Тейер всегда был в центре любого веселья. Его называли «посольским озорником», и коллеги всегда вспоминали о нем с большой теплотой. В свои двадцать три он был моложе всех — голубоглазый, круглолицый молодой человек, чей слегка ангелоподобный вид никак не вязался со свойственным ему «бесшабашным чувством юмора» и «пристрастием к неистощимым шалостям». Дерзкий, «не пасовавший ни перед кем», по словам его будущего зятя Чипа Болена, «он, со своим изумительным нюхом на все нелепое, поддерживал в нас доброе чувство юмора». Другой его коллега, Лой Хендерсон, писал, что «его остроумие [и] по-юношески избыточные шалости привносили веселье в любое общественное собрание, в котором он оказывался». Но его несерьезный вид был обманчивым. Как тонко заметил его немецкий коллега Джонни Герварт, позднее ставший ему другом, он был «внимательным наблюдателем» за всем, что происходило на русской сцене, «человеком значительно более глубоким, чем многие полагали». Благодаря таланту и творческому воображению Тейера, получившего карт-бланш от посла, и помощи артистичной жены советника посольства Ирены Уайли посольство стало местом проведения нескольких эффектных событий («Я прямо сейчас действительно становлюсь самым опытным общественным затейником в мире», — хвастался Тейер в письме к матери). И самым захватывающим из этих мероприятий стал бал, описанный в одиннадцатой главе «Медведей в икре». Никто из тех, кто на нем присутствовал, не смог его забыть. Для москвичей он превратился в легенду, а Михаил Булгаков обессмертил его в своем шедевре «Мастер и Маргарита»[18].
В череде заметных событий того периода был приезд к Чарли в Москву его сестер Эвис и Бетси весной 1934 года. Там Эвис встретила друга и коллегу своего брата Чипа Болена, который в будущем станет ее мужем. Эвис и Бетси (которую послали, как гласит семейная легенда, чтобы приглядывать за Чарли) провели в русской столице несколько недель и стали постоянными участницами игр в бейсбол, вечеринок и всяких развлечений. Эвис на какое-то время даже обрела сомнительную известность, когда за фотографирование моста ее арестовали и три часа продержали в полицейском участке. Потом было много танцев в отеле «Метрополь» поздними вечерами, и к тому времени, когда ей нужно было уезжать, их роман с Чипом уже был в самом разгаре. Всю зиму у них шла отрывочная переписка, перешедшая в ухаживание, когда поздней весной 1935 года Чип вернулся в США. Последовала помолвка, и в августе 1935 года они с Эвис поженились[19].
Грустно, но ко времени прославленного бала в Спасо-хаусе, состоявшегося в апреле 1935 года, весь этот бурный и беззаботный период вступил в завершающую фазу. Как оказалось, это была не более чем короткая передышка в жестокой истории сталинского правления. Оглядываясь в прошлое, мы можем увидеть, каким хрупким все это оказалось, как исчез оптимизм простых русских людей. Как мы знаем, Сталин уже замышлял физическое уничтожение своих соперников, которых ранее лишил занимаемых постов. Убийство Сергея Кирова, первого секретаря Ленинградской партийной организации, совершенное в декабре 1934 года, отметило начало: Ирена Уайли, устраивавшая в тот день коктейльный прием, заметила, как за какие-то минуты опустела ее комната, лишь только весть об убийстве распространилась среди ее гостей. И хотя до самых худших репрессий оставалось еще несколько лет и контакты между американцами и русскими какое-то время оставались свободными, это было началом конца. И в самом посольстве счастливая атмосфера 1934 года рассеивалась по мере того, как Буллит накапливал свой советский опыт. Разочаровавшись в своих надеждах на установление особых отношений с Москвой, он во все большей степени и открыто стал занимать антисоветскую позицию. Злонамеренные слухи и сплетники в посольстве настроили его против всех ярких молодых людей, которых он так высоко оценивал за год до этого, включая и Чарли Тейера. Чипа Болена вызвали в Вашингтон. Чарли Тейера низвели до роли простого служащего консульского отдела, однако он работал не подымая головы и смог вернуть расположение Буллита. Сам Буллит покинул Москву в середине 1936 года, надолго изжив свое доброе отношение к тем, кто принимал его в Советском Союзе[20].
В 1936 году Тейер сдал экзамены для поступления на дипломатическую службу и оставался в Москве до сентября 1937 года. Обстановка здесь становилась все более мрачной. Прежние русские друзья были арестованы, отправлены в лагеря или расстреляны. Иностранцы вели все более замкнутый образ жизни. Дача[21] все в большей степени становилась отдушиной для американцев. За работой в Москве последовали новые назначения в Берлин и Гамбург, и, как вспоминает Тейер в «Медведях в икре», там тоже не обошлось без приключений. В 1940 году он уже без всякой охоты был направлен в Москву во второй раз и в 1941 году вместе с Советским правительством и американским посольством отправился в эвакуацию в Куйбышев, когда казалось, что столица может пасть под натиском наступавших немцев. В 1942 году он получил назначение в Кабул, чтобы открыть там американское посольство. За Афганистаном последовало недолгое пребывание в Лондоне, после чего он в 1944 году вернулся на армейскую службу, чтобы вскоре перейти в Управление стратегических служб (УСС) и в этом качестве присоединиться к только что созданной американской миссии при штабе Тито в Югославии. Встречи и приключения с партизанами Тито и наступление Красной армии описаны в его книге «Рукопожатие над икрой» (Hands Across the Caviar)[22], ставшей продолжением книги «Медведи в икре». К моменту окончания войны Тейер как сотрудник УСС работал в Вене, а после вошел в состав Объединенной американо-советской комиссии по Корее в Сеуле. Во всех этих назначениях ему пригодились и его русский опыт, и знание русского языка.
После того как в 1946 году Тейер вернулся на дипломатическую службу, именно ему предложили возглавить (1947–1949) только что созданную радиостанцию «Голос Америки». Потом ему пришлось отправиться в посольство США в Бонне в качестве сотрудника, отвечавшего за политические связи. Наконец, в 1952 году его назначили на важный пост Генерального консула в Мюнхене. В свои 43 года он мог гордиться успешной карьерой и репутацией уважаемого эксперта по советским делам.
Но в марте 1953 года жизнь в дипломатии для Тейера подошла к трагическому концу. Как и многие его коллеги по Государственному департаменту, он пал жертвой охоты на ведьм в эру Маккарти и стал объектом мстительности Эдгара Гувера. В конце 1940-х годов начало холодной войны породило всевозраставшую истерию по поводу коммунистической подрывной деятельности, в частности выразившуюся в атаках на Государственный департамент, который обвиняли в том, что он стал прибежищем коммунистов и гомосексуалистов. (Настоящих коммунистов было очень мало, и обвинения в гомосексуализме стали излюбленным оружием охотников за ведьмами.) Начиная с 1949 года Тейера неоднократно допрашивали на основе анонимных доносов с обвинениями в симпатиях к коммунистам и в гомосексуализме, и некоторые из этих обвинений относились к годам его работы в Москве. (Сегодня трудно поверить в те шаткие свидетельства, основанные на грязных обвинениях, ничем не подтвержденных слухах, злобных сплетнях, пошедшие в ход, чтобы разрушить карьеры людей.) В 1951 году ему было приказано прибыть в США из Бонна, чтобы предстать перед Бюро по безопасности. Один из тестов на полиграфе он не прошел, другой дал неопределенные результаты. Почти обезумевший, «находясь в угнетенном состоянии, испытывая отвращение и волнение» в связи с обвинениями в свой адрес и по причине разрушения своей карьеры, он лег в швейцарскую клинику[23]. Психологическое обследование, так же как и прежние исследования, установило, что обвинения в гомосексуализме не имеют под собой никакой почвы. Говоря кратко, ни одно из обвинений так никогда и не было подтверждено, и его неоднократно оправдывали: Комиссия по гражданской службе, Департамент юстиции и, дважды, Совет по лояльности Государственного департамента.
Но расследования продолжались, дипломата взяли под наблюдение, и обвинения с него не сняли. C возрастом Тейер не утратил своего нахальства и как директор «Голоса Америки» впал в немилость у Эдгара Гувера за то, что в 1948 году публично заявил, что расследования ФБР «подрезают крылья» его попыткам привлечь к работе восточноевропейцев и русских. После этого Гувер сделал так, чтобы обвинения против Тейера не прекращались и оповещал о них Маккарти и его союзников на Капитолийском холме. Но единственным настоящим фактом, добытым в ходе расследований, было то, что Тейер стал отцом ребенка Ольги Филипповой, русской эмигрантки, работавшей у него ассистенткой на «Голосе Америки». Этот короткий роман завершился скорым браком и почти незамедлительным разводом. Их сын Чарльз родился в марте 1949 года. Это «нравственное обвинение» вошло в досье как подтверждение моральной порочности Тейера[24].
После того как республиканцы в 1953 году вернулись к власти, охота на ведьм стала еще интенсивнее; в самом Государственном департаменте ее поощрял Джон Фостер Даллес. Возобновленное дело Тейера оказалось вплетено в ситуацию с назначением президентом Дуайтом Эйзенхауэром на пост посла США в Советском Союзе зятя Тейера — Чипа Болена. Это назначение само по себе было противоречивым. Одно то, что Болен в Ялте был переводчиком Рузвельта, в глазах республиканцев уже было предосудительным. К тому же и против него выдвигались какие-то смутные обвинения в гомосексуализме, частью восходившие к годам работы в Москве и, как и в деле Тейера, имевшие характер обвинений в соучастии. Маккарти и его союзники постоянно атаковали его, и вскоре назначение Болена оказалось в центре бурных дебатов[25].
Несмотря на оппозицию внутри собственной партии и противодействие самого Гувера, Эйзенхауэр высказывался за назначение. И все-таки было очевидно, что ценой назначения Болена станет отставка Тейера. Даллес вырвал у претендовавшего на назначение посла обещание, что он не будет обременять президента тем, что снимет свою кандидатуру «по каким-либо причинам», «что бы ни случилось» и «независимо от доказательств». Но Болену не было известно, что с согласия Даллеса уже было намечено смещение Тейера с поста по причине «риска для безопасности в связи с гомосексуализмом». Через день после разговора Болена с Даллесом Тейер позвонил зятю из Мюнхена и сообщил, что его попросили подать в отставку, чтобы «избежать предъявления обвинений, препятствующих его использованию на федеральной службе». Болен обратился к Даллесу и спросил, не означает ли формула «по каким-либо причинам» дело Тейера, «на что Даллес вежливо ответил: да»[26]. Обещание, которое Болен считал для себя обязательным, было вырвано у него для того, чтобы предотвратить его отказ от службы после увольнения Тейера.
Последний грустный акт этой трагедии разыгрался в офисе Болена в Государственном департаменте 23 марта 1953 года, в то время как на другом конце города шли горячие дебаты по его назначению[27]. Тейер, не предупредив никого, вернулся в Вашингтон. Не сумев сразу связаться с Боленом, он провел, «оставаясь незамеченным»», нескольких часов в Национальном аэропорту, прячась за развернутым номером газеты «Вашингтон пост». Когда им удалось связаться, потрясенный Болен сказал ему, что приезжать в США было «не мудрым» решением, и посоветовал ему немедленно явиться в Государственный департамент «самым неприметным образом», чтобы его не смогли опознать и предъявить повестку в суд со стороны Маккарти. Тейеру стало ясно, что он лишился защиты Государственного департамента. Болен сказал своему шурину, что бороться с обвинениями бесполезно, поскольку президент и Даллес теперь «"заодно" с Маккарти». Борьба лишь сделает все гнусные, хотя и недоказанные, обвинения из его досье достоянием публики, что страшно расстроит его жену и мать. Вопрос лишь в том, как сохранить лицо при увольнении.
Письмо об отставке обсуждалось с заместителем госсекретаря по административным вопросам Дональдом Лоури, который был политическим назначенцем. Тейер просил, чтобы департамент пояснил, что причиной его отставка стали «девичьи обвинения» (то есть роман с Ольгой Филипповой), а не что-то менее пикантное. Лоури, на удивление, противился этому и согласился только тогда, когда увидел, что Болен «теряет самообладание, его руки затряслись, а лицо исказилось от гнева», и услышал от него, что если Госдепартамент «унизит» Тейера, то он будет считать себя свободным от данного им президенту обещания быть номинированным на пост посла. Вся сцена была сюрреалистической: в то время как телетайп продолжал отстукивать сообщение о ходе обсуждения в Сенате назначения Болена, сестра Тейера Эвис позвонила мужу и спросила, не знает ли он, где находится Чарли; Болен, будучи уверенным, что его телефон прослушивается, ответил ей, что не знает. Когда все закончилось, Тейер тайно улетел в Нью-Йорк и «как разыскиваемый преступник» сидел в уголке аэропорта Айд-луайлд[28], пока не объявили его рейс. Его визит в США длился семь часов. «У меня на самом деле было такое чувство, что я оказался где-то между сумасшедшим домом и бандитской берлогой», — писал он позднее[29]. Ему казалось, что «каждый на тебя оглядывается, шепчется, подсматривает и ухмыляется, словно дьявол его одолел». Вернувшись в Мюнхен, он до трех часов ночи просидел за бутылкой вместе с Джоном Патоном Дэвисом, главной «рукой Китая»[30] в Государственном департаменте, который верно предсказал, что он сам скоро станет следующей жертвой в списке Маккарти[31]. Новостям об отставке Тейера с одинаковым недоумением отказывались верить и американцы, и немцы[32].
Так — без грохота, но не без возни — окончилась дипломатическая карьера Тейера. Для него это стало личной трагедией: дипломатическая служба была его жизнью, и ничто другое из того, чем он занимался, не приносило ему большего удовлетворения и не стало большим успехом. Снова, как и двадцать лет назад, когда он только приехал в Москву, его терзали сомнения: правильно ли он сделал выбор в пользу отставки, а не борьбы с обвинениями[33]. Вполне предсказуемо Государственный департамент не сдержал-таки данного ему обещания: под давлением атак со стороны Маккарти, в обоснование увольнения было указано, что Тейер «ушел в отставку, чтобы избежать предъявления обвинений, включавших подозрения в полезности его услуг для федеральной кадровой службы»[34].
Покинув дипломатическую службу, Тейер вместе с женой Синтией и семьей вначале уехал на Майорку — жизнь там была недорогой и к тому же Майорка находилась вне доступности повесток от Маккарти, которых все еще приходилось опасаться[35]. (Тейер шутил, что при Сталине надо было уезжать в Сибирь, при Гитлере — в Дахау, а при Маккарти — на Майорку, и это он считал прогрессом[36].) Кроме того, Тейера привлекало то, что Майорка предоставляла «возможность вырастить молодежь, примерно так же, как вырастили меня, в условиях замечательного существования на природе, которое в США можно купить лишь за большие деньги»[37].
Бывший дипломат рассчитывал зарабатывать писательским трудом, свою способность к которому он уже успел продемонстрировать. Книга «Медведи в икре», опубликованная еще до ухода с дипломатической службы, имела большой успех. В течение следующих четырнадцати лет он написал много хороших книг и десятки статей; кроме всего прочего, он часто писал в «Спорт иллюстрейтед». Некоторые из его книг получили одобрение критиков, но ни одна не повторила успеха «Медведей», и его карьера как писателя так и не состоялась. У него было немало поводов для глубокого уныния. Деньги были постоянной проблемой. До конца жизни его преследовали призраки эры Маккарти: когда он обращался в поисках работы, то обнаруживал, что ФБР занесло его в черные списки: так было еще в середине 60-х годов, когда ему отказали в профессорской должности в Университете штата Вирджиния. Об этом своем опыте он написал роман «Офицер и джентльмен», но его друзья решительно отсоветовали ему публиковать книгу[38].
Проведя два года на Майорке, Тейер с женой и двумя детьми вернулся в Мюнхен, где прожил следующие десять лет. Они купили шале недалеко от Рупольдинга в Баварских Альпах, «среди огромных высоких сосен и буков, зеленых мхов и потоков, струящихся с гор», которое стало их любимым убежищем[39]. Позднее они стали проводить часть года в Соединенных Штатах — вначале в Вашингтоне, потом на Мэйн-Лайн в Филадельфии, чтобы сын Джимми мог посещать американскую школу. Но каждое лето они отдыхали в покое среди красот Рупольдинга, и именно там Тейер умер от сердечного приступа 27 августа 1969 года.
Будучи большим любителем путешествий и охоты, Тейер побывал во многих уголках земного шара — он охотился на газелей в Азербайджане и на архаров в Афганистане. В более поздние годы он был счастлив, когда охотился или рыбачил в своих любимых Баварских Альпах. Он страшно гордился и радовался за своего сына Джимми, разделявшего его любовь к природе, и за свою падчерицу Диану. В последние годы он восстановил, пусть и непростые, отношения со своим сыном от Ольги Филипповой, которого тоже звали Чарльз. (Молодой Чарли в конце концов установил контакты с семьей отца и подружился с некоторыми своими кузинами и кузенами, в число которых входили и Болены.) До конца жизни у Тейера оставалось много преданных друзей, которым он писал замечательные письма. Два десятка племянников и племянниц обожали его. Невозможно переоценить удовольствие от нахождения в одной компании с ним: он был смешным, талантливым рассказчиком, и быть с ним рядом всегда было очень весело. Как спустя много лет написал Лой Хендерсон, одно его присутствие несло с собой веселье, где бы он ни появлялся[40].
Тейер определенно заслуживал лучшей жизни, чем ему досталась. Но ему бы доставило огромное удовольствие узнать о непреходящей славе «Медведей в икре», о том, сколько поколений сотрудников дипломатической службы и журналистов готовились к предстоящей жизни в Москве, читая о давних приключениях и шалостях той молодой компании. Он был бы рад, как и многие почитатели «Медведей», узнать, что и спустя шестьдесят лет после своей первой публикации эта книга все еще заслуживает переиздания.
Эвис Болен, зима 2015 года
Эвис Болен (Avis Bohlen) — племянница Чарльза Тейера, дочь Чипа и Эвис Болен. Будучи профессиональным дипломатом, она служила, среди прочих назначений, в качестве посла в Болгарии, была заместителем государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями. В настоящее время она пишет биографию Чарльза Болена и проделала большую работу в архиве над записками Чарльза Тейера.
Библиографическое примечание[41]
Документы Чарльза Тейера находятся в Библиотеке Гарри Трумэна в городе Индепенденс в штате Миссури. Эта большая коллекция включает его переписку и дневники, которые он вел всю свою жизнь. Другие, имеющие к нему отношение коллекции документов, — это собрание документов Чарльза Э. Болена (Charles E. Bohlen) в Библиотеке Конгресса; собрание документов Джона К. Уайли (John C. Wiley) в Библиотеке Франклина Делано Рузвельта; собрание документов Уильяма К. Буллита (William C. Bullitt) в Стерлинговской библиотеке рукописей и архивных документов Йельского университета; коллекция Эвис Болен (Avis Bohlen) в Библиотеке Шлесинджера в Кембридже, штат Массачусетс.
Наиболее полный отчет о многочисленных расследованиях в отношении Тейера и его отставке можно найти в статье Роберта Д. Дина (Robert D. Dean "The Sexual Inquisition and the Brotherhood" в книге Brotherhood: Gender and the Making of Cold War Policy (Amherst, Mass. 2001), 98-145. См. также другую работу Дина: "Charles W. Thayer: Purged from the State Department" в книге: The Human Tradition in America since 1945, ed. David L. Anderson (Wilmington, DelWARE, 2003), 227–245. Я благодарна профессору Дину за его замечания в отношении настоящего Введения.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Чтобы избежать каких-либо недоразумений, с самого начала поясню, что это не дипломатическая история печального десятилетия, приведшего ко Второй мировой войне. Таких историй уже достаточно. Это даже не один из личных очерков о дипломатических маневрах тех времен. Их тоже слишком много, и пишут их все, начиная с самих послов и первых советников посольств, кончая их дочерьми и водителями.
Это всего лишь записи о некоторых эпизодах, которые случаются с каждым дипломатическим работником в свободное от работы время. Описание любых исторических событий в этом очерке дается лишь постольку-поскольку. Автор оказался способным вести дневник не дольше одного-двух месяцев, после чего, и вероятно к добру, потерял его. Соответственно пришлось опираться исключительно на собственную неверную память, чтобы вспомнить те эпизоды, которые произошли двадцать лет назад или еще раньше. Имена, даты и места указаны более или менее точно, но в некоторых важных случаях, когда подводила память, я придумывал действующим лицам псевдонимы и приводил приблизительные сведения.
Бонн, Германия 2 июня 1950 года
Глава 1 КАК Я СТАЛ ВОЕННЫМ
С присущей ему беззаботностью правительство Соединенных Штатов взялось за мое формальное образование в тот самый момент жарким летним утром 1929 года, когда я проследовал через проходную Вест-Пойнта. Все, что случилось в течение нескольких последующих часов и недель, едва осталось в моей памяти. Сохранились какие-то туманные воспоминания о компании кадетов-третьекурсников иарлингов или софоморов[42], вопивших, кричавших и рычавших на меня, но я до сих пор не вполне понимаю, чего они добивались. Кто-то, кажется, хотел, чтобы я поднял свой чемодан, кто-то — чтобы я его бросил. Кому-то нужно было, чтобы я бежал, а кто-то требовал, чтобы я просто шагал, в то время как еще кому-то приспичило, чтобы я стоял навытяжку, да так, что подбородок касался кадыка, а лопатки на спине сходились друг с дружкой[43]. Нам первогодкам-плебеям говорили, что это и есть дисциплина и что это хорошо для нас. Но прошло каких-то 360 дней, и иарлинги принялись жать нам руки и говорить, что теперь мы признаны и больше не должны обращаться к ним сэр. Итак, все мы были счастливы и лишь с нетерпением ждали, когда новый курс плебеев пройдет через проходную.
Пятнадцать лет спустя Дядя Сэм настоял на продолжении курса моего формального обучения. Этот курс пролегал сквозь люк в полу бомбардировщика, переделанного из обычного самолета, и через темноту негостеприимной ночи где-то на севере Англии. Я приземлился, шлепнувшись о твердую землю коровьего выпаса, слегка ошеломленный, но вполне удовлетворенный и собой, и своим парашютом. Мне вручили свидетельство «парашютиста третьего класса» и направили в распоряжение генерала Билла Донована[44] в качестве обученного агента. С тех пор я тщетно пытался найти кого-либо с сертификатом «парашютиста четвертого класса». Судя по всему, такой класс присваивают лишь посмертно.
Но вернемся к началу. Можно спросить, зачем идти в Вест-Пойнт, если хочешь попасть на дипломатическую службу, и наоборот. Кое-кто из бывших кадетов ответит вам, что пошел в Вест-Пойнт, потому что мечтал стать военным; другие скажут, что думали о получении образования; а еще кто-то честно признается, что мечтал играть в армейской футбольной команде. Боюсь, что в моем случае ни один из таких ответов не подходит. С восьми лет я всегда хотел попасть на какую-нибудь государственную службу. Вначале это было желание стать полицейским или пожарником. Затем пришел черед военно-морского флота и армии, и только потом я подумал о ведомстве иностранных дел. В общем, я решил, что лучше пусть меня учит правительство, если оно на это готово. Но если уж говорить совершенно откровенно, то у меня была еще одна дополнительная причина, и это был футбол. Но только не потому, что я жаждал в него играть. Как раз этого-то я и не хотел.
В течение нескольких десятилетий мой отец, дядья и брат поступали в Пенсильванский университет, где они становились капитанами футбольных команд, входили в состав разных всеамериканских сборных и в общем наслаждались ролью футбольного героя. Еще в школе мои тренеры и я сам сделали открытие, которое хотя широко и не оглашалось, но тем не менее для меня было важным: я не создан для футбола. Три года я играл в третьей университетской клубной команде, а на четвертый меня даже сделали ее капитаном, но не из-за умения, а потому что старше меня никого уже не было. В неудаче не было вины тренеров. Они помнили моего брата, и дядьев, и отца и делали все, чтобы извлечь из меня футбольный талант, который, по их убеждению, дремал где-то в глубине. Но после четырех лет бесплодной борьбы они покачали головами и с грустью признали, что их план в отношении меня провалился.
Итак, когда пришла пора поступать в колледж, я был абсолютно уверен лишь в одном: я не стану играть в футбол и не буду пытаться играть и не дам экспериментировать над собой университетским тренерам, готовым подвергнуть испытанию мое здоровье и терпение только для того, чтобы открыть для себя то, что я сам уже давно и с болью осознал — я не могу играть в футбол.
Именно поэтому я планировал тихо порвать с пенсильванской футбольной традицией и незаметно улизнуть в Вест-Пойнт. Но я не принял в расчет армейский футбольный персонал. Не прошло и недели после того, как мы прибыли в казармы Бист[45], как весь курс плебеев выгнали на футбольное поле показывать, кто что умеет. Дежурному офицеру я постарался объяснить со всей вежливостью, на какую был способен, что со мной они только теряют время. Но со всей возможной грубостью мне ответили, что это тренеры будут решать, кто хорош для футбола, а кто нет. Достаточно было провести в казармах Бист лишь несколько часов, чтобы научиться не спорить с начальством, и я мысленно пожал плечами и после введения мяча в игру с панта[46] попытался остановить какого-то здоровяка из зааппалачских степей. Тот заехал мне коленом в ухо. Тренер сумел за несколько минут вернуть меня в игру. Потом кто-то сказал, что новый кадет Тейер должен бежать за пасом. Я рванул изо всех сил, но пас нашел меня самого, и мяч точнехонько угодил мне прямо в лицо. Было больно. Пока я приходил в себя, какой-то оптимист-инструктор произнес:
— А может, он у нас бегущий[47].
Раз так, то они передали мне мяч, и одиннадцать сплоченных однокурсников из команды соперников повалились на меня прежде, чем я попытался начать свой бег. В конце концов, всем-таки открылась истина, и дежурный офицер сказал, что завтра я могу испытать себя в лакроссе.
Неделю или две я исправно переходил с одной спортивной площадки на другую, пока инструкторы искали мне нишу. На самом деле они даже не спрашивали меня о моих предпочтениях. Это было бы слишком просто. Лакросс, соккер, бейсбол, баскетбол, хоккей, бокс, борьба — я «попробовал» себя во всех из них.
Однажды в столовой при зачтении приказов на день адъютант изрек: «Новый кадет Тейер после обеда отправляется в футбольную команду». С унылым видом я напялил футбольную форму в гимнастическом зале и отправился на поле. К тому времени вся команда уже прошла через отбор и, соответственно, средний вес и сила игроков весьма возросли.
Один из младших тренеров ворчливо спросил меня:
— Ты имеешь какое-нибудь отношение к игроку-энду[48] символической сборной Америки прошлого года?
Я признался, что имею, и начал объяснять, что все футбольные таланты в нашей семье достались моему брату.
Но тренер укоротил меня:
— Иди на поле и встань на энд. Посмотрим, что ты сможешь сделать.
Я так и сделал, и в течение пары розыгрышей единственное, что мне приходилось делать, так это сталкиваться с весьма энергичными атакующими игроками. Затем кто-то из противоположной команды ошибся, и я оказался перед игроком с мячом. Я встретил его как умел, но каким-то образом его рука оказалась на моей голове и резко толкнула ее навстречу чужому поднятому колену, а сам игрок обвел меня и принес отличное очко своей команде. Меня унесли с поля, окатили водой и велели, чтобы я передохнул.
— Не повезло тебе, — сказал тренер, стараясь утешить. Судя по всему, он все еще думал, что сделал открытие и намеревался не позволить кому-либо мешать моей футбольной карьере.
Я потом несколько раз встречал людей такого типа. Один профессор в Иране как-то сказал мне, что если я смогу научиться читать правильным образом — то есть справа налево — он сумеет обучить меня персидскому языку. (Такой возможности ему не представилось.) А еще инструктор-итальянец по горным лыжам в Кортина д'Ампеццо, увидев меня несущимся с огромной скоростью по склону для начинающих, решил, что я многообещающий лыжник. Ему как-то удалось не заметить очевидного факта, что я мчался так быстро по той простой причине, что не мог остановиться. И он включил меня в группу лучших учеников, чтобы спуститься с высокого склона Доломитовых Альп. Когда несколько часов спустя я стер с лица и снег, и кровь, то обнаружил, что нахожусь у подножья горы. После оказания мне небольшой первой помощи я даже смог сесть и восполнить силы, приняв на грудь добрый стакан бренди. Но инструктор по лыжам был настоящим спортсменом и галантно повесил мне на грудь медаль. Это означало, что я теперь «горнолыжник третьего класса». Очевидно, класс лыжникам присваивался по тому же принципу, что и парашютистам: если бы я действовал еще хуже, то был бы мертв.
Младший футбольный тренер в Вест-Пойнте не дал мне никакого бренди. Вместо этого он заставил меня до самой темноты бегать под ударами, бросаться на манекены — искусственные и всякие другие — и принимать пасы разными частями моего тела, в основном они приходились на солнечное сплетение. Когда я наконец поплелся в раздевалку, он, казалось, на миг смягчился и крикнул мне вслед:
— Хватит с тебя футбола. Можешь завтра возвращаться в свою спортивную группу.
На самом деле это меня даже тронуло.
Прошло еще несколько недель, и я начал подумывать, а не оставили ли меня в покое мои обманутые фанаты. Но однажды за ланчем адъютант опять прокричал все ту же фатальную формулу:
— Новый кадет Тейер сегодня отправляется на футбольную тренировку.
Я был уверен в том, что это ошибка, и размышлял над тем, что лучше — проигнорировать приказ или переспросить. Неисполнение приказа в Вест-Пойнте — это самый опасный из видов спорта, поэтому после ланча я робко обратился к адъютанту:
— Извините, сэр, не является ли полученный мной приказ ошибкой? Три недели назад Вы сказали мне и я думал.
— Мистер Глухонемой! Вы что, еще не выучили, что плебеи не задают вопросов? Еще раз, знаете ли вы, что бывает, когда плебеи думают?
Это был стандартный вопрос, и я обреченно пробормотал обычный ответ:
— Да, сэр! Они все испортят, сэр.
Так в третий раз я оказался в футбольной команде. Теперь сам главный тренер занялся мной, легонько хлопнув меня по спине.
— Я просматривал вчера вечером списки плебеев, — сказал он, — и наткнулся на твое имя. Ты не брат энда из всеамериканской сборной?
Я признался, что это именно так.
— Подумать только, мы все время тебя не замечали! Иди, становись крайним правым эндом и покажи нам, на что вы, Тей-еры, способны. Мы мигом включим тебя в команду Академии. Ты немного легковат, но быстро окрепнешь.
К этому времени я уже выучил, что лучше не возражать и пошел на энд. Футбольная команда к этому времени освободилась от всех неофитов и состояла исключительно из двухсотфунтовых[49] горилл, чьей единственной радостью было, как мне казалось, доставить своим коллегам как можно больше неудобств. Мне они быстро перестали нравиться. Моя игра на этот раз оказалось не такой долгой, но определенно она была более интенсивной, чем в предыдущих случаях. Несколько розыгрышей я сумел пройти, отделавшись лишь парой ссадин на физиономии, кровоподтеками на голени и вывихнутым плечом. Я начал даже получать некоторое удовольствие. Но потом двое более крупных коллег, двигаясь в противоположных направлениях, столкнулись с моей левой ногой. Моя лодыжка оказалась единственной участницей столкновения, которая могла уйти в сторону, и она ушла.
Футбольный доктор лишь взглянул на нее и тут же повернулся к главному тренеру:
— Больше никакого футбола для него в этом сезоне.
Главный тренер пробормотал что-то вроде «очень плохо». Но по тому, как он это произнес, я понял, что он совсем не расстроен, как могло бы показаться в начале дня. Наверное, тренер начал понимать, что умение играть в футбол черта не наследственная, а благоприобретаемая.
Наконец, я попробовал себя в поло. Верхом я ездил с детства и тренер по поло подумал, что для меня у него кое-что найдется. Как бы то ни было, в списке команды по поло я оказался в самом конце. Все остальные четыре года поло для меня было единственным спортивным занятием. И не потому, что я умел бить по мячу, но я умел ездить верхом и большую часть времени тренировал пони[50]. В конце концов, просто по причине старшинства я заработал себе имя, что реабилитировало меня, по меньшей мере, в глазах в моей семьи. Конечно, это было имя с маленькой буквы, а не Имя. Оно вполне соответствовало сертификатам парашютиста и «лыжника третьего класса».
Футбол и поло заботили меня в те первые дни больше всего. Однако казармы Бист занимали нас выполнением многих других более или менее приятных обязанностей. Нас пытались учить маршировать, строиться, застилать койки, выполнять ружейные приемы. И все время нас настолько преследовали нудными требованиями соблюдать дисциплину, что это, надо признать, хоть и дало довольно быстрые результаты, но одновременно заставило сомневаться в здравомыслии наших инструкторов. Воспитание дисциплины в основном заключалось в оре со стороны инструкторов и приведении в замешательство плебеев. И если замешательство плебея оказывалось слишком большим, то такой плебей считался «отсталым». Если же оно было недостаточно сильным, то плебей оказывался «продвинутым» — что было еще большим преступлением. В конце концов, мы научились держаться заветной середины, и когда учебный год приблизился к концу, мы стали невосприимчивы к назойливым разглагольствованиям начальников — но при этом последнее, чего мы желали, так это показывать наше к ним отношение.
Не могу сказать, что программа обучения в Вест-Пойнте была совершенно адаптирована к потребностям дипломатической службы. От дипломата ждут цветочков, а солдат должен иметь прочные корни — хотя бывает и наоборот. Основным ингредиентом учебной программы была математика и разнообразные варианты ее применения в физике, баллистике и инженерном деле. Применение математики в дипломатии долгое время заключалось лишь в том, чтобы оставаться понятной, но, в конце концов, вычисления и логарифмическая линейка доказали свою незаменимость даже в рафинированной атмосфере посольской канцелярии.
Через добрых десять лет после того, как я в последний раз брал логарифмы, я оказался в Афганистане, где занимался устройством нового посольства. Нам предоставили прекрасный каменный дом для размещения посла, но сколько-нибудь приличных офисов не было. Шла война, и многие из иностранных инженеров и архитекторов, нанятых афганских правительством, уехали домой. Соответственно, те инженеры, что еще оставались, занимались намного более важными делами, чем помощь американцам в решении их жилищных проблем. Итак, со времен Вест-Пойнта прошло не так уж много времени, как я извлек из сундука свою чертежную доску и с помощью рейсшины и линейки спроектировал то, что я сам называю единственной канцелярией дипломатической службы США, созданной третьим секретарем. (Так уж получилось, что офис самого третьего секретаря оказался самым большим, наиболее комфортабельным и к тому же имел замечательный вид из окна по сравнению со всеми остальными помещениями канцелярии в Кабуле.)
Но возникла новая проблема. В доме посла была большая главная столовая. Прямо над ней, на втором этаже, размещалась спальня такого же размера. В то же время спальня оказалась, на вкус посла, чуть больше, чем нужно. И мы решили разделить ее на две. Мы наняли каменщиков из местных и вскоре добротная кирпичная стена разделила комнату. Единственное, что беспокоило, так это то, что мы не подумали о весе кирпичей и прочности деревянных балок, на которых держался потолок столовой. Очень скоро потолок начал слегка проседать. А еще через какое-то время на нем появились приличные трещины. Все пришли к выводу, что если ничего не делать, то замечательная перегородка спальни очень скоро окажется этажом ниже — в столовой. Поскольку архитекторов и инженеров не было, мы вдвоем с производителем работ — он же был владельцем здания, — попытались справиться с проблемой самостоятельно. (Совершенно случайно оказалось, что домовладелец был еще и военным министром. В настоящее время Его Королевское Высочество Шах Махмуд Хан — премьер-министр Афганистана[51].) Я предложил установить стальную балку.
— Стальную балку в Кабуле? — переспросил Его Королевское Высочество, — Да где ж нам ее найти?
Его дворецкий, ясноглазый мужчина по имени Ахмед Джан, чья способность доставать что-либо была существенно выше, чем грамотность, позволил себе вмешаться в наш разговор:
— Я легко достану балку. Дайте пару минут.
Ахмед Джан исчез в экипаже Его Королевского Высочества, и через полтора часа экипаж вернулся, волоча за собой предмет, определенно напоминавший балку. При более тщательном осмотре предмет оказался рельсом когда-то существовавшей афганской железной дороги[52]. (Среди многих своих уникальных качеств Афганистан, насколько я знаю, является единственной страной мира, которая имела железную дорогу. Очень немногие страны не имеют железных дорог. У большинства они есть. У Афганистана она была, но ее разобрали. Она была коротенькой — всего три мили, но племена и муллы решили, что ее строительство — шаг в неверном направлении. Поэтому они ее разобрали и швырнули рельсы построившему ее королю Аманулле, а заодно и избрали себе другого короля. Каждый, кто считает, что Афганистан не является демократией, должен спросить об этом Амануллу[53]. Он живет в Швейцарии.)
Как только я увидел рельс, то сразу подумал, что он недостаточно прочен для нашей цели. Шах Махмуд в огорчении всплеснул руками и уехал в своем экипаже. Дворецкий же почти не был удручен и едва ли в большей степени расстроен моими сомнениями. Он усмехнулся и спросил, почему я считаю, что балка слишком слаба.
— По образованию я инженер, — ответил я ему свысока.
— А что, дипломированные инженеры судят о прочности балки по ее внешнему виду? Я всегда полагал, что они должны вначале измерить ее и произвести расчеты, чтобы быть уверенными. Но, возможно, американские инженеры поступают иначе, — саркастически заключил он.
Я вернулся домой расстроенным, злым и совершенно растерянным. Но в тот вечер до меня дошло, что мои старые инженерные справочники хранятся вместе со всеми другими бесполезными книгами, которые я вот уже десять лет за счет правительства таскаю за собой по всему миру. Итак, я взялся за расчеты допустимой нагрузки на рельс старой, заброшенной железной дороги бывшего короля Амануллы. Чтобы закончить подсчеты, мне хватило недели. Еще неделю я потратил на то, чтобы найти верную формулу расчета прочности стальных балок. И хотя я не был вполне уверен в том, что нашел подходящую, я все-таки принял грубое допущение, что трамвайный рельс можно рассматривать как эквивалент двутавровой балки. С каждым днем проседание потолка столовой становилось все более угрожающим. Это была гонка со временем и с производством работ на втором этаже. Нельзя было терять времени на игру с формулами.
Наконец, я закончил расчеты и, к своему ужасу, пришел к заключению, что прочность рельса такова, что он способен выдержать по одному слону в каждой из двух спален. Поскольку в Кабуле была только одна слониха, да и та редко заходила в дома (ее обязанностью было лишь тянуть каток, ровнявший дворцовую дорогу), стало очевидным, что Ахмад Джан был прав. Я снова проверил расчеты и отослал ему. Я показал ему свои вычисления, заполнившие три блокнота, которые он из вежливости просмотрел. Его собственные познания в арифметике сводились лишь к способности делать сложение, но когда я дошел до момента с двумя слонами, он засиял от удовольствия, тепло пожал мне руку и провозгласил, что американские инженеры, быть может, и не столь скоры в вычислениях, зато всегда приходят к правильным выводам.
Очень возможно, что мои расчеты были ошибочны, но, по последним сведениям, потолок в столовой в кабульском посольстве все еще держится крепко. Надеюсь, что умение делать вычисления пригодилось и моим товарищам по Академии тоже.
Полагаю, что военное образование, полученное в Вест-Пойнте, действительно сыграло некоторую роль в моей жизни, хотя я все время стремился его игнорировать. Боюсь, что именно в этой сфере я потерпел самую большую неудачу. Во-первых, старшекурсники единодушно считали, что я не могу держать шаг на параде. В конце концов я убедил их, что это суждение не совсем верно, но тогда они сочли, что дело в моей походке. После неоднократных попыток исправить мою выправку меня отправили в последнюю шеренгу строя, где я и оставался все четыре года. Первое время я чувствовал себя несколько обиженным, но потом понял, что это можно использовать. И на самом деле я стал считать своим преимуществом то, что я маршировал за спинами товарищей. Проверяющие нас генералы оказывались не такими уж сердитыми, когда обнаруживали, что ты забыл завязать шнурки, и когда крутишь носом в строю, стараясь прогнать назойливого комара, дежурный офицер выказывал меньшую склонность принимать это за «движение без приказа». Кроме всего прочего, это освобождало от ненужных мыслей во время строевой подготовки. Мой дядя, тщетно пытавшийся добиться призыва на воинскую службу в Первую мировую войну, говаривал, что только слабоумный может быть хорош в тесном строю. Любой человек с минимальными наклонностями к размышлениям неизбежно придет к интересным умственным заключениям, стоит ему только услышать команду взводного командира «Налево, в шеренгу становись» или «Отделение, налево, в шеренгу становись», и тут же несчастный мыслитель окажется невеждой вне строя. С дядей происходило нечто подобное.
Дело было и в «воинской выправке», что предполагало определенное взаимное расположение плеч и позвоночника. Я совершенно не мог нормально думать, когда шея вытянута вперед. Как только возникала какая-либо проблема, мой подбородок и плечи втягивались. И я быстро понял, что это не та поза, которую рекомендовали в Вест-Пойнте. Когда я думал, мой подбородок опускался, а когда я его поднимал, мое сознание отключалось. Именно из-за этой дилеммы мой первый год в Академии был таким трудным, хотя в конце концов я нашел возможность распределять свою энергию между умственными и физическими упражнениями.
А еще был вопрос о форме. В Вест-Пойнте существует множество правил, требований, сигналов флажками, звуками колоколов, систем передачи сообщений и бог знает чего еще, чтобы известить тебя о том, какую форму одежды надлежит носить в данную секунду. В какой-то момент ты должен надеть бриджи для верховой езды и свитер, а в следующую минуту окажется, что на тебе должны быть белые штаны и фрак. Требуются месяцы, чтобы понять, какой сигнал что означает, но в конце концов я сообразил, как можно решить эту проблему хотя бы частично. Впрочем, до самого выпуска для меня так и оставалось великой тайной, что именно заставляло дежурного офицера выбирать для нас ту или иную форму одежды. Ближе всего к разгадке мы оказались тогда, когда стали следить за тем, что предпочитает тот или иной офицер, заступающий на дежурство.
«Пит Ньюби сегодня», — поступает чье-то предупреждение. «Я думаю, это означает белую форму и довольно сильный дождь».
Или «Дэппер Ден на дежурстве. Значит, нам придется ходить в полной форме, пока рожок не пропоет «Тапс»[54] по кому-нибудь». ChacUn a son gout[55].
И еще. В Вест-Пойнте опрятность просто фетишизируют. Наша обычная форма обшита спереди черным галуном, который, я уверен, сделан из шкуры хамелеона. Вредному краснорожему инспектору достаточно лишь уставиться на какое-то время на мой галун, как на нем обязательно появится большущее красное пятно, словно я пролил на него кетчуп. То же происходит и с ботинками, козырьком фуражки, ружейным стволом и всем остальным, чему надлежит быть чистым и сияющим. Не скажу, чтоб я имел что-либо против пятен. Дело во взысканиях, которые их сопровождали и так доставали меня. Как только накопленные тобой взыскания достигают определенного предела, тебе предстоит проводить все свободное послеобеденное время, вышагивая взад и вперед по плацу, отрабатывая каждое взыскание по особому коэффициенту — час шагистики за одно взыскание. И этот очень низкий коэффициент, чье бы личное расписание жизни мы ни взяли. Несмотря на то, что я так и не придумал способа избегать наложения взысканий, я постепенно нашел для себя систему, как их «не вышагивать». Существовало правило, гласившее, что любой из членов спортивных команд Академии имеет право отложить отработку взысканий шагистикой до окончания сезона в том или ином виде спорта. Так уж получилось, что в поло мы играли круглый год и я, наконец, смог получить постоянную отсрочку у писаря моего подразделения, отвечавшего за учет взысканий. Вначале он засомневался и попытался со мной спорить, но, поскольку мы с ним жили в одной комнате, у меня было достаточно времени для убеждения. Все работало замечательно до той поры, когда не пришло время получать наши дипломы из рук генерала Макартура[56]. Какой-то крючкотвор в штабе корпуса решил проверить положение со взысканиями и обнаружил, что я задолжал Академии девяносто семь часов строевой подготовки. Меня вызвали на беседу по поводу этого небольшого недобора. Я отметил, что игра в поло состоится даже в день выпускной церемонии. Сезон все еще продолжался, и правило действовало. Кроме всего прочего, до выпускной церемонии оставалось меньше двадцати четырех часов. И как я могу втиснуть девяносто семь часов в двадцать четыре или даже меньше? Только тут зануда-крючкотвор осознал всю логику моей аргументации, но тем не менее аккуратно отметил долг в моем личном деле. Вероятно, предполагалось, что, выйдя в отставку, я вернусь в Вест-Пойнт, позаимствую ружье и вышагаю-таки свой должок.
Сколько бы раздражения я ни испытывал, одно великое утешение меня не покидало: это не будет длиться вечно. Как только я окончу Академию и покину ее «священные стены», то дам себе обещание никогда не драить ботинки, не гладить брюки, не расправлять плечи, не печатать шаг, не стирать пятен с галуна (если у меня когда-нибудь еще будут галуны, что казалось маловероятным) и не являться вовремя на построение. Он еще наступит — мой день.
И он наступил двенадцать лет спустя в Вене. Война закончилась, но я временно вернулся в армию, исполняя обязанности переводчика у генерала Марка Кларка[57]. Маршалы и генералы стран-союзниц интенсивно услаждали друг друга парадами, почетными караулами и банкетами.
В мои обязанности переводчика входило сопровождение генерала на всех церемониях, на которых присутствовали его русские коллеги. Однажды сам генерал, его заместитель генерал Эл Груэнтер[58], его политический советник Джек Эрхардт[59], а также помощник генерала, личный фотограф, ординарец и я отправились с визитом к маршалу Коневу[60] в его австрийскую штаб-квартиру в Бадене[61]. Визит должен был проходить в обычном для генерала порядке, но прежде чем мы поняли, каков этот порядок, мы оказались в самом центре стандартного межсоюзнического банкета. Это все происходило в тот период, последовавший за немецкой капитуляцией, когда каждый офицер и солдат думал, что должен подтвердить свою собственную роль в достижении победы и напоить своего союзника так, чтоб тот свалился под стол. Генерал Кларк не подписывался под теорией, гласившей, что он обязан пить столько же, сколько и все остальные за столом, но полагал, что должен выглядеть достойно. Поэтому я должен был постоянно следить за тем, чтобы его стакан под водку все время был наполнен водой. Я не особенно владел мастерством манипуляций, и единственный способ, который я смог изобрести, чтобы надлежащим образом снабжать генерала Кларка водой, заключался в том, что я осушал свой стакан с водкой, а затем наполнял его водой и менял на стакан Кларка с водкой и выпивал его водку тоже. Так продолжалось, пока какой-то зоркий советский генерал не заметил, что происходит. Мы можем опустить детали той ночи в Бадене, тем более что моя память на этот счет мало что сохранила.
Наутро меня подняли с кровати с первыми лучами солнца и сообщили, что генерал Кларк принял вызов заместителя маршала Конева генерала Желтова[62], предложившего посоревноваться в плавании. Заплыв должен бы состояться в бассейне баденских бань.
Полумертвым я пополз за Кларком вниз в бассейн, который, по уверению советских сопровождающих, был стометровым. Оба генерала немедленно оказались в плавках и принялись плавать от одной стенки бассейна до другой с резвостью жеребцов-двухлеток на скачках в Саратоге. И тут Кларк заметил, что я скромно притаился в стороне.
— Тейер, давай! Бога ради, быстро влезай в свои плавки. (Опять на мне не та форма.)
— Но, генерал, я не плаваю — во всяком случае сегодня утром.
— К черту! Не пререкайся. Разве ты не слышал, что я сказал?
Плаваю я не лучше — а, наверное, даже чуть хуже, чем прыгаю с парашютом, играю в футбол и катаюсь на лыжах. Но они уверили, что плыву я брассом вполне прилично, вот только скорость подкачала. Тем не менее генерал Кларк есть генерал Кларк, и этим все сказано.
Через несколько секунд мы втроем выстроились на кромке бассейна. Кларк по одну сторону от меня, Желтов — по другую, а я — между ними. Они договорились соревноваться на дистанции в длину бассейна и обратно.
Кто-то сказал по-русски:
— Раз, два, три!
Я перевел на английский, и мы все плюхнулись в воду более или менее одновременно.
Я думал, что, по крайней мере, во время заплыва генералы не смогут говорить. Но я не знал наших генералов. Едва они плюхнулись в воду, как принялись обсуждать соревнование, словно пара спортивных комментаторов — один по-русски, другой по-английски. Я довольно здорово отстал от обоих и едва мог их слышать, не то что говорить. В конце концов я услышал начальственный голос Кларка, вопрошавший, а что, к чертям, я собственно собираюсь делать? Не могу ли я сказать генералу Желтову, что генерал Кларк находит его кроль очень хорошим. Только я открыл рот, чтобы прокричать это Желтову, как гребок одного из генералов плеснул мне водой в лицо так, что я чуть не захлебнулся. Я попытался еще раз:
— Генерал Кларк говорит…
Тут Желтов разозлился:
— Я уже дважды сказал тебе, чтобы ты похвалил работу ног генерала Кларка!
Я с усилием закричал Кларку:
— Генерал говорит, что ногами…, - и тут чей-то гребок опять настиг меня.
— Что, черт побери, не так с моими ногами?
Я набрал воздуха:
— Генерал Желтов говорит.
— Да мне все равно, что генерал Желтов говорит. Что ты там ляпнул про мои ноги?
— Это генерал Желтов.
К этому времени они доплыли до противоположной стенки бассейна и повернулись в мою сторону. Ночные события уже стали сказываться, и генералы начали беречь свое дыхание для более существенных вещей, чем разговоры. Из последних сил я доплыл до конца бассейна, вылез и разлегся на цементном полу в совершенном изнеможении. Нахлебавшись воды, я чувствовал себя ужасно. Я так и не понял, кто из них выиграл. Но, честно говоря, меня это не заботило.
Самой большой трудностью в работе с генералом Кларком для меня было угадать форму одежды, избранную им для той или иной церемонии. Для меня это было повторением дней, проведенных в Академии, потому что я почти никогда не попадал в точку. И не важно, что я часто звонил его помощнику и спрашивал:
— Что генерал Кларк собирается надеть по этому случаю?
Когда время приходило, оказывалось, что Кларк передумал или что мои бриджи находились в чистке, или происходило что-то в этом же роде. Он лишь бросал на меня взгляд, внимательно проверяя, что я надел — от ботинок до фуражки, и устало качал головой:
— Тейер, когда наконец. — и т. д., и т. п.
Вскоре после соревнования в плавании маршал Конев нанес Кларку ответный визит. Как обычно, был подготовлен почетный караул, и, как обычно, я позвонил помощнику Кларка:
— Какое обмундирование выбрано для сегодняшней фиесты?
Ответ был — «полевая форма». Я всегда ненавидел полевую форму, потому что важнейшая ее часть — куртка «эйзенхауэровка» — на мне всегда задиралась вверх и весьма невоинственным образом собиралась валиком над поясом, оставляя изрядное пространство между ремнем и штанами. В тот день я принял все необходимые меры, чтобы тщательно отгладить форму и примерить ее на себе. И тем не менее еще до того, как я увидел генерала, я чувствовал, что куртка на мне ползет вверх.
Я должен был встретить Кларка на ступеньках его штаба за три минуты до прибытия Конева. Генерал Кларк пришел раньше, и каждый дюйм его тела выдавал в нем настоящего солдата, хотя на нем были китель и брюки. Моя полевая куртка сделала еще один скачок и собралась у меня на солнечном сплетении.
— Тейер, когда наконец. — и т. д., и т. п.
Эти три минуты тянулись бесконечно, пока наконец не показался Конев и генерал Кларк прекратил обсуждение моего обмундирования, и мы направились к почетному караулу: маршал и генерал впереди (я обычно называл их «мои минные тральщики»), грудь каждого из них искрилась от медалей и блестящих нашивок, я за ними, и мою грудь украшала сбившаяся «эйзенхауэровка». Мы промаршировали в центр. Почетный караул выполнил приветствие. Оркестр заиграл «Знамя, усыпанное звездами»[63]. Генерал и маршал отдали честь, и я тоже. После того как оркестр закончил, наступила пауза. Рука генерала Кларка начала опускаться от козырька фуражки. Со стороны я видел, что он скосил глаз на Конева, который продолжал отдавать честь. Рука Кларка быстро вернулась к козырьку. Пауза продолжалась, и теперь рука Конева начала опускаться. Он посмотрел на вытянувшегося Кларка, и его рука вернулась в исходное положение.
Ничего не происходило, и обе руки чуть подымались и опускались попеременно. Наконец генерал всей своей шестифутовой статью качнулся на каблуках в мою сторону.
— Тейер, черт возьми, — прорычал он уголком своего рта.
— Тейер, черт возьми. Скажи им, пусть играют, черт возьми. Музыку.
Пока он говорил, я наклонился вперед и прошептал: «Есть, сэр» в самой что ни на есть военной манере, на какую был способен. И затем, наклонившись назад в ту сторону, где группа штабных офицеров смотрела на представление, прошептал:
— Генерал Кларк сказал: «Музыку, черт возьми, музыку».
Я слышал, как эта команда, пройдя по всему строю, дошла до дирижера. Наконец оркестр зазвучал вновь. Как только звук донесся до Кларка, он решился и быстро опустил руку. Я собирался последовать ему, поскольку в Вест-Пойнте меня научили с религиозным рвением повторять действия тех, кто стоял в первой шеренге. Но на этот раз я сделал все наоборот, и моя рука взметнулась к козырьку. Кларк заметил мое движение уголком глаза. В замешательстве он опять повернулся на каблуках в мою сторону:
— Тейер, черт возьми, Тейер. Что, черт побери, они играют?
— Это гимн Советского Союза, сэр, — ответил я насколько мог безразличным тоном. На этот раз рука Кларка последовала к козырьку по примеру моей. Есть все-таки некоторые военные вещи, которые могут оказаться трудными даже для генералов.
Глава 2 КАК Я СТАЛ РУССКИМ
Быть может, в этом виноваты казармы Бист. А возможно — угнетающая привычка военных драить ботинки, но, так или иначе, блеск армейской карьеры начал для меня тускнеть. По мере того как я с трудом одолевал четырехлетнюю учебу в Вест-Пойнте, становилось все очевиднее, что правительство Соединенных Штатов поступит правильно, если найдет для меня другое применение на государственной службе, возможно, в сфере иностранных дел.
Я отправился наводить справки в Государственный департамент. Дело было в 1932 году, и во всем царила Эра экономии. В Департаменте мне объяснили, что они нанимают на службу лишь тех, кто имеет особую квалификацию. Но в чем конкретно состояла такая квалификация, никто толком мне объяснить не смог. Однако Рузвельт только что выиграл выборы и заявил, что намерен признать Советский Союз. Я спросил, а если я выучу русский язык, то будет ли это считаться «особой квалификацией»? Сотрудники Департамента согласились, что такое возможно, тактично указав на гипотетический характер вопроса. Россию мы еще не признали, а Департамент никогда не отвечает на гипотетические вопросы. Тем не менее абсолютно разочаровывающим все это не выглядело.
Затем я отправился на встречу с генеральным адъютантом, отвечавшим за кадровое обеспечение армии. Роль армии в соблюдении режима Эры экономии заключалась в том, чтобы самым жестким образом сокращать число вакансий для выпускников Вест-Пойнта и негосударственных военных школ — «оловянных школ», как мы высокомерно называли их в Вест-Пойнте. В свете сложившихся обстоятельств я поинтересовался, не согласится ли армия отказаться от принятия меня на службу после окончания Вест-Пойнта и не передаст ли меня в Государственный департамент, или она все-таки будет настаивать на том, чтобы я дожидался вакансии в течение двух обязательных лет и лишь после этого вышел в отставку? Генеральный адъютант явно не имел возражений против моей скорейшей отставки. Такая определенность с его стороны не была слишком лестной, но вполне меня устраивала.
Итак, после окончания учебы я направил просьбу об отставке командиру кавалерийского полка, к которому был приписан, и в качестве туриста приобрел билет до Москвы, чтобы выучить там язык и дождаться обещанного Рузвельтом признания России. Казалось, все складывается прекрасно, за исключением того, что полковой начальник не ответил на мою просьбу. Поскольку дни отпуска, положенного после окончания Вест-Пойнта, заканчивались, я послал полковнику телеграмму, спрашивая, что там с моей отставкой.
Ответа не было.
Тогда я позвонил генеральному адъютанту:
— Полковник сказал, что вы должны немедленно доложить о прибытии для несения службы.
Я поспешил в Форт Майер и доложился полковнику. Его имя было мне тогда едва знакомо, что неудивительно, потому что лишь много лет спустя оно станет постоянно мелькать в заголовках новостей. В 1933 году Джордж Паттон[64] слыл всего лишь эксцентричным кавалеристом. Стоило мне войти в его кабинет и отдать честь, как он буквально прорычал: «Ты понимаешь, с чем собираешься расстаться, лейтенант? Армия только-только завершила твое обучение, и теперь ты вознамерился уйти, чтобы стать чертовым бездельником дипломатом, да еще и в России. Ты не большевик?» — орал он.
Я объяснил свои планы подробнее. При этом подчеркнул, что, кроме всего прочего, именно налогоплательщики оплачивали мое обучение и что, поскольку я намерен продолжать работать на правительство, вопрос о том, кто платил за мое образование, вряд ли может возникнуть.
Полковник закричал еще громче:
— Хорошо, у армии есть что сказать. Генеральный адъютант даже не собирался рассматривать вопрос о твоей отставке. И я намерен закрыть его прямо сейчас. Доложишь о том, что приступил к службе завтра утром.
— Но генеральный адъютант сам предложил мне подать в отставку. Я лично говорил с ним пару месяцев назад, и он был чрезвычайно воодушевлен этой идей.
Это несколько смутило бравого полковника, и он сменил тон:
— А ты не играл первым номером в армейской команде по поло?
Я признался, что играл.
— Так вот, мы недавно потеряли своего первого номера в команде Форта Майер и полагаем, что ты мог бы занять его место. Я как раз думал о том, как нам нужен первый номер, — добавил он доверительным тоном. Но я сказал, что больше никогда не буду играть в поло и что собрался в Москву.
— Хорошо, давай, двигай! К черту это все! Если ты не понимаешь своего же блага, я тебя не научу. Чертова бумажная работа вместо благородного поло. И вершиной всему — Россия! Это чертова бессмыслица, говорю тебе. Чертова бессмыслица!
Несколькими днями позже я сидел в скучном здании кёниг-сбергского аэропорта в Восточной Пруссии. Тогда город был частью Германии и местом промежуточной посадки для авиапассажиров, следовавших в Советский Союз[65].
Снаружи, в сорняках и грязи летного поля, к земле прижалось с полдюжины нескладных старых пассажирских «Юнкерсов». Сквозь мглу я мог разглядеть лишь символы «Люфт-ганзы» — футуристические изображения орлов на фюзеляжах. На другой стороне поля, на достаточном удалении, чтобы часом не подхватить заразу от этих «нацистских чудищ», расположилась небольшая группа одномоторных самолетов со звездами советского воздушного флота. За летным полем к туманному горизонту монотонно тянулись фермерские поля Восточной Пруссии. Лишь суковатые тополя то тут, то там угрюмо выступали из тумана. Пересчитывая время от времени те из них, что проглядывали сквозь мглу, я пытался понять, поднимается туман или опускается.
Внутри самого аэропорта все выглядело ненамного приятнее, чем на летном поле.
Несколько флегматичных пассажиров сидели, уставившись себе под ноги, смирно ожидая объявления о посадке на самолеты. За некрашеным деревянным прилавком по-деловому суетились два очкастых немецких служащих. За ними на большой черной доске висели объявления о плановых рейсах на Берлин, Варшаву, Данциг, Ригу, Москву и Ленинград. Меня интересовал как раз последний рейс — на Ленинград. Прежде чем поселиться в Москве, я решил немного ознакомиться с достопримечательностями старой столицы. Кроме того, у меня было небольшое дело, касавшееся спрятанных в пригороде Ленинграда сокровищ, которым я обещал заняться одному давнему русского другу.
Тем утром Кёнигсберг выглядел местом, откуда стоило улететь. Раз за разом меряя вялыми шагами зал ожидания, я все время воспоминал комментарий Джорджа Паттона: «Чертова бессмыслица, чертова бессмыслица!» Когда я дома излагал друзьям свои планы, они выглядели в высшей степени обоснованными. Я просто собирался закончить свою военную карьеру, навсегда проститься с сапогами, портупеей и формой и заняться намного более «гламурной» дипломатической карьерой. Единственное, что для этого требовалось — это добраться до Москвы, выучить русский, дождаться признания Рузвельтом Советского правительства и добиться места в штате посольства. Всего-то. Но тем сумрачным туманным утром в четырех тысячах миль от дома задуманное стало казаться уже не таким ясным. А что, если Рузвельт изменит свою точку зрения? Или я не смогу выучить русский? А вдруг меня просто выкинут из страны до приезда посла (у меня была туристическая виза сроком лишь на месяц)? Чем дольше я таращился на тусклый прусский пейзаж, тем более сумасшедшей казалась мне вся моя схема. Не стоит ли ее пересмотреть? Может, полковник Паттон простит меня и примет обратно, если я пообещаю изо всех сил стараться стать хорошим игроком в поло.
В тот момент, когда я совсем пал духом, один из служащих аэропорта объявил о предстоящем рейсе самолета на Ленинград. Поворачивать назад было уже поздно. Я поднял свой чемодан и пошел на взлетное поле. Ко мне присоединился еще один пассажир. Своей сверкающей лысиной, толстым пенсне, довольно потертым пиджаком и бриджами он напоминал старого профессора. Нас обоих проводили до одного из советских самолетов. В нем мы обнаружили пилота — молодого смешливого пухлого блондина.
Самолет был одномоторным монопланом. Краска на нем давно выцвела и облупилась, а крылья украшали заплаты и швы. Мой попутчик и я вскарабкались по лесенке в малюсенькую кабинку, уложили наши чемоданы в сетки над головами и пристегнули ремни. Пилот быстро поднялся на борт, задержавшись на мгновенье лишь для того, чтобы нежно похлопать по фюзеляжу самолета и что-то промычать по-русски. Я вопросительно посмотрел на своего попутчика, который, по-видимому, сразу разобрался, откуда я, и тот с готовностью перевел мне на английский:
— Он сказал, что это последний полет «Старушки».
После того как мы узнали эту вдохновляющую новость, дверь «Старушки» закрылась, и пара механиков крутанула пропеллер. Через мгновение мы уже тряслись по взлетному полю с широко открытым дросселем двигателя. Прежде чем я что-либо успел осознать, мы уже скакнули в воздух, сделали круг над аэропортом и стали набирать высоту курсом на восток. Никакого прогрева, предварительного переключения датчиков, ни последней сверки с вышкой.
Мы все еще летели на уровне верхушек деревьев, когда летчик обернулся и весело помахал нам рукой, чтобы показать, что все в порядке. Я ждал, когда же он наберет хоть немного высоты, если он вообще собирался это делать. С моего места мне казалось, что лишь одной чересчур большой сосны окажется достаточно, чтобы отправить нас на посадку. Вскоре я узнал, что советские летчики предпочитают стиль, который они удачно прозвали «контактным пилотированием», когда колеса самолета едва не задевают верхушки деревьев или находятся насколько возможно ближе к ним, чтобы не потерять ориентировку и не заблудиться в низком тумане. Хоть это и казалось мне самому странным, но я продолжал убеждать себя в том, что я направляюсь в Россию (как и все другие) беспристрастным человеком и что я не должен начинать придираться, даже не успев пересечь ее границу.
Другие иностранцы, которым «беспристрастность» не мешала судить, считали, что к манере летать низко вряд ли можно привыкнуть. Однажды в начале войны — семь лет спустя после моего первого полета на русском самолете — я отправился в Архангельск, чтобы встретить лорда Бивербрука[66] и миссию по ленд-лизу. Они прибыли морем и затем были переброшены из Архангельска в Москву целой флотилией советских D03. Перед самым взлетом лорд Бивербрук послал за мной.
— Гарри Гопкинс говорил мне, что эти парни летают на высоте не больше пятидесяти или ста футов. Скажи им, что когда я на борту, они должны держаться выше тысячи футов.
Я начал возражать:
— Но, лорд Бивербрук, это манера, в которой они летают всегда. Сейчас немного поздновато пытаться менять их привычки. Не правда ли? Это может оказаться рискованным. На высоте в тысячу футов они могут потерять ориентировку.
Но Бивербрук остался равнодушным к моим аргументам:
— Ты передашь им то, что я сказал, и больше никаких возражений!
Итак, я передал им это сообщение, дословно переведя послание старшему пилоту. Тот, конечно, рассердился, но я предупредил, что будет лучше, если он сделает то, что сказал Бивербрук. Старик имел репутацию своенравного человека. Вначале, несмотря на мои опасения, полет проходил хорошо. Так было до тех пор, пока мы не приблизились к Москве и не попали в луч прожектора советской зенитной батареи. Вот тогда начались проблемы. С земли любой объект, летящий выше обычного потолка, обречен на повышенное внимание. По-видимому, недостаточно опытному командиру батареи вся флотилия показалась немецким формированием. Что бы он там ни думал, но мы получили от него первое предупреждение в виде маленького белого дымового облачка, которое возникло в нескольких футах позади самолета. Мгновение спустя по нам дали настоящий залп. Я летел в другом самолете, но несколько человек из тех, кто был на борту вместе с Бивербруком, рассказали мне о произошедшем. После залпа Его лордство вскочил со своего кресла и рванул в кабину пилота. К тому моменту, когда он добрался до кабины, пилот, который, без сомнения, понимал происходящее не хуже Бивер-брука, уже решил, что лучше спуститься ниже, дабы зенитчики разглядели советские звезды на крыльях. И пилот опустил нос самолета и направил его прямо к земле. Бивербрук с грохотом приземлился на свой зад, и пока самолет пикировал, он без всякой торжественности проехался по проходу, и лишь дверь туалета остановила его. Когда мы вернулись на «уровень контакта», пилот выровнял самолет, и Бивербрук, гримасничая, как обезьяна, осторожно пробрался на свое место. С тех пор, насколько я знаю, он больше никогда не давал полетных инструкций советским летчикам.
Через несколько месяцев после эпизода с Бивербруком еще одно происшествие случилось с двумя молодыми американскими морскими офицерами, летевшими из Куйбышева в Москву, расположившись в «консервной банке» — носовой части советского бомбардировщика. И, как всегда, потолок был «чуть выше верхушек деревьев». К несчастью, на части маршрута никаких деревьев не было, и пилотам было затруднительно определять высоту полета до тех пор, пока они не подлетели к одной из редких железнодорожных линий, пересекавших Волжскую равнину. Грузовой поезд полз по путям как раз в тот момент, когда их пересек самолет. Шасси самолета задели один из вагонов, бомбовый люк случайно открылся, и весь багаж пассажиров вывалился на пути. Спустя мгновение самолет нырнул в снег, прокатился по нему с тысячу ярдов и остановился, избежав самого худшего. Но крестьяне, оказавшиеся неподалеку, видели, как багаж кувырком летел из бомбового отсека, и вполне резонно заключили, что какие-то нервные немцы бомбят их железные дороги. Они похватали вилы и грозно окружили еще не пришедших в себя после посадки пассажиров, выбиравшихся из совершившего экстренную посадку самолета. К счастью, одним из пассажиров был советский генерал, и он с револьвером в руке остановил озлобленных крестьян, и они все-таки поняли, что произошло не совсем обычное происшествие. Потом ходили слухи, что по советским ВВС был дан приказ, чтобы летчики смотрели в оба, когда пересекают железнодорожные пути. Впрочем, справедливость этого слуха так никто и не подтвердил.
Но вернусь назад, в 1933 год и к своему полету на одномоторном самолете из Кёнигсберга. В каком-то смысле мне даже стал нравиться стиль полета над верхушками деревьев, потому что были намного лучше видны сельские пейзажи. Можно было рассматривать, что делают на своих полях фермеры, что тащат по дорогам огромные восточно-прусские телеги и даже то, насколько удачливы редкие рыбаки на берегах озер и речек, над которыми мы пролетали.
В тот момент, когда ко мне уже вернулось обычное состояние духа, я услышал впереди глухой хлопок. Через дверь кабины пилота я смог разглядеть, что переднее стекло покрылось ржаво-коричневой мутью. Летчик беспокойно выглядывал то в одно боковое стекло, то в другое, пытаясь понять, куда он летит. При этом его улыбка оставалась такой же широкой, как и раньше. Как и любой порядочный авиапассажир, который ничего не понимает в летном деле, я начал озабоченно искать взглядом место для посадки. Тогда я был только начинающим участником полетов «по-советски» и не знал одного решающего факта в этом деле: где бы советский самолет ни попадал в критическую ситуацию, всегда прямо внизу оказывалась вполне удовлетворительная полоска земли. (Мне приходилась совершать посадку на свекольные поля Украины, на ржаные поля Поволжья и пшеничные поля Кубани. Где бы ни возникла проблема, всегда находилось что-нибудь достаточно ровное — или почти ровное — чтобы приземлиться.) Мотор еще урчал, когда летчик посадил самолет на кочковатое поле где-то в Восточной Пруссии.
Все это время мой компаньон сидел, вытаращив глаза и схватив в охапку свой чемодан. Как только мотор затих, он повернулся ко мне:
— Ах! С меня хватит. Я ухожу.
Летчик выбрался из кабины и небрежно, словно пенсильванский кондуктор где-нибудь на станции «Пэоли Лоукал»[67], объявил: «Тильзит».
Старик-попутчик вышел, выволок свой чемодан и медленно принялся пересекать летное поле. Я выкарабкался из самолета следом за ним, но остановился в смущении, размышляя, что мне делать. После всего произошедшего мне казалось, что мой попутчик говорил дело. Но меня слегка беспокоило то, что я плохо представлял, где именно на Божьей земле мы сейчас находимся. Хорошо, конечно, знать, что Тильзит[68] — это то самое место, где Наполеон на плоту заключил договор с русским царем. Но когда вы пытаетесь добраться до Ленинграда на не внушающем доверия самолете и садитесь на поле, которое летчик назвал Тильзитом, этот интересный исторический факт становится довольно бесполезным. Что я действительно хотел узнать, так это, как царь туда добрался, или лучше сказать, как он оттуда выбрался. С того места, где я стоял, не было заметно никакой дороги или реки, не виднелся даже плот. Ничего не было видно, кроме обветшалой лачуги в ста ярдах от нас, но при этом само грязное поле было окружено высоким и малосимпатичным забором.
Пока я оглядывал унылый пейзаж, летчик разразился потоком русских слов, сопровождаемых улыбкой и похлопыванием по плечу, что, по-видимому, было предназначено для поднятия моего духа. Дух и правда в этом нуждался. Я бросил последний грустный взгляд на дыру в заборе, в которой исчез мой товарищ по полету, и уселся на траве, достав свой учебник русской грамматики, и принялся запоминать сорок два окончания русских прилагательных.
Пока я сражался с окончаниями, летчик возился с радиатором мотора, в котором, кажется, порвалась прокладка или что-то еще в этом роде. В конце концов, из ниоткуда появился грузовичок, и два механика присоединились к летчику в его возне. Снова и снова я поглядывал поверх учебника на бедную «Старушку» и в который раз вспоминал полковника Паттона: «Чертова бессмыслица» казалась мне правильным выражением для обозначения ситуации.
Спустя два часа послышались крики и хрюканье: кто-то все-таки раскрутил пропеллер. Мотор заработал и начал урчать с некоторой хрипотцой, но вполне уверенно. Через пару минут я уже опять был в кабине, и «Старушка» стала рывками набирать скорость, двигаясь по кочкам летного поля.
Погода за весь день так и не улучшилась. Туман не рассеивался, и порывистый ветер все время заставлял самолет подпрыгивать и качаться, что совсем не было полезно ни для самолета, ни для пассажиров. И вдруг небо расчистилось, и чем дальше мы продвигались на север, в Латвию, тем ярче солнце освещало аккуратные молочные фермы, проплывавшие всего лишь в нескольких футах под нами. Но в солнечную погоду ветер только усилился, и самолет продолжал то снижаться, то подскакивать совершенно беспорядочным образом.
Внезапно двигатель закашлял. На мгновенье я содрогнулся, но затем, как я уже должен был догадаться, прямо под нами возникло прекрасное большое летное поле, и мы с легкостью совершили мягкую посадку.
— Рига! — прокричал пилот, как только мотор заглох.
Рижский аэропорт, по сравнению с тильзитским, был как настоящий «Гранд Сентрал Стейшн» в Нью-Йорке со всей присущей ему суетой. Едва мы выбрались из кабины, как нас быстро окружили механики, служащие и зеваки. Пилот исчез за дверью контрольной комнаты и через несколько минут появился вместе с мило улыбавшимся служащим, одетым в неведомую униформу. Пилот принялся кричать на меня по-русски и показывать на часы.
Я услужливо подсказал ему время:
— Четыре тридцать.
— Нет, нет, — ответил пилот.
— Да, да, — настаивал я, начиная понимать, в чем дело.
Симпатичный служащий присоединился к нашему хору на ломаном английском.
— Летчик говорит, мотор немного капут.
— Опять? — спросил я.
— Летчик говорит, ветер большой.
— Он вряд ли должен говорить мне об этом, — ответил я уже более раздраженно.
— Летчик говорит, еще несколько часов лететь до Ленинграда, а на Севере темнеет быстро.
— И что из этого?
— Летчик говорит, вы проведете ночь здесь. Завтра лететь в Ленинград будет олл райт.
Первая половина предположения звучала вполне резонно. Но в отношении второй я не был так уверен.
Через несколько минут появился небольшой автомобильчик. Меня и пилота посадили в него, и мы испытали нечто вроде облегченного варианта уже совершенного нами воздушного путешествия: автомобиль находился к земле чуть ближе и передвигался чуть медленнее самолета, но различие не было таким уж большим. Однако характер у мотора машины был потверже, и он все еще работал, когда нас высаживали у отеля «Рим».
Тем вечером гости отеля едва ли могли не обратить внимания на довольно шумную пантомиму, которую мы с летчиком разыграли за ужином. Мы оба одновременно начинали говорить, и ни один из нас не замолкал ни на минуту, разве только для того, чтобы отправить в рот кусок еды или сделать глоток. И так продолжалось до глубокой ночи.
Пилот показал на поднос со снеками и сказал:
— Закуски.
— Hors d'oeuvre — э девр, — поправил я.
— Рыба, — сказал пилот.
— Фиш, — отозвался я.
— Водка, — сказал пилот.
— Водка, — повторил я, и мы оба захохотали в знак согласия.
С этого момента наш разговор стал набирать темп и делался все оживленнее. По какой-то странной причине, когда люди видят, что их речь не понимают, они думают, что это происходит из-за того, что они говорят недостаточно громко. В конце концов даже оркестр отеля «Рим» признал свое поражение в борьбе с нами и оставил нас орать одних.
Когда я отправлялся ко сну, я решил, что если все русские настолько милы, как этот летчик, то, быть может, все будет не так уж и плохо, как предрекал полковник Паттон.
Следующим утром мы обнаружили, что наш мотор починен опытной командой латвийских механиков, и мы скоро двинулись в путь. Погода прояснилась. Ветер стих, и воздух был настолько приятным, насколько этого можно было желать.
Но затем мотор опять чихнул, вернув меня из моих мечтаний. Пилот обернулся, усмехнулся и, как обычно, пожал плечами. Мотор забормотал и заглох. На этот раз я уже не удивился, сразу увидев летное поле прямо под нами.
На этот раз это был Таллин, находившийся на самой северной оконечности стран Балтии. Оказалось, что у нашего мотора появился какой-то новый, но не очень значительный изъян. Пока команда механиков вертелась вокруг самолета, летчик и я валялись на траве и обменивались выкриками. Когда работа была закончена, местный служащий явился, чтобы поторопить нас с отлетом. Пилот выкрикнул последнюю фразу, когда мы уже шли к самолету. Служащий перевел:
— Он сказал, что эта ваша последняя остановка перед Ленинградом.
— Откуда это ему знать? — спросил я с некоторым сарказмом.
Пилот ответил с еще более широкой ухмылкой и с еще большим озорством, чем раньше.
— Он говорит, их не может больше быть, — объяснил переводчик. — Дальше не будет никаких площадок для посадки, только болота.
Получив столь обнадеживающую информацию, я вскарабкался на борт и закрепил на себе ремень. Пилот вывел «Старушку» на взлетную полосу и поднял ее в воздух.
Почти час или даже больше того все шло хорошо. Воздух по-прежнему был приятным и спокойным. Радиатор как-то держался, и урчание мотора было монотонным. Внизу слева можно было видеть серые, с белыми барашками волн воды Финского залива. Справа от нас лежали леса и озера Эстонии. Мы пролетели буквально на одном уровне со шпилями огромного кафедрального собора Нарвы. Я подумал, что граница Советского Союза должна быть уже рядом. Незаметно для меня пилот потихоньку поднялся на несколько сотен футов выше, и я увидел, как внизу блеснула на солнце двойная линия заграждений из колючей проволоки. Внезапно самолет спикировал к земле. Через переднее стекло летчика я смог различить несущуюся на нас крышу сельского дома, и когда уже казалось, что мы неминуемо в нее врежемся, пилот рывком вывел самолет из пике, обернулся ко мне и выкрикнул:
— Советский Союз!
В тот же момент мой чемодан вывалился из сетки и обрушился мне на голову. Как и королева Виктория, я не был удивлен[69].
Спустя несколько минут мы уже кружили над тем, что казалось большим озером грязи. Здесь и там я видел полоски суши, выглядывавшие из-под бурой воды, но большая часть поверхности выглядела как жидкая масса.
— Ленинградский аэропорт, — крикнул мне пилот и жестом показал, чтобы я покрепче закрепил ремень. Самолет снижался настолько плавно, насколько возможно. Как только колеса коснулись грязи, огромные всплески бурой воды брызнули на окно кабины. Мы прокатили всего несколько ярдов, потому что вес самолета давил на стойки шасси. Самолет остановился настолько резко, что я чуть не вылетел из ремня безопасности. Хвост самолета поднялся почти перпендикулярно и лишь потом мягко опустился в грязь. Пилот показал мне на стойки шасси и крикнул (в чем, как я думаю, не было нужды):
— Капут!
Девушка из «Интуриста» в высоких резиновых сапогах вышла из здания аэропорта поприветствовать нас. А мы вылезли на бок «Старушки», бесславно уткнувшейся свои брюхом в грязь и жижу. Пилот схватил мою руку и крепко пожал ее, бросив мне последний возглас по-русски. Интуристовский гид перевела:
— Он хочет знать, понравился ли вам полет.
И тут настал мой черед осклабиться.
Глава 3 ОХОТА ЗА СОКРОВИЩАМИ В ЛЕНИНГРАДЕ
Свою книгу о поездке в Советский Союз сэр Уолтер Ситрин[70] начал с описания того, что в его ленинградском отеле не оказалось пробки для ванны. Он полагал, что из-за этого наблюдения кое-кто может посчитать его необъективным. Но он настаивал, что дело было в том, что исчезнувшая пробка в ванне была настоящим символом всего остального, что он увидел в России.
Что касается меня, то боюсь, что таким символом для меня была грязь в аэропорту — и вездесущий интуристовский гид. Впрочем, гид был не более вездесущим, чем грязь, но ее-то вы можете соскоблить.
Вместе с девушкой-гидом мы посещали достопримечательности: Зимний дворец, музей Эрмитаж, балет, Царское село, Петергоф. На протяжении трех дней она все время была рядом и все увиденное сопровождала глубокими марксистскими пояснениями. Даже то, почему в Петергофе не работают фонтаны:
— Это для того, чтобы у рабочих было больше воды в рабочие дни. По воскресеньям, когда рабочие свободны [и, вероятно, не моются], фонтаны работают прекрасно.
Ленинград вогнал меня в депрессию. Здесь громадные желтые каменные дворцы выстроились вдоль главных улиц, а их незанавешенные окна выглядели осуждающе и как-то обиженно. Улицы были наполовину пустыми, а те немногие люди, с кем можно было поговорить, думали о прошлом, а не о будущем. Это напомнило мне старую историю о рабочем, который в поисках места обратился в советское бюро по трудоустройству.
— Где вы родились? — спросили его.
— В Санкт-Петербурге.
— Где вы учились?
— В Петрограде.
— Где вы живете?
— В Ленинграде.
— Где вы хотите работать?
— В Санкт-Петербурге, — удрученно ответил рабочий.
По утрам мы встречались с интуристовским гидом и она сообщала о наших планах на день. На любые мои предложения она отвечала отказом и указанием на непреодолимые препятствия для их осуществления. Она всегда добивалась своего или почти всегда. Вечером, прежде чем передать меня на попечение гостиничному консьержу, она бросала на него предельно выразительный взгляд, означавший, что теперь он отвечает за то, что до утра я буду хорошим мальчиком.
Мы уже завершили все раунды посещений, в том числе и тех мест, где я хотел бы побывать в последнюю очередь, и при этом в моем графике все еще оставался один день, прежде чем отбыть в Москву. Гид предложила мне хлебозавод, текстильную фабрику, профилакторий и детские ясли. Я отверг их всех.
— Хорошо, — спросила она угрюмо, — что же вы хотите делать завтра?
— Ничего, — столь же угрюмо ответил я.
— Ну, тогда ладно, — сказала она, направляясь к выходу из отеля, — но я все равно позвоню утром, чтобы узнать, не поменяли ли вы свои намерения.
Дело было в том, что я очень хотел кое-что сделать до того, как покинуть Ленинград, но только без интуристовского гида.
Перед моим отъездом из дома давний друг нашей семьи, дочь русского царского адмирала, спросила, а не смогу ли я взглянуть на их старую семейную виллу в Тарховке на побережье Финского залива в двадцати милях к северу от Ленинграда. Просьба была высказана во время коктейльной вечеринки и, как и большинство коктейльных просьб, была принята с поклоном и обещанием выполнить.
— Я набросаю схему, как найти виллу, — добавила она, потянувшись за бумажной салфеткой и помадой. — Когда вы будете там, быть может, вам удастся заглянуть в подвал и убедиться, в целости ли наше фамильное серебро. Мы зарыли его в тот день, когда бежали в Финляндию.
Я объяснил, что направляюсь в Россию в надежде начать дипломатическую карьеру, а не на поиски спрятанных сокровищ, но что я все-таки с удовольствием постараюсь узнать что-нибудь об их серебре.
Мне достаточно было провести в Ленинграде десять минут, чтобы понять, что я сделал ужасную ошибку. Обычно бывало даже приятно присмотреть какую-нибудь недвижимость для друга. Нет ничего более естественного, чем поехать за город, посмотреть, в каком состоянии находится дом, где родился Друг Икс или Друг Игрек. Но в России все по-другому. Здесь путь пролегал мимо интуристовского гида, гостиничного консьержа, шпиков, заполнявших холл отеля, и все это указывало, что любое отклонение от указаний Интуриста было verboten[71].
Я был не единственным, кому на это намекнули. Один из первых американских послов[72] в Санкт-Петербурге в своей депеше в Государственный департамент докладывал:
«Нет ничего более поразительного для американца уже при первом приезде сюда, чем строгость полиции. Может показаться, что столица находится в осаде».
Это было в 1856 году.
Так что это не было советским изобретением, хотя коммунисты определенно его усовершенствовали. И в этом совсем ничего нет от русской души. Как только предоставляется возможность и если, конечно, удается опрокинуть пару стопок водки, обычный русский начнет изливать на вас все, что у него есть на сердце, пока вы сами не захлебнетесь рыданиями. Он в подробностях расскажет вам о своей жизни, начиная с родословной лошадей дедушки и заканчивая сексуальной жизнью своей подруги. Возможно, ксенофобия была просчитанной компенсацией за патерналистское государство, царское или большевистское. А возможно, кто-то решил, что если обычный русский не станет держать своей рот закрытым, то государству следует взяться за то, чтобы лишние чужаки не внимали рассказам обо всех деликатных подробностях русской жизни.
Но это никак не решало моей проблемы с недвижимостью. Тем вечером, после того как раздраженная сотрудница Интуриста наконец ушла, я сидел в своей гостиничной спальне, тупо уставившись на бумажную салфетку, пытаясь сообразить, что мне делать. Я уже узнал, что из Ленинграда к финской границе идет пригородный поезд, который останавливается в Тарховке, и что он отправляется с Финляндского вокзала. Но как мне купить билет? Да и как я вообще выйду из отеля? А что если консьерж выследит меня и позвонит гиду из «Интуриста»? А если какой-нибудь железнодорожный полицейский спросит, что я тут делаю? Должен ли я ответить, что еду проведать спрятанное сокровище? Даже кондуктору Пенсильванской железной дороги это показалось бы несколько необычным. С другой стороны, что я отвечу, если, как это мне казалось вполне вероятным в тот вечер, я вернусь домой несколько месяцев или недель спустя, и адмиральская дочь спросит, разузнал ли я что-нибудь об ее вилле? Я бы не смог сказать, что даже не попытался. После двадцати лет в Америке, что она могла помнить о том, как работает полицейское государство, о государственной ксенофобии или знать о том, каково это быть иностранцем в России и чувствовать себя в такой дали от дома.
На следующее утро меня разбудил телефонный звонок. Это была гид «Интуриста», которая поинтересовалась, не изменил ли я свои намерения. Быть может, я хочу увидеть профилакторий, где государство искореняет венерические заболевания? Или детские ясли, где государство растит наилучших малышей? Или хлебозавод, где государство печет наилучший хлеб? Я бурчал злое «нет» на каждое предложение и сообщил гиду, что намерен провести в постели весь день и предоставить Господу и сну возможность привести меня в порядок без посторонней помощи. Когда я повесил трубку, я уже твердо решил ехать в Тарховку назло гиду и даже выкопать серебро из подвала, если представится такая возможность. Я мечтал увидеть лицо гида следующим вечером, когда я покажу ей мешок, полный серебра и драгоценностей, и сообщу, что подобрал его где-то в городе или нашел под своей кроватью.
Внизу в холле отеля консьержа загородила от меня компания слегка подвыпивших молодых моряков, судя по всему, требовавших для себя комнат. Я тихонько выскользнул за дверь незамеченным.
На Финляндском вокзале роилась огромная масса людей, перемещавшихся во всех направлениях. Большинство из них были крестьянами, с большими мешками за плечами, в лаптях, в толстых засаленных пальто, шалях и меховых шапках-ушанках. Я впервые увидел русский железнодорожный вокзал, и он поверг меня в замешательство. Как бы то ни было, но я нашел окошко кассы и около часа простоял в очереди, убеждая себя, что запах вокруг совсем не так ужасен, как кажется и, в конце концов, он не более чем смесь духа дешевого табака и пота, недостаточно хорошо смытого той водой, которая, должно быть, использовалась в петергофских фонтанах до революции. Билетный кассир дала мне билет, не задав никакого вопроса, и я, наконец, нашел поезд, на который уже началась посадка. Я все время беспокойно оглядывался, представляя себе, сколько времени понадобится гиду из «Интуриста», чтобы проверить мою историю про весь день, проведенный в постели, догадаться, что я направился на охоту за сокровищами, и схватить меня на вокзале. В поезде я нашел себе неприметный уголок, где и уселся. Прошел кондуктор. Я дал ему свой билет, дрожа от страха, что он может спросить меня о чем-то и понять, что я иностранец. Но он лишь взял билет и спокойно кивнул.
Мальчишка-попрошайка в оборванной одежде раз в десять большего размера, чем нужно, вошел в вагон, снял фуражку с оторванным козырьком и объявил, что готов развлечь любого песней или танцем. (По крайней мере я подумал, что он сказал именно так, потому что на самом деле я едва ли разобрал хоть слово.) Он стал напевать деревенскую мелодию, вращая своими голубыми глазами, выделявшимися на большом грязном, но смешливом лице, и потряхивая в такт мелодии длинными, желтыми, сальными волосами, рассыпавшимися по плечам. Затем он оживился и стал исполнять что-то вроде джиги. Мои соседи-пассажиры оставались безучастными, хотя один или двое подали мальчику пару копеек. Вдруг он уставился на мою шляпу. До этого момента я не осознавал, что шляпа все это время указывала на то, что я иностранец. Мальчик показал на нее пальцем и воскликнул: «Иностранец!» — значение этого русского слова я знал. Все посмотрели в мою сторону. Я покрылся испариной. Теперь точно кто-нибудь на следующей станции укажет на меня железнодорожной полиции, я буду арестован и вышвырнут из Советского Союза как шпион. Единственное, что я мог сделать, это дать взятку маленькому попрошайке, чтобы он ушел. Я дал ему горсть рублей и махнул, чтобы он уходил. По видимости, мой жест был неверен, потому что он начал свой репертуар с самого начала, и в тот момент, когда я на одной из остановок увидел надпись «Тарховка», исполнитель находился лишь в середине программы. Я выскользнул из поезда, перешел пути и направился по узкой дороге, помеченной на моей салфетке губной помадой.
Дорога шла вдоль Финского залива, отделенная от него лишь железнодорожной колеей, по которой я только приехал. За дорогой шел ряд очень запущенных вилл. Они выглядели жилыми, но количество выбитых окон, полное отсутствие краски и общее состояние запустения показывали, что их хозяева или арендаторы тратили свои доходы на что угодно, но только не на поддержание домов в порядке. Через полмили я нашел то, что искал. Вилла была побольше других и от крыши до фундамента сохраняла остатки того, что когда-то придавало дому вид очень вычурного и, несомненно, уродливого пряничного домика, в садике перед домом находился каменный колодец, а пряничные въездные ворота были почти сломаны — словом, все выглядело именно так, как в деталях описала дочь адмирала с учетом прошедших двух десятилетий, когда за домом не ухаживали.
Пока я стоял, уставившись на дом, утренняя смелость начала меня потихоньку покидать. И что теперь? Очевидно, что дом был жилым, и я не имел никакого понятия, как туда попасть, даже если единственное место, которое меня интересовало, был подвал. Я представил себе, как я сообщаю нынешним жильцам, что явился от имени предыдущих владельцев, от которых как раз и «освободили» для них дом. Если даже я оставлю эту тему и мне радушно все покажут, то должен ли я им сказать: «А теперь не будете ли вы возражать, если я взгляну на подвал — мои друзья зарыли там кое-какие безделушки и просили меня добыть их». И если я решусь сказать им все это, то поймут ли они мой английский?
В это время группа крестьян вышла из-за поворота дороги в ста ярдах впереди меня. Что-то надо было делать и быстро. Нельзя было позволить им обнаружить подозрительно выглядящего иностранца, стоящего с пальцем во рту на берегу Финского залива и задумчиво разглядывающего сверхсекретную военно-морскую базу Кронштадт на острове. Ничего не оставалось, как идти по тропинке и зайти в дом, как будто я имею к нему какое-то отношение.
Меня приветствовали, правда, не рой пинкертонов или, точнее, их коллег из ГПУ, к чему я уже был почти готов, а малыш, увлеченно игравший на полу с игрушечной собачкой. Недаром у меня двадцать один племянник и племянница, так что и без чьей-либо помощи мы с малышом поняли, как надо играть, ползая друг за другом по полу. Малыш толкнул игрушку в мою сторону и зарычал. Я покачал головой, прорычал в ответ и отодвинулся дальше в угол. Не знаю, сколько продолжалась эта игра, но в конце концов я оказался перед кухонной дверью. Я смутно различал стук молотка, идущий оттуда, но моей целью было, чтобы малыш продолжал играть, пока я не обдумаю свой следующий шаг. Когда я заглянул в дверь кухни, то поймал взгляд мужчины, заканчивавшего прибивать новые половые доски. (Я подумал, что он работает как раз там, где может находится дверь в подвал.) Но о подвале беспокоиться сейчас не приходилось. Мое положение и так было весьма затруднительным. Мужчина поднялся с колен, и я поднялся на ноги тоже. Он был человеком огромного роста — во всяком случае таким он мне показался. При этом большеголовый и краснолицый, да еще и c густой бородой. Он приблизился ко мне, поигрывая своим молотком, и что-то коротко сказал по-русски. Я ответил ему: «Хэллоу». (Это единственное, что я мог сказать в данных обстоятельствах.) Он повторил свои слова и, очевидно, надеялся на ответ. Я снова сказал: «Хэллоу». Он подошел ко мне поближе, при этом молоток беспокойно крутился в его руке. Мужчина опять что-то сказал, и на этот раз раздраженно, как мне подумалось. Я сказал: «Хау ду ю ду», полагая изменить предмет беседы, но сразу заметил, что этот прием не сработал. Уголком глаза я следил за молотком.
Похоже, он собирался еще одним шагом преодолеть разделявшее нас расстояние, когда внезапно из соседней комнаты влетел малыш, проковылял между нами и ткнул игрушечной собачкой мне в живот, громко затявкав. Со всей возможной прытью я ретировался в переднюю комнату, не забыв прорычать на собачку в ответ. Мужчина проследовал за мной, но его недобрый взгляд, кажется, чуть смягчился. Я дошел до двери, открыл ее и вышел из ворот сада быстрее, чем вы успеете произнести «Джо Сталин».
Когда я наконец вернулся в свой отель, то написал записку для адмиральской дочери, сообщив, что ее дом нуждается в покраске. А что касается семейного серебра, то с ним все в порядке.
Тем же вечером я уехал в Москву.
Глава 4 МОСКВА
В Москве «Интурист» подхватил меня под руки и поместил в отеле «Метрополь». Единственное место, похожее на «Метрополь», которое я когда-либо прежде видел, был большой стеклянный пассажирский терминал вокзала «Броуд Стрит Стейшн» в Филадельфии. Вокзал сгорел уже почти тридцать лет назад, так что, будем надеяться, «Метрополь» такая участь не ждет. Московский «Интурист» отличался от ленинградского — более сложно устроенный, он не был так уж озабочен вашим идеологическим образованием. Они хотели знать, где вы находитесь и что намереваетесь делать, но совсем не были настойчивы в том, чтобы добиться от вас рассказа о ваших внутренних переживаниях. Возможно, это объяснялось тем, что контактов с иностранцами у них было больше. А возможно также, что Рузвельт все-таки еще не признал Советское правительство и все официальные лица, по меньшей мере низших рангов, чувствовали, что им стоит вести себя получше.
Благодаря своим новым друзьям, с которым я познакомился через своих зарубежных родственников и через офисы американских корреспондентов, я вскоре выехал из «Метрополя» и поселился в русской семье. Мне повезло, и я получил в свое распоряжение целую комнату в четырехкомнатной квартире с кухней. Семья состояла из хозяйки, ее дочери, сестры, домработницы и маленькой девочки, чей статус я так и не понял. Вероятно, она была дочерью домработницы брата хозяйки. Но это только слухи. Однако то, что девочка была очень сообразительной, а домработница — почти слабоумной, скорее, эти слухи опровергало. Из трех комнат одна была моей, другая служила и жилой, и столовой одновременно, где вся семья собиралась за столом для того, чтобы поесть или чтобы обсудить те события в мире, что оказывают какое-либо влияние на Советский Союз, или же, наоборот, происходят в его пределах. У дочери в этом доме была хоть и крошечная, но своя комнатка, а все четверо других жильцов, насколько я смог это понять, помещались в одной оставшейся комнате и располагались на ночь по уголкам коридора.
Но, конечно, самой важной комнатой была кухня, которая выполняла три функции — готовки, стирки и мытья. Раковина был одна для всего сразу. Несколько больших деревянных досок, поставленных сверху на корыто, служили кухонным столом. Поэтому график мытья надо было тщательно вписывать в расписание принятия пищи. Понятно, что вы не можете мыться ни в тот день, когда идет стирка, ни когда готовится еда или убирается и моется посуда.
Через несколько месяцев после этого, когда посол стал настаивать, чтобы я переехал в его шикарную резиденцию, я противился, объясняя, что это оборвет мои контакты с местными людьми. Он был тверд, возражая, что мне будет удобнее жить там же, где и работать. Кроме того, добавлял он, любому человеку, который имеет со мной дело, становится очевидным, что мои русские апартаменты не дают мне возможности нормально мыться. Быть может, он был прав, хотя я и пытался проложить себе путь к ванной хотя бы раз в неделю. Когда это было невозможно, я отправлялся в общественные бани, которые в то время служили чем-то вроде аристократического клуба. Там, после внимательного осмотра государственным врачом, который должен был убедиться, что вы не имеете заразных кожных болезней, можно было воспользоваться чем-то вроде массового варианта турецких бань и даже поплавать в бассейне с подогретой водой. «Плавать», наверное, было бы неверным словом, потому что бассейн был так наполнен людьми, что вам удавалось лишь протиснуться в него, постоять несколько минут в плотной массе обнаженных тел и затем попытаться выбраться наружу.
Кроме комнаты для проживания (я был одним из последних иностранцев, живших на квартирах, поскольку репрессии подняли ксенофобию на новый уровень), я нашел себе учителя русского языка — пожилую даму с чахоточным мужем, лежавшим в комнате по соседству с той, где мы занимались, и который жутко кашлял, агонизируя, в то время как я повторял глаголы. Он умер, когда я добрался до второго спряжения.
Еще до того, как я нашел комнату в русской семье, меня однажды в отеле разбудил ночной портье и с патетическим возбуждением сообщил, что Рузвельт написал письмо Калинину[73]о восстановлении отношений. Тем самым стало очевидно, что скоро посольство будет учреждено и мне надо достаточно хорошо изъясняться по-русски, чтобы получить в нем работу. Нельзя было терять времени. Итак, я проводил по восемь часов в день в своей комнате, заучивая, запоминая спряжения, склонения, пополняя свой словарь и совершенствуя произношение. Два часа каждый день после обеда я занимался с преподавателем, а каждый вечер я спускался в местный буфет на пару часов, чтобы размять свой язык несколькими стаканами водки и потренироваться в общении с буфетчиком и местными девчонками, опираясь на то, что я выучил за день. Это второй по эффективности метод изучения иностранных языков, который я знаю.
Другой превосходный способ обучения — это беседы с детьми. У хозяйки квартиры имелось нескончаемое число племянниц и племянников, которые приходили к ней в гости, и им доставляло особое удовольствие слушать мои уроки и говорить со мной об Америке. Один юноша по имени Женя взял на себя общественную нагрузку не только научить меня русскому языку, но и дать мне необходимые знания о Советском Союзе и особенно о пионерах — юных советских бойскаутах, среди которых он был заметной фигурой. Он слышал о капиталистических бойскаутах и вначале полагал, что ничего хорошего в них нет, но в процессе нашего общения, я полагаю, он стал относиться к бойскаутам терпимее. Жене особенно хотелось, чтобы я посетил школу, в которую он ходил. Однажды он явился, чтобы сказать, что договорился с директором и я могу увидеть, как школа работает. Они ждут меня 6 ноября.
Шестое ноября — день, предшествующий тому, что в Советском Союзе равнозначно нашему 4 июля[74], и когда я пришел в школу, то увидел, что вместо знакомства с обычным школьным днем в моей программе оказалось настоящее празднование. Женя встретил меня у дверей и провел в кабинет директора, где меня с энтузиазмом приветствовали. Я удивился и подумал о том, как, собственно, Женя представил в школе своего американского друга. Праздник начался сразу после моего прибытия в школьный актовый зал. На сцене сидел президиум в составе главы комитета учащихся (который на самом деле совмещал его с руководством комсомольской организацией школы — молодежной коммунистической организацией), директора школы и еще нескольких важных лиц.
Комсомольский вожак, шестнадцатилетний парень, в очень серьезной и уверенной манере открыл митинг, при этом сделав, очевидно, мне некое предложение, которое я не очень понял. Женя, сидевший рядом и с которым я уже выработал некий способ общения, утвердительно кивнул. Потом состоялось голосование, ставшее, как водится в этой стране, единогласным.
— Теперь мы избрали президиум, — прошептал Женя. — Вставай и садись за стол на сцене.
Я боялся всего, я боялся сцены, но тем не менее, в совершенном смущении, занял свое место за столом президиума. Но при этом я добился того, что Женя сядет справа от меня и будет на нашем личном диалекте объяснять мне происходящее.
Оратор-комсомолец закатил большую речь. По русским меркам, она была короткой и заняла около получаса. В ней, похоже, прозвучали отсылки к общей международной ситуации и в частности к Америке, и каждый раз, когда я слышал слова «Соединенные Штаты», он оборачивался ко мне, и все оглушительно хлопали.
Женя начал переводить:
— Он говорит, что скоро в Америке будет революция и коммунисты учителя и студенты возглавят ее.
— Женя, ты им сказал, что я коммунист?
Женя покраснел.
— Да, но не совсем, — сказал он. — Я только сказал, что ты прогрессивный студент.
На какое-то время это меня успокоило, но я начал беспокоиться, а что, если: а) комсомольцы обнаружат, что я родом из доброй старинной капиталистической семьи, и (б) что до будущего посольства дойдут рассказы о моих похождениях в Москве в качестве члена партии. Я почувствовал себя чрезвычайно некомфортно.
Наконец комсомольский лидер закончил свою речь, и заговорил директор. Комсомолец подошел ко мне и сказал, что, по их правилам, я должен произнести речь на русском. Я вежливо объяснил, что по-русски не говорю и просто пришел посмотреть школу и не собираюсь принимать участие ни в каких политических праздниках. Я извинялся, но со всей возможной твердостью.
Комсомолец был поражен и уставился на Женю.
— Не могу понять обстановку, — сказал он довольно холодно. — Женя сказал нам, что вы прогрессивный студент, и, конечно, все прогрессивные студенты в Америке хотели бы поздравить нас с нашим национальным праздником.
Женя снова вспыхнул и, казалось, был готов заплакать. Его энтузиазм улетучился, а патетическое выражение лица взывало ко мне с мольбой о хоть какой-нибудь помощи. И я вспомнил, что в обычае одних правительств поздравлять другие правительства с их национальными праздниками, независимо от их политической составляющей. Мы не так давно даже Гитлеру посылали поздравления.
Итак, я согласился выступить, оговорив, что речь будет очень короткой и ее напишут для меня латинскими буквами. Один из учителей, Женя и я отошли в сторону и начали делать набросок речи. На протяжении всей моей деятельности я написал множество черновиков речей и вел переговоры по поводу целого ряда соглашений, но написание черновика этой речи и переговоры по этому поводу, с учетом длины документа, были наиболее утомительными, чем все, через которые я прошел.
Учитель пришел с первым черновиком:
— Товарищи, — читал он, — по случаю шестнадцатой годовщины Великой Октябрьской революции я передаю вам пламенные поздравления от всех прогрессивных преподавателей и учащихся Америки. Да здравствует мировая революция!
Я прочитал и поморщился. Для затравки я сказал, что это слишком длинная речь.
— Давайте сократим одно предложение — а именно, второе.
Они неохотно согласились. Затем я объяснил, что у меня нет формальных полномочий говорить от имени какой-то конкретной группы людей из Америки.
— Давайте я просто скажу: «Поздравления от Америки», и опустим все пламенное. А то звучит не по-американски, — объяснил я. Мы прилично поспорили, но все-таки сошлись на использовании более парламентских выражений в речи.
— И, наконец, по поводу этого слова «товарищи» — сказал я. — Я, кроме всего прочего, не являюсь членом Коммунистической партии, и для меня будет слишком самонадеянным использовать обращение, используемое, во всяком случае в Америке, только членами партии.
Учитель и Женя буквально окостенели.
— Но вы не можете начать речь без того, чтобы обратиться к людям «товарищи», — сказали они. — Не в Советском Союзе.
Я оставался непреклонным и настаивал, что обращение нужно снять. И они оставались непреклонными и тоже настаивали на своем. Мы оказались в тупике и послали за комсомольским лидером. Он стал спорить, я тоже.
— В Советском Союзе речь без обращения «товарищи», это не речь вовсе, — сказал он.
— А в Америке не так, — возражал я.
— Но вы нас сейчас признали, — сказал он, — и в любом случае, оказавшись в Риме, делай так, как римляне.
— Президент Рузвельт обратился к Калинину «друг», — ответствовал я в свою очередь, — и президент Рузвельт всегда говорит «друзья», когда начинает речь.
Имя Рузвельта, очевидно, произвело впечатление на комсомольца, и наконец он согласился заменить «товарищей» на «друзей».
К тому времени директор школы закончил свое часовое выступление, и наступил мой черед.
С дрожью в коленях я добрался до трибуны и крепко ухватился за стойку обеими руками. Глядя в исчерканную и мятую бумажку в своей руке, я начал:
— Товарищи.
И тысяча детей передо мной разразилась радостными воплями, несмотря на мой странный акцент. Комсомолец удовлетворенно засмеялся, потому что после стольких препирательств я использовал это слово. Я сделался пунцовым.
— Друзья, — снова начал я, — по случаю шестнадцатой.
Я смотрел в иероглифы на бумажке в моей руке, пытаясь найти следующее слово. (По-русски это очень трудно звучит: «Годовщина».) Прежде чем я нашел его, тысяча суфлеров крикнула хором:
— Годовщины!
— Годовщины, — повторил я и продолжил, — Великой Октябрьской революции, я передаю вам поздравления из Америки.
Я сел на свое место.
Рев был оглушительным. Дети требовали большего. Директор тряс мою руку, как будто я только что установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Комсомолец наслаждался своим триумфом. Я начал понимать, почему Акт Логана[75] и что-то там еще рассматривает как преступление вмешательство частных граждан Америки в международные отношения.
Но потихоньку шум спал. Президиум покинул сцену, и за речами последовали череда небольших номеров и исполнение песен учащимися. По окончании мероприятия все получили по миске супа и пошли по домам. Женя, ставший героем дня, с гордостью проводил меня до дома, крепко держа мою руку в своем маленьком кулачке. Несмотря на то, что я не смог воочию увидеть работу советской образовательной системы, я получил взамен первый опыт выступлений перед международной аудиторией. И он мог закончиться гораздо хуже, чем у меня получилось.
Не считая школьников, я вскоре подружился с целым рядом студентов университета из числа приятелей дочери хозяйки. Ухажеры девушки нередко наведывались к ней домой и пользовались гостеприимством дома, ставшего довольно зажиточным под влиянием ежемесячных валютных вливаний в тридцать долларов, которые я регулярно обеспечивал. Мы ходили в театр и на балет, на каток в «Парк культуры и отдыха», а иногда меня даже приглашали посетить их маленькие и неудобные квартиры. Любознательность, которую они проявляли по отношению ко всему, что было связано с Америкой, помогала им побороть страх перед иностранцами, внушаемый полицией поколениям русских людей. Кроме того, теперь, когда Рузвельт назвал Калинина «другом» и речь зашла о восстановлении отношений, они ощущали потребность проявить свое природное дружелюбие и радушное гостеприимство.
Русское гостеприимство — удивительная вещь. Возможно, по причине того, что в их экономической и политической жизни было так мало стабильности, когда полиция, царская и большевистская, конфисковывала имущество и проводила аресты по собственной прихоти, они привыкли смотреть на то, чем владели, как на довольно временные вещи, и, когда им везло, они стремились поделиться своим достоянием с друзьями как можно быстрее, пока не явился кто-то, способный отнять его. Более того, они делали то же самое и по отношению к недавним своим знакомым.
Как-то раз, примерно через год после моего приезда в Москву, моего знакомого — молодого актера Московского художественного театра перевели из актеров третьего класса во второй, в результате чего его жалованье выросло со ста пятидесяти до двухсот пятидесяти рублей в месяц. Естественно, это нужно было отметить. Он позвонил мне и сказал, что организует маленькую вечеринку по этому поводу для тридцати друзей из театра. Не присоединюсь ли я к ним? Я буду единственным иностранцем среди гостей, и мне понравится. Я сразу принял приглашение. Но прежде чем повесить трубку, он добавил:
— Я намерен подать на стол самые простые закуски и выпивку, и я знаю, что ты любишь виски, которое я достать не могу. Может, ты принесешь его с собой?
— Сколько принести? — спросил я.
— Ну, — сказал он, — гостей будет около тридцати человек.
Я понял, в чем дело, и сказал, что принесу достаточно, и повесил трубку.
Два дня спустя актер позвонил снова:
— А французского шампанского, которым ты как-то меня угощал, у тебя нет?
Я сказал, что немного есть.
— Не мог бы ты принести сколько-нибудь на вечеринку. Не все гости пьют водку и… виски, — добавил он торопливо.
— Сколько? — спросил я.
— Ну, как я сказал, будет около тридцати гостей.
И снова я сказал, что принесу достаточно для такого случая, и повесил трубку.
В день вечеринки он позвонил еще раз:
— Ты не забыл о сегодняшнем вечере? — напомнил он. — В десять тридцать в квартире моей матери, и смотри не опаздывай.
Я сказал ему, что буду вовремя.
— И еще одно, — продолжил он. — Помнишь ли ты замечательную латвийскую водку, которую я однажды пробовал у тебя? Кажется, она называется «Кристалл». У тебя случайно ее не осталось?
Я сказал, что у меня есть еще несколько бутылок, и спросил, сколько ему надо.
— Ну, как ты знаешь, вечером у меня будет около тридцати гостей.
В тот вечер я явился с большим и разнообразным ассортиментом виски, шампанского и водки. Стол в столовой был уже заставлен всеми возможными видами закуски, доступными в Москве: яйца вкрутую, ветчина, красная и черная икра, огурцы, редиска, сардины, селедка и целые поленницы белого и черного хлеба, и даже масло. Я был удивлен, как мог студент-актер с жалованьем в двести пятьдесят рублей в месяц накрыть такой стол. И после того, как я получил надлежащие комплименты в свой адрес и передал свой небольшой вклад, я принялся наслаждаться вечером и общением.
Как и на всех подобных частных вечеринках, гости находились в прекрасном настроении, и их не нужно было принуждать к участию в общем веселье. Старик Качалов, старейший актер Художественного театра, прочитал рассказ Чехова. Тарасова сыграла сценку из «Анны Карениной». Ангелина Степанова, тоже из Художественного, внесла свою лепту, изобразив младшую дочь из Вишневого сада. Несколько балерин все время вскакивали, требовали сыграть для них и парили в воздухе в своих любимых танцах.
И, конечно, все ели и пили без ограничений. Ночная жизнь в России начинается поздно и обычно заканчивается следующим утром. Было восемь тридцать утра, когда я понял, что скоро откроется наш офис. В то время я работал в консульском отделе под началом Ангуса Уорда, прославившегося в Мукдене[76] и известного своей дисциплинированностью. Я спешно попрощался и рысцой направился в посольство. Я едва успел сесть за свой стол в приемной, прежде чем в нее вошел Уорд.
Кое-как я проработал этот день, хотя думаю, что если кто-то взглянет на книгу записей консульского отдела в Москве за этот день, то он обнаружит резкое падение активности.
В конце дня, когда моя способность сопротивляться почти достигла нуля и глаза неотрывно глядели на стрелку часов в офисе, зазвонил телефон. Это был мой вчерашний хозяин:
— Как тебе понравилась вечеринка?
— Пожалуй, даже слишком хорошая для моего здоровья, — простонал я. — Как бы то ни было, все было шикарно. Не понимаю, как ты все это сделал.
— Надеюсь, что все прошло хорошо, — сказал он. — Это стоило мне всего моего жалованья за месяц вперед, — добавил он удрученно, и на мгновение замялся. — Чарли, а не можешь ли ты мне одолжить двести пятьдесят рублей до зарплаты?
Совсем недурно похоронить себя заживо где-нибудь в кварталах левого берега Сены в Париже или затеряться в самом сердце Гималаев, или где-нибудь в глубинах Центральной Африки, но всегда и везде тебе нужно хоть иногда выбираться на воздух. В те давние дни, когда я почти все свое время тратил на заучивание окончаний прилагательных, я все-таки позволял себе полдня в неделю проводить в общении с людьми из американской колонии. Обычно я приходил на чай домой к Уильяму Генри Чемберлину[77], где миссис Чемберлин по пятницам готовила щедрое угощение. Пока она заваривала чай, Уильям Генри, в то время корреспондент газеты «Крисчен Сайенс Монитор», принимался обсуждать какие-нибудь запутанные вопросы российской истории или политики. Голод 1932–1933 годов уже почти прекратился, и большинство журналистов было взволновано и рассержено тем, что им не разрешали посетить районы, охваченные бедствием.
— Я сегодня читал небольшую книжку о голоде на Украине в 1732 году, — помню, рассказывал он, — и знаешь ли ты о том, что иностранцам тогда целый год не разрешали селиться где-либо за пределами Петербурга?
Один приятель из «Москоу Дейли Ньюс» не согласился с такой аналогией, сказав, что нынешний запрет отличается от того, как это делали при царе. Он считал, что нельзя сравнивать царей со всем, что происходило после революции.
Тогда Чемберлин обратился к присутствовавшему американскому инженеру:
— Скажите, Браун, можете ли вы дать инженерное определение революции?
— Хорошо, один из способов описания будет означать нечто, что совершает полный оборот и возвращается к тому, с чего все началось.
— Я думаю, это что-то вроде того, — сказал Уильям Генри. Затем он сменил тему, озорно ухмыльнувшись и глядя на надутого человека из «Москоу Ньюс».
Ральф Барнс[78] из «Геральд Трибюн», Стэнли Ричардсон[79] из «Ассошиэйтед пресс», Юджин Лайонс[80] из «ЮПи», Билл Стоунмэн[81] из «Чикаго Дейли Ньюс» и, конечно, Уолтер Дюранти[82] из «Нью-Йорк Таймс» были постоянными посетителями этих собраний по пятницам. Барнс потом погиб на войне, попав под бомбежку где-то на Балканах. Пятнадцать лет спустя у меня было немало общих дел со Стэном Ричардсоном, когда он работал для NBC. Юджин Лайонс стал первым корреспондентом, пренебрегшим риском лишиться разрешения на возвращение в Москву, когда он написал свою «Командировку в Утопию». Билл Стоунмэн стал помощником Трюгве Ли[83] в ООН, но в конечном счете вернулся в «Ньюс».
Из всех них Уолтер Дюранти, я думаю, был самым знаменитым. Его огромной журналистской удачей стало понимание того, что Сталин победит Троцкого в борьбе за место наследника Ленина. Остроумный, постоянно готовый принять ту или иную сторону в споре, он любую вечеринку, где присутствовал, воспринимал как место, где можно поспорить и поругаться.
Когда я впервые приехал в Москву, Дюранти был первым, кому я позвонил, и именно через него я нашел себе комнату и учителя. И я не успел прожить еще и дня в своей квартире, как он предупредил меня:
— Если ты собираешься писать книгу о России, начинай это в ближайшие десять дней. Иначе тебе понадобится десять лет, чтобы понять, о чем писать. (Это было всего лишь семнадцать лет назад, но я всегда думал, что Дюранти старался во всем оставаться оптимистом.)
Во время моих еженедельных каникул с американцами я обычно сидел и слушал или задавал вопросы о том, что происходит дома. (Моим единственным источником информации была «Москоу Дейли Ньюс», которую издавала Анна Льюис Стронг[84], и меня не покидало ощущение, что далеко не все новости, заслуживавшие публикации, находили место на страницах газеты.) Но однажды я принял участие в дискуссии, имевшей для меня почти фатальный исход. Это было прямо перед большими ноябрьскими праздниками, когда рабочие ходят на демонстрацию на Красную площадь.
— После каждого Первого мая и Седьмого ноября, — сказал я однажды, — корреспонденты сообщают о том, что миллион рабочих промаршировал по Красной площади в пятичасовой демонстрации. Как это подсчитано?
Несколько корреспондентов посмотрели на меня, потом друг на друга:
— Ну, мы стараемся поточнее оценить численность демонстрантов, и мы все считаем, что миллион вполне правильная примерная цифра и, вероятно, это именно так и есть.
— Я вчера после обеда прошел там, — продолжил я, — и мне представляется, что оценка в миллион сильно завышена. Я пересек площадь в самом узком месте и, используя методику оценки, которой учили нас в Вест-Пойнте, посчитал, что за пять часов площадь могут пройти не более пяти или шести сотен тысяч человек. Если бы их был миллион, они должны были бежать по площади как кролики.
Это не было такой уж серьезной темой, но послужило началом горячего спора. Насколько быстро они идут, каково расстояние между шеренгами, сколько человек в шеренге и т. п., и т. д. Как и в любом другом московском споре о русских делах, мы не пришли к согласию, но каждый решил попытаться сосчитать отдельные элементы, необходимые для расчета, и сопоставить после демонстрации полученные данные.
Седьмое ноября пришло вовремя. Через «Интурист» я получил место на трибуне на площади недалеко от Мавзолея, где стояли Сталин и члены Политбюро. Как и все другие сектора скамеек для зрителей, мой хорошо охранялся солдатами из НКВД, постоянно передвигавшимися вверх и вниз по проходам, наблюдая за всеми зрителями.
Как только парад трудящихся начался, я достал небольшой блокнот и стал считать и делать вычисления. Я наметил для себя несколько точек на площади и периодически засекал время, с которым проходили демонстранты мои виртуальные метки, а результаты записывал в блокнот. Я был совершенно погружен в математические расчеты, когда здоровенный милиционер из НКВД с хмурым лицом появился около меня и потребовал, чтобы я передал ему мой блокнот. Я попытался возразить, но мой русский был не настолько хорош, и он все равно сказал, что только хочет просмотреть блокнот, и через несколько минут вернет его мне. Итак, я отдал свой блокнот и стал запоминать те цифры, которые я вычислил. Через несколько минут солдат появился в конце моего ряда и жестом пригласил меня следовать за ним. Меня отвели к офицеру непонятного ранга, который через переводчика стал расспрашивать меня, что значат все эти цифры. Я объяснил, что я попытался делать, и показал ему мои расчеты. К сожалению, они были сделаны в основном в футах и дюймах, что его совершенно смутило. Тем не менее я продолжил свое детальное объяснение, словно я опять стоял у доски на занятиях в Вест-Пойнте. Когда я добрался в своих объяснениях до Q.E.D.[85], он с сомнением покачал головой, засунул блокнот к себе в карман и сказал:
— Вы сможете узнать количество демонстрантов в завтрашней «Правде».
Назавтра «Правда» объявила об обычном миллионе, но я был горд, обнаружив, что иностранные корреспонденты сообщили о семистах тысячах демонстрантов.
Через месяц заканчивался срок действия моей визы, но я почти беспрепятственно продлил ее еще на месяц. Когда и этот месяц близился к концу, я попросил о новом продлении, но в ответ получил «ничего нельзя сделать». Два месяца — таков был лимит. Тогда я попытался стать московским корреспондентом небольшой техасской газеты, издателем которой был отец одного моего соученика по Академии. В Комиссариате по иностранным делам я показал письмо от издателя, предоставившего мне работу. Они взглянули на представленную мной бумагу, сверились с каким-то справочником и с улыбкой вернули мне обратно — по-прежнему ничего нельзя было сделать. Я спросил у Дюранти и других корреспондентов, что мне делать. Рузвельт скоро пришлет кого-нибудь в Москву, и мне абсолютно необходимо быть здесь, иначе мои надежды на работу в новом посольстве рухнут. Дюранти попытался навести справки по своим каналам, но безрезультатно. У меня оставалось пять дней. В конце этого срока мне надо было покидать страну.
И тут «Правда» объявила, что посол Буллит[86] находится на пути в Москву и прибудет в ближайшие десять дней. Я решил, что лучше всего будет больше ни к кому не обращаться за визой и на какое-то время исчезнуть из вида.
«Уйти в подполье» в Москве совсем непросто, особенно если вы должны показывать ваш паспорт ежеминутно. (Ленин когда-то обещал, что большевики сделают одну хорошую вещь — отменят паспорта, но и спустя шестнадцать лет они на это так и не решились.) Несколько дней меня никто не трогал. Я держался подальше от полицейских участков, банка, «Интуриста» и всяких других мест, где меня могли попросить показать «документы». Через пять или шесть дней я сообразил, что полиция начнет меня искать, и я провел еще несколько дней, оставаясь «в гостях» у своих друзей. Но полиция, похоже, обо мне вообще позабыла.
Наконец под звуки духового оркестра, встреченный цветами и приветственными заголовками в газетах, Буллит приехал и разместился в отеле «Националь». Газеты заполнили фотографии того, как он посетил Комиссариат, завод и даже балет. Передовицы провозглашали наступление эры дружбы между Америкой и Советским Союзом. После этого я почувствовал себя в большей безопасности и вернулся в свою комнату. Я решил, что они не захотят омрачать визит Буллита проявлением какого-то негостеприимства по отношению к его соотечественнику, который, да будет им известно, является близким другом Буллита. (На самом деле я лишь был немного знаком с его братом.)
Но знать, что Буллит в Москве, и увидеться с ним — это две разные вещи. За несколько дней до того, когда я впервые отправлялся за границу, мой дядя осторожно инструктировал меня о том, как надо звонить послу. У тебя нет права, объяснял он, просить аудиенции у посла, поскольку послы представляют главу государства перед другими главами государств, а не отдельных граждан — это функция консула. (Если б об этом знали побольше американцев!) Поэтому будет правильно отправиться в его отель и оставить визитную карточку со своим именем и адресом и предоставить ему самому решать, захочет ли он со мной встретиться. В первый же день, как Буллит поселился в отеле «Наци-ональ», я оставил свою визитную карточку у консъержа и ушел. Два дня прошли без какой-либо реакции с его стороны, затем еще три дня, и четыре, и все оставалось по-прежнему. Я старался держаться поближе к своему дому в ожидании звонка, но он так и не последовал.
Оставалось два или три дня, после чего Буллит должен был уехать, когда мне позвонил Дюранти:
— Я думаю, ты хочешь увидеть Буллита по поводу визы и возможной работы?
Я сказал, что очень сильно хочу увидеть Буллита и оставил свою визитку у консьержа и надеюсь, что посол пошлет за мной.
— Он пока этого не сделал и, я полагаю, и не собирается.
— Не будь ослом, — ответил Дюранти. — Сейчас 1933 год, а не 1820-й. Визитные карточки теряют, и в любом случае Буллит слишком занятой человек, чтобы звонить кому-либо по московскому телефону. Давай звони ему сам.
Но я был упрям и не хотел терять свое достоинство, как и мой древний дядя:
— Посол знает, где я нахожусь. Он знает, что я хотел бы увидеться с ним, и если он захочет, то найдет время послать за мной. Я не собираюсь больше его беспокоить.
Дюранти засмеялся, слыша такое упрямство, и повесил трубку.
Следующим утром он снова позвонил мне:
— Раз ты не хочешь беспокоить его, я решил сделать это за тебя. Иначе ты очутишься в сложном положении с просроченной визой на руках. Я говорил с ним вчера вечером о тебе, и он сказал, что знает, что ты здесь, и ждал твоего звонка. Он попросил меня сказать тебе, чтобы ты был в его отеле в семь.
В шесть тридцать я вышел из своего небольшого жилого дома в темноту улицы. Всю дорогу до отеля «Националь», до которого было около мили, падал небольшой снег. Я полагал, что прогулка по свежему воздуху пойдет мне на пользу. После всего, что со мной произошло, наступал решающий момент. Теперь мне предстояло узнать, были ли все мои туманные схемы «чертовой бессмыслицей», как выразился полковник Паттон. Через час я буду знать, получу ли место в ведомстве иностранных дел или мне предстоит возвращаться домой и влиться в армию безработных. Признаюсь, что слегка нервничал.
В отеле «Националь» мне пришлось объясняться, чтобы преодолеть несколько препятствий в фойе и в холле наверху, пока я смог наконец постучать в дверь посла. Из-за двери выглянул почти лысый, но с остатками рыжих волос человек и спросил:
— Вы Тейер? Заходите.
Посол был одет в яркое шелковое кимоно — и это совсем не походило на костюм дипломата, который я ожидал увидеть. Впрочем, кто бы говорил. Мое пальто, с тронутым молью меховым воротником, было родом из магазина секонд-хэнд в Филадельфии, а шапку из тюленьей шкуры купил в 1901 году в Петербурге еще мой отец, и весь мой вид был настолько гротескным, что это признавали даже мои не очень сведущие в современной моде русские друзья. Снег, присыпавший мои шапку и пальто, начал таять, и возле моих ног уже стала образовываться лужица. Я осознал, что, кажется совершаю не самый удачный поступок. И вообще, все, что касалось одежды, не было моей сильной стороной. Я швырнул шапку и пальто в угол, и в этот момент посол начал:
— Дюранти сказал мне, что вы ищете работу в посольстве. Он говорил, вы учите русский. Насколько вы преуспели?
Я признал, что знаю пока не слишком много, но учусь. Посол взял толстую стопку бумаги, лежавшую перед ним:
— Это текст пьесы, которую я видел сегодня вечером. Прочитайте его мне.
Он кинул мне рукопись через стол. Я не смог ее поймать, и нескрепленные листы рассыпались по полу. Я было хотел сказать, что уронил пьесу, чтобы выиграть немного времени, но побоялся, что это станет лишь повторением всех моих предыдущих пропущенных пасов, которые я испытал в своей футбольной карьере. Пока я собирал листы, то сделал два важных открытия: (а) текст был рукописным и на русском языке, так что я едва мог его разобрать (я все еще имел дело с жирными прописными буквами), и (б) это была пьеса Булгакова «Дни Турбиных», которую я несколько раз смотрел в Художественном театре.
— Она довольно длинная, — сказал я, когда наконец собрал все страницы вместе, — и у вас мало времени. Что если я суммирую ее содержание?
Посол согласился. Я начал механически перебирать страницы и одновременно излагать краткое содержание того, что я помнил по спектаклю. Когда я закончил, посол засмеялся:
— Я полагаю, вы преуспели. Мне будет нужен кто-то вроде вас в качестве личного переводчика. Продолжайте учиться, и, когда я вернусь в феврале, то возьму вас.
Мгновением позже я уже спустился в холл, пребывая в некотором потрясении. И только когда я дошел до стойки консьержа, немного пришел в себя.
— Вызовите мне интуристовское такси, пожалуйста, — громче, чем нужно, сказал я.
Я решил сразу же позвонить Дюранти и поблагодарить его за помощь. К тому же у него имелось хорошее шотландское виски, которое мне было совершенно необходимо.
Глава 5 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОСОЛЬСТВО
Через день или чуть позже посол Буллит вернулся в Вашингтон, оставив за себя Джорджа Кеннана[87], в то время третьего секретаря дипломатической службы, с тем чтобы тот подобрал помещение для нового посольства, которое предстояло открыть в феврале.
Я продолжил свои занятия русским языком, работая по десять-двенадцать часов в день с моим преподавателем и дома. К Рождеству моя голова уже окончательно поплыла от падежных окончаний, неправильных глаголов и словарного беспорядка. Мне показалось, что пора отдохнуть. Кроме того, погода в Москве была отвратительной, с чередованием дождя и снега, сопровождавшихся туманом.
Я отправился в короткую поездку на Кавказ — на сей раз без сопровождения интуристовского проводника. Я хотел добраться до Сочи, летнего курорта на Черноморском побережье. Но в это время года прямых поездов не было, и мне предстояло сделать пересадку в маленьком городке под названием Армавир. Как обычно в России, поезд из Москвы пришел с опозданием. Я пропустил пересадку, и мне пришлось дожидаться ее весь следующий день. Армавир находится на Кубани, и это был тот регион, где в прошлом году был очень жестокий голод. Чтобы убить время, я нанял дрожки — четырехколесную повозку, которыми управлял пожилой бородатый крестьянин, с запряженной в них изможденной, тощей кобылой. Я сказал кучеру, чтобы он провез меня по нескольким деревням в округе.
— Я покажу вам несколько деревень, и подобного в своей жизни вы еще не видели.
И он выполнил свое обещание.
Первая из деревень, куда мы приехали, состояла из двух-трех десятков домов. Лишь в трети из них жили люди, другая треть была сожжена, и оставшиеся были брошены или развалились сами. Один или два ребенка со вздутыми от недоедания животами тихо играли на улице. Несколько стариков-крестьян возились на задних дворах своих хижин.
Кучер махнул им рукой, когда мы проезжали, и они помахали ему в ответ.
— Это моя деревня, — объяснил он. — Только я забрал свою лошадь и уехал в город, прежде чем началась коллективизация. Коллективизация! — и он с отвращением плюнул. — Коллективизация, черт подери! Это она принесла нам голод.
Следующая деревня была меньше, в ней было лишь десять или двенадцать домов. Некоторые из них были сожжены, и остальные стояли пустыми. Не доносилось ни единого звука. Даже лая собак. Она была мертва. Кучер проехал через деревню, не произнеся ни единого слова.
Через несколько миль мы приехали в третью деревню. Она была не больше, чем предыдущая, но в полях возле нее мы смогли увидеть пятерых мужчин и женщин, которые ковыряли землю мотыгами. В самой деревне детей не было, вообще никого, за исключением одной дряхлой старухи, сидевшей на пороге обветшалой хижины и жевавшей что-то, извлекаемое из глиняной кружки. Мы остановились, я вышел и направился к тому месту, где она сидела.
— Есть здесь кто-нибудь?
— Ушли, — сказала она мрачно. — Все ушли. Они забрали двух моих мальчиков. Они сожгли мой дом.
Она показала на обугленные остатки по соседству.
— Мой муж, они застрелили его. Все остальные ушли в город — дети и все остальные. Но здесь еще осталось несколько человек, и они дают мне что-нибудь из еды. Я слишком стара, чтобы работать.
Она взяла свою кружку и показала мне жидкую кашицу, где плавала солома, которую она пыталась выудить пальцами.
— Это мои завтрак, обед и ужин на сегодня.
Я вернулся в дрожки и велел кучеру возвращаться в город. Я увидел достаточно голода на много лет вперед.
В Армавире не было гостиницы, но начальник станции, узнав, что я иностранец, пригласил меня оставить свои вещи у него в конторе и лечь спать возле печи.
Все это не обещало, что мне удастся провести ночь в комфортных условиях. И я решил пройтись по городу, чтобы вернуться обратно достаточно усталым, прежде чем уснуть на жестком полу. Я не прошел от станции и сотни ярдов и собирался перейти освещенную фонарями улицу, как увидел, что прямо на меня из темноты движется повозка, груженная вязанками дров. Возница, сидевший на облучке, мирно спал. Вдруг в двадцати ярдах от меня на улицу из переулка выскочила стайка маленьких созданий и побежала по направлению ко мне. Вначале я подумал, что эта свора одичавших собак или даже волков, так низко стелились они по земле на бегу. Но как только они приблизились, я понял, что это дети. Их лица выглядели по-старчески; их одежда была слишком велика для них и волочилась за ними по грязи. Их вожаку было от силы лет двенадцать или четырнадцать. За ним бежало человек пятнадцать или больше. Замыкали стаю малыши, не поспевавшие за остальными. Им было по семь или восемь лет, как я мог предположить по их маленьким лицам, которые выглядели до странности старческими и изможденными. Я слышал о бездомных беспризорниках, спасавшихся от голода, поразившего их деревни, и собиравшихся в банды по городам, где они жили тем, что могли выпросить, позаимствовать или украсть. Несмотря на свой возраст, они своей жестокостью и убийствами быстро приобрели репутацию, которой могли позавидовать сицилийские бандиты. Это была моя первая личная встреча с ними, и нет нужды отрицать, что я был по-настоящему напуган.
Я остановился под фонарем и прислонился спиной к столбу. В моем кармане был карманный пистолет Дерринджера, который я всегда носил в России с собой. В первый и последний раз в моей жизни я взял его в руку и взвел курок. Сама мысль о том, что мне придется стрелять по стае ребятишек, была ужасна, но с перспективой быть зарезанным я тоже не мог мириться. Я просто стоял и ждал. Вожак стаи приближался. До него или нее — ни по одежде, ни по маленькому личику разобрать пол было невозможно — оставалось не больше десяти футов. Я размышлял, стоит ли выстрелить прямо через карман и отпугнуть его. Но вожак, казалось, совсем и не собирался направляться ко мне. Он или она миновал линию фонарей и побежал следом за повозкой с дровами. Маленькие блестящие глаза были нацелены на дрова. Вся остальная стая пронеслась мимо, задевая меня рукавами своих длинных грязных пальто.
Только когда они добежали до повозки, я понял, что это все значило. В детстве я играл в игру «карточный домик», но я не видел ничего подобного тому, что проделали дети с дровами. В несколько мгновений вся стая исчезла в переулках, при этом каждый уносил столько палок, сколько мог. Возница по-прежнему спал, опираясь на тот оставшийся минимум поленьев, который позволял ему сохранять вертикальное положение.
Много лет спустя мне пришлось проводить беседу с молодым русским, претендовавшим на работу на радиостанции «Голос Америки». Он рассказал, что родом с Кубани и оказался сиротой в силу сочетания обстоятельств: голода, который убил его мать, и высылки, которой подлежал его отец. Я спросил, как ему удалось выжить.
— Я присоединился к шайке беспризорников, — ответил он, — и мы как-то выжили.
— Где это было? — спросил я.
— В Армавире.
Он не помнил, обворовывали ли они этот конкретный воз с дровами. Но признал, что воровали, и много.
Я не смог предоставить ему работу, но он получил другую, еще лучше. Теперь он женат и счастливо обитает на Лонг-Айленде.
В ту ночь в Армавире я спал плохо, даже хуже, чем ожидал. Наутро я сел в поезд на Сочи.
В Сочи было холодно и пасмурно — собственно, о том, что в декабре там именно так и бывает, мне говорили все. Я сел на советский пароход до Батума с остановкой в Поти на несколько часов для выгрузки. В порту стояло несколько иностранных судов, в основном турецких и греческих, загружавших зерно. Я спросил моряка, куда отправляется зерно, которое они грузят.
— За рубеж: валюта, — ответил он. Но по тому, как он это сказало, было вполне ясно, что он тоже думает о голодающих областях, расположенных неподалеку к северу.
В Батуме было тепло. Субтропики. И я воспользовался погодой, чтобы побродить по горам вокруг города. Я пребывал в не слишком хорошей форме и переоценил свои возможности. К тому времени, как я уже был на полдороге к дому, мои ноги заболели, и я почувствовал себя ужасно усталым. Меня догнал грузинский крестьянин с повозкой, в которую была запряжена пара маленьких горных лошадок. Он, конечно, заметил, насколько я устал, и предложил подвезти меня до города. Я с благодарностью принял его предложение, и вскоре мы уже оживленно беседовали на ломаном русском. Я спросил, принадлежат ли его лошадки коллективу. Он засмеялся и ответил, что нет и что они все еще принадлежат ему и он намерен сохранить это положение. Он уже потерял трех других, доставшихся близлежащему колхозу, но это произошло потому, что они собирались забрать их силой. Он показал жестом, что будет делать с тем, кто попытается надавить на него снова. Я спросил, почему он не вступает в колхоз. Разве там сейчас не лучше и разве они не дадут ему хлеба, если он вступит? И вообще, что там неладно с этими колхозами? Вместо ответа он передал мне один из двух поводьев, которыми правил.
— Если ты хочешь ехать налево, ты тянешь свой повод. А я хочу поехать направо и тоже тяну за повод. Что происходит? Смотри, мы остановились. Вот что происходит в колхозе, где каждый — хозяин и все останавливаются.
Такое объяснение стоило любого другого.
Через пару дней я отправился в Тифлис, по моему мнению, самый привлекательный город Советского Союза. Быть может, потому, что практичные и упрямые грузины не хотели советизации их обычаев, домов и городов — даже если это пытался сделать другой грузин — или из-за климата и ландшафта. Я не знаю. Но Тифлис, с его продуваемыми ветрами узкими улицами, коваными балконными решетками, садами и парками, все еще сохранял свой собственный характер в куда более значительной мере, чем любой другой город Советского Союза.
Но мне нужно было срочно возвращаться в Москву. В местных газетах печатали слухи о том, что Буллит вернется раньше, чем ожидалось, и я не хотел оказаться где-то вдали, когда он приедет. Проведя день или чуть больше в прогулках по старым районам города и в лазании по близлежащим горам, я сел на поезд до Баку.
Я ехал в спальном вагоне второго класса вместе с тремя русскими партийными работниками, которые сумели запастись несколькими литрами водки, прежде чем сели в поезд. Это была веселая, шумная и бессонная ночь, в течение которой мы пили водку и задавали друг другу вопросы о России и Америке.
Около пяти часов следующим утром мы прибыли в Баку. Мои партийные друзья посоветовали мне отправиться в отель «Европа». «Все иностранцы там останавливаются», уверили меня. «Европа» была заполнена до отказа. Но все-таки один номер должен был освободиться в течение дня, и ночной портье обещал забронировать его для меня, если я подожду. Итак, я уселся в холле и ждал. (Ожидание — общенациональный способ времяпрепровождения в России.)
Пока я сидел, залечивая последствия прошедшей ночи, ко мне подошел гостиничный чистильщик обуви и со скуки решил со мной поболтать. Он понял, что мой русский не так уж хорош для него, перешел на турецкий, затем на немецкий и, наконец, решил испытать английский. Мы поболтали всего несколько минут, и я отметил, что у него американский, а не английский акцент.
— Так и должно быть, — ответил он. — Я выучил язык в Америке.
— Что вы там делали?
— Я служил на царском военном флоте. Тогда — двадцать лет назад — в начале первой войны российский военный флот купил несколько линкоров у Америки. Я был в составе одной из команд, которые должны были привести их.
Я навострил уши, потому что много слышал об этих кораблях, когда был ребенком.
— И где вы должны были забрать эти корабли?
— В Филадельфии, — ответил он. — Они построили их на верфях Крэмпа[88]. Мы прекрасно провели время в Филадельфии, где дожидались, когда их нам передадут. Там были хорошие люди. Они устраивали вечеринки для нас и показывали окрестности, причем делали это не только для офицеров, как обычно это бывает в других портах, но и для матросов. Вот я помню, например, управляющего верфью или, может, он был помощником управляющего — не важно, в каком качестве, но он занимался нами. Однажды он пригласил несколько человек из команды к себе домой куда-то за город и дал в нашу честь банкет. Я этого никогда не забуду. Столы поставили в тени большого дуба, росшего возле его дома, и нам подали к столу множество русских блюд, которых мы не видели с тех пор, как покинули дом. Да, эти американцы относились к нам хорошо.
Я был польщен тем, что мог сказать ему, что дуб, который он помнит так хорошо, все еще растет и в полном порядке. И что его гостеприимный хозяин, так уж получилось, был мой отец, и что в том самом доме я родился. Бывший моряк не относился к тому типу людей, которые бы разразились суждениями на тему того, как мал наш мир. Он лишь рассмеялся и вновь поблагодарил меня за прекрасное время, проведенное в Америке.
Двадцати четырех часов, проведенных в Баку, хватило мне на всю оставшуюся жизнь. Там было очень сыро, холодно и очень, очень дурно пахло. Баку обладал всеми чертами большого нефтяного города, а я не люблю нефтяные города. Там было несколько старых зданий, внешний вид которых говорил, что когда-то они были весьма привлекательными, но с тех пор как крупные международные нефтяные компании в начале нынешнего столетия открыли Баку, эти дома совершенно пропитались нефтью, дымом и выглядели грязными. Я в спешке покинул Баку и сел на скорый поезд до Москвы.
Когда я приехал, то позвонил Джорджу Кеннану, все еще располагавшемуся в «Национале». Перед его комнатой в холле стояла длинная очередь. Я протолкался сквозь нее, проложив себе дорогу в стиле московских автомобилистов, и прошел в комнату Кеннана. Тот сидел за столом, окруженный бумагами, картами, проектной документацией и бог знает чем еще. Выглядел он усталым и раздраженным. Я сказал ему об этом.
Кеннан устало рассмеялся:
— Да, дел много. Мне надо проверить проекты новых зданий посольства; я должен подготовить черновики арендных соглашений и получить из Вашингтона разрешение подписать их. Все эти люди снаружи претендуют на получение работы, и с ними надо беседовать. Каждый день я должен отвечать на запросы. После пятнадцати лет без посольства в стране здесь накопилась куча дел. И некоторые из них срочные. Во всяком случае они кажутся таковым для того, кто в них вовлечен.
— Могу я чем-нибудь помочь? — спросил я.
— Мы пока не уполномочены Государственным департаментом нанимать кого-либо. Спасибо, но это касается и вас тоже.
— Я не имею в виду постоянную работу. Просто, похоже, что вам не помешала бы помощь.
— Наши регламенты не позволяют мне привлекать волонтеров, но, — тут он задумался на мгновенье, — что вы знаете о таможенных процедурах в Москве?
— Я получал на таможне свой собственный чемодан, — ответил я. — На это ушло почти два месяца, и я думаю, что пообщался в Москве со всеми, у кого были какие-то дела с таможней. Может, пара клерков и избежала встречи со мной. Но чемодан я получил.
Кеннан на какой-то момент задумался:
— Проблема с тем, что сорок вагонов с оборудованием для посольства находятся в пути из Америки. В Вашингтоне говорят, чтобы я просто передал все в руки московского подобия нашей «Рейлвэй Экспресс». Но здесь ее не существует. Департамент никак не может понять, что в Советском государстве все по-другому. Они считают, что все в конце концов устроится, — добавил он с деланной бодростью. — Но начало для нас складывается трудновато.
— Сорок вагонов, — повторил я, слегка ошеломленный. — Сорок вагонов чего?
— Сорок вагонов мебели для посольства и для жилых помещений персонала, а также все офисное оборудование для канцелярии.
— Канцелярии? А это что такое?
— Канцелярия — это офис посольства. Наша будет находиться в здании, строительство которого заканчивается рядом с отелем.
— Но у этого здания еще и крыши нет. И где все эти вещи хранить?
— Ну да, и это одно из дел, которые нам предстоит сделать, — найти склад на таможне. Быть может, ты разберешься в этом и дашь мне знать, какие процедуры нам предстоит пройти и какие бумаги понадобится для этого оформить. Я дам тебе письмо, в котором будет сказано, что ты являешься моим представителем. Это не соответствует регламенту, ну да черт с ним.
Уже через несколько минут я спешно отправился выполнять свое первое официальное поручение посольства.
Руководитель Таможенного управления принял меня в сияющей белизной стен конторе на Вокзальной площади — там, где Ленинградский и Северный вокзалы стоят один возле другого[89]. На противоположной стороне площади находится Казанский вокзал, сложенный из красного кирпича. (Восемь лет спустя в туманную и дождливую ночь мне придется окончательно покинуть Москву именно с Казанского вокзала, а на саму площадь сбросят бомбы немецкие самолеты.)
Шефом таможни был здоровенный и немолодой джентльмен, ростом в шесть с половиной футов и почти такой же большой в обхвате. Его седая борода если и не доставала до его обширной талии, то уж до середины туловища спускалась точно. Он был любезен ровно настолько, насколько импозантно выглядел. Он обращался ко мне с обаянием дипломата старого мира и внимательно выслушал рассказ о моей проблеме, которую я постарался объяснить как можно лучше на своем не очень грамматически правильном русском.
Когда я перешел к сорока вагонам, шеф чуть-чуть расслабился и улыбнулся:
— Сорок дней, вы говорите? Зачем так рано беспокоиться? Разве времени недостаточно? Когда ваш багаж прибудет, мы вас известим, и вы пришлете курьера с необходимыми бумагами.
— Не сорок дней, а сорок грузовиков[90], - сказал я.
— Сорок машин? Чудовищное количество для одного посольства — но теперь мы знаем, какие вы, американцы. Вы не любите ходить. Но если Комиссариат иностранных дел даст добро, то с нами проблем не будет. Когда они прибудут, присылайте шоферов. Затруднений не будет.
— Нет! Нет! Не машины, не автомобили, а железнодорожные грузовики. Вы их называете «вагонами».
Тут шеф таможни забеспокоился:
— Что за черт. Зачем посольству нужны сорок железнодорожных вагонов? Вы что, собираетесь строить собственную железную дорогу? Или это подарок транспортному комиссариату? Если это так, то пусть комиссариат и занимается всеми таможенными формальностями.
Я попытался как-то объяснить по-русски «сорок грузовых вагонов, полных мебели». За все время моего изучения языка мне ни разу не попадалась подходящая фраза. Я показал на письменный стол шефа таможни, на его стул, на диван и на всю остальную мебель в комнате.
— В пять раз больше того, что здесь есть, и все в одном только вагоне. Завтра, послезавтра, иначе говоря, скоро посольство получит в двести раз больше мебели — сорок вагонов прибудут сюда на таможню.
Шеф перестал улыбаться. Он попросил меня обождать и послал за своим помощником. Помощник был моложе, выше, тоньше и выглядел усталым. Он вошел и сел рядом с шефом. Тот попросил меня повторить все еще раз.
После того как я закончил, наступило долгое молчание, при этом шеф глядел на помощника, а тот на него.
Помощник начал говорить первым:
— Это новая для нас проблема. Мы до сих пор имели дело лишь с небольшими грузами. Маленькими посылками для частных лиц. Не было в нашей практике такого, чтобы целое посольство приезжало разом. Большие грузы всегда предназначались трестам или комиссариатам, а они — часть правительства. И грузы эти направлялись прямиком на заводы и фабрики. Всё, с чем мы имели дело, — это были документы. Но это другой случай. Всё, конечно, придется проверять здесь. Но сорок вагонов! Ведь такой груз заблокирует работу таможни на недели. И нам придется разработать некую специальную процедуру.
Он посмотрел на шефа и добавил что-то шепотом. Шеф одобрительно улыбнулся:
— Да, так и сделаем!
Повернувшись ко мне, он объяснил:
— Приходите завтра, и мы что-нибудь постараемся придумать.
— Но сорок вагонов могут оказаться в вашем дворе уже завтра, и что тогда?
Старик-шеф кивнул, слегка озадаченный:
— Да, вы правы. Нам нужен план, и мы должны его составить прямо сейчас.
Три наших головы дружно заработали, и «Сорокавагонный таможенный план» обрел следующие очертания:
Разгрузка будет совершаться повагонно. Иначе вся нормальная работа вокруг будет блокирована. Железная дорога оставит остальные тридцать девять на своем дворе. Шеф таможни это обеспечит сам.
Понадобятся сторожа для охраны тридцати девяти вагонов. За это будет отвечать помощник шефа.
Грузовики? Понадобится по меньшей мере десять машин на день. Это уже работа для меня. Шеф полагает, что в этом может помочь Трест перевозок.
Грузчики. Их нужно не меньше восьми человек на вагон. Может, мне стоит связаться с Советом профсоюзов?
Хранение?
— О боже! — воскликнул шеф таможни. — У вас что, еще нет здания?
Я застенчиво объяснил ситуацию. Хорошо, об этом придется побеспокоиться мне самому, но, кажется, шеф дал мне подсказку. От своего шурина он узнал, что Трест искусственного каучука переезжает во Владимир. Вероятно, у них найдется достаточно помещений в старом здании на несколько недель, пока наша канцелярия не получит свою крышу.
В заключение шеф подчеркнул, что для того, чтобы согласовать действия железной дороги, Треста перевозок, Совета профсоюзов, грузчиков, склада и прочего, много времени не понадобится. Он даст поручения своим агентам на границе, чтобы они телеграфировали ему, как только какие-нибудь грузы для американского посольства пересекут границу. Это даст нам, по крайней мере, несколько часов.
Наконец, план был составлен, и я отправился с визитами по трестам, чтобы договориться о деталях.
Трест перевозок располагался в здании, напоминавшем дворец. После короткой схватки с охранником у ворот я проследовал через анфиладу старинных бальных комнат, теперь переполненных шкафами, из которых вываливались связки бумаг. В углу уборщица готовила чай. Два десятка клерков что-то увлеченно чиркали за своими столами или же щелкали на счетах, производя вычисления.
Директора я обнаружил в маленькой комнатке в служебном корпусе. Своим пенсне в серебряной оправе, заостренными ушами и козлиной бородкой он больше напоминал кролика, чем главаря банды перевозчиков. Он принял меня весьма любезно и спросил, чем он может помочь недавно приехавшим американцам. Все в Москве, сказал он, только и думают о том, чем помочь новым гостям.
Едва я начал, запинаясь, свое объяснение, как в дверях возникла секретарша и закричала, что товарищ директор обязан быть на встрече в Транспортном секретариате через десять минут. Директор устало улыбнулся в ответ и попросил меня продолжать мой рассказ. Только я добрался до сорока вагонов, как зазвонил телефон. Директор нервно взял трубку:
— Да, это товарищ Островский! Что вам нужно? Слушайте, товарищ Иванов, я уже сказал вам, когда вы уходили от меня утром, что вы не можете перевезти линолеум из Института переливания крови. Вы поняли? Меня не волнует, что говорят люди из Института метеорологии. Такие приказы я получаю сверху, и это приказы для вас тоже. Линолеум останется в Институте переливания крови.
Он положил трубку слегка раздраженным.
— У всех свои проблемы, — сказал он, извиняясь. — Но это действительно сложный случай. Институт переливания крови, Институт метеорологии и посольство Франции меняются зданиями — трехсторонний обмен. И все хотят взять с собой из здания, где они находятся, как можно больше. Да, до некоторой степени все мы ведем себя как французы! Но продолжайте свой рассказ. Я уверен, что вы не будете делать ничего подобного — кто угодно, только не американцы.
Он опять улыбнулся и вздохнул.
Я снова собрался продолжать, как дверь кабинета открылась, и старая уборщица вошла со стаканом чая на подносе:
— Сейчас, Сергей Дмитриевич, вы должны выпить чаю. Уже перевалило за двенадцать.
— Спасибо Анна Павловна, но я говорил, что не хочу никакого чая. У меня нет на это времени.
— Сейчас, сейчас! Время? Что это значит? У всех находится время для чая иначе потом придется находить время для визита к врачу, — добавила она угрожающим тоном, глядя на пожилого директора. Женщина поставила стакан с кипятком перед ним и, раскачиваясь из стороны в сторону словно утка, вышла из комнаты.
— Извините, — сказал директор. — Пожалуйста, продолжайте.
— Дело в том, что к нам для посольства прибывает много мебели в ближайшие несколько дней. Всего сорок вагонов. И нам надо все это перевезти.
— Сорок вагонов это действительно страшно много.
Но телефон не дал ему договорить.
— Черт! — воскликнул он, беря трубку с раздражением. — Да. Это Сергей Дмитриевич. Что? Метеорологический институт хочет забрать дверные петли? Нет, абсолютно невозможно! Петли — часть здания. Без них двери упадут!… Мне все равно, заберет ли французское посольство дверные ручки или нет. Может, у них специальные ручки с защелкой — для безопасности. Они легко могут заменить их на обычные. Так или иначе Метеорологическому институту ничто не угрожает — кроме погоды! Они могут забрать замки. Но не петли или ручки! Поняли?.. Что? Они все равно забирают линолеум? Кто?.. Французское посольство? Черт возьми, они обещали, что не станут!… Кто сказал, что линолеум в Институте переливания крови весь в крови?… Ну, хорошо! А чего, черт возьми, они ожидали? Разве можно сделать яичницу, не разбив яиц, даже если повар — француз!. Алло! Алло! Вы слышите меня? Барышня, меня разъединили. Немедленно соедините!.. По какому номеру я говорил? Я не знаю — вероятно, по номеру французского посольства. Нет, это был Институт переливания крови или, может быть, Метеорологический. О, черт, да не знаю я!
Директор швырнул трубку и повернулся ко мне.
— Итак, вы хотите перевезти посольство? Американское посольство? Мой дорогой! Я надеюсь, это не будет так же трудно, как с французским.
Дверь кабинета открылась, и секретарша просунула свою голову.
— Сергей Дмитриевич, у вас две минуты для того чтобы отправиться в комиссариат.
— Да. Да, я знаю. Сейчас буду.
Проскользнув мимо секретарши, уборщица подгребла в комнату:
— Сергей Дмитриевич! Чай остынет…
— Боже мой, женщина, неужели вы не видите, что я занят! Я имел в виду — товарищ.
Он постарался вернуть себе самообладание:
— Пожалуйста, Анна Павловна, оставьте меня одного! Я не хочу никакого чая!
Уборщица все-таки удалилась, хотя уже с менее покорным видом.
— Итак, вы, американцы, хотите переехать до того, как устроитесь? Смешно, но все-таки, скажите мне, откуда, куда и когда. Мы загружены заказами, конечно, на три месяца вперед.
Но и меня тоже стала охватывать злоба.
— Нет! — прокричал я, — Мы переезжаем из Америки!
— Из Америки? Уф! Мы ничем таким не занимаемся. Ничем за пределами Москвы.
— Но мы просто перевозим нашу мебель с таможни.
— Перевозите? О, нет. Мы трест по перевозкам, а не по ввозу. Мы ничего не возим с таможни! Никогда в жизни ничего подобного не делали!
— Но кто тогда делает, если не вы?
— Ах! Ну, хорошо, дайте мне подумать! Кто перевезет вас с таможни? Так, давайте посмотрим. Кто это был, кто вчера вечером мне говорил это? Ах, да! Моя дочь — она работает в транспортном отделе Угольного треста. У них там простои. Быть может, их директор — отличный парень — Посвольский, кажется, его так зовут. Наверное. Вам надо повидаться с ним.
Дайте посмотреть, его адрес: улица Герцена, сорок четыре или сорок пять, — что-то вроде того.
Директор встал с кресла:
— И теперь вы должны меня извинить. Я уже на десять минут опаздываю к Комиссару по транспорту — он помешан на пунктуальности.
Человек с козлиной бородкой исчез за дверью.
Улица Герцена, Покровский переулок, Пушкинская площадь, бульвар «А», бульвар «Б». Я метался по скользким, засыпанным снегом тротуарам и прокладывал себе путь между машинами от одного края Москвы до другого.
Угольный трест, Совет профсоюзов, Трест искусственного каучука и дюжина других.
Но в конце концов все детали плана были проработаны, и я отправился докладывать Кеннану.
— Немного сложновато, — признал я, — но должно сработать. Вот как это будет, — начал я с энтузиазмом, — Когда груз пересечет границу, они телеграфируют шефу таможни. Тот даст знать железнодорожной охране и грузовому двору. Его помощник меня известит. Я позвоню в отдел протокола Наркомата иностранных дел, который обещал прислать специального человека с документами. Я позвоню в Угольный трест.
— Угольный трест? — Кеннан прервал меня. — Какое, к черту, они имеют ко всему этому отношение?
— Ну так они обещали присылать по десять пятитонных грузовиков ежедневно, пока вся операция не закончится! И после Угольного треста я позвонил помощнику шефа Совета профсоюзов. Он обеспечит грузчиков. Восемь на каждый вагон — всего восемьдесят. Затем, по дороге на таможню, я позвоню в Трест по искусственному каучуку. Их телефон отключен, потому что они переехали во Владимир.
Увидев, что глаза Кеннана опять сузились, я быстро объяснил:
— Директор Треста искусственного каучука все еще в Москве. Он согласился сдать нам их пустой склад на два месяца. После этого они должны вернуть его Южноукраинскому сахарному тресту или кому-то еще. Но два месяца у нас есть, — заключил я.
Кеннан смотрел на меня безо всякого энтузиазма:
— Я полагаю, что вы знаете, что по каждому этапу, который вы планируете, вы должны представить по три конкурентных предложения? Иначе главная бухгалтерия в Вашингтоне не позволит нам оплачивать их счета.
— Конкурентные предложения? — я застонал. — Но это Россия — Советский Союз! Вы не можете здесь получить никаких конкурентных предложений!
— Опусти это, — устало сказал Кеннан. — Конечно. Я знаю. Но я не уверен, что наша главная бухгалтерия это знает. Я дам телеграмму послу. Быть может, он сможет объяснить. Как бы то ни было, я думаю, что ваш план — замечательный, если он сработает. Кроме., - и он замолк на мгновенье, — предположим, что сорок вагонов придут не одновременно?
Дни шли, и из таможни ничего не было слышно. Дважды я звонил, чтобы проверить всю процедуру с гениальным шефом таможни.
— Не волнуйтесь, — ответил он. — Как только что-либо пересечет границу, я дам знать — днем или ночью.
Наконец, ранним утром, телефон в моей квартире зазвонил.
— Карл Георгиевич, — прогремел голос шефа таможни. — Груз для американского посольства пересек границу на станции Негорелое вчера ранним вечером. Он может прибыть на таможню с минуты на минуту. Я звоню своим людям — и не забудь позвонить своим. Скоро увидимся.
Я позвонил Кеннану в «Националь» и передал новость:
— Я направляюсь прямо на таможню и сообщу, из чего состоит груз, как только операция начнется.
Это звучало решительно и по-военному.
Затем я позвонил своему приятелю, ухажеру хозяйской дочки, который работал в близлежащем гараже и в распоряжении которого был мотоцикл.
— Можешь быстро заехать за мной и отвезти на таможню с государственным заданием? Это срочно — и официально, — добавил я.
Затем Комиссариат по иностранным делам.
Да, они немедленно послали человека из отдела протокола с бумагами.
Угольный трест и Совет профсоюзов были мгновенно подняты по тревоге.
Треск мотоцикла на улице возвестил о прибытии ухажера хозяйской дочери. Через несколько минут мы уже преодолевали заносы на обледенелых улицах по пути на склад Треста искусственного каучука и далее на Вокзальную площадь.
Когда мы остановились у таможни, я заметил, что десять больших грузовиков въезжают на грузовой двор и в каждом сидят по восемь крепких грузчиков.
В самом здании уже дожидались шеф таможни, его помощник и малорослый щеголеватый сотрудник из Наркомата по иностранным делам. Они находились в прекрасном расположении духа — особенно неуклюжий шеф, чьи глаза непривычно блестели для такого раннего времени. Вместе мы пошли на грузовой двор к таможенному пакгаузу, шеф впереди, я сразу за ним, исполненный осознанием собственной значимости.
На полпути к пакгаузу шеф остановился:
— Карл Георгиевич, — провозгласил он с подчеркнутой торжественностью, — первая из ваших сорока грузовых отправок уже разгружена и находится перед вами!
Он указал на маленький деревянный ящик у своих ног.
На нем было написано: «Пльзенское пиво — 12 кварт. Подарок от пивоварни!»
Глава 6 ВОЙНА ТРЕСТОВ
Не стоит и говорить о том, что в конце концов все прибыло: и мебель, и пишущие машинки — и все отдельными отправками. И мы разместили их в зданиях и помещениях, где им и положено было находиться. Как-то поздним вечером Джордж Кеннан, «Мизинчик» Дейвс, архитектор Государственного департамента и я втроем затащили наверх в хозяйскую спальню в Спасо-хаусе — резиденции посла — огромную кровать. Утром следующего дня мы уже мчались встречать посла и его домочадцев. Помню, на вокзале приключился небольшой конфуз, потому что тем же поездом, что ехал в Москву Буллит, следовала большая группа женщин-коммунисток, направлявшихся на ежегодное празднование Женского дня. В течение нескольких волнительных минут все выглядело так, будто Буллита ждут букеты и оркестр, а женщин — церемониальные приветствия и рукопожатия со стороны шефа протокола, в чьи обязанности как главного церемониймейстера входила встреча новых послов. Так или иначе, но в последний момент все стало на свои места, и все были довольны.
Вместе с Буллитом приехала и его повариха-француженка Луиза, в высшей степени компетентный человек и преданный своему делу профессионал. Едва последний автомобиль кавалькады прибыл к Спасо-хаусу, Луиза немедленно принялась за полноценное исследование своего нового хозяйства. Через несколько минут она ворвалась в обеденную комнату, где завтракал посол:
— Ваше высокопревосходительство, но в доме ничего нет! Ничего! Я вас уверяю.
Я посмотрел на Кеннана и вздохнул поглубже: что она имеет в виду, когда говорит, что ничего нет? Я целыми днями перетаскивал вещи в дом, и теперь мне кто-то говорит, что он пуст.
— На кухне, на кухне ничего нет, ни специй, ни даже красного перца. В спальнях тоже ничего нет, даже плечиков для одежды.
Буллит засмеялся и повернулся к Чипу Болену[91], приехавшему вместе с ним из Парижа. Чип два года готовился к своему назначению в Москву, посещая в Париже Школу восточных языков. Вот теперь пришло время применить его знания.
— Чип, ты не мог быть сопроводить Луизу в прогулке по центру города и помочь ей купить все, чего не достает?
В Школе восточных языков не специализировались на терминах, обозначавших неведомые французские специи. Кроме того, главной заботой Чипа в этой жизни было держаться как можно дальше от кухни.
Через несколько часов он вернулся со своего первого поручения несколько озадаченным.
— Ну и как прошло? — спросил его я.
— Не настолько плохо, как я мог ожидать. В магазинах нет никаких специй, и я не знаю, как по-русски будет «вешалка».
Помню, что в тот момент я сомневался, а стоит ли вообще тратить силы на попытку акклиматизировать французского повара к московским условиям, но несколько месяцев спустя произошло нечто, что изменило мою точку зрения. Еще один сотрудник ведомства иностранных дел Эдди Пейдж[92], учившийся в Париже с Чипом, приехал в Москву вместе со своей невестой, Терри[93]. Терри к тому времени была весьма наслышана о том, чего можно ждать от Москвы, и была готова ко всяким неувязкам. Мы заранее и со всем старанием заказали все необходимое для их новой квартиры и даже наняли им местную кухарку, прямо из колхоза. К тому времени в посольстве уже был свой продовольственный магазин, где продавались кое-какие американские продукты. Пейджи не успели распаковаться, как поспешили в магазин обзавестись всем необходимым, чтобы квартира соответствовала их представлениям о жилье для новобрачных. Терри закупила специи и консервы. Эдди приобрел всё что нужно для коктейлей и несколько теннисных мячиков. Уже через час они сидели за столом в своем новом доме. Суп из какой-то банки был приготовлен и съеден. Затем наступила длинная пауза. Пока Пейджи сидели в ожидании второго блюда, с кухни доносилось чертыханье кухарки. Наконец она влетела в столовую с кастрюлей в одной руке и вилкой в другой.
— Ее нельзя приготовить, говорю я вам, эту проклятую американскую картошку!
Она сунула кастрюлю под нос Терри и ткнула в «картофелину» вилкой. В кипятке болталась пара теннисных мячиков Эдди.
Однако вернемся в Спасо-хаус, где посол боролся с московскими порядками в сфере домашнего хозяйства. Раз уж у нас образовалась куча вещей, мы без труда нашли нескольких «чернорабочих», как в Москве именовали поденщиков, чтобы они растащили мебель и офисное оборудование по местам. Но вот к нам прибыл огромный сейф. Мы мобилизовали несколько наших чернорабочих, и они извлекли сейф из железнодорожного вагона, погрузили на грузовик и доставили в Спасо-хаус. Они даже сумели стащить его с грузовика, не прищемив и пары пальцев, и даже смогли внести его во входную дверь. К тому моменту было уже поздно, и чернорабочие заметили меркнущий свет заходящего солнца, а зимой в Москве темнеет рано.
— Время вышло, — упрямо заявили они.
— Но вы не можете бросить сейф прямо в проеме входной двери. У посла будут вечером гости, и они просто не смогут войти.
— Время вышло, — повторили они, пожав плечами и показывая, что гости посла — это его проблема. Затем они развернулись и вышли за ворота. В таком положении есть только один выход: звонить шефу протокола, который помимо того, что был русским Гровером Уоленом[94], отвечал за благополучие, каким бы оно ни было, всего дипломатического корпуса. Тот ответил, что очень извиняется, но он сам не очень хорош в деле переноса сейфов, равно как и его коллеги. Тем не менее он попробует найти кого-нибудь утром.
Мы собрали военный совет и приняли единственно возможное решение: посол, советник посла, оба вторых секретаря, все три третьих секретаря и тайный советник подставят свои плечи и протолкнут-таки сейф в дверь. Мало-помалу мы стали двигать его, пока не освободили половинку двери. Теперь, чтобы застрять, гостю нужно было быть очень толстым.
На следующее утро шеф протокола дал знать, что он все еще бьется над решением этой проблемы, однако звучал он при этом не очень оптимистично. Чернорабочие вернулись, но когда они увидели куда, собственно, мы хотим поставить сейф, они глубоко вздохнули и сказали, что это им не по силам. Нам нужно связаться с Трестом по поднятию больших тяжестей.
— А что, существует такой трест? — спросили мы с тревогой. В ответ нам дали то ли четыре, то ли пять его возможных адресов.
— Может статься, они все еще находятся на Тверском бульваре.
— Я слышал, как кто-то сказал, что они переехали в Замоскворечье.
— Я не уверен, но не напротив ли Казанского вокзала они работают?
Через несколько минут четыре автомобиля из посольства вылетели на поиски грузчиков-тяжеловесов. Мы колесили по Москве, побывав на Тверском, в Замоскворечье, на Арбате, на Казанском вокзале. Мы звонили на Главпочтамт, на телефонную станцию, на таможню. Знает ли кто-нибудь, где найти тех, кто подымает большие тяжести? Мы останавливали грузовики, перевозившие тяжелые грузы, в надежде, что они могут это знать. Кое-кто вроде как слышал о таких специалистах когда-то, но подавляющее большинство были твердо уверены, что никогда ничего о них не слышали и очень сомнительно, что они вообще существуют. Но, наконец, в одной конторе пожилая уборщица спасла нас. Конечно, она знает все о тех, кто поднимает тяжести. Ее муж был одним из них. Она дала нам адрес, и мы поспешили на поиски.
Грузчики-тяжеловесы были чем-то вроде аристократического сообщества. Они никогда не брались за дело, не познакомившись с ним. Мы посадили их к нам в машины и привезли в посольство. Они тщательно изучили место действия, несколько раз толкнули сейф и решили, что его можно передвинуть. Но они не станут этим заниматься за копейки. Сколько мы им за это дадим?
Я назвал сумму в рублях.
— Рубли?! — они выматерились. — Почему? Мы думали, раз вы иностранцы, то расплатитесь валютой, с тем, чтобы мы могли делать покупки в специальном магазине для иностранцев.
Я предложил польские злотые.
— Какие такие злотые? Настоящие серебряные злотые?
— Да, — сказал я, и продемонстрировал большую серебряную монету размером с доллар. — По одной каждому из вас.
Они выхватили злотый и принялись его вертеть и щупать.
— Он настоящий?
Я ответил, что, полагаю, настоящий, хотя я знал, что на рынке было много фальшивок.
— Ну, хорошо! Поверим тебе на слово. Договорились.
С этими словами они размотали несколько кусков веревки, обмотанных вокруг их туловищ, пропустили их под сейфом и по своим плечам, сделали глубокий вдох и потянули. Сейф поднялся, как пушинка, и затем лишь покачивался в такт шагам грузчиков, когда его поднимали по лестнице и несли через бальный зал. Всего десять минут, и он уже стоял на своем месте. Чип Болен достал пять злотых, поставил пару бутылок пива за хорошую работу грузчикам-тяжеловесам, и они протопали через въездные ворота.
Мы были довольны собой и позвонили шефу протокола с просьбой больше не беспокоиться по поводу нашей проблемы. Мы решили ее сами к нашему полному удовлетворению.
Но, к несчастью, оно не было столь же удовлетворительным для грузчиков. На следующий день один из них — настоящий гигант с окладистой бородой — явился в посольство и потребовал Чипа. Его провели в кабинет, и он с угрожающим видом, словно огромный горилла, встал, чуть раскачиваясь из стороны в сторону, перед Чипом.
— Он нехороший. Он сломался, — выругался он.
— Что сломалось? — спросил озадаченный Чип.
— Деньги сломались.
— Деньги? Как могут сломаться деньги?
— Я ударил по ним кувалдой, и они сломались, — прорычал грузчик-тяжеловес.
— Но почему, Бога ради, понадобилось бить по монете кувалдой? Мне злотый показался совершенно нормальным. Вы всегда бьете по вашим деньгам кувалдой?
— Только иногда, когда мне кажется, что они фальшивые. И этот фальшивый. Смотри!
Он достал два расплющенных куска металла.
— Посмотри на них и скажи, разве настоящая серебряная монета ломается?
Чип поклялся, что никогда не пытался бить по монетам кувалдой и поэтому не может считаться знатоком вопроса, но признал, что расплющенные куски не похожи на серебро. Он достал из кармана еще один злотый и отдал его грузчику.
— Вот возьми это и испытай его своей кувалдой. Если злотый окажется неправильным, возвращайся и скажи об этом мне.
Тяжеловес, должно быть, наконец удовлетворился, поскольку мы его больше не видели.
Не уверен, был ли шеф протокола расстроен нашим очевидным самоудовлетворением от совершенного в эпизоде с грузчиками-тяжеловесами. Но независимо от этого он в большом волнении позвонил нам несколькими днями позже и спросил, чья спальня находится на втором этаже в северо-западном углу Спасо-хауса.
— Зачем вам это нужно знать? — в ответ обеспокоенно спросил я.
— Потому что, кто бы это ни был, но он только что выбросил из окна бутылку содовой и попал в милиционера и тяжело ранил его. Я только что получил срочный звонок из особого отдела милиции, и они требуют немедленного отчета.
Шеф протокола был, очевидно, до смерти напуган милицией и был настроен дать им ответ как можно быстрее.
— Я уверен, что не знаю ничего ни о каких бутылках, — ответил я. — Но в северо-восточном углу здания находится спальня посла, и последние полтора часа он там отдыхал. Я спрошу его о том, не бросал ли он бутылку в милиционера и позвоню вам.
Посол решительно отрицал, что швырял во время сна какие-либо бутылки. Допросили милиционера, и он предъявил и глубокую рану над левым глазом, и бутылку из-под содовой, которая, как он настаивал, была брошена со стороны посольства и попала ему в лоб. Даже в России бутылки не летают самостоятельно, и было очевидно, что милиционеру незачем было выдумывать эту историю. Тем не менее и рассказ посла тоже выглядел убедительно. Очень может быть, что в годы студенчества в Йеле он и швырял молочные бутылки по округе, но теперь настаивал, что последние тридцать лет не бросал не только молочных, но вообще никаких бутылок.
Отдел милиции оставался тверд в своем требовании и жаждал крови. Их девизом был «око за око». Шеф протокола, который прекрасно знал свою выгоду, был на стороне милиции. Но и посол был упрям тоже. Тверд, как сталь.
И тут на авансцену вышел мой шофер Гресия, человек талантливый и разносторонний.
— И что, все это из-за того, что посол бросил в полисмена пустой бутылкой? — спросил он меня, осклабившись.
— Это совсем не так весело, — хмуро ответил я. — Кто-то бросил бутылку, милиционер получил травму, и теперь они утверждают, что бутылка вылетела из окна спальни посла, когда тот спал.
— Все это вздор, — возразил Гресия. — Совсем не обязательно, что она вообще вылетела из спальни.
— Откуда ты знаешь? — спросил я.
— Потому что это я ее бросил, — ответил Гресия, ухмыляясь еще сильнее.
— Ты кинул бутылкой в милиционера? О чем ты, черт возьми, думал?
— А я и не бросал ее в милиционера. Я просто вышвырнул ее. Кто-то оставил бутылку на заднем дворе, я на нее наехал и чуть шину надвое не разрезал. Я так разозлился, что выбросил бутылку за стену. А милиционеру просто здорово не повезло.
Мы поставили об этом в известность протокол. Напуганного и израненного милиционера вылечили. Гресия принес свои формальные извинения. Посол был совершенно оправдан, и дело о пустой бутылке закрыли.
Но следующий раунд борьбы с протоколом был уже за нами — во всяком случае, если иметь в виду моральную победу. Реализация плана расширения и переустройства города Москвы потребовала взорвать городской квартал между канцелярией посольства и Кремлем[95]. (По поводу того, находится ли Кремль через дорогу от американского посольства или все выглядит ровно наоборот, мнения у нас постоянно расходились. И споры были жаркими.)
Однажды мы получили весьма вежливое уведомление от Народного комиссариата по иностранным делам[96], в котором сообщалось, что начиная с полудня, на протяжении недели прямо напротив нашего офиса будет взорвано довольно значительное количество динамита. И не возражаем ли мы в этой связи против того, чтобы держать окна здания открытыми, и тем сберечь стекла? Письмо, отправленное комиссариатом, расположенным на одной улице с нашей канцелярией, шло несколько дней, и все-таки нам хватило времени всех известить, чтобы держали окна открытыми, а глаза и уши закрытыми, когда придет полдень пятницы. Итак, окна были открыты, глаза сомкнуты, уши заткнуты, взрывом динамита было сметено полдюжины старых домов, и все вздохнули с облегчением.
Примерно через неделю вся процедура повторилась, с той только разницей, что шефу протокола понадобилась неделя для доставки уведомления, которое пришло лишь за десять минут до времени «Ч». Благодаря стремительной беготне посыльных, все-таки разнесших весть вовремя, к моменту, когда раздался взрыв, все окна уже были открыты. Мы вновь порадовались и поблагодарили протокол за вежливость и предусмотрительность.
Спустя еще неделю в полдень где-то через улицу раздался такой взрыв, что вся Московская область содрогнулась. Лишь несколько окон в канцелярии оказались открытыми, но остальные разлетелись на атомы — кроме тех, где запоры были неисправны и тогда окна вылетали вместе с рамами. Еще через три дня к нам пришло уведомление от шефа протокола о том, чтобы через три дня мы держали окна открытыми. С нашей стороны последовал уже далеко не такой вежливый ответ.
Понемногу мы все-таки начали осваиваться в городе и даже находить время для участия в общественной жизни. Эта жизнь была двух сортов — официальная, о которой писали корреспонденты газет, и другая, о которой не писал никто. Мое самое раннее воспоминание о жизни первого сорта связано с приемом, устроенным Литвиновым[97] Энтони Идену, когда он был заместителем лорда Саймона в Форин-офисе[98]. Тогда, в 1934 году, многие правительства стали говорить друг о друге всякие нелестные вещи. Сталин был резок, когда объявил миру, что не позволит совать свое свиное рыло в наш советский огород[99]. Гитлер ответил речами о пушках вместо масла. Литвинов был чуть более деликатен, когда высказался о том, что мир может быть лишь глобальным, или, как он сказал это на своем неподражаемом английском: «Мыр неделим»[100].
Ужин в честь Идена следовал обычному распорядку, за исключением одного небольшого инцидента. Все послы были приглашены на ужин (во фраках) в официальный Дом приемов на Спиридоновке[101]. (Кстати, сам Литвинов жил в небольшой квартире над гаражом при этом дворце.) Мелюзгу вроде меня попросили прийти на час позже и разместили нас в одной из внешних комнат для приемов. Там нас угостили картофельной водкой, в то время как в святилище внутренних залов потчевали водкой пшеничной. Нам подали серую икру вместо черной и лишь три вида копченой рыбы вместо пяти или шести сортов, предложенных послам. И все-таки все были довольны — особенно мы, мелюзга, и особенно тем вечером. И все потому, что литви-новский шеф-повар оказался таким же сведущим в политике, как и его хозяин, если не больше. Это следовало из того, что рассказал нам один из послов, когда они, наконец, выбрались из своего святилища. Стол, поведал он, был тщательно убран цветами, уставлен хрустальными подсвечниками, превосходной позолоченной посудой, оставшейся от прежнего режима, и всеми видами изысканных блюд с деликатесами. Среди них выделялось блюдо с маслом, поданным одним большим куском с фут длиной и толщиной дюймов в шесть. Когда послы уселись и их обнесли икрой и тостами, Иден наклонился вперед, чтобы отрезать себе немного масла от большого куска, стоявшего перед ним. Но тут он смутился и, казалось, передумал, потому что положил на место свой нож и принялся за икру, намазанную на тост. Тщательное исследование показало, что шеф-повар написал на масле те самые крылатые слова «Мир неделим». А политика британского правительства Его величества не могла себе позволить демонстрацию ошибочности доктрины, даже если «мир» был создан лишь из масла. Это предстояло сделать Гитлеру несколько лет спустя.
А все прочие преодолевали в Москве свои собственные продовольственные проблемы самостоятельно, и особенно это коснулось сменщика Буллита посла Джозефа Э. Дэвиса[102]. У посла Дэвиса, как оказалось, был весьма чувствительный желудок, и он мог есть только особенную пищу. За все время, что я прослужил при нем, не припомню, чтобы он когда-либо ел вне дома. (Я признаю, что в фильме о его пребывании в России, «Миссия в Москву», есть сцены, показывающие посла кушающим в буфетах на советских железнодорожных вокзалах. Тем не менее, поскольку мне никогда не приходилось самому видеть что-то хоть отдаленно напоминающее киношную версию этих буфетов, я берусь утверждать, что их появление в фильме является результатом сверхэнтузиазма продюсера.) Так или иначе, но приезду посла предшествовало прибытие двадцати пяти морозильников глубокой заморозки, установленных надлежащим образом в подвале Спасо-хауса.
Уже после этого из Антверпена или, возможно, из Бремена в долгую дорогу через всю Европу в Москву отправились два вагона с продуктами, тщательно обложенными сухим льдом. Этот важный груз сопровождал молодой инженер-пищевик. Ежедневно или раз в два дня от него приходила телеграмма, информировавшая о его передвижениях. Посольство во все глаза следило за этими двумя вагонами. На карте, висевшей на стене канцелярии, мы отмечали это путешествие большими красными кнопками.
«Сегодня приехал в Берлин. Надеюсь отправиться дальше сегодня вечером».
«Пересек Одер. Все в порядке».
«Утром прибыл на советскую границу».
На советской границе произошла небольшая задержка из-за того, что сухой лед в нескольких контейнерах испарился, и они оказались пустыми. Это поставило в тупик советские таможенные власти, потому что, как они совершенно справедливо рассудили, никто не арендует грузовые вагоны, чтобы возить пустые коробки. Кроме всего прочего, в сборнике правил советской таможни не было ничего сказано о том, как надо классифицировать содержимое коробки, в которой ничего нет. Однако после того как инженер-пищевик прочитал довольно длинную лекцию о химической природе сухого льда, он сумел-таки разъяснить этот момент, и в итоге груз был доставлен и погружен в двадцать пять холодильников.
Несколько недель все ходили довольными. Нежные мороженые стейки и овощи стали желанной переменой для всех, кто привык годами питаться из оцинкованных банок. Там были даже замороженные сливки, четыре сотни кварт сливок, которыми те из нас, кому доводилось быть приглашенными к столу в посольстве, лакомились с удовольствием.
Но потом случилось небольшое происшествие, в конце концов серьезно поменявшее наш замороженный рацион. Все началось с того, что мы обнаружили, что кто-то пытался установить в вентиляционной трубе, ведущей из чердака Спасо-хауса сквозь стену в кабинет посла, небольшой микрофон. В тот момент, когда мы нашли микрофон, от стола посла его отделял лишь тонкий слой штукатурки. Кто бы это ни был, но свою работу он сделал не до конца. Во всяком случае, на чердаке нам не удалось обнаружить никаких проводов. Мы сфотографировали сделанный в Ленинграде микрофон и положили его на место, надеясь изрядно удивить злоумышленника, когда он явится завершать работу. В противном случае у нас не будет никаких улик против того, кто так интересуется тем, что наш посол говорит в своем кабинете. (Возможно, ему повезло больше, чем другому послу, который пришел в настоящее замешательство, обнаружив микрофон в стене между кроватью жены и своей собственной. Дипломатический корпус в Москве пришел к единодушному согласию в том, что это была наиболее деликатная и заслуженная жертва, принесенная жене этого посла, обладавшей командирскими наклонностями.)
На протяжении нескольких ночей Джордж Кеннан, другой секретарь посольства Элбридж Дарброу[103], и я по очереди прятались в пыли старого чердака с револьвером в одной руке и фонариком в другой. Это было не совсем удобно, потому что мы вынуждены были скрытно лежать на животе на жестком полу. Кроме того, было довольно холодно и не очень весело. Почти каждую ночь о покрытую железом крышу стучала когтями сова или какая-то другая птица, мучимая бессонницей, вынуждая нас изготовиться. Но это было не намного хуже, чем, натянув фрак, проводить по полночи на ногах на каком-нибудь скучнейшем дипломатическом приеме. И, кроме того, все это происходило в часы дипломатической дневной или ночной работы.
В конце концов, наши нервы не выдержали, и взамен дежурства мы разработали, показавшуюся нам гениальной, систему предупреждения. Возле злополучного микрофона мы натянули над полом чердака перекрещивающиеся шелковые нити. Нити соединили с самодельным переключателем, который в свою очередь присоединили к тревожному звонку в одной из спален, где и установили постоянное дежурство в намного более комфортных условиях, чем мог предоставить нам чердак. Нам казалось, что это неплохая система, потому что нитей было так много, а на чердаке так темно, что практически невозможно было передвигаться без того, чтобы не поднять тревогу: мы в этом неоднократно убеждались на собственном опыте. Я не сомневаюсь, что другие сыщики-любители могли бы придумать и что-нибудь поинтереснее. Но мы тогда были новичками и работали в стране, где не могли на сто процентов рассчитывать на сотрудничество с местной полицией.
Но в нашей ловушке имелся один изъян. Электричество, на котором работала вся система, питалось от обычной домашней сети. Однажды утром, когда, как я думаю, на часах стоял (скорее спал) Дарброу, его разбудил дворецкий посла, англичанин Тейлор, чтобы сообщить, что основной рубильник всего дома ночью оказался отключен. Поняв, что вся наша аппаратура бездействует, Дарброу ринулся наверх и обнаружил, что все нитки порваны, а микрофон исчез. Конечно, сперва мы слегка расстроились, но потом пришли к общему выводу, что в детективы не нанимались. (Я был немного удивлен, когда несколько лет спустя увидел фильм «Миссия в Москву» и услышал, как актер, игравший посла, наказал третьего секретаря — предположительно меня — за выдуманный микрофон в его кабинете. Но я предполагаю, что это все было лишь недопониманием со стороны одного из авторов сценария. Так или иначе, но сообщаю, что фотография микрофона находится в архиве Государственного департамента. Это на тот случай, если кого-нибудь в Голливуде это заинтересует.)
Но был и более важный результат схватки за микрофон той ночью, вскоре ставший очевидным. Через два дня после того, как отключили электричество, мне позвонил дворецкий посла.
— Два из морозильников, похоже, не могут включиться после того как мы восстановили электроснабжение прошлой ночью, — скорбно объявил он.
— Что в них было? — спросил я.
— Замороженные сливки, — ответил он, — и это были все наши запасы.
Вот это было уже серьезное дело, понял я, и совсем не потому, что теперь нам придется совершенно лишиться сливок.
Поставки замороженных продуктов для посла уже стали всемирной новостью, и если только об этой истории прознают корреспонденты американских газет, то вся репутация фирмы-поставщика замороженных продуктов окажется под угрозой.
И в подвале все еще находилось четыреста кварт прокисших сливок, которые надо срочно оттуда извлечь, иначе вся Москва почувствует, чем пахнет вся эта история. Надеяться на шоферов посольства было бесполезно. Все они дружили со своими коллегами, работавшими на журналистский корпус. К тому же в течение всего дня в посольстве было полно народу, и мы могли вывозить сливки лишь ночью. Итак, тем вечером я заказал в русском тресте грузовик, посадил в него чернорабочих, нанятых мною на рынке, и тихо впустил его на задний двор посольства. Пока рабочие без всякого энтузиазма ведро за ведром грузили эту вонючую субстанцию в грузовик, я стоял впереди на часах — главным образом для того, чтобы держаться подальше от вони.
Когда погрузка окончилась, я забрался в кабину, и мы поехали за город. Пока мы двигались по вымощенной булыжником дороге через темноту и безлюдие ночи, я старался вспомнить строчки из «Похорон сэра Джона Мура», которые учил еще в школе:
Не бил барабан перед смутным полком, Когда мы вождя хоронили, И труп не с ружейным прощальным огнем Мы в недра земли опустили. Чарльз Вольф На погребение английского генерала сира Джона Мура Пер. И.И. Козлова (1825)В конце концов, мы добрались до пустынной проселочной дороги в большом сосновом лесу. Мы вылили все, что было в грузовике, в канаву, в несколько минут окончили нашу работу и отправились обратно в Москву.
И все-таки самой трудной штукой в ведении домохозяйства в Москве была трестификация любой даже самой незначительной работы по дому. В попытках наладить работу посольства я уже вошел в контакт с Трестом искусственного каучука, Угольным трестом, Трестом перевозок и дюжиной других им подобных. С ними иногда было не так просто работать, но они, по крайней мере, наличествовали в народном хозяйстве.
Позднее я связался с Трестом озеленения, который проектировал, создавал и поддерживал наш сад. Был еще Трест по развлечениям, который был создан для предоставления оркестров и танцоров для увеселений. Был и Трест грузчиков-тяжеловесов, с которым мы имели дело по поводу ломаных злотых. И, наконец, еще одним трестом был Трест по мойке окон.
Но хуже всего было то, что каждый трест должен был иметь пятилетний и годовой планы, которые готовились загодя и утверждались на более высоком уровне экономической иерархии. Например, если вы отправляетесь в Трест по развлечениям и просите оркестр, то там вам ответят, что еще в июне они спланировали все развлечения, и к великому сожалению, никак не могут обеспечить музыкой танцевальный вечер, который посол решил устроить через шесть месяцев. Тем не менее, если мы хотим представить им свою танцевальную программу на 1935 финансовый год, то они с удовольствием ее рассмотрят и удовлетворят все наши разумные потребности. Больше этот трест я не посещал. Трест по озеленению тоже был помешан на планах, но они согласились взяться за проектирование заднего двора посольства и каким-то образом втиснуть это в текущий годовой план в знак особого расположения. Но эта работа сама по себе требовала плана.
Я спросил, что они под этим понимают.
— Это очень просто. Пока у нас нет плана работы по саду, мы не можем включить ее ни в наш годовой, ни в наш пятилетний план, и пока работа в план не включена, мы не можем ничего делать.
— Но план очевиден. У меня есть бюджет в шесть тысяч рублей, чтобы спроектировать сад. Начинайте и сделайте нам сад, который стоит шесть тысяч рублей.
Они покачали головами, жалея наивное дитя капитализма.
— Нет, это не так легко, как вы думаете. Во-первых, нам нужен проект, как проектировать сад. Затем, нам нужен план, как осуществить проект, и смета. Затем мы создадим общий план и передадим его в плановый комитет. Если комитет его одобрит, мы начнем работу.
Я понял, что побежден и попросил их приступить к плану плана плана как можно скорее. И помнить лишь о том, что у меня есть только шесть тысяч рублей на сад и не больше.
Весна была уже на подходе, и вскоре деревья стали одеваться в зеленый наряд, в других садах уже начинали расцветать цветы, а к нам в посольство лишь однажды заявилась пара озеленителей на несколько часов, и больше никто не приходил.
Посол уже начал переживать по поводу сада.
— Где они все? Почему не работают? Где насаждения и кустарники?
Я объяснил всю сложность проблемы, и, похоже, посол ее осознал, потому что ворчание по поводу сада на две недели прекратилось. Но потом он опять начал проявлять признаки беспокойства, и я отправился в Трест по озеленению с тем, чтобы выяснить, что происходит.
— При таких темпах земля скорее покроется снегом, чем вы приметесь за посадки, — кисло пожаловался я озеленителям.
Ответ, полученный мной, тоже не был лишен юмора.
— Не беспокойтесь. Мы являемся уполномоченным агентством по устройству садов и будем делать свое дело так, как положено, и никак иначе. Проект плана почти закончен, и как только он будет готов, мы вам его покажем.
Прошла еще пара недель, и явился архитектор из Треста по озеленению с длинным рулоном всяких бумаг под мышкой. И он с гордостью разложил их на моем столе.
— Вот как будет выглядеть ваш сад, — сказал он и указал на великолепную акварель, изображавшую замечательный сад в английском стиле. Небольшие покрытые гравием тропинки вились между кустов сирени, жасмина и рододендронов. Клумбы с однолетниками уютно расположились вокруг деревьев. Вдоль стен, окружавших сад, выстроились аккуратные шпалеры фруктовых деревьев.
Затем архитектор развернул еще одни рулон и показал вертикальную проекцию своего плана, несколько меня смутившую, но которая представлялась самому архитектору столь же чудесной, что и акварель. Потом он продемонстрировал горизонтальную проекцию, которая выглядела чуть более понятной для меня, но все-таки была слишком технической. Но в целом все выглядело вполне удовлетворительно, хотя, пожалуй, было чересчур изощренным для заднего двора площадью в пол-акра.
Я показал акварель послу, он скептически улыбнулся, но сказал, что если они смогут за шесть тысяч рублей сделать сад таким, как нарисовали, он будет удовлетворен.
Я спросил архитектора по поводу стоимости.
— О, мы еще этим не занимались, — бросил он. — Видите ли, мы не можем оценить стоимость проекта, пока он не сделан. Теперь, когда проект одобрен, мы передадим вам смету и направим проект в исполнительный отдел треста на выполнение. И, конечно, мы выставим вам счет за проектные работы.
Это выглядело даже более сомнительно, чем я первоначально предполагал, но поскольку в посольстве была масса других дел, вроде мойки окон в канцелярии и установки москитных сеток, и все они требовали моего участия, то я сказал:
— О'кей, но, пожалуйста, поторопитесь. Половина лета уже прошла.
Прошло еще две недели, и после нескольких телефонных звонков финансовое управление треста выдало подробную смету с кучей цифири. Я посмотрел на итог:
— Одиннадцать тысяч рублей? Но я же говорил с самого начала, что у меня есть только шесть тысяч. Это все, что мы можем получить от Вашингтона на приведение в порядок нашего сада. У нас нет одиннадцати тысяч рублей.
— Может, вы это кому-нибудь и говорили, но нам никто ничего не говорил, — ответили из финансового управления. — Если вы хотите сократить план и удешевить что-то, то это означает изготовление нового проекта и будет стоить дороже.
— Что вы имеете в виду, когда говорите, что это будет стоить дороже? У меня есть шесть тысяч рублей на сад, и все.
— Но одиннадцать тысяч рублей необходимы на проведение работ по устройству сада, — объяснил бухгалтер. — Проект стоит отдельных денег.
Он порылся в своем кармане и достал оттуда другой листок бумаги.
— Вот счет за проект — дизайн и рисование. Счет на семь тысяч.
— Вы полагаете, я дам вам семь тысяч рублей при том, что даже лопату земли никто не бросил?
Весь состав финансового управления коллективно пожал плечами.
— Извините, но таков порядок. Именно так мы и работаем в рамках плановой экономики.
Но дела с Трестом по мойке окон шли еще хуже. Зато с ними было повеселее. Во всяком случае, они были новичками. Они организовались лишь несколько месяцев назад и еще не успели выработать все процедуры. Их подход отличался некоторой свежестью. Кроме того, они и возрастом были помоложе начальства Треста грузчиков-тяжеловесов, и Треста по озеленению, и Треста по развлечениям. Президент и казначей треста, которые звонили мне, были молодыми украинцами возрастом чуть за двадцать. Но при этом они петушились и были такими же упрямыми, как и все остальные.
Я объяснил им, в чем у нас проблема: в канцелярии посольства было 170 окон разных размеров. Шесть из них были окнами в квартиры-студии.
Но у президента Треста мойщиков окон уже была вся необходимая ему информация:
— Мы берем по десять рублей за окно независимо от размера.
— Но как я вам уже говорил, — прервал я его, — шесть окон исключительно велики.
— Нам все равно, насколько они велики. Десять рублей за штуку.
— Но это окна в студию в два раза больше обычных, и к ним очень трудно подобраться. Вам понадобится специальное оборудование.
— Если вы не станете учить нас, как мыть окна, мы тоже не будем вмешиваться в ваши дела, — язвительно ответил президент. — Нам все равно, какого размера окна: десять рублей за штуку, не больше и не меньше.
— Олл райт. Делайте, как знаете. Сколько времени это займет? Нам надо вымыть их поскорее.
— Мы легко сможем мыть по семнадцать окон в день. И десять дней на всю работу.
Это я знал лучше их. Я уже занимался мойкой окон, когда их треста еще не существовало, и вся работа тогда заняла больше месяца.
— Не думаю, что вы справитесь так быстро, — сказал я, — но я скажу вам, что сделаю. Это давний обычай в Америке. Если вы вымоете окна за десять дней, я дам вам в качестве бонуса двести рублей, и за каждый день из десяти, который вы сэкономите, я готов платить по четыреста рублей. Но если работа займет больше десяти дней, то я буду штрафовать вас по двести рублей за каждый день задержки.
Президент посмотрел на казначея, казначей — на президента. Наконец последний ухмыльнулся.
— Хорошо, мы принимаем условия. Если американцы могут так поступать, то русские тоже могут.
На следующий день они приступили к работе, и каждое утро я на своем календаре делал небольшие подсчеты. Через неделю они дошли до окон в студии, и я отправился смотреть, как у них идут дела.
Они соорудили целую конструкцию из веревок, лестниц и балок у студийных окон и расселись на них, словно стая ворон в кремлевском парке через дорогу. И президент, и казначей тоже терли стекла. Увидев меня, они нахмурились, но промолчали. Очевидно, до них только теперь стало доходить, что значит мыть окна в канцелярии и не оговорить это особо.
— Могу я чем-нибудь помочь? — спросил я, слегка улыбаясь.
— Нет. Уходите и занимайтесь собственными делами, — прорычал президент.
Прошла еще неделя, а Трест по мойке окон все еще энергично тер стекла. Они даже начали работать вечерами. Однажды поздно вечером президент и казначей пришли в мой кабинет.
— Мы закончили, — объявили они. По сравнению с их первым визитом оба выглядели присмиревшими.
— Давайте посмотрим, — проговорил я, сверяясь со своим календарем. — С того момента, как вы приступили, прошло двадцать дней. Верно?
— Я полагаю так, — уныло пробормотал президент.
— Тогда я должен вам тысячу семьсот за мытье окон, а вы должны мне десять раз по двести рублей за опоздание в десять дней. Это две тысячи рублей. Другими словами, вы платите мне разницу, или всего триста рублей.
Президент, конечно, перед этим все уже посчитал, потому что полез в свой карман и выложил на мой стол три сторублевых банкноты.
— Вот они, — его голос звучал глухо, и было видно, что он намерен никоим образом не выдать свои переживания. Оба встали и направились к двери.
Но с меня уже хватило их патетического несчастья.
— Эй, минутку, — сказал я. — Поскольку для вас это было первым опытом заключения подобных договоров, давайте считать все экспериментом и забудем о штрафах.
Я отсчитал тысячу семьсот рублей и передал их президенту.
— Но следующий раз вам нужно осмотреть окна, прежде чем делать свои предложения.
Президент взял деньги и поблагодарил меня. Хмурое выражение его лица сменилось широкой улыбкой. Пожимая мне руку, президент рассмеялся:
— Но все-таки мы хотели бы знать, кто, черт возьми, станет жить в этих проклятых аквариумах наверху?
Когда они ушли, я подумал, а не слишком ли был мягок с ними. Но потом меня успокоило осознание факта, что мы вымыли окна в рекордные сроки.
Глава 7 МОРСКИЕ ЛЬВЫ НА КУХНЕ
Когда в 1933 году американское посольство прибыло в Москву, здесь уже была большая колония американских газетчиков, инженеров, студентов и странствующих в компании благодетелей. В те дни Москва предоставляла немало возможностей развлечься вроде посещения великолепных театров, пышных оперных и балетных постановок и даже ночных клубов в специфическом московском стиле. Не составляло труда купить билеты в Московский художественный театр — один из лучших театров мира такого рода — или на балет — единственный такой в мире; а добротный ужин в отеле «Метрополь» или в ресторане «Медведь» стоил совсем недорого. (Сейчас, как мне рассказывали, театральные билеты распределяются в соответствии с рангом покупателя: генералы — в партер, полковники — на балконы, все другие — на свежем воздухе.) Но у американцев не было какого-то центрального места встречи, какими были для других иностранцев их посольства.
Поэтому с приближением Рождества 1934 года посол Буллит поручил мне организовать вечеринку для американской колонии.
— И сделайте ее хорошей, — настаивал он. — Слишком долго они тут обходились без хорошей толчеи.
К сожалению, перед самым праздником его вызвали в Вашингтон к президенту для консультаций, и вместо него за хозяина остался его советник Джон Уайли[104].
Я приступил к работе.
При всех своих театрах, балетах и операх, Москва не могла бы стать райским местом для Эльзы Максвелл[105]. Как-то так случилось, что Госплан проглядел самую светлую сторону социального прогресса. Здесь была лишь горстка джазовых коллективов, которые играли в различных отелях, но они не стремились выступать в посольствах. Здесь не существовало фирм по обслуживанию больших званых ужинов. Как не было и театральных агентств, с которыми можно было бы договориться о танцевально-песенных выступлениях. Здесь даже не было своей Эльзы Максвелл. Со временем мы научились обходить эти провалы в социалистической системе. Но тогда это была наша первая попытка, и я начинал с чистого листа.
Я отправился к супруге советника посольства Ирене Уайли[106] и рассказал ей о проблеме.
— Давайте покроем стеклом пол в большом танцевальном зале, сделаем там аквариум и будем на нем танцевать, — предложила она.
В качестве первого предложения это выглядело весьма изобретательно, но я отметил, что листовое стекло позабыли включить в план не только первой пятилетки, но и второй. И, кроме того, что мы используем в качестве рыбы?
— Наверное, вы правы. А что насчет номеров с животными? Пошли в зоопарк и посмотрим, что они смогут предложить, — сказала Ирен.
Это звучало уже лучше, и мы вместе позвонили директору зоопарка. Директор был маленьким нервным человеком, совершенно очевидно не привыкшим беседовать с иностранцами. Вы, наверное, подумали, что руководить зоопарком — даже в Советском Союзе — дело в политическом смысле довольно безопасное? Я вспоминаю, что один из моих немногих русских друзей директорствовал в зоопарке в годы революции и был уволен за то, что допустил гибель единственного слона, пережившего свержение царя. (Мой друг был позднее расстрелян во время репрессий, непонятно за какое преступление.) Возможно, у нашего директора слоны были больными. Или, может быть, он просто не хотел оказаться вовлеченным в такое опасное политическое дело, как празднование иностранного религиозного праздника. Так или иначе, он не проявил никакого энтузиазма и мало чем мог помочь[107].
После зоопарка мы отправились в Уголок Дурова. Дуровы еще с дореволюционных времен были известной семьей дрессировщиков не в первом поколении. Они были знамениты повсюду в Европе. В их честь Советское правительство создало театр и музей животных. Я очень хорошо запомнил один из их экспонатов. Впервые я пришел в музей с дочкой скандинавского дипломата. Смотритель показал на яркого попугая какаду, мирно сидевшего на насесте.
— Вы можете заметить, что птица не сидит на цепи и тем не менее не пытается улететь, — сказал смотритель. — Это происходит потому, что двадцать лет она была прикреплена к насесту цепочкой и к тому времени, как цепь сняли, она утратила саму мысль о том, что может улететь.
— Вот эту чертову штуку и надо показывать в советской аудитории, — пробормотал мой спутник. — Сколько лет прошло после революции?
Но, кроме какаду, в музее больше не было никакого другого материала, которым могли бы воспользоваться устроители развлечений.
Нашей последней надеждой был цирк. Цирк в Москве напоминает театр. В нем только одна арена. Она находится в постоянном здании, которое используется круглый год. Там было несколько дрессированных лошадей (для выступлений на паркете они не очень подходили), какие-то дрессированные собачки (по меньшей мере, не оригинально), дрессированные медведи (мы решили, что для рождественской вечеринки они будут выглядеть вяловато, не считая того, что кому-нибудь могла прийти в голову мысль попытаться извлечь политический капитал из замены Санта-Клауса на медведя, разгуливающего по-человечьи). Затем мы увидели морских львов. Их было трое — Миша, Шура и Люба. И они делали все, что положено делать морским львам: жонглировали мячом, забирались по лесенке, удерживая при этом на носу маленькие колпачки, и даже играли на гармошке (только вместо «Звезды и полосы навсегда»[108] исполняли «Интернационал»).
После того как представление завершилось, мы спустились, чтобы поговорить с дрессировщиком — молодым человеком тоже из семейства Дуровых, но, насколько мы поняли, не являющимся прямым наследником великого Дурова[109]. Он был немногим старше двадцати и почти лишен большинства обычных страхов.
Впрочем, сначала и он был слегка озадачен.
— Еще никогда я не выступал с морскими львами в танцевальном зале.
Я сказал ему, что, насколько нам известно, танцевальный зал тоже никогда не принимал морских львов. Однако об этом с молодым советским гражданином не стоило и говорить. В то время все происходило впервые. Но в данном случае речь шла о двойной новизне. И этот аргумент произвел на него впечатление.
— Думаю, что если нам удастся провести две или три репетиции в посольстве, они привыкнут, и все будет в порядке.
Так и сделали. Поздно вечером после окончания циркового представления Дуров и его львы приехали на грузовике в посольство на первую костюмированную репетицию. Мы построили что-то вроде желоба от боковой двери в неиспользуемую служебную комнату, которую выделили в качестве костюмерной для морских львов. Оттуда мы сделали другой желоб, ведущий прямо в большой танцевальный зал.
Было здорово смотреть, как три больших черных морских льва, подпрыгивая, входят в танцевальный зал — особенно если это танцевальный зал в Спасо-хаусе с его белыми полированными мраморными колоннами и почти такими же белыми стенами, которые искрятся на солнце, как айсберги, когда сияют все люстры. По-видимому, даже морские львы подумали, что это айсберги, потому что они прокатились по полу зала к ближайшей колонне, собрались возле нее в кучку, а затем действовали так, словно явились на родное лежбище и принялись за обычную утреннюю туалетную процедуру. Понадобились усилия нескольких уборщиц со швабрами, чтобы прибрать за ними, в то время как Дуров пытался объяснить львам, что им следует делать, когда они вламываются в американское посольство. После окончания первого занятия морские львы удалились тем самым способом, который мы для них придумали и, наконец, — это было уже ранним утром — проскользнули обратно в грузовик и отправились ночевать к себе в цирк.
Еще две предрождественских ночи звери репетировали свое представление в посольстве, и после каждой репетиции сами животные, их дрессировщик и я оказывались в состоянии полного изнеможения. При этом Дуров обрел уже вполне оптимистичный взгляд на идею в целом и даже предложил включить в представление еще и медведя. Он пояснил, что у него есть два медведя — один был у него уже давно, а другого дрессировщик только что купил в Сибири. Дуров признавал, что второй зверь все еще почти дикий и к тому же завел себе довольно гадкую привычку убивать людей. Но к нам он обещал привезти хорошего мишку. Тем не менее я решил, что трех морских львов для одного вечера будет более чем достаточно, и предложил привести этого хорошего медведя как-нибудь в другой раз.
В тот вечер, когда должна была состояться вечеринка, Дуров и его звери прибыли через боковые ворота, и морские львы тайком проскользнули в свою костюмерную, чтобы оставаться там, пока не придет их час. Самому Дурову, проведшему несколько бессонных ночей и взволнованному своим первым появлением в посольстве (ставшем для него последним), похоже, требовалось нечто подбадривающее, чтобы оставаться на ногах. Поэтому я провел его к гостям, представляя в качестве только что прибывшего американского инженера. (То, что он не говорил по-английски, кое-кого смутило, но в рождественскую ночь в Москве и не такие вещи случались.) Я влил в него пару рюмок виски, и к тому моменту, когда ему предстояло выступать, он выглядел вполне бодро.
Мы собрали всех гостей в одном конце большого танцевального зала и выключили свет. Затем из маленькой двери в дальнем конце зала появилась небольшая рождественская елочка с двенадцатью зажженными свечами и, слегка покачиваясь, двинулась в зал, казалось, поддерживаемая лишь большими черными усами.
Затем свет включился, и оказалось, что за усами скрывается Люба, удерживавшая елочку у себя на носу. За ней двигались Миша и Шура. Миша держал поднос с бокалами, а Шура — бутылку шампанского. Дуров наполнил один или два бокала и передал их гостям. Затем он поднес бутылку ко рту и осушил ее. Этот последний момент не присутствовал на репетициях, и я предположил, что Дуров все еще не окреп и нуждается в стимуляторе.
Далее морские львы следовали своей обычной программе: жонглировали мячиками, лазали по лесенке и даже играли рождественскую мелодию на гармошке.
Представление уже заканчивалось, когда я стал замечать, что в походке Дурова появилась шаткость. И как только последний трюк был сделан, он повернулся к публике, поклонился, сел на скамейку и тихо отключился. Люба, Миша и Шура минутку подождали следующей команды, затем прошлепали через весь зал к своему хозяину, посмотрели на него и пустились наутек.
Есть несколько версий того, что происходило в последующую четверть часа. Я могу рассказать только то, что видел сам. Миша исчез в толпе гостей. Люба рванула в буфетную, наполненную ароматами великолепного ужина, подымавшимися из расположенной в цокольном этаже кухни. Я последовал за Шурой (она была единственной, кто не кусался) и через несколько минут сумел загнать ее в желоб и направить обратно в костюмерную. Как только я закрыл ее там, то услышал смесь звериного рева, женского визга и немецких проклятий, несшихся из кухни. Я спустился вниз вовремя и увидел разбегающихся кухарок, при том что недавно прибывший шеф-повар австриец вспрыгнул на кухонный стол, спасаясь от Любы, кружившей вокруг стола и, как бодливая корова, сшибавшей ведерки с углем, табуретки, мусорные ведра и все, что попадалось на пути под ее большие ласты. Шеф-повар схватил большую сковородку и безуспешно пытался попасть Любе по носу. Не знаю, чего он хотел от нее этим добиться. Но Любу это, похоже, очень забавляло, и каждый раз, когда повар замахивался на нее сковородкой, она отступала, оказываясь вне зоны досягаемости, и мычала с очевидным удовольствием. Как только шеф-повар заметил меня, стоящего в дверях, он закричал:
— Сделайте что-нибудь, ради Бога. Сделайте что-нибудь! Что толку там стоять и ржать, как осел!
Когда шеф-повар заорал, Люба заревела тоже, и кухня внесла свой вклад в общий гам.
В конце концов вся эта суматоха привлекла внимание дуров-ского ассистента, приятно проводившего время в комнате прислуги. Он немедленно изменил всю ситуацию, как это делает юный барабанщик в военном походе — а все происходившее именно таким мероприятием и было. Он взлетел наверх, выгреб обмякшего Дурова из танцевального зала, притащил сковородку вонючей рыбы из машины и присоединился к нашим силам. Построение, которое он применил, было настолько же уникальным, как и вся ситуация. Я обнаружил, что держу перед собой Дурова, ухватив его за подмышки, в то время как ассистент стоит перед Дуровым и кидает рыбу в сторону Любы, производя звуки, по-видимому, имитирующие голос дрессировщика, находившегося в полубессознательном состоянии.
Любе оказалось достаточно лишь разок унюхать рыбу. Она прекратила свою дикую пляску вокруг кухонного стола и заскользила по полу в нашу сторону, в то время как мы медленно пятились к лестнице, ведущей в костюмерную. Мы уже прошли полпути по ступенькам, сопровождаемые Любой, когда она вдруг решила, что ее надувают, и остановилась. Отдыхать на каменных ступеньках для морских львов не самое простое занятие. Как только Люба прекратила карабкаться, она потеряла равновесие и скатилась по лестнице вниз к ее подножию. Мы последовали за ней. Я все тряс Дурова, надеясь привести его в чувство. Дрессировщик тряс рыбой и издавал странные звуки. Люба передумала и, решив, что все в порядке, вновь двинулась вверх по лестнице за нами. Но опять остановилась и соскользнула вниз по ступенькам.
Пока все это происходило, вся кухонная обслуга, дворник, привратник и шоферы собрались у лестницы, подбадривая нас криками и помогая советами. Каждый раз, как Люба съезжала к ним вниз по ступенькам, они бросались врассыпную.
— Принесите щетки, — прокричал им я. — Когда она начнет опять скользить, подсуньте под нее щетки и держите. Все что ей нужно — это небольшая поддержка.
Быстро раздобыли щетки, и трое или четверо самых отчаянных стали осторожно подниматься вслед за Любой, когда она стала снова карабкаться, направляясь за телом своего хозяина — и что было для нее бесспорно более привлекательным — за сковородкой пахучей рыбы. Как только она остановилась в следующий раз, метлы удержали ее на месте, пока она не решилась преодолеть еще несколько ступенек.
Наконец мы достигли верха лестницы, и мигом она присоединилась к Шуре в их костюмерной. Затем мы взяли в круг Мишу, который проделывал несколько неотрепетированных трюков среди гостей. Под конец грузовик подогнали к боковой двери и осторожно загнали морских львов по помосту в грузовик и доставили в цирк.
Позже я узнал, что и эта поездка не обошлась без приключений. На полдороге к дому, на людном бульваре, Люба, еще не отошедшая от своего кухонного эксперимента, выпрыгнула из грузовика, точно так же, как она перепрыгнула через стенку желоба на лестницу в кухню. Зимой московские улицы обычно представляют собой некую композицию из накатанного снега, такого же скользкого, как каток. Люба оказалась в своей тарелке и прокатилась по бульвару со скоростью миля в минуту, при том что ассистент катился за ней следом. Как она в конце концов смогла остановиться, я не выяснил, но знаю, что половина всей милиции Арбатского района гонялась за ней у Москвы-реки, прежде чем милиционеры смогли ее окружить.
Что касается посольства, то единственное, что осталось там от цирка, был сам Дуров. Его ассистент обещал вернуться за ним, как только морские львы будут в своих кроватках. К тому времени, когда ассистент бегал за Любой, предпринявшей вторую попытку вырваться на свободу, Дуров уже был на своих ногах, пусть не вполне трезвый, но более чем довольный собой. Потребовались переговоры, чтобы он понял, что его участие в вечеринке закончилось и что пришло время отправляться домой. Он согласился, только когда я пообещал отвезти его на своем новеньком «форде» с откидным верхом.
Втроем мы добрались до здания цирка лишь после трех часов ночи. Дрессировщик и я под руки провели Дурова в здание и пошли через арену в большое помещение, где размещалось большинство животных. На полпути через арену из темноты выступила таинственная фигура. Это был ночной сторож, одетый в длинный овчинный тулуп. За спиной у него висело ружье, ствол которого торчал над головой, как неправильно выросший рог.
— Ш-ш, — зашептал он из меховых глубин, закрывавших его лицо. — Идите тихо, слон засыпает.
Я чуть не уронил Дурова на опилки. Неужели вся Москва сошла с ума? Я вопросительно взглянул на ассистента. Наверное, он понял мои чувства.
— Все в порядке, — сказал он. — Сторож просто хотел сказать, что слон улегся. Обычно слоны не ложатся спать. Это очень редкое явление.
Мы на цыпочках прошли через арену. Почему на цыпочках? Не знаю. Это было таким же необъяснимым, как и все остальное этой ночью. Даже если бы на нас были подкованные ботинки, то на покрытой опилками арене мы и мышь не смогли бы напугать своим шумом.
В помещении для животных мы зажгли небольшую лампу и увидели удобно растянувшегося на соломе мирно спящего слона. Думаю, это было единственное разумное создание, которое я встретил этой ночью.
Пока мы стояли, восхищенно взирая на слона, в дальнем конце помещения зазвенела цепь. В темноте я не мог разглядеть того, кто произвел шум. Но Дуров, видимо, узнал его сразу.
— Душка, мой милый! — воскликнул он, высвободился из рук ассистента и направился в сумрак. Мы с ассистентом пошли следом. Только когда мы дошли до конца помещения, я смог разобрать, что это был большой бурый медведь, стоявший на задних лапах и дергавший за цепь, которой он был привязан к стене. Он нетерпеливо размахивал своими огромными лапами, звенел и дергал цепью.
— Душка, мой малыш, — снова запричитал Дуров и протянул руки, чтобы обнять медведя.
Он чуть не сомкнул свои руки вокруг косматой медвежьей шеи, когда ассистент ухватил его за шиворот и оттянул назад.
— Чертов дурак, — пробормотал он. — Это не тот медведь.
Глава 8 ПОЛО ДЛЯ ПРОЛЕТАРИАТА
Если не считать случайных рукопожатий и обмена приветствиями, генералиссимус Сталин и я лишь однажды обменялись парой слов. Этот опыт не был сколько-нибудь информативным ни для одного из нас, и боюсь, что вряд ли он дает мне право утверждать, что я «знаю русских». Тот случай произошел на большом торжественном обеде в Кремле в сентябре 1941 года[110]. Большой банкетный зал был великолепно освещен полудюжиной дореволюционных люстр. Главный стол, уставленный графинами с водкой, протянулся на всю длину зала. Весь ряд находившихся за ним французских окон, с видом на кремлевский двор, был занавешен тяжелыми красными портьерами. Сталин сидел в центре стола, одетый в простой военный френч, который украшал один лишь орден Ленина. По правую сторону от него сидел язвительный лорд Бивербрук, а слева — американский посол. Мое место как младшего переводчика находилось в самом конце стола, приставленного к главному.
Ужин начался в доброй традиции Московского художественного театра. Уже была провозглашена серия тостов и осушены бокалы, когда завыли сирены воздушной тревоги. Мгновение спустя зенитная батарея во дворе открыла огонь. С каждым залпом изумительное красное пламя озаряло занавешенные портьерами окна. В течение нескольких минут в зале царила тишина, прерываемая лишь выстрелами зениток, доносившихся снизу. Затем Сталин встал и поднял свой бокал:
— Господа, за артиллеристов!
Звуки стрельбы скоро переместились куда-то в сторону, и банкет продолжился нормальной последовательностью тостов: за Сталина, за Рузвельта, за Черчилля, за Монтгомери, за Ворошилова, за Маршалла[111].
Посол сказал мне, чтобы я передал ему некоторые бумаги. Когда я понес их ему за большой стол, лорд Бивербрук неожиданно разразился отборной британской бранью по адресу одного из соотечественников, сидевшего рядом с ним.
— Ты чертов сизоносый жвачный вегетарианец, — завершил он свою тираду. Брови Сталина вопросительно поднялись, и он повернулся к единственному переводчику, оказавшемуся рядом:
— Могу ли я спросить, что сказал лорд Бивербрук?
Президент Рузвельт незадолго до этого определил политику США как «для Британии — все что угодно». Как послушный государственный служащий я вряд ли мог игнорировать такое указание.
— Лорд Бивербрук прокомментировал пищевые предпочтения мистера «Х», — ответил я.
Сталин скептически ухмыльнулся. И больше не просил меня переводить.
Мой переводческий опыт не всегда был таким бесплодным. Почти за восемь лет до того — как раз после признания Советского Союза Соединенными Штатами — в Москве проходил почти такой же банкет. Посол Буллит давал ужин для ведущих военачальников Красной армии. Отделка здания нашего посольства тогда еще не была вполне закончена, и посол снял банкетный зал в отеле «Националь». Справа от него сидел народный комиссар обороны Ворошилов, одетый в ладный белый летний китель, увешанный медалями и ленточками. Его круглое лицо херувима снизу подпирал жесткий воротник мундира. Слева от посла сидел генерал Буденный[112], отец Красной кавалерии, чьи огромные черные усы далеко разлетались в стороны над его верхней губой. Вокруг стола собрались все ведущие советские военачальники тридцатых годов: Егоров, Тухачевский, Хмельницкий[113] и дюжина других.
Это был банкет в настоящих московских традициях. Стол ломился от икры и фуа-гра, фазанов и уток. Стая юрких официантов носилась вокруг за спинами гостей, наполняя бокалы дюжиной сортов водки, шампанского и виски.
Мой пост располагался на маленьком стуле между послом и Ворошиловым. Время от времени, когда течение разговора менялось, я обходил кресло посла со стулом в руках, чтобы переводить для Буденного. Это был жаркий липкий вечер. Я утомился после трудного рабочего дня в офисе и, честно говоря, совсем не был рад получить задание на этот вечер.
Переводческая работа на банкете — это самое разочаровывающее и голодное занятие, которое я знаю. Время от времени еще удается опрокинуть стакан водки в промежутках между всплесками остроумия тех, кого ты переводишь. Но вот поесть не удается никогда. Официант ставит перед тобой тарелку, полную икры и тостов. Пока тот, кого ты переводишь, упражняется в мастерстве ведения беседы, ты тихонько мажешь тост икрой. «Скажите генералу, что сегодня жаркий вечер». Ты переводишь и ждешь другой паузы, чтобы выжать немного лимона на икру. Опять беседа. Тишина на мгновение, и ты посыпаешь на икру немного рубленого лука. Опять беседа. Еще пауза на мгновение, и ты подносишь тост ко рту. «Скажите генералу, что я люблю балет». Твоя рука останавливается прямо возле цели, и ты переводишь… Ага, пауза, и ты вновь берешься за тост. «А какой балет нравится послу больше всего?». Ты опускаешь руку с тостом и переводишь. Посол задумался на секунду, и ты хватаешься за икру, но. «Я думаю, "Лебединое озеро" лучше всего, что я видел, но "Жизель" тоже восхитительна». Перевод. Быстро за икру, но не слишком быстро. «А любит ли посол ходить в театр тоже?».
В конце концов ты бросаешь это дело, оставляешь тост нетронутым на тарелке, опрокидываешь стакан водки — для этого достаточно любой паузы — и останавливаешься на питьевой диете.
Разговор идет на низкой передаче. Мой мозг начинает задумываться: зачем я вообще оставил службу в армии и оказался вовлеченным во всю эту «романтику дипломатии»? Я мог бы остаться в Форте Мейер и спокойно эскортировать мертвых — и потому молчаливых — послов на Арлингтонское кладбище или даже играть в поло.
А почему бы не играть в поло здесь?
«Спросите у комиссара, где в России находятся лучшие летние курорты?»
Я начал переводить:
— Посол хотел бы узнать, почему в Советском Союзе вы не играете в поло? — Зачем я это сделал?
ВОРОШИЛОВ:
— Что такое поло? Мы никогда не слышали о нем.
Я повернулся к послу:
— Он говорит, что есть много хороших курортов по всему Советскому Союзу.
ПОСОЛ:
— Но какой из них он лично предпочитает?
Ч.У.Т. (Чарльз Уиллер Тейер, по-русски):
— Это игра, которую играют на лошадях, и она очень подходит для подготовки кавалеристов.
ВОРОШИЛОВ:
— Как в нее играют?
Ч.У.Т. (по-английски):
— Комиссар сказал, что ему нравятся все курорты Советского Союза.
ПОСОЛ (по-английски):
— Спроси его, был ли он когда-нибудь в Крыму или на Кавказе.
Ч.У.Т. (по-русски):
— В нее играют маленьким деревянным мячом две команды по четыре человека, и каждый игрок держит длинную деревянную клюшку.
ВОРОШИЛОВ:
— Звучит так, что это, должно быть, хорошее развлечение.
И, повернувшись к Буденному, добавляет:
— Что ты об этом думаешь?
БУДЕННЫЙ:
— Очень интересно, но кто нас научит?
Ч.У.Т. (по-английски):
— Комиссар и генерал Буденный оба бывают и в Крыму, и на Кавказе.
ПОСОЛ:
— А какой месяц больше всего подходит для отдыха?
Ч.У.Т. (по-русски):
— Посол играет в поло, и я играю — мы можем научить вас.
ВОРОШИЛОВ:
— Хорошо, если Буденный согласен, то это подходит и для меня.
Ч.У.Т. (по-английски):
— Комиссар говорит, что все месяцы в Советском Союзе хороши, но он хочет узнать, не сможете ли вы научить Красную армию играть в поло.
По крайней мере мы, наконец, собрались вместе в этом разговоре.
Смена направления был слишком стремительной, но посол лишь слегка запнулся:
— Поло? Я должен учить играть в поло? Почему? Я не играл сорок лет.
Ч.У.Т. (по-русски):
— Посол говорит, что он слишком стар для игры, но он думает, что сможет судить.
ВОРОШИЛОВ:
— Замечательно. Посол будет главным судьей и вы старшим инструктором по поло Красной армии. Когда начинаем?
Ч.У.Т. (по-английски):
— Комиссар предлагает вам быть судьей, а мне инструктором. Он хочет знать, сможем ли мы начать в понедельник.
Посол повернулся ко мне. Его лысина начала краснеть. Как я хорошо знал, это было тревожным сигналом.
— Что происходит? Откуда взялась тема поло? Как оно появилось в разговоре? И, вообще, как вы переводите?
Я начал оправдываться:
— Извините, сэр, но разговор чуть-чуть сошел с рельсов.
Внезапно выражение лица посла изменилось, и он засмеялся:
— Скажи комиссару, что мы можем начать, как только раздобудем экипировку.
Той же ночью, как только гости разошлись, я послал телеграмму своему бывшему товарищу по команде, который теперь служил в Техасе в кавалерии:
«Пожалуйста, отправьте экипировку для игры в поло, кроме пони, для четырех команд».
На следующий день пришел ответ:
«Ты свихнулся».
Результатом следующей телеграммы, адресованной менее скептически настроенному другу в Лондон, стала большая коробка с наборами клюшек и мячей.
Несколькими днями позже посол и я приступили к исполнению своих новых обязанностей. Для первого эксперимента с советским поло был избран великолепный конный полк Московского гарнизона, и двадцать его лучших всадников были назначены для обучения. В качестве поля для игры мы выбрали большую, немного всхолмленную часть пастбища, где до этого паслись овцы. Она лежала за Москвой-рекой напротив Серебряного Бора, популярного пляжа, который мы часто посещали жарким летом 1934 года. Возле Серебряного Бора река делает U-образный поворот. Поперек верхушки U был построен высокий забор из проволочной сетки, притом что вся площадка — площадью около квадратной мили[114] — была окружена с трех сторон водой и с четвертой стороны — забором.
Мы все собрались в близлежащем кавалерийском лагере и поскакали к реке, преодолели неглубокий брод и затем вышли на равнину. Кавалеристы были аккуратно одеты в обычные русские гимнастерки, перепоясанные ремнем, в рубашках поверх бриджей. Их фуражки плотно держались на головах. Они вежливо наблюдали за тем, как мы демонстрировали им разные варианты ударов клюшкой.
Чуть погодя каждому из них выдали по мячу и клюшке и разрешили попробовать самим. Все они были превосходными наездниками, но, несмотря на это, мячи поло летели у них во всех возможных направлениях. После того как послу больно попало мячом по голени, он решил, что они попрактиковались вдоволь. Он разделил их на две группы по десять человек в каждой. Потом он указал на макушку церкви, видневшуюся на горизонте, и сказал одной из групп, чтобы они били в этом направлении. Другой группе он указал на фабричную трубу в противоположном направлении.
— Но как только дойдете до реки, остановитесь, — потребовал он.
Затем он начал объяснять некоторые правила игры и сказал, что его свисток будет означать конец игры.
Я попытался перевести. Естественно, ни один из игроков никогда не видел, как играют в поло. И русский словарь — или, по меньшей мере, мой русский словарь — не был богат на термины и фразы из области игры в поло. Когда я закончил, то всерьез сомневался, поняли они хоть что-нибудь.
Они выглядели несколько смущенными и озадаченными, находясь перед послом. Он вбросил мяч между двумя командами, и веселье началось.
На короткий момент воцарилось гробовое молчание, пока мяч крутился в чащобе из сотни лошадиных копыт и клюшек игроков. Затем кто-то нанес удар. Раздался громкий хрюк, и последовавшее за этим ругательство засвидетельствовало, что клюшка нашла путь к чьему-то телу. Неразбериха длилась несколько минут; затем мяч выскочил из свалки, и все двадцать всадников пустились за ним в сумасшедшую погоню. Крутящаяся клюшка нанесла по мячу еще один удар, и они пустились в галоп. Последовала целая серия жестоких толчков, и орда превратилась в очередную свалку. Мычание, ругань и жуткие звуки от ударов клюшками по человеческим и лошадиным ногам. Мяч вновь обнаружился, и все поле наполнилось криками. Лидирующий игрок выкрутился, проскочил и резко остановился. Следовавший за ним врезался в лидера, оба чуть не свались. И в этот момент мяч опять исчез между лошадиных ног.
Они разошлись по-настоящему. Вначале посол галопировал вслед толпе, предупреждая их о нарушениях, но очень скоро стало ясно, что никто не обращает внимания ни на что, кроме мяча. Одним из самых смекалистых из всех двадцати был маленький монгол из Центральной Азии. Поначалу он яростно ввязывался в каждую свалку, крутя клюшкой и испуская странные воинственные кличи. Затем я заметил, что он старается держаться в стороне от схватки. И в этот момент мяч вылетел из свалки, и все игроки пустились за ним вдогонку. Монгол пришпорил свою лошадь и пустился за мячом под прямым углом к движению толпы преследователей. Было ясно, что если кто-нибудь не уступит дорогу, произойдет столкновение. Монгол издал истошный вопль. Наверное, он собирался напугать остальных. Но все продолжали скакать в прежнем направлении. Прозвучал глухой удар и крики боли: три лошади на полном скаку врезались одна в другую. Лошадь монгола зашаталась и упала. Две другие споткнулись и остановились над ним. Мяч спокойно покатился вниз по лугу, и все остальные игроки бросились за ним в сумасшедшую гонку.
— Это было отвратительно, — сказал я послу, когда мы спешно направились к месту падения лошадей.
— Что там отвратительно, — сказал посол. — Это было убийство.
Когда мы добрались до места столкновения, лошади уже были на ногах, а их всадники ходили слегка ошеломленные, но очевидно, все было в порядке. У маленького монгола была поранена кожа на гладко выбритой голове, а гимнастерка порвана.
Но уже через мгновение он вновь вскочил на лошадь и пустился галопом за другими игроками, по-прежнему что-то выкрикивая своим высоким голосом.
Игра продолжалась уже пятнадцать минут[115], когда посол поднялся, объявляя, что для первого раза достаточно, и торжественно засвистел в свой свисток. Орда продолжала галопировать, кричать и отчаянно сражаться за мяч. Он просвистел снова. Некоторые из игроков посмотрели на него непонимающими глазами. Один или двое усмехнулись, очевидно пораженные видом посла, величественно восседавшего на своей лошади и старательно дувшего в маленький свисток.
Когда я проезжал мимо, посол крикнул:
— Вы объяснили им, что когда я засвищу, они должны остановиться?
Крики игроков позволили мне сделать вид, что я его не слышу, и поспешить дальше. Но посол последовал за мной.
Прошло еще десять минут. К этому времени посол начал раздражаться из-за своей неспособности остановить собственное творение, которое он привел в движение. Наконец он прижал меня возле берега реки.
— Сказали вы им или не сказали, что они должны остановиться, как только я засвищу? — зло прокричал он.
— Виноват — я полагаю, может быть, я не помню.
Посол заревел снова:
— Сказали вы или…
— Я, должно быть, опустил эту часть, сэр. Мне очень жаль.
— Ладно, черт побери! Теперь остановите их! Я не могу. Они умрут от апоплексического удара, если это продолжится, или то же самое произойдет с лошадьми.
Я уважительно кивнул послу и обреченно двинулся в облако пыли в полумиле вниз по лугу.
— Попытаюсь, — смиренно пробормотал я и пришпорил коня в сторону орды, крича «Стой! Стой!» Лишь несколько потных, окровавленных кавалеристов на секунду взглянули на меня, недобро усмехнулись и бросились вслед за мячом.
Схватив дополнительную клюшку, я решил присоединиться к свалке и посмотреть, как можно ее развалить. В следующий момент мяч вылетел из схватки, я рванул к нему под прямым углом к толпе. Я ударил по мячу изо всех сил, промахнулся и пришпорил лошадь, потому что двадцать лошадей, с глазами, горящими от возбуждения, что есть мочи неслись за хвостом моего коня и готовы были смять нас в этой гонке. Я попытался снова, на этот раз с большим успехом. Мяч пролетел сотню ярдов, я за ним, все еще крича через плечо:
— Стой, стой! Его превосходительство хочет, чтобы вы остановились.
Армия повернула в сторону мяча и бросилась в галоп. Я почти чувствовал восемьдесят копыт на своей шее, когда направлял лошадь для следующего удара. И в обычном состязании вынести мяч из фронта игры в поло — это рискованное дело. Но в игре всегда присутствует некий порядок, какие-то правила и рефери. На этот раз дело приходилось иметь лишь с дикой, жаждущей крови, потной и злобной ордой. Расстроенный посол уже давно потерял свою власть как судья. Здесь не было даже ворот, чтобы забить гол, и задней линии, чтобы остановить их. Только река и забор — но на что они могли сгодиться в этой ситуации?
Я ударил по мячу снова, и мяч подскочил. В нескольких сотнях ярдов от нас текла река. Если бы только я смог продвинуться подальше и послать мяч в воду.
Вот я снова дал шпоры и бросился в борьбу. Мяч резко свернул в сторону. Я почти бросил лошадь в поворот, но было уже поздно. Мои быстроглазые ученики перерезали мне путь к мячу и уже склонились над ним со своими клюшками.
Они прекратили кричать и лишь грозно мычали, выковыривая маленький мяч. Их взмыленные лошади тяжело дышали. Облака пара и пыли поднимались от тесной кучи игроков. И снова мяч выскочил из стаи. Я ударил по нему сплеча с сумасшедшей силой, отправив его в сторону реки. В тот момент не было никакого сомнения в том, кто на чьей стороне играет. Их было двадцать против меня одного, и река находилась от меня в двухстах ярдах. Вызывающий вопль раздавался со стороны мчавшихся за мной всадников. Уголком глаза я заметил, что посол спокойно трусит вдоль одной из сторон поля. Кажется, он смеялся.
Я с яростью ударил по мячу. Он взвился в воздух в нескольких футах впереди. Затем я размахнулся клюшкой еще раз и подхватил мяч в нескольких дюймах от земли. На сей раз я попал как надо, и мяч, пролетев оставшиеся ярды, плюхнулся в Москву-реку.
Я отпустил поводья и опустился в седло, совершенно изможденный.
Преследовавшая меня стая остановилась прямо за мной и уставилась вначале на меня, а потом на реку. Один из всадников пришпорил коня, прыгнул с берега в неглубокий поток и исчез в фонтане брызг. Прежде чем я что-либо сообразил, он уже держал мяч в руке и бросил его обратно на поле. Взревевшая банда мигом очутилась возле мяча и с триумфом поскакала по полю.
Я уставился на место происшествия и беспомощно вздохнул. Но посол через секунду уже был возле меня:
— Не расстраивайся, черт побери! Они убьют сами себя, если ты их не остановишь.
К тому моменту, когда я присоединился к свалке, она как раз находилась в центре луга. Еще один забег к реке был выше моих сил, не говоря уже о моей измученной лошади. Мы уже целый час скакали без какого-либо перерыва.
Когда мяч в очередной раз выскочил из крутящейся массы, я нацелился на него и схватил клюшку как можно крепче. Мяч улетел на пятьдесят ярдов вперед. Я высвободил ноги из стремян и направил своего пони. Единственным шансом было упасть на мяч до того, как толпа настигнет меня.
С того места, где стоял посол, как он сказал мне потом, все, что можно было разглядеть, так это то, что его секретарь скатился с седла перед преследовавшей его шайкой. Затем кружащиеся лошади закрыли обзор. Когда в конце концов посол проложил себе путь сквозь толпу, я лежал, съежившись на земле, прикрывая мяч для поло рукой, словно потерянный мяч в футболе[116].
Двадцать черных от пыли и пота лиц смотрели на меня сверху вниз наполовину зло, наполовину удивленно.
Я посмотрел наверх:
— Пожалуйста, — выдохнул я. — Хватит! Обещаете?
Гул одобрения приветствовал мое обращение.
Командир лагеря, выйдя из палатки, остолбенел, посмотрев на дорогу, ведущую к реке. Взвод подтянутых кавалеристов, которых он недавно выделил по приказу Буденного для какой-то дипломатической безделицы, выглядел так, словно вернулся из боя времен Гражданской войны. Лишь на некоторых из них были гимнастерки, да и те лишились рукавов и пуговиц, у остальных форма была разодрана в клочья. У нескольких головы были перевязаны носовыми платками. Из царапин на щеках сочилась кровь. В последнем ряду колонны пешком шли двое конников, ведя под уздцы пару хромающих лошадей.
Во главе колонны в чуть более приличном виде гарцевал американский посол, и за ним, согнувшись в седле, ехало то, что раньше было его личным секретарем.
— Конечно, сначала может показаться трудным запомнить, что надо переводить все, что я говорю, но немного практики, и ты привыкнешь, — отеческим тоном произнес посол.
— Буду стараться, — смирно ответил я.
На следующий день позвонил Буденный:
— Извините, что не смог вчера присутствовать на вашей первой тренировке, но если верить докладу из кавалерийского лагеря, это, похоже, был настоящий успех. Единственное, о чем они сожалели, так это то, что у них не было подходящих для игры лошадей. Вы можете описать, на каких лошадях играют в поло в Америке?
Посол объяснил, что лучше всего раздобыть несколько молодых чистокровных на три четверти животных[117], пяти или шести лет и ростом примерно 150 сантиметров в холке. Они должны быть объезжены, но не выезжены. Он сказал, что их выездкой должны заняться сами игроки и я.
— Сколько лошадей нужно? — спросил Буденный.
— Ну, в Америке у каждого игрока три, иногда четыре лошади на игру. Но здесь столько не нужно.
— Посмотрим, что можно будет сделать, — ответил Буденный и положил трубку.
О пони для игры в поло три недели ничего не было слышно. Но мы сами продолжали практиковаться в поло почти каждый день после работы. Теперь это уже проходило в определенных рамках, в отличие от первой попытки, и постепенно игроки начали улавливать суть правил и наказаний. Затем последовал звонок из штаба кавалерии:
— Товарищ Буденный хочет узнать, не сможет ли посол встретиться с ним в кавалерийских казармах сегодня в три часа после обеда. У него есть несколько лошадей для игры в поло, которых он хочет вам показать.
Мы нашли Буденного на плацу с его адъютантами и командующим кавалерией гарнизона. По кивку Буденного солдаты начали по очереди выводить пони из конюшен перед нашей небольшой группой.
Первой лошадью был небольшой гнедой мерин с прекрасными ногами чистокровной верховой лошади и округлыми линиями казацкого коня. Командир гарнизона пояснил:
— Это пятилетняя лошадь; чистокровная на три четверти; на четверть кубанской породы; 150 сантиметров в холке; объезжена, но не выезжена.
— Это именно тот тип, что нам нужен, — с энтузиазмом прокомментировал посол.
Вторая лошадь, если не считать гладкой каштановой шерсти, была точно такой, как и первая.
— Пять с половиной лет; на три четверти донской породы; объезжена, но не выезжена.
— Превосходно! — сказал посол.
Третья лошадь, небольшая кобыла из Западной Сибири, отвечала этим же требованиям.
Я начал подумывать, что они постарались быть на высоте и показывают нам для начала несколько своих самых лучших лошадей. Но по мере того, как ряд лошадей, выводимых из конюшен, становился все длиннее, мои глаза округлялись от удивления. Каждое следующее животное, которое перед нами проводили, было столь же замечательным, как и предыдущее. Таким подбором едва ли могла похвастаться и кавалерия Соединенных Штатов.
После того как перед нами провели пятнадцатую или двадцатую лошадь, посол, очевидно, столь же пораженный, как и я, спросил:
— И сколько их там?
— Шестьдесят четыре, — ответил командир гарнизона ровным тоном, как ни в чем не бывало.
— Господи! Да ведь это действительно конюшня для игры в поло!
— Это то, о чем вы нам говорили, не так ли? — сказал Буденный. — Четыре лошади для одного игрока — четыре команды, значит, шестнадцать игроков. Я думаю, мы можем позволить себе то же, что и вы, американцы.
Когда последняя из шестидесяти четырех лошадей прошла перед нами, подвели большого темно-бурого боевого коня, оседланного и взнузданного:
— А это шестьдесят пятый — для Его превосходительства, рефери. Не хотите ли попробовать?
Пока посол садился на своего коня, я бочком подошел к одному из адъютантов и спросил:
— Как вам удалось собрать вместе такую коллекцию?
— Очень просто, — ответил он. — Буденный послал телеграмму на все конезаводы Союза и приказал доложить о наличии у них лошадей, отвечающих вашим спецификациям. Затем он приказал привезти лучших в Москву.
Еще несколько недель ушло на выездку лошадей и обучение самих игроков. Наконец наступил формальный день первого в истории Советского Союза матча по поло[118].
После полудня в жаркий сентябрьский день пляж у брода был переполнен купальщиками. Все происходило еще до того, как купание голышом было объявлено в Советском Союзе некультурным, но все же деревянный забор разделял женскую и мужскую части пляжа. Путь из лагеря к броду и на «поле для поло» пролегал через женский пляж. Но к тому времени женщины уже настолько привыкли к тому, что мы каждый день скачем мимо них, что даже голов не повернули в ответ на наше появление, хотя мы были все одеты в яркие синие и красные рубашки-поло, предоставленные по такому случаю московскими спортивными клубами.
Тем же днем, но еще раньше, целый отряд пехотинцев промаршировал по пляжу и переправился на равнину на другой стороне реки. Там они рассредоточились и стояли на расстоянии вытянутой руки друг от друга, образовав гигантский круг диаметром с милю. Но на самом деле они так далеко расположились от настоящего поля и так здорово спрятались в складках местности, что практически не были видны зрителям.
Однако и это не стало предметом внимания купальщиков. Люди в Советском Союзе привыкли ко всякого рода военным маневрам.
Но что все-таки заставило обнаженных леди подняться на ноги, так это вереница длинных черных лимузинов, проследовавших пляжем, переправившихся через брод и исчезнувших где-то на равнине на той стороне реки.
Представляю, как купальщики лишь завтра, прочтя в «Правде» статью об игре в поло в Серебряном Бору, поймут, что все это означало. Матч на самом деле смотрели лишь немногие — иного не позволил круг из солдат. Но аудитория была хотя и небольшая, зато столь же избранная, что и в Мидоубруке[119]. Народный комиссар по иностранным делам Литвинов, нарком обороны Ворошилов, несколько членов Политбюро, посол Буллит с несколькими сотрудниками и горстка тщательно подобранных советских и американских журналистов.
Личный секретарь посла играл за команду синих.
Сама игра, может быть, и не отвечала стандартам Мидоубрука, но, на вкус любого зрителя, была вполне увлекательной и напряженной. Моя команда проиграла. (Потом меня незаслуженно хвалили за дипломатичность, позволившую победить другой стороне.)
После игры зрители и игроки прибыли в посольство на прием, продлившийся до утра. Единственное, что прошло не так гладко, касалось Миджет, моего полицейского щенка, написавшего на колени наркому обороны.
Все лето продолжались игры в поло. Когда выпал снег, мы стали играть в большом городском манеже. Но постепенно некоторые из лучших игроков стали выпадать из обоймы.
— Маневры, — объяснил командир.
Повсюду происходили события, имевшие к поло лишь незначительное отношение. Геринг объявил, что Германия строит воздушный флот. На параде в Берлине немецкая армия продемонстрировала новые мобильные пушки. Газеты сообщали, что Рейх создает новые механизированные дивизии.
В те дни почти ничего не было слышно о немецкой кавалерии и совсем ничего о немецком поло.
Однажды ранней весной нам позвонили из кавалерийских казарм и сказали, что тренировки не будет. Все войска на маневрах.
— Когда они вернутся, — вежливо пообещал командир, — я дам вам знать.
Войска все еще были на маневрах, когда спустя шесть лет мы все узнали, что началась война.
Но я до сих пор уверен, что являюсь старшим инструктором по поло Красной армии.
Глава 9 ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОЛХОЗ
Однажды, в жизнерадостном порыве, я съехал по перилам посольства и растянул лодыжку. Посольский доктор прописал мне постельный режим, а посол Буллит купил мне щенка овчарки (сучку), чтобы я не скучал. Глава канцелярии посольства Джон Уайли стал называть ее собакой «тайной полиции», и я признал, что она не походит на тех немецких овчарок, которых я видел прежде. Но когда она выросла, она, ко всеобщему изумлению, превратилась в черную бельгийскую овчарку — грюнендаля. Особенно неожиданным это было для меня, потому что я вообще никогда и не слышал о грюнендалях.
Миджет[120] (я назвал ее так в честь одной миниатюрной московской балерины, с которой был недолго знаком) была чуть меньше обычной немецкой овчарки и намного легче. Ее шерсть была длинной и шелковистой — это если я ее расчесывал. Когда она была щенком, она ничем не отличалась по поведению от других собак и быстро привела в негодность всю мою обувь и даже большую часть ботинок посла. И она была еще юной, когда ее представили московскому обществу. На первом приеме, на который ей позволено было явиться, она уселась на колени к маршалу Ворошилову и преуспела в том, чтобы его бриджи слегка промокли. Но он воспринял это правильно, и когда мокрое вытерли, опять посадил Миджет к себе на колени. По мере того как она взрослела, ее способности приносить бедствия стали намного превосходить возможности самоконтроля. Соответственно вырос и причиняемый ею ущерб. Итак, я принялся за поиски тренера для нее и скоро обнаружил, что все собачьи тренеры в Москве служат в ГПУ. Тем не менее в ГПУ очень любезно согласились принять ее, и в течение трех месяцев она ходила в интернат сталинской тайной полиции.
Вернувшись, она уже была гордым обладателем собачьего эквивалента советской ученой докторской степени, представлявшего собой большую эмалированную красно-желтую медаль с ее именем и степенью («Отлично»), выгравированными на обратной стороне.
Позже медаль окажется очень полезной. В 1939 году, прямо перед началом войны, я оказался в Гамбурге и жил в отеле «Атлантик». Однажды вечером, усталый, я возвращался к себе домой и как горькую насмешку над собой воспринял известие, что в отеле на весь уикэнд поселился Герман Геринг. В результате мне не разрешили припарковать мою машину там, где я обычно ее ставил. Мне не разрешили пройти через входную дверь, пока меня не проверила полиция, и только после этого я едва смог протиснуться к лифту сквозь строй увешанных медалями и ленточками адъютантов Геринга и подняться к себе наверх. Когда я наконец добрался до своей комнаты, то был настолько разозлен на Геринга за всех его дурацких присных, что когда я одевался к ужину, то вытащил красный шелковый пояс от моего банного халата, прицепил его к одному своему плечу и протянул его через всю грудь, словно это был орден Святого Георгия. Затем я украсил его всем, что смог найти. Это были зажим для галстука, булавки для воротничка, безопасные булавки, просто булавки, и в середине красовалась докторская медаль Миджет. Когда я вошел в лифт, то выглядел презабавно. Но когда другие пассажиры лифта присмотрелись повнимательнее к моим украшениям, то их реакция были такой, как я и рассчитывал, почти такой же злой, как и у меня, когда я приехал в отель. Тем не менее они лишь поворчали, и я смог выйти из отеля невредимым — с пояском от халата и всем, что на нем было.
Один из трюков, которым Миджет обучили в ГПУ, позволил ей сделать дипломатическую карьеру. Если перед ней положить кусочек сахара и сказать, что это подарок от Гитлера (или от Джона Джонса), она с презрением отвернет свой нос и ни за что не возьмет его. Так вы можете перечислить половину населения мира, и реакция будет одинаковой, пока вы тихонько не укажете ей на него пальцем. Тогда она разом подскочит к нему. Я показывал этот трюк всем — от королевских особ до швейцаров и, конечно, всегда показывал пальцем на сахар, когда доходил до имени человека, которому демонстрировал трюк. И я не встречал никого, чье Эго не раздувалось бы, как воздушный шарик, когда Миджет прыгала к сахару. Им всем казалось, что я провел полночи, обучая Миджет реагировать на звук их имени. Я склонен полагать, что для множества людей важнее иметь добрую репутацию у собаки, чем у большинства своих знакомых.
Примерно через год после прибытия в Москву несколько холостяков из посольских служащих получили дачи[121], как по-русски называют загородное бунгало. Миджет отправилась туда, к великому облегчению посла, и все остальное время своего московского пребывания провела там.
Чуть позже к ней присоединилась вторая собака — японский спаниель, которого мне подарила дочь японского посла Того[122].
И лишь для того, чтобы показать отсутствие у меня каких-либо предрассудков по отношению к японцам, я назвал спаниеля Того.
Я долго думал, что это хорошее имя, пока однажды ко мне на чай не пожаловала вся семья Того.
В то время моя дача находилась под некоторым непостоянным надзором старого русского слуги по имени Георгий. Он прославился тем, что на протяжении всей жизни вечно принимал неправильные решения, когда ему приходилось делать выбор. Перед революцией он сумел устроиться в Лондоне, то ли гладильщиком, то ли кем-то еще. Когда началась революция, он решил, что наступило хорошее для него время, и вернулся домой через Сибирь, намереваясь помочь советской власти. Но по дороге он случайно наткнулся на армию Колчака и всю Гражданскую войну провоевал против Советов. После недолгого пребывания на соляных шахтах он решил присоединиться к американским концессионерам, к которым Советы относились вполне терпимо из-за острой нужды в валютных поступлениях. Но как только денежные потоки пришли в норму, концессии были ликвидированы, а Георгия отправили на три года в тюрьму на пресловутые Соловки в Белом море, где он мог все спокойно обдумать. После этого он принял решение присоединиться к сторонникам Троцкого[123], но тот вступил в конфликт со Сталиным, и Георгия отправили на год или около того в Центральную Азию. Когда же он прошел и через это, то пришел к выводу, что все-таки американцы совсем неплохие люди, хотя и могут вовлечь в неприятности. И он стал работать на «Интернэшнэл Ньюс Сервис» (ИНС) Херста[124], в то время, наверное, самое непопулярное учреждение во всей России. Прошло совсем немного времени, и ИНС ликвидировали так же, как прежде поступили с Колчаком, концессиями и Троцким. К тому времени Георгий постарел и решил, что уже больше не хочет никуда уезжать, и попросился к нам на дачи, где и оставался до конца своей трудовой жизни кем-то вроде дворецкого и гладильщика.
Все это имело лишь некоторое отношение к спаниелю, да и ко времени визита семейства Того ко мне на чай тоже. Но, по несчастному стечению обстоятельств, время чая и время кормления собак совпали. И в тот момент, когда мы сидели под деревьями и вели вежливую беседу с японским послом и его семьей, из дома вышел Георгий с кастрюлей объедков и направился через всю лужайку призывно выкрикивая спаниеля: «Того, Того, Того». За чайным столом воцарилась напряженная тишина. И тут Георгий хоть и с опозданием, но сообразил, что он сделал, и как заяц понесся обратно в дом.
На следующий день старейшина дипломатического корпуса немецкий посол граф фон Шуленбург[125] послал за мной.
— Правда ли то, — сказал он, — что одна из ваших собак названа именем японского посла?
Я ответил, что правда, но это отвечает давней американской традиции выражать таким образом признательность другу. Шуленбург скептически нахмурился.
— Хорошо, но это, со всей очевидностью, не соответствует старым японским обычаям, и японский посол сходит с ума от злости.
Я сказал, что очень сожалею об этом, но при этом от меня трудно ожидать знания всех древних японских обычаев. И, кроме того, собака совсем молода и недисциплинированна, и если я поменяю ей имя сейчас, то, помимо того, что ею станет невозможно управлять, у нее еще может возникнуть неизлечимый психологический комплекс. Но Шуленбург твердо стоял на своем, и после долгих препирательств я согласился, ради сохранения добрых отношений, поменять имя собаки на Хобо. Возможно, спаниель этого и не заметит или по меньшей мере не будет слишком переживать из-за двух новых согласных в своем имени.
В тот день, когда посол Того отбыл в Токио, где позже был назначен на должность министра иностранных дел, я прямо на вокзальном перроне спросил Шуленбурга, не считает ли он возможным сейчас вернуть имя Того вместо Хобо. Шуленбург посчитал, что вернуть можно, и предположил, что все будет в порядке, если только я не буду об этом всем рассказывать.
Несколько лет спустя, когда сэр Стаффорд Криппс[126] приехал в Москву в качестве британского посла, он попросил меня помочь найти ему полицейскую собаку. Я опросил давно знакомых мне любителей собак, и мне обещали предложить нескольких на выбор. Через пару дней мне уже подобрали целую компанию эрдельтерьеров.
— Я же сказал, что сэр Стаффорд хочет иметь полицейскую собаку, — напомнил я.
— Так они и есть полицейские собаки, — ответили мне, — и, черт возьми, отличные. То, что это не немецкие овчарки, совсем не означает, что они не могут быть полицейскими собаками. И, кроме того, нам трудно поверить, что сэр Стаффорд хотел бы иметь немецкую полицейскую собаку, находясь в состоянии войны с Гитлером.
Сэру Стаффорду аргументы понравились, и он взял одного из эрделей. Он назвал его Джо[127], и никто ничего не сказал по этому поводу. Тогда он был послом, а я третьим секретарем.
В конечном счете, когда немцы напали на Россию и нас вывезли из Москвы, я оставил Того. Я подумал, что, может, немцам понравится японский спаниель. Но немцы так и не вступили в столицу, и я до сих не знаю, что произошло со спаниелем. Старый граф Шуленбург был повешен за участие в заговоре с целью свержения Гитлера в 1944 году, а посол Того умер в токийской тюрьме в 1950 году, приговоренный как военный преступник, к длительному тюремному заключению. Георгий мирно умер от старости в своем доме неподалеку от Москвы.
Моя дача была не более чем чуть расширенным бревенчатым срубом, подвергнутым «модернизации» литовским дипломатом, от которого она перешла к нам[128]. Он выкопал колодец, установил насос и водяной бак, устроил туалет и душ, теннисный корт и сад, пруд для уток и, что важнее всего, обнес участок высоким деревянным забором, чтобы отделить дачу от близлежащей деревни. Было что-то особенно приятное в том, чтобы въезжать на дачу через большие деревянные ворота, после долгого трудного дня, прошедшего в попытках понять этих русских. Когда за тобой закрывались ворота, то, казалось, что и Советский Союз, и пятилетний план и, прежде всего, ГПУ более не существуют.
Сад протянулся через лужайку прямо перед домом, и за ней виднелись поля и леса. Время от времени сад приносил нам некоторое беспокойство. Так, к своему ужасу, мы обнаружили, что в нем нет мяты. Но мы телеграфировали в Голландию с просьбой прислать нам корни мяты и выправили положение до начала сезона «джулепов»[129]. Потом у нас появился садовник, чьим любимым цветком был душистый табак, или никотиана. И это единственный цветок, к которому я питаю настоящую сильную неприязнь. У него есть все недостатки проститутки и ничего из ее достоинств. Расцветает он только ночью, у него сильный, неприятный, едкий запах, и он имеет привычку поворачиваться к вам, когда вы этого меньше всего хотите. В конце концов, мы уволили табачного садовника и наняли другого, чьей страстью были розы. Однажды, когда я уезжал в отпуск домой, он замучил меня просьбами привезти из Америки дюжину ростков чайной розы. А в это время Советское правительство уже успело обвинить японского дипломата в том, что он распространял вдоль Транссибирской железной дороги букеты, зараженные японскими пчелами, а какой-то «мистер Браун» был обвинен в «Правде» в распространении «розового червя» на советских хлопковых полях с использованием каких-то черенков, предательски «подаренных» советскому хлопковому специалисту. Поэтому, когда я возвращался с розовыми кустами, то предусмотрительно отправил их дипломатической почтой, где их не могли увидеть и изъять советские таможенные инспекторы.
По пути из отпуска я открыл коробку с розами в посольстве в Париже, чтобы они могли вдохнуть свежего воздуха, прежде чем вновь оказаться запертыми во время последнего отрезка их путешествия. Я был лишь немного удивлен тем, что нашел их уже пустившими листья и завязавшими бутоны, словно коробка с дипломатической почтой была оранжереей. Я поторопился привезти их в Москву и посадить в саду, прежде чем энтузиазм не завел их слишком далеко, и, в конце концов, все дело закончилось полным успехом. Каждое деревце чайной розы имело этикетку, на которой было четко напечатано его имя. Одно, помню, называлось «Миссис Франклин Д. Рузвельт» и другое «Герберт Гувер»[130]. Каждой весной «Герберт Гувер» начинал зацветать на несколько дней, а иногда и недель, раньше, чем «Миссис Рузвельт», к настоящему разочарованию нас, нанятых на службу администрацией демократической партии. Но после нескольких лет проведенных в беспокойстве, я все-таки нашел решение этой проблемы и просто перевесил этикетки с цветов. С тех пор и до сего дня «Миссис Рузвельт» ведет себя замечательно.
Нашим окончательным дополнением на даче стала конюшня на трех лошадей. Ушли месяцы на то, чтобы найти, сторговаться, дать взятку и поскандалить, чтобы мы, в конце концов, заполучили трех так называемых верховых лошадей. Фактически они были крестьянскими лошадьми-недомерками, но мы предпочитали не видеть этой разницы и постепенно за несколько лет отчаянных торговых операций поменяли их на несколько довольно подходящих лошадей.
Но наибольшей проблемой оказалось заполучить достойного конюха. То нанятый нами конюх продаст весь наш овес местным кучерам с дрожками, то притащит вместе с собой в маленькую конюшню нескольких жен с детишками и вознамерится жить здесь постоянно.
Уволив полдюжины таких специалистов, мы наконец нашли Пантелеймона, одного из самых выдающихся конюхов двадцатого века. Он носил не снимая старую фуражку царской армии и щеголял элегантным мундштуком из слоновой кости, которым манипулировал с той же бравадой, что и Франклин Рузвельт. Пантелеймон уверил нас, что, помимо всех других его добродетелей, мы можем ему доверять абсолютно как дворянину, служившему в кавалерии Его Императорского Величества. Более того, как объяснил Пантелеймон, он так стремится к обществу других джентльменов, что будет работать практически бесплатно. Он сообщил, что душа у него широкая даже для русского и от узости жизни, которую он вынужден вести в пролетарской среде, просто задыхается. Перед тем как он стал у нас работать, он приобрел право построить дом на участке, прилегающем к нашей даче, и построил для себя трехкомнатное бунгало. Когда мы спросили, как ему это удалось, он пояснил, что делал все своими руками.
Обратившись к нам в поисках работы, он сказал, что холостяк и всегда им был. Однако уже через четыре дня после его приезда мы обнаружили, что в пристройке живет пожилая женщина, которую позже стали называть бабушкой. Когда мы спросили, кем она ему приходится, Пантелеймон покрутил своим длинными седыми кавалерийскими усами и объяснил, что это старинная приятельница его семьи, пришедшая его навестить. Она все еще была у него в гостях пять лет спустя, когда из-за немцев мы покинули Москву.
Однажды мы пригласили старого немецкого генерала на конную прогулку, и пока Пантелеймон готовил лошадей, сказали ему, что конюх принимал участие в сражении под Танненбергом, которое было первым большим поражением царских армий в Первой мировой войне. Немец навострил уши и спросил, в какой русской дивизии он служил, потому что тоже сражался под Танненбергом.
— Его Императорского Величества пятой кавалерийской дивизии[131], - ответил Пантелеймон, размахивая своим мундштуком.
— Но как вам удалось оттуда выбраться? — спросил генерал. — Так уж случилось, что я знаю, что именно эта дивизия была почти полностью уничтожена или пленена.
— Сэр, — сказал Пантелеймон, набрав побольше воздуха в грудь и выпустив целое облако сигаретного дыма, — мой отец воспитывал меня для того, чтобы я стал жокеем.
Как только мы получили своих лошадей, мы тут же сумели убедить местные власти в том, что являемся коллективным хозяйством и, соответственно, имеем право покупать корм по низким государственным ценам. Власти вначале засомневались, но когда мы их спросили, слышали ли они о существовании частных конюшен в Советском Союзе, то они признались, что не могут представить себе такого феномена. Кроме того, мы предположили, что служба статистики сельского хозяйства Московской области попадет в забавную ситуацию, когда сообщит, что коллективизация в области составляет 99,6 процента. Покачав головами, они согласились с нашими доводами, и мы стали получать зерно по государственным ценам, как и любой другой колхоз. Эта система работала на протяжении нескольких лет, пока какие-то въедливые инспекторы не решили уточнить наш правовой статус и не обратились к юристам, изучившим все документы и в конце концов пришедшим к решению, что мы на самом деле являемся богатыми крестьянами или кулаками, сумевшими избежать ликвидации благодаря нашему дипломатическому иммунитету. А кулаки, вынесли они свой вердикт, могут покупать овес лишь на открытом рынке.
К тому времени дача стала центральным местом для встреч большинства дипломатов в Москве. На два дня в неделю мы открывали наш дом, и наши коллеги из половины стран мира стекались к нам, чтобы поиграть летом в теннис, зимой покататься на коньках или на лыжах. Чтобы позаботиться обо всех, нам понадобилось держать целый штат прислуги из восьмидесяти человек, а наш подвал демонстрировал завидный оборот. Для всего этого Дядя Сэм предоставлял нам солидную сумму в сто долларов в год «на представительские расходы». Это покрывало арендную плату за один месяц.
Поэтому, когда Трест по лошадиным кормам предложил нам отправиться покупать сено и овес на открытом рынке, где цены были в четыре раза выше государственных, это было ничем иным, как намерением ликвидировать нас вместе со всеми другими кулаками. Но спасение пришло от нескольких наших коллег. Британцы и немцы решили купить по половине лошади. Эта схема прекрасно работала до начала войны в 1939 году. Сразу после этого возник вопрос, кто какой половиной лошади владеет. Тот факт, что мы продавали навоз колхозу, лишь увеличивал разницу в цене между головной и хвостовой частями лошади. Неделями стороны так и этак жонглировали своими аргументами, при этом дело осложнялось тем, что немцы не могли разговаривать со своими бывшими английскими друзьями, а англичане следовали инструкции «кланяться, но не улыбаться» при встрече со своими коллегами-врагами. (Я всегда считал, что намного эффективнее улыбаться, но не кланяться, однако в Форин-офисе полагали правильным поступать наоборот.) Спор был разрешен, лишь когда я выдвинул ультиматум, что поскольку именно я осуществил продажу, то имею право решать, что лошадь делится пополам вдоль — от носа до кормы, а не по середине. И немцы, и британцы признали, что это вполне справедливо, и дела вернулись к своему обычному порядку, пока немцы не напали на русских в 1941 году. Стало ясно, что больше не придется ради удовольствия скакать по полям Страны Советов, и единственное, что можно сделать, так это как можно скорее избавиться от конюшни.
Я позвонил командующему кавалерией Красной армии маршалу Буденному и сказал, что в качестве жеста антигитлеровской солидарности я хочу передать своих лошадей Красной армии. Он тепло поблагодарил меня, но объяснил, что в Красной армии нет процедуры приема даров. Не готов ли я продать их? Я сказал, что очень разочарован, но потом вспомнил о балансе на своем банковском счете и согласился на компромисс. Через день или два на дачу явился офицер, чтобы оценить «конюшню». Прежде чем показать ему лошадей, я провел его в дом и угостил парой стаканчиков водки. Потребовалось немало времени, пока мы наконец сумели вывести его на конюшенный двор, но в конце концов он, качаясь, вышел из дома и остекленевшим взглядом уставился на трех лошадей. Без каких-либо сомнений он заявил, что Красная армия даст мне за них шестьсот долларов в рублях — это было почти в два раза больше, чем я сам за них изначально заплатил. В тот же день после обеда несколько солдат пришли за лошадьми. Грустно было смотреть, как они гарцуют в воротах в последний раз после стольких лет, но когда я посмотрел на сверток с рублями, оказавшийся в моей руке, то не мог не задаться вопросом, а сколько, собственно, лошадей офицер покупал у меня?
Но затем пришел час расплаты. Англичанин-полувладелец все еще находился в Москве, и я передал ему его часть прибыли, однако всех немцев уже интернировали и выпроводили, как только началась война. В 1950 году, когда я переместился в Германию, то однажды в ночном клубе в Дюссельдорфе наконец встретил своего давнего партнера. Когда я передал ему чек на сотню долларов, оказалось, что он уже совсем забыл о половине лошади, которую он оставил в Москве девять лет назад.
Колхоз, находившийся за полем напротив дачи, был, нашим по ощущениям, ближайшим соседом, потому что высокий деревянный забор совершенно закрыл нас от деревни рядом с нами. Перед нашим садом крутым обрывом начиналась небольшая заросшая кустарником долина. За ней местность опять повышалась, и там раскинулись колхозные поля. Налево от нас можно было видеть лес, протянувшийся на запад до самой дачи Сталина в шести милях от нашего дома[132]. Мы часто проезжали на лошадях через этот лес, но старались не приближаться к дому Сталина, потому что по каким-то причинам, как только мы оказывались неподалеку от него, маленькие, одетые в кожанки люди выступали из-за деревьев и требовали от нас предъявить документы. Боюсь, что мы причиняли этим небольшим людям большое беспокойство, потому что нашим стандартным ответом был вопрос: «А где ваши документы?»
Это их всегда раздражало, они начинали угрожать и настаивать на том, что нам нечего здесь делать.
— Хорошо, очевидно, вы из числа любознательных советских граждан, которые хотят взглянуть на документы, а раз так, то забирайтесь на дерево. Докажите ваше право смотреть на мои документы, и я буду только рад показать их вам.
В конечном счете они сдавались и показывали свои документы, и наша маленькая игра теряла смысл. Но позднее я стал брать с собой из дома целлофановую обложку для паспорта. В него я вкладывал свое дипломатическое удостоверение таким образом, чтобы фотография оказывалась внутри. Затем я взял почтовую карточку с товарищем Сталиным, сделанную много лет назад, когда его усы были еще большими, и вставил эту карточку лицом вверх за своим дипломатическим удостоверением. Каждый раз, когда я передавал обложку в руки маленькому человеку, тот внимательно читал удостоверение, затем торжественно переворачивал страницу, чтобы обнаружить сияющую физиономию Сталина, уставившуюся на него. Было всегда большим удовольствием наблюдать за их лицами в этот момент.
Но вернемся к колхозу на холме напротив. Наши отношения с ним с самого начала были превосходными. Со своей стороны, они продавали нам сено и солому, а мы им — наш навоз. Иногда мы приезжали к ним на праздники и присоединялись к их танцам и торжествам — обычно с парой бутылок водки в карманах, чтобы внести свой вклад в веселье. В их коллективе у нас появилось и несколько весьма особых друзей. Среди них был Петр, привозивший нам солому, и его дочь Анна, невысокая плотная краснолицая девушка лет двадцати, которая являлась комсомольским вожаком в колхозе и была единственным человеком, умевшим управлять трактором. Затем среди них был и сам председатель колхоза, который всегда хвастался сделанными им усовершенствованиями. Стоило им построить новый коровник, или навес для трактора, или погреб для свеклы, он обязательно настаивал, чтобы мы его осмотрели и восхитились. Мы мало что знали о тракторах и коровах и ровным счетом ничего не понимали в свекольных хранилищах, поэтому нам было довольно трудно сообразить, как надо отвечать, но, очевидно, наши «ох» и «ах» звучали достаточно хорошо, потому что он хотел их слышать снова и снова.
Однажды я проезжал по полям колхозной деревни, когда председатель заметил меня и подозвал. Я потрусил в его сторону.
— Карл Георгиевич, — прокричал он, — мы только что купили новую картофелесажалку, и она совершенно изумительная. Она делает работу за шестерых. Мы сейчас опробуем ее на поле за ручьем. Пойдемте со мной и посмотрим, как она работает.
Мы спустились к ручью и перешли на другую сторону, где уже собралось полдеревни, чтобы принять участие в великом испытании. Анна и какой-то мальчишка старательно пытались прицепить дышло новенькой красной картофелесажалки к трактору. На краю поля дюжина стариков сидела группой, пожевывая травинки и наблюдая за их действиями с очевидным удовольствием. Они были старожилами деревни, которые никогда не думали о коллективе и еще меньше об инновациях, которые здесь пытались осуществить. Но они ничего не могли поделать со всем этим, кроме как посмеиваться и выполнять какие-то небольшие работы по своим возможностям.
Наконец картофелесажалка была прицеплена к трактору с помощью куска старой веревки и троса. Анна села на трактор, и кто-то взялся крутить заводную ручку. Но по какой-то причине трактор никак не заводился до тех пор, пока мальчишка не потряс карбюратор и бензин стал в него поступать. Когда мальчик устал и перестал трясти, двигатель заглох, поэтому мальчик опять забрался Анне под ноги, распростерся на раме и вознамерился стать постоянной частью всего механизма. Анна включила передачу, дала газу и резко тронулась — но задом. Прежде чем она смогла остановиться, картофелесажалка оказалась в канаве, и дышло аккуратно разломилось надвое. После довольно долгого обсуждения, в которое старики внесли свой вклад резкими высказываниями по поводу коллективизации в целом и относительно машин в частности, они наконец сумели закрепить сломанное дышло и еще через полчаса были готовы к движению.
Но к тому времени соединительный болт на гусенице трактора расшатался настолько, что еще одному юноше с молотком пришлось трусить рядом с трактором, чтобы каждый раз, как этот болт совершал круг, бить по нему молотком и ставить на место.
Когда все наконец было готово, Анна теперь уже более внимательно включила передачу, и на сей раз трактор с рычанием двинулся по полю, волоча за собой подпрыгивающую картофелесажалку.
— Удивительно, не правда ли? — сказал председатель, который наблюдал за всеми приготовлениями, стоя возле моей лошади. — Удивительно, как одна машина делает работу стольких людей.
А потом один из стариков, сидевших и посмеивавшихся над колхозниками, пошел в поле и начал ковыряться в борозде после сажалки.
— Это отличная сажалка, — прокричал он своим дружкам, — и я полюблю ее еще больше, если она станет сажать.
Озадаченная молодежь тоже стала рыться в поле, но никто так и не смог найти посаженные клубни.
К этому времени Анна повернула и уже грохотала в сторону стартовой площадки. Когда она остановилась, начался новый этап обсуждения и проверка заняла еще полчаса, пока наконец не было решено, что клубни картофеля оказались больше, чем отверстия, сквозь которые они должны были сыпаться из картофелесажалки.
— Хорошо, нам надо только протолкнуть их, — сказала Анна. И через несколько минут еще три женщины, вооруженные метлами, уселись на картофелесажалку и, используя метлы как поршни, смогли заставить картофелины двигаться в нужном направлении.
— Удивительно, — сказал председатель уже в десятый раз, — и подумать только, она делает работу за шестерых.
Мальчик под ногами у Анны тряс карбюратор. Юноша с молотком, задыхаясь, бежал рядом с гусеницей, периодически поправляя грозивший вывалиться болт. Три пожилых женщины тыкали своими метлами, но Анна сияла от гордости. Их действительно было шестеро.
Глава 10 ОХОТА А ЛЯ РЮСС
До того как революция ликвидировала высшие классы и уничтожила привилегии, охота была одним из самых любимых видов спорта в России. И после того, как право носить огнестрельное оружие осталось лишь у полиции, армии и горстки тех, кто ранее сам был лишен привилегий, действующих охотников оказалось совсем немного.
Тем не менее, раз уж мы освоились здесь, то в посольстве, несмотря на все препятствия, смогли найти пути и способы выбираться в деревню, чтобы пострелять. Нельзя сказать, чтобы я вообще стремился наносить вред. На самом деле мои товарищи по охоте пришли к общему выводу, что я — лучший друг всех пернатых.
Некоторые из моих сотоварищей были намного более успешны, чем я, но и мое ружье время от времени било и куропатку, и фазана. Но независимо от того, стреляю я при этом в кого-нибудь или нет, я считаю, что после дня, проведенного в стремлении «наладить дела с этими русскими», мало что сравнится с удовольствием от вечера, когда ты сидишь в березовом лесу на закате и ждешь, как в красной и золотой листве засвистит вальдшнеп.
Такие экспедиции имели двойную цель. В самой Москве мы были настолько отрезаны от местного населения, что нам редко выпадал шанс узнать, «о чем думают русские массы». В то время как в деревне крестьяне проявляли меньшую ограниченность и откровеннее говорили о своих бедах. Я, конечно, не претендую на то, что это было наиболее научным способом проверки общественного мнения, но лучшим из тех, которыми мы могли воспользоваться. И если Гэллап посмеется над нашими любительскими усилиями, мне придется вспомнить о ноябре 1948 года и вернуть насмешку обратно[133].
Иногда мы доезжали даже до Кавказа в поисках хорошей охоты и возможности сообщить новости о состоянии общественного мнения. Однажды Чип Болен и я направились в экспедицию в Баку. Вдруг мы узнали, что в одном поезде с нами едет генерал Буденный, начальник всей Красной кавалерии. На перроне вокзала Буденный приветствовал нас довольно сдержанно, но когда мы уже были в пути и оказались вне взоров людей в штатском, старый генерал стал намного дружелюбнее.
Поезда в России не очень уж быстры, и к вечеру второго дня мы еще только подъезжали к Ростову. Мы с Чипом ужинали и читали в своем купе, когда открылась дверь и нам явились невероятные усы Буденного.
— Нет ли у вас того американского вина, которым вы угощали меня в посольстве? — спросил он.
— Американское вино? Мы не подаем никакого вина, я думаю. Как оно выглядело?
— Оно было такое коричневое, — объяснял Буденный, — и довольно крепкое. Выст… высти? Выски — да, это оно. Вы называете его выски.
— Виски! Ну, конечно! У нас его довольно. Не хотите ли выпить?
— Не сейчас. Мы скоро прибудем в Ростов, и мне надо прямо на перроне произнести речь перед некоторыми товарищами. Но после Ростова я приду.
Это, должно быть, была довольно длинная речь, потому что поезд простоял в Ростове целый час и было уже десять часов, когда усы Буденного снова появились у нас в дверях.
— Теперь я свободен. До завтрашнего утра делать нечего, пока мы не приедем на узловую станцию в Нальчике. Там мы встречаемся со Сталиным и отправляемся поохотиться на кабанов.
Он сидел между нами, наливая по полному стакану чистого шотландского скотча, выпивая его одним махом и удовлетворенно крякая. Он положил свои руки на наши плечи и говорил, что все американцы замечательные, и поцеловал каждого из нас в щеку смачным влажным поцелуем, при этом его роскошные усы жутко щекотали нам уши, когда он так восторженно обнимал нас.
И тут мы принялись пить всерьез. Одна беда — у нас не было питьевой воды — да и вообще какой-либо воды во всем поезде. По предложению Буденного мы купили на следующей станции арбуз, сделали в нем дырку, влили в него кварту виски и пили ту смесь, которая из арбуза вытекала. Не могу сказать, что это улучшило вкус чистого виски, но по крайней мере чуть его разбавило.
Через каких-то тринадцать часов с двумя из пяти кварт виски, имевшихся в наших запасах, было покончено, но Буденный все еще был вполне крепок, когда пришел кондуктор и напомнил ему, что через десять минут поезд прибывает на узловую станцию Нальчик. Буденный выпил напоследок стаканчик «американского вина» и собрался уходить.
— Меня может прийти встречать Сталин, и я не хочу, чтобы он застал меня пьяным и в неподобающем виде в компании молодых американцев, — объяснился он перед тем как скрыться в своем купе.
Когда поезд прибыл на станцию, он явился свежевыбритым, причесанным и выглядел так, словно только что проснулся и прекрасно выспался. Единственное, на что мы с Чипом были способны, так это проковылять на перрон, чтобы попрощаться. Затем мы завалились на свои койки и спали до обеда следующего дня, когда нас разбудили и сказали, что мы приехали в Баку.
В следующий раз, когда я увидел Буденного в Москве, я спросил его, как он тогда провел первый день своего отпуска.
— Убил пять кабанов, — лаконично ответил он. — К тому же здоровенных.
Охота в Баку оказалась не такой, как мы рассчитывали, но местное гостеприимство вышло далеко за обычные рамки. Мы отправились на поезде в Дагестан, где горы Северного Кавказа упираются в Каспийское море. Но фазаны, видимо, получили сообщение о наших планах и исчезли. Затем мы поехали пострелять уток в болотах недалеко от Баку. Какие-то утки там были, но их было не так много, чтобы они могли занять нас надолго. Итак, мы, в конце концов, снарядили экспедицию на газелей[134] в пустыне по обеим берегам реки Куры. Наш гостеприимный хозяин, товарищ Бабаев, был начальником местного «Интуриста» и получил приказ из Москвы занять нас: то был 1934 год, и медовый месяц советско-американских отношений еще продолжался, и для нас ничего не жалели, даже если это было дорого. Бабаев был человеком, полным великих идей, и страстным стрелком. Все, что он делал, он делал с размахом. Фактически вскоре после нашего визита мы узнали, что он продал новый отель «Интуриста» в Баку профсоюзу рабочих-нефтяников в качестве здания для клуба, а деньги присвоил. Я так понимаю, что это была его последняя великая идея. В сибирских соляных копях деньги не нужны.
Если не считать привычки транжирить деньги, Бабаев считался хорошим партийцем. Но он не давал марксистской идеологии проникать в область своего личного комфорта. Отель «Интуриста» управлялся преимущественно таким образом, чтобы удовлетворять потребностям своего хозяина. Меню соответствовало его вкусу. Часы приема пищи были установлены на то время, когда у него просыпался аппетит, а комнаты распределялись так, чтобы в его распоряжении был номер для новобрачных. У Бабаева имелся и личный телохранитель, Каркадаев, мускулистый, смуглый грузин, не очень умный, но преданный. Каркадаев носил ружье Бабаева, накрывал ему на стол, смешивал ему напитки и даже чистил его обувь вечером после охоты.
Поэтому мы совсем не удивились, когда, встав рано утром, чтобы отправиться на охоту на газелей, мы обнаружили, что Бабаев заказал грузовик для сопровождения нашего открытого «форда» и для того, чтобы везти для нас еду, снаряжение для лагеря и пиво. Не считая водителя, нас в машине было четверо: Бабаев, Каркадаев, Чип и я. Дорога шла на юг вдоль берега Каспия. Местность была сухой и песчаной, и через час езды солнце и ослепительный блеск пустыни вызвали у нас жажду, было очень жарко. На обочине дороги сидел мальчик, и когда мы проезжали мимо него, он помахал нам связкой каких-то красных предметов.
— Это раки, — прокричал Бабаев. — Каркадаев, возьми для каждого из нас по связке и смотри, чтобы все они были самками — они нежнее.
Местные раки оказались чем-то средним между нашими американскими и креветками. Их отварили в соленой каспийской воде, и хотя они оказались очень вкусными, нашей жажды они не утолили. Но Бабаев и это заметил. Он забрался в грузовик и вытянул что-то оттуда.
— Кувшин пива, быстро, — выкрикнул он.
Кувшин с пенистым напитком обошел всех нас, и мы поехали дальше.
Но одного кувшина на четырех томящихся от жажды мужчин хватило ненадолго. Бабаев снова нырнул в грузовик. Водитель замедлил ход, пока мы наполняли кувшин пивом, и мы опять продолжили путь. Прежде чем мы добрались до места охоты, мы несколько раз останавливались, чтобы поесть раков, и еще чаще замедляли ход, чтобы восполнить потери пивного кувшина.
Бабаев, сидевший спереди, пока мы ехали, объяснял, как следует стрелять газелей с машины.
— Вы их не выследите, — объяснял он. — И они бегают слишком быстро, чтобы их можно было достать каким-то иным способом.
Охота с машины не совсем соответствовала нашим представлениям о спорте, но мы подумали, что один раз все стоит испробовать.
— Единственная трудность состоит в том, что нужно предельно внимательно относиться к правилам и соблюдать их. Иначе кого-то можно и застрелить, — продолжал объяснение Бабаев. — Важно, чтобы стрельба велась одномоментно только одним стрелком. Когда мы окажемся на расстоянии выстрела, я встану, сделаю один выстрел и сяду. Затем другой человек за мной встанет, выстрелит и сядет, потом встанет сидящий в середине заднего сиденья, и наконец, встанет и будет стрелять тот, кто находится возле водителя. Теперь запомните: не делать больше одного выстрела, соблюдать очередность и не стрелять вперед. Вы можете попасть в мотор.
Мы кружили по пустыне минут десять, когда заметили впереди белое пятнышко, скакавшее вверх и вниз. Бабаев показал на него водителю, и через мгновенье мы уже летели по пескам со скоростью семьдесят миль в час. Внезапно прямо перед нами возник глубокий овраг. Водитель, специалист по этой игре, крутанул машину в сторону, и нас занесло вниз по склону. Оказавшись внизу, он выжал педаль акселератора, и мы по диагонали выбрались обратно на поверхность. Через несколько минут мы гнались за несчастной газелью. Она бежала зигзагами, поворачивала и убегала во всю прыть, но, в конце концов, мы поравнялись с ней, и Бабаев убил ее одним выстрелом. За секунду Какадаев подхватил мертвое животное и перерезал ему горло длинным острым ножом, который достал из своего кармана.
— Мусульманский закон, — объяснил Бабаев. — Нельзя есть мясо животного, кровь которого не вытекла через перерезанное горло.
Чип и я обменялись улыбками. Разве мы не слышали о том, что религия — опиум для народа? Очевидно, в Баку все еще осталось несколько необращенных в ленинизм.
Несколько минут спустя мы снова ехали. За полчаса мы не увидели ничего, кроме сверкающих на жаре волн пустыни и слепящего солнца в чистом желтом небе. Затем вдруг целая масса белых пятнышек запрыгала перед нами. Водитель выжал акселератор, и мы снова погнали. Это была уже не одна бедняжка газель, а стадо из тридцати или сорока голов.
Именно это и стало главной причиной возникшей проблемы — это, да еще пиво, которое Бабаев вез «зайцем».
Когда мы поравнялись, Бабаев встал и выстрелил. Я был следующим, согласно его описанию правил. Я поднялся, направил ствол и уже изготовился стрелять, как понял, что объект передо мной — совсем не стадо газелей, а затылок Бабаева.
— Эй, сядь, — закричал я, но, наверное, газелей было слишком много для этих правил, и Бабаев выстрелил снова. Я высунулся поверх его головы и выстрелил. В это время Каркадаев за мной положил ствол своего ружья на мое плечо и выстрелил тоже. К тому времени Чип, вероятно, начал ощущать себя потерянным. Я услышал его крик:
— Пригнись, черт возьми, я буду стрелять.
Только я успел спрятать свою голову, как заряд картечи просвистел надо мной.
В течение следующих десяти минут наш «форд» превратился в карманный линкор, палящий с обоих бортов и во всех направлениях. В какой-то момент я заметил наш грузовик, тщетно старавшийся убраться от огня подальше. Я слышал, как звякали попадавшие в него дробинки, но, очевидно, ни одна из них не причинила вреда.
В конце концов наши заряды кончились, и ружья надо было перезарядить. Вокруг нас в пустыне лежало полдюжины газелей, и еще четыре или пять были ранены и стояли неподалеку в ожидании нашего милосердия. Наши собственные потери не были серьезными. Слетела крышка радиатора, и проколото одно из колес грузовика, но кроме этого, все остальное вроде было в порядке.
— Видите теперь, как это происходит, — Бабаев объяснял с некоторой напыщенностью. — Если вы следуете правилам и соблюдаете очередность, никто не пострадает.
На протяжении тех лет, что я был в Москве, нами руководило несколько послов, но только один из них, Лоуренс Стейнхардт[135], оказался любителем охоты. Но брать с собой посла на охоту означало одно небольшое осложнение — приходилось вместе с ним брать трех или четырех парней из ГПУ тоже.
Каждого посла в Москве, исключая, конечно, Тана Тувана из Внешней Монголии[136], всегда, куда бы он ни шел, сопровождала команда подтянутых парней из ГПУ, одетых в синие двубортные саржевые костюмы. Хотя они постоянно перемещались от одного посольства к другому, это были почти всегда одни и те же люди, и за семь лет я узнал их достаточно хорошо. Странно было только, что с официальной точки зрения их просто не существовало. Так, советский Наркомат иностранных дел выразил энергичный протест, когда эта история попала на страницы одного американского журнала, процитировавшего нашего посла, который сказал, что парни из ГПУ, следовавшие за ним, не создавали ему каких-то больших неудобств.
— Никакие парни из ГПУ не сопровождают вашего посла, — было сказано нам.
— Но кто тогда эти люди, которые находились вокруг нашего босса на протяжении последних десяти лет? — спросили мы.
— Об этом Советское правительство не имеет ни малейшего представления — кроме уверенности в том, что они не являются агентами ГПУ, — упрямо повторял Наркомат иностранных дел.
— Возможно, они просто любознательные советские граждане, — добавили они. С тех пор «парней» в посольстве именовали просто «любознательные советские граждане».
Однако когда вы отправляетесь на охоту вместе с послом, то это означает, что существуют ли такие граждане или нет официально, но они занимают пространство, они едят и им нужны кровати, чтобы спать.
Однажды все-таки Наркомат иностранных дел соблаговолил-таки организовать лосиную охоту для посла Стейнхардта.
Когда нас спросили, сколько человек будет в команде, мы ответили:
— Наших будет только двое, но не забудьте о жилье для ваших четырех любознательных граждан.
— Мы сделаем все необходимые приготовления для того числа участников, которое вы сочтете нужным, — раздраженно ответили нам. — Только скажите, сколько из вас будет на охоте.
— Только двое наших и четверо парней из ГПУ, — повторил я.
— То есть вы имеете в виду, что вас будет только двое, — ответили они.
— Нет, — повторил я, — всего будет шестеро.
Когда мы приехали в охотничье хозяйство, там были приготовлены кровати для шестерых. Четыре из них предположительно были несуществующими, но вполне подходили любопытным гражданам.
Некоторые из этих парней ненавидели стрельбу и так ворчали на это, что я взял за правило предварительно давать им подсказки, с тем чтобы они сумели поменять смены и устранить тех, кто не был охотником. Это было легко сделать. Пока посол работал в своем кабинете, я просто шел погулять на улицу и просовывал свою голову в окно маленького «форда», припаркованного в нескольких футах от посольства.
— Едем на охоту завтра, — объявлял я. — Берите свои ружья, но оставьте Сашу. Он слишком много жалуется.
Они смеялись и благодарили меня, и этого было достаточно.
Но в тот день, когда мы отправились на лосиную охоту, что-то пошло не так с нашими договоренностями, и Саша поехал с нами.
Это было довольно долгая поездка в лосиный заказник, и только поздно вечером мы добрались до охотничьего домика и водворились в две маленькие комнаты. После того как мы поели и пропустили по паре рюмок водки, выяснилось, что ребята из ГПУ взяли с собой патроны на птицу, а не солидные заряды на лося, которого предстояло убить.
Поэтому, как только мы кончили есть, я вытащил несколько запасных зарядов, и мы принялись перезаряжать снаряжение парней. Вообще, это создает особый род забавных ощущений, когда ты осознаешь, что сидишь за одним столом с агентами советской тайной полиции и заряжаешь им оружие. Я думаю, что они в какой-то мере чувствовали это.
Саша, как всегда, начал ворчать, ругая холод и то, что домик не был как следует протоплен. Это раздражает, когда один из ваших гостей, тем более незваных, жалуется на гостеприимство. Поэтому я сказал:
— Саша, а какого черта ты все время бурчишь? В Москве полно парней, которые бы отдали что угодно за шанс оказаться на лосиной охоте.
Саша проворчал:
— Эх! Да я всю жизнь в Москве трачу на преследование двуногих зверей, и когда отправляемся на короткую экскурсию за город, то что мы делаем? Преследуем четвероногих зверей!
Саша мало стрелял во время этой поездки. В первый день мы вообще никого не встретили, и посол, и Саша обморозили ноги настолько сильно, что вынуждены были на следующий день остаться дома.
На второй день загонщики обнаружили стадо лосей и погнали их к линии охотников, теперь состоявшей из меня и троих парней. Лоси, очевидно, не слишком высоко стоят в рейтинге по IQ среди животных. Кроме всего прочего, они плохо видят, не обладают нюхом и глухие к тому же, насколько я могу судить. Так или иначе, но крупный лось-самец внезапно появился из кустов напротив номера, где я стоял, и пошел прямо на меня. Это был конец сезона, и многие лоси уже сбросили рога — включая того быка, который приближался ко мне. Вначале я решил быть хорошим спортсменом и дать ему уйти, но вдруг до меня дошло, что если мы не убьем никакого лося, то в Кремле могут решить ликвидировать в области всех лосей, которые сбросили свои рога прежде, чем этого от них ожидали.
Пока я прокручивал эту проблему в своей голове, слепоглухонемой бык продолжал двигаться ко мне. Он выглядел таким большим и устрашающим, но все-таки меня посетила мысль, что если я вернусь в Москву с пустыми руками, но помятым и окровавленным, а единственным моим объяснением станет уверение, что по мне промчался лось, то выглядеть я буду довольно глупо. К этому моменту несчастный зверь был уже в пятнадцати футах от меня и невозмутимо шел вперед. И я поднял мое ружье и выстрелил. Когда он рухнул, его передняя нога попала в снежный окопчик, в котором я стоял.
Глава 11 МЕДВЕДИ В БАЛЬНОМ ЗАЛЕ
В начале тридцатых и почти до самого периода репрессий 1937–1938 годов «Интурист» весьма живо вел дела с американцами, приезжавшими в поисках приключений, райских кущ или эмансипации. За эмансипацией ехали чаще всего женщины, начитавшиеся книжек о свободной любви в России. Но они приезжали и для того, чтобы посмотреть, как работают клиника абортов (закрыта в 1936-м), музеи Кремля (закрыт для посторонних с 1937-го) и университет (закрыт для большинства иностранцев в 1938-м). Были и профессора, приезжавшие изучать новую экономику планирования; аграрники, которые желали увидеть, как функционирует система коллективных хозяйств; инженеры, мечтавшие посмотреть на знаменитую новую подземку. Но обычно это все-таки были туристы, которые хотели посмотреть, как дела здесь идут в целом, чтобы иметь право сказать друзьям, что они побывали в России.
Одна из них, миссис Нед Маклин из Вашингтона, приехала на спор, что будет носить «Алмаз Хоупа», прогуливаясь по улицам Москвы[137]. Когда мы ей объяснили, что для «Алмаза Хоупа» в России существует сравнительно небольшой рынок и поэтому маловероятно, что его украдут, то вся новизна трюка для нее пропала разом, и она оставила алмаз в номере отеля. (Лишь для подстраховки мы тем не менее позвонили в «Интурист» и попросили установить в холле гостиницы напротив номера миссис Маклин дежурство пары детективов.)
Норман Томас[138] и его жена приехали, чтобы наглядно увидеть разницу между социализмом и коммунизмом. Им было весело друг с другом даже тогда, когда мы застряли в грязи около одного колхоза и им пришлось вылезти из моей машины, чтобы ее подтолкнуть. Единственный раз в жизни меня выталкивал из грязи кандидат в президенты, и я боюсь, что чета Томасов была так же беспомощна в своей попытке вытащить меня из трясины, как и в том, чтобы попасть в Белый дом. Но они были прекрасными спортсменами, и нам всегда нравились их визиты.
Был еще Лоуренс Тиббетт[139], приехавший, чтобы услышать, как поют при Советах. Тиббетта и его жену мы взяли с собой на пикник в такое место, откуда открывался прекрасный вид на всю долину Москвы-реки — недалеко от нашего места для игры в поло. После ужина мы сидели возле костра и говорили о социалистическом эксперименте и его влиянии на оперный бизнес. Внизу под нами в долине паслись несколько овечьих стад. Когда стало смеркаться, пастухи начали перекликаться песнями. Поскольку они расположились довольно далеко друг от друга, то пели по очереди, по одной строчке или куплету. Послушав их несколько минут, Тиббетт присоединился к этому хору, ведя свою партию на самых верхах своего голоса. Крестьяне, должно быть, были немного озадачены незнакомым голосом, и мало-помалу их собственные голоса стали звучать все ближе и ближе к нам. Затем пение прекратилось, и мы услышали, как кто-то карабкается по крутому откосу под нами. Через несколько мгновений сотня любознательных, робких овечьих мордочек неуверенно появилась в свете костра. А за ними пришли и пастухи со своими собаками и уселись у костра возле нас.
— Кто из вас нам подпевал? — спросил один из них.
Тиббетт признался.
— У вас от природы хороший голос, — сказали они ему, — но вам надо поупражняться.
Через переводчика Тиббетт спросил, а не могут ли они дать ему какие-нибудь наставления. Они быстро согласились и через несколько минут уже учили его старинным русским крестьянским песням. Довольно быстро Тиббетт подхватил мелодию и стал петь так же страстно, как и любой из пастухов.
— Он легко учится, — прошептал мне на ухо один из пастухов. — Если он захочет чуть-чуть потрудиться, то из его голоса что-нибудь да выйдет.
Было далеко за полночь, и овцы уже давно сбились в плотный круг по краям пространства, освещенного пламенем костра, когда Тиббетт все-таки решил, что уроков пения для этого дня уже достаточно. Мы затоптали костер, а пастухи приподняли на прощанье свои маленькие круглые шапки и отправились обратно в темноту, сопровождаемые своими полусонными стадами.
Сезон общественной жизни для дипломатов в Москве длился с ранней осени и до поздней весны, при том что летом устраивалось лишь несколько приемов и только для того, чтобы что-нибудь да происходило. В первый раз американцев втянули в некое подобие общественной круговерти вскоре после приезда посла Буллита. Он побывал в других посольствах на целой череде суаре, концертов, танцевальных вечеров и не был особенно впечатлен оригинальностью развлечений. Поэтому, когда он уехал в Вашингтон на консультации в конце зимы 1934/1935 года, он оставил нам инструкции, что на третий день после своего возвращения хочет устроить прием, который превзойдет все, что Москва когда-либо видела как до, так и после революции.
— Я тебя совершенно ни в чем не ограничиваю[140], смотри только, чтобы это было здорово и необычно!
После своего эксперимента с морскими львами я немного побаивался иметь дело с животными, но Ирена Уайли, жена советника, настаивала, что животные должны, по крайней мере, присутствовать на приеме. Ни одно посольство никогда не позволяло себе большего развлечения, чем пригласить тенора. И наши заказы должны быть иными.
— Давай раздобудем каких-нибудь животных с фермы и создадим миниатюрный скотный двор в углу бального зала. Мы назовем все это «Весенним фестивалем», — я знал, что с ней лучше не спорить.
Затея выглядела очень просто. Всего-то нужно было несколько ягнят и чуть-чуть полевых цветов и несколько маленьких березок в горшках. Но мы не подумали о погоде. За две недели до дня, на который был назначен прием, погода все еще оставалась холодной и скверной, а в лесах по колено лежал снег. Ни березки, ни цветы даже не думали распускаться. Кроме всего прочего, начались проблемы с овечками. Колхоз согласился дать несколько овечек в аренду, но когда мы попытались провести костюмированную репетицию, оказалось, что овечий запах слишком силен для любого бального зала. Мы пытались их мыть, купать в дезинфицирующем растворе, опрыскивать духами, но все было тщетно. Тогда мы попробовали молоденьких козочек. К нашему удивлению, с ними дело пошло лучше, но все равно в зале от одного их присутствия атмосфера становилась тяжелой. Мы отправились к нашему старому другу директору зоопарка. Нас сей раз он был более дружелюбным и уже не так нервничал, имея дело с иностранцами. Он предложил горных козочек.
— Они меньше пахнут, чем всякие домашние козы, и это может быть чем-то новеньким.
Мы одолжили у него полдюжины юных горных козочек и огородили для них миниатюрный скотный дворик на платформе у начала буфетного стола.
Однако Ирена посчитала, что одних горных козочек не хватит. Что за скотный двор без петухов! Она пояснила, что птиц надо рассадить по стеклянным клеткам вдоль стен обеденного зала. Но в Москве совершенно отсутствовали настолько большие стеклянные клетки, чтобы в них поместились петухи. Мы повытаскивали стекла из полок для полотенец, стоявших в комнатах сотрудников посольства, произведя при этом небольшую, но впечатляющую революцию, и дали задание плотнику сделать клетки. Владельцам полок мы пообещали, что если все пройдет хорошо, они получат свои стекла обратно. (И на самом деле все стекла, кроме одного или двух, вернулись к хозяевам.)
Но даже дюжина белых петухов все-таки не удовлетворила Ирену. «Одно маленькое дикое животное большого вреда не принесет, — доказывала она. — Медвежонок, например».
Итак, мы получили медвежонка в зоопарке и построили для него небольшой настил, установив на нем часть ствола дерева, чтобы он мог на нем спать. Директор зоопарка неохотно передал нам его, но настоял, чтобы на приеме рядом с ним находилась специально обученная сотрудница зоопарка. Помня о дрессировщике морских львов, я попросил прислать трезвенницу, и он мне это пообещал.
Но все это не решало проблемы с опозданием весны. До бала оставалось только десять дней, и по всей Московской области не распустилась ни одна почка. Кто-то из наших сообразил, что на юге может быть потеплее. Мы заказали самолет и дали пилоту задание слетать в Крым и привезти любые цветы, какие он сможет найти. На следующий день из Ялты от него пришла телеграмма:
«И здесь весна опаздывает».
— Попробуйте на Кавказе, — ответили мы ему. Через два дня он вернулся в Москву с новостью, что в Тифлисе холоднее, чем в Москве.
Двумя главными проблемами стали березовые леса в бальном зале и зеленый луг, которые мы планировали создать на столе в столовой. Для этого уже построили специальный стол. В нем было десять ярдов длины и полтора ярда ширины. Через каждые два или три фута мы устроили лотки, пересекавшие стол на всю ширину. В эти лотки мы планировали поместить цветы, но цветов не нашлось. Между лотками должны были стоять буфетные блюда, на которые мы собирались выложить траву; но и травы не было. Бальный зал должен был быть заполнен полевыми цветами: но никаких полевых цветов тоже не было.
И когда наша нервозность достигла предела, к нам явился спаситель — режиссер Камерного театра[141]. Не надо никаких цветов вообще. Мы можем нарисовать их на стекле и проецировать на белые мраморные стены.
— Но это слишком холодно и мертвенно, — не соглашалась Ирена.
— Мы можем сделать их повеселее за счет птичек, — предложил режиссер.
— Еще больше дикой живой природы? — спросил я с сомнением. Но делать было нечего. Мы наняли одного свободного художника, чтобы он нарисовал цветы, и договорились с Камерным театром, чтобы в вечер нашего приема они не давали спектакля, и тогда мы могли использовать их проекторы.
Некоторой проблемой были птички, пока кому-то не пришло в голову купить рыбацкую сеть, позолотить ее и натянуть между двумя большими колоннами над бальным залом. Мы попробовали, и оказалось, что это возможно. Я опять пошел к директору зоопарка и попросил у него несколько золотых фазанов, длиннохвостых попугаев и любых других пернатых, которые у него есть в достаточном количестве. Он предложил сотню зебровых амадин (ткачиков)[142].
— Они небольшие птички, но очень симпатичные, — объяснил он.
Они действительно оказались симпатичными и маленькими — даже слишком маленькими, как оказалось, для ячеек рыбацкой сети.
Но трава на столе и цветы для буфета все равно ставили нас в тупик до тех пор, пока мы не обратились за помощью на отделение ботаники биологического факультета университета.
— Ну, это просто, — ответили там. — Вы можете вырастить полевой цикорий на мокром войлоке. У вас будет великолепный луг. А что касается березового леса, так выкопайте несколько деревцев, поместите их в теплую комнату на несколько дней, и они начнут зеленеть.
Мы покрыли пол нашего внутреннего дворика мокрым войлоком, заполнили туалет дюжиной десятифутовых березок и стали ждать. Ботаники оказались правы, и за день или два до дня «Д» трава выросла, деревья распустились, а мы все смогли, наконец, вздохнуть от облегчения. Все, что нам оставалось сделать, — это раздобыть цветы на стол буфета. Мы послали курьера в Хельсинки, город достаточно капиталистический, чтобы иметь оранжереи для буржуазии, и он нам привез тысячу тюльпанов. Только вот курьер не очень правильно понял приказ и вместо того, чтобы привезти тюльпаны в горшках, доставил срезанные цветы. Но мы поместили их в прохладную кладовку, и они простояли до окончания приема.
Для развлечения мы пригласили чешский джаз-банд, который в это время приехал в Москву, и цыганский оркестр вместе с танцорами. Эти последние разместились в моей спальне на нижнем этаже, в результате чего она стала похожей на цыганский табор. На втором этаже мы создали кавказский шашлычный ресторан, где играл грузинский оркестр и выступал грузинский танцор с саблями. Идея с кавказским рестораном пришла на ум в последний момент, и выкрашенная для него в зеленый цвет садовая мебель не успела просохнуть. В результате зеленые полоски были видны на костюмах членов дипломатического корпуса еще месяцы спустя. А на лицах некоторой части их обладателей в отношении меня вполне четко проступала некоторая холодность.
Когда наступил Большой вечер, посол Буллит стоял в ожидании гостей под люстрой в главном бальном зале. Немалое раздражение у него вызвало то, что к нему в этот момент присоединился один из ткачиков, сумевший пролезть сквозь рыболовную сеть. Когда я прибыл на сцену действия, Буллит и советник Уайли, находясь при полном параде — в белых бабочках, фраках и белых перчатках, гонялись за ткачиком по бальному залу в тщетной попытке его окружить.
Среди первых прибывших гостей был нарком по иностранным делам Литвинов с супругой Айви[143]. Стоило Айви бросить взгляд на сценку скотного двора в столовой, как она тут же решила, что это колхоз. Мы попытались объяснить, что это совершенно ординарный капиталистический скотный двор, но не убедили ее, и чтобы доказать нам свою правоту, она экспроприировала одну из козочек и весь вечер продержала ее на коленях.
Всего собралось около пятисот человек, включая членов дипломатического корпуса; присутствовали большинство членов Политбюро, включая Ворошилова, Кагановича[144] и Бухарина[145]; ведущие генералы Красной армии, включая Егорова; начальник Штаба Тухачевский, казненный два года спустя по решению военного суда с участием Егорова, который сам был расстрелян годом позже. Здесь был и вечный старик Буденный, сумевший быть в составе суда и над Егоровым, и над Тухачевским и все еще остаться в живых[146]. Здесь был и ведущий советский публицист Радек[147] (ликвидированный два года спустя) со своими странными пушистыми бакенбардами, аккуратно выбритыми по краям скул. Фактически, кроме Сталина, здесь собрались все, кто что-то значил в Москве.
После того как все гости прибыли, лампы в бальном зале были выключены, и рисунки цветов через проектор появились на стенах, а на высоком потолке зала зажглась яркая луна, окруженная россыпью небесных созвездий. Это было сделанное в последний момент добавление, почерпнутое из фонда ярких идей режиссера Камерного театра.
Поскольку приближалось время ужина, я решил бросить последний взгляд на моих петухов в клетках со стеклами из шкафчиков для ванных комнат, обрамлявших стены столовой. Клетки все еще были укрыты покрывалами в надежде, что когда покрытие будет снято и лампы в столовой вновь зажгутся, они могут решить, будто взошла заря. Когда я наконец получил сигнал от посла и шеф-повара, что все готово, то только один из двенадцати петухов оказался обманутым нашей уловкой, но зато он стал так громко кукарекать, что его было слышно в доме повсюду. Однако все это замечательное представление было несколько испорчено другим петухом, который посчитал, что сидеть в стеклянной клетке на посольском банкете — чертова бессмыслица. Он сумел выбить дно своей клетки и как-то неловко перелетел на блюдо с фуа-гра, который специально прислали из Страсбурга по этому случаю.
Весь вечер я был по горло занят установлением надлежащих отношений между шеф-поваром-кондитером и шеф-поваром по мясным блюдам по поводу того, кто какой плитой распоряжается, а также следил за тем, чтобы вина несли в верном направлении: из винного погреба в столовую, а не в шоферскую комнату. Поэтому я пропустил тот момент, когда Радек обнаружил, что медвежонок забрался ему на спину с бутылкой молока в лапах. Радек отнял у малыша молоко, натянул соску на бутылку с шампанским и сунул ее медвежонку в лапы. Медведь успел сделать два или три глубоких глотка «Мумм Кордон Руж», прежде чем обнаружил свою ошибку и швырнул бутылку на пол. Радек к этому времени куда-то запропастился, и за дело взялся начальник Штаба армии Егоров, заметивший, насколько расстроен мишка. Он взял его на руки и устроил его себе на плечо, как делают с младенцами, когда тем нужно срыгнуть после еды. Но, наверное, он сделал это чересчур хорошо, потому что медвежонок действительно срыгнул на его новый с иголочки и увешанный орденами и орденскими планками китель!
О том, что происходит, я узнал лишь когда услышал настоящий генеральский рык. К тому моменту, как я появился на сцене, полдюжины официантов при помощи носовых платков и чашек для ополаскивания рук уже промокали и вытирали генерала. Но ущерб был слишком велик, чтобы его можно было исправить полумерами, и генерал впал в знакомое мне состояние взбешенного военного.
— Что за дворец здесь у вас? — закричал он на меня. — Американцы приглашают гостей в одну кучу с дикими зверями? Посольство, что — цирк? Передайте послу, что советские генералы не привыкли к тому, чтобы к ним относились как к клоунам.
С этим он выскочил из комнаты во входную дверь, а я семенил за ним, безуспешно пытаясь объяснить, что это происшествие никоим образом не было предусмотрено. Но Егоров все равно ругался и кричал, когда выходил через дверь.
— Это последний раз, когда я прохожу через эту дверь, — заключил он, маршируя прочь от дома.
Я доложил о происшествии послу, получил и от него порцию брани, внес все это дело в свой список прибылей и убытков и отправился разрешать очередной конфликт на кухне, на этот раз по поводу того, кто будет иметь честь зажечь сливовый пудинг.
Через час старший охранник вызвал меня к входной двери.
— Пришел еще один гость, — объяснил он. Я поспешил ко входу как раз в тот момент, когда вошел генерал Егоров в совершенно новом кителе.
— После всего я решил, что в том не было вашей вины. Дети есть дети, даже если они медведи, — рассмеялся он. — И я решил станцевать еще разок.
В девять часов утра следующего дня горстка самых крепких из гостей все еще не давала отдохнуть оркестру. В десять наш прием вновь завелся от грузинского танца Тухачевского в паре с новой звездой балета Лелей Лепешинской[148]. Это был последний раз, когда Тухачевский появился в посольстве, прежде чем был расстрелян.
В десять тридцать, однако, оставшиеся гости ушли. Среди последних были турецкий посол, Васыф-бей[149], господин столь мощного телосложения, что его часто называли «Массив-бей», умерший от сердечного приступа в следующем году, и Уманский, позднее ставший советским послом в Вашингтоне и затем в Мексике, который погиб в авиакатастрофе[150].
Когда за последним гостем закрылась дверь, я сел и заказал бутылку шампанского. Для меня это был первый глоток с начала представления. Когда я покончил с бутылкой, то приступил к наведению порядка. Первым делом надо было отловить птиц в птичнике и поместить их обратно в клетки, в которых они прибыли из зоопарка. Я поймал фазанов и попугаев и даже добился некоторого успеха в поимке ткачиков, когда шампанское вместе усталостью от всех моих вечерних занятий настигли меня, и я решил идти спать. К несчастью, я забыл закрепить дверь птичника.
Едва я забрался в кровать, как дворецкий посла разбудил меня.
— Посол хочет видеть вас немедленно в бальном зале.
Полусонным я напялил какую-то одежду и явился на поле битвы прошедшего вечера. Под люстрой стоял посол и с раздраженным видом смотрел на меня. Причину его недоброй усмешки я понял сразу, как только взглянул под потолок зала и увидел стаю ткачиков, весело носившуюся в воздухе.
— Ну хорошо, — сказал посол, — прекрати рассматривать и сделай что-нибудь с этими чертовыми птицами, пока они не разнесли последнюю мебель в посольстве. — С этими словами он отправился к себе.
Это была милая проблема — особенно после ночи вроде той, что только закончилась. Очевидно, я нуждался в экспертной поддержке и позвонил директору зоопарка, попросив его прислать лучших птицеловов. Птицелов прикатил в посольство на велосипеде уже через несколько минут. У него была с собой сеть и разобранная на части длинная рукоятка под мышкой.
— Нет повода для беспокойства, — сказал он, когда прошел в дом. — Я их всех переловлю за минуту.
— Подождите, хотя бы взгляните на зал… — начал объяснять я.
— Нет, это не трудно.. — Пока он шел через холл в бальный зал, он на ходу собирал секции ручки от своей сетки. Мы подошли к двери, и он увидел над собой потолок высотой в шестьдесят футов и воззрился на него. Наступила тишина, и затем он начал обратно разбирать свою рукоятку на части.
— Но почему вы мне не сказали сразу, на что это похоже? — жалобно спросил он, разбирая свою ловушку на составляющие.
Когда птицелов ушел, я стал бродить из комнаты в комнату, растерянный и безутешный. К тому времени большая стая ткачиков разделилась на несколько более мелких, и птицы разлетелись по посольству. Вскоре по всему зданию распространились их чириканье и помет.
Время от времени посол выходил из своего кабинета и наблюдал за происходящим.
— Ну, что бы вы ни решили делать, — сказал он, — пора начинать. Еще немного, и у нас не останется достойной мебели.
Когда совсем стемнело, меня посетила идея. Я попросил охранника собрать весь персонал, и вскоре весь наш штат до последней кухарки и дворника собрался в моей спальне, где я объяснил им стратегию. Мы выключим свет в доме и откроем все окна. У каждого окна мы поставим яркую лампу. Затем вооружимся вениками, подушками и прочими метательными предметами, которые найдем, и будем обходить комнату за комнатой, гоняя птиц, пока они не полетят на свет. Когда они окажутся у окна, мы шуганем их напоследок и выпроводим на улицу. Я понимал, что директор зоопарка будет этим недоволен, но я также знал, что таких птичек у него много — в любом случае много больше, чем у меня перспектив найти себе другую работу. На три часа в доме воцарился гвалт, состоявший из треска крыльев, звуков падающих подушек и носящихся вокруг людей, но, в конце концов, мы выгнали ткачиков и освободили посольство.
Это был последний прием, который посол попросил меня организовать: мне хочется думать, что это объясняется тем, что я был слишком ценным сотрудником для использования на других направлениях дипломатической деятельности.
Глава 12 ГПУ ИЛИ ГЕСТАПО
К 1937 году большие советские судебные процессы и репрессии набирали силу, а изоляция иностранцев в Москве стала практически полной. Один за другим исчезали или прекращали всякие контакты мои старые друзья. Заводить друзей среди русских всегда было непросто, и неприятно было видеть, как те немногие, с которыми ты все-таки сдружился, поворачиваются к тебе спиной, лишь только встретят тебя на улице или в фойе оперного театра. Каждые два-три дня мы находили в газетах знакомые нам имена, одних обвиняли в шпионаже, другие признавались в саботаже сами, а многих объявляли предателями: Тухачевского, Егорова, Радека, Бухарина и легендарного барона Штейгера[151].
Штейгер происходил из старой немецкой остзейской семьи и во время революции связал свою судьбу с Советами. Кое-кто говорил, что он получил разрешение на эмиграцию во Францию для своего отца. Каковы бы ни были тому причины, но Советам он служил, похоже, хорошо. Это был культурный человек с великолепным чувством юмора и большим запасом историй, которые он любил рассказывать на безупречном французском. У него имелись какие-то таинственные связи в Кремле, и часто он выступал в качестве прямого канала связи с иностранными посольствами, где проводил большую часть времени. После того как Сталин как-то раз признался одному из наших послов в том, как сильно ему нравится трубочный табак «Эджуорт», именно через Штейгера мне было сказано передавать по коробке табака в месяц.
По мере того как темп репрессий нарастал, Штейгер все больше впадал в депрессию. Но он не прекращал выполнения ни одной из своих дипломатических функций. Однажды вечером после коктейльного приема в посольстве я на своей машине отвозил Штейгера домой. В тот день газеты объявили, что несколько наших общих знакомых были казнены обычным советским способом — застрелены в затылок.
Пока мы ехали по холодным заснеженным московским улицам Штейгер, вопреки обыкновению, молчал. Я попытался завязать разговор о погоде.
— Да, — наконец откликнулся он. — Это опасная погода — очень коварная. В такие времена следует тщательно беречь затылок, — он ударил себя по шее и засмеялся. И погрузился в молчание.
На следующий день Штейгер не пришел на прием в посольство. Несколькими неделями позже «Правда» объявила, что Борис Сергеевич Штейгер оказался предателем и был расстрелян. Конечно, выстрелом в затылок[152].
Когда пришло распоряжение о направлении меня в Берлин, я не стал терять времени на подготовку к отъезду. После Москвы Берлин показался мне, на первый взгляд, до странности свободным. Немцы почти совсем или даже совсем не боялись общаться с иностранцами. А гитлеровская политика «пушки вместо масла» в глазах немцев придавала особый шарм уставленным маслом столам в домах иностранцев.
К 1939 году, когда Гитлер применил-таки пушки и масло стало далеко не единственным видом продуктов, исчезнувшим с берлинских столов, давление на иностранцев стало уже значительным. В то время нашим посольством в Берлине командовал Александр Кирк[153], а советником у него был мой первый московский босс Джордж Кеннан. Проблему развлечений Кирк решал, устраивая каждое воскресенье масштабный ланч. Человек сто имело постоянные приглашения, и еще сотня получали приглашения время от времени.
Однажды в субботу Кирк вызвал Кеннана в свой кабинет и сказал, что его вызывают в Париж для консультаций и что он не сможет дать обычный воскресный ланч.
— Пожалуйста, примите все необходимые меры, чтобы отменить его, — поручил он Кеннану.
Через несколько дней он вернулся из Парижа и вызвал к себе Кеннана.
— Вы правильно сделали, что отменили воскресный ланч, — сказал он ему. — Вот только вы забыли предупредить об этом двоих.
— Кого? — спросил Джордж.
— Шеф-повара и японского посла, — ответил Кеннан.
Несмотря на внешние и вещественные прелести, в Берлине не было лучше в сравнении с Москвой. Не нужно было слишком стараться, чтобы оказаться в руках гестапо. Рассказов о концлагерях, пытках и убийствах было так много, что потом не пришлось доказывать, что они оказались правдой. Если не считать самого правительства, то «вожди» едва ли рассчитывали на какое-либо восхищение и уважение. В Москве, столь же грубой, жестокой и коварной, дела обделывались все-таки с каким-то восточным достоинством. В Берлине же были слышны одни лишь крикливые речи Гитлера в Спорт-паласе, безудержное хвастовство Геринга, рев Геббельса, избиения и стрельба со стороны полиции. Показная жестокость нацистов была оскорбительной и по-настоящему травмирующей.
В Москве иногда нам доводилось ловить взгляды из эшелонов, вывозивших ссыльных в Сибирь. Довольно часто ночью мы принимали безумные звонки, сообщавшие об арестах кого-то из друзей. Но немцы из своей жестокости делали спектакль. Вскоре после Мюнхенского пакта Геббельс начал еврейские погромы по всей Германии. Они начались в ноябре 1938 года, в один из вторников[154], когда переполненные нацистскими штурмовиками грузовики выехали на улицы и нацисты принялись громить еврейские магазины, избивать всех встреченных на улице евреев. Погромы продолжались весь вторник и среду и с каждым часом становились все ужаснее. Десятки тысяч евреев, думавших, что это их последний день, столпились возле консульства, умоляя о визах. Кто-то, быть может, сам Геббельс распустил жестокий слух, что президент Рузвельт отправил берлинским евреям подарок из тысяч «квотных номеров», дающих право на срочную визу. Бельвюштрассе, где находилось консульство, оказалась настолько забитой толпами, что персоналу пришлось пробираться в здание по пожарной лестнице из близлежащего садика. Телефонные звонки от евреев, которые не смогли прийти в консульство сами, совершенно заблокировали телефонную станцию. Американское представительство, располагавшееся в отеле «Эспланада» на другой стороне улицы, было вынуждено послать нам телеграмму с вопросом о получении нового паспорта.
По всей Германии, особенно в Берлине, шайки громил бродили по улицам, сжигая собственность евреев и избивая еврейские семьи. Очевидцы рассказывали о том, как детей выбрасывали из окон и добивали уже на улице. Был разрушен большой еврейский универмаг «Исаак и Вертгейм». Рояли выбрасывали через перила галерей, и они летели с седьмого или восьмого этажа вниз, разбиваясь об пол на кусочки. Когда же все, что можно разрушить, было уничтожено, толпа подожгла обломки.
В четверг погромы достигли такого размаха, что, как сообщали, даже правительство было озабочено той истерией, которую оно само и породило. После обеда я устраивал небольшую вечеринку по случаю дня рождения приятеля-голландца. Голландский генеральный консул явился с подбитым глазом и с раной на голове от брошенного кем-то в него кирпича, когда он защищал магазин, принадлежавший голландским евреям. Пришел и знакомый немец — в эсэсовской форме. Но его быстро выгнали другие возмущенные гости. Еще у меня было десять или пятнадцать других гостей, оставшихся незамеченными ни голландцами, ни эсэсовцами. Это были евреи, искавшие убежища, которых я разместил в своей спальне на то время, пока буря не утихнет.
Прошеные и непрошеные гости разошлись поздно. Я позвал свою овчарку Миджет и отправился с ней на прогулку по улицам, чтобы увидеть, что происходит. На каждом углу стояло по паре эсэсовцев, которые со всей возможной обходительностью старались утихомирить последние из еще остававшихся на улице банд подростков, продолжавших бить стекла и грабить. К тому времени все эти шайки уже начали утрачивать какую-либо антиеврейскую направленность в своих действиях и просто грабили любой магазин, который могли разворовать, не встречая сопротивления. Когда я двигался по узкой улице, то прошел мимо банды из двух десятков парней в возрасте от шестнадцати до двадцати двух лет. Они свистнули моей собаке, и я обратился к ней по-русски. Услышав иностранную речь, они перешли улицу и направились ко мне. Я зашел за высокую железную ограду.
— Ты русский? — обратился ко мне их вожак.
Я был настолько зол из-за всего, что происходило, что заявил: да, русский и спросил, что, черт возьми, они собираются с этим делать?
Стая придвинулась ко мне ближе, и я щелкнул пальцами, дав знак Миджет, стоявшей возле меня. Это было для нее сигналом принять грозный вид и издать низкий угрожающий рык. Толпа отступила.
— Ты советский русский? — спросил кто-то из толпы.
— Да, — ответил я. — Я корреспондент «Правды».
Парни, стоявшие в хвосте толпы, стали пробираться вперед. Я щелкнул пальцами, и Миджет зарычала громче. На какое-то мгновение я пожалел, что не позволил ГПУ натренировать Миджет нападать на людей. Но мальчишкам оказалось достаточно и рычания Миджет, и они отступили.
— Коммунист? — кто-то спросил вновь.
— Конечно, — ответил я, — и, черт возьми, горжусь этим.
Я думал, что лучше всего нападать.
— Я полагаю, вы все нацисты? Что за великая партия! И, конечно, устроенное вами в эти три дня представление было замечательным! В истории немецкой культуры не было дня, которым можно было бы гордиться больше.
Кто-то в толпе двинулся и стал проталкиваться ко мне. Миджет зарычала громче. Вдруг вожак всей группы обернулся к одному из тех, кто стоял у него за спиной:
— Забирай ребят. Я разберусь с этим приятелем в одиночку.
Он был здоровяком, и меня не вдохновляла такая перспектива, но я был рад, что остальная толпа двинулась дальше по улице. Когда они исчезли из виду, человек передо мной внезапно утратил агрессивность и расслабился.
— Вы действительно член Коммунистической партии? — спросил он.
Я решил придерживаться сказанного ранее и убедительно поклялся, что являюсь им. Казалось, он поверил, протянул вперед свою руку и заграбастал мою:
— И я тоже.
Два часа мы ходили с ним взад-вперед вдоль канала Кайзера Фридриха, пока он рассказывал мне свою историю. На самом деле в партии он не состоял, как он мне объяснил, но в момент прихода Гитлера к власти был комсомольцем. А вот его брат занимал в партии высокую должность и теперь скрывается в Праге. Я спросил его, зачем коммунисты встают во главе шаек громил во время антисемитских выступлений.
— А что, разве непонятно? — ответил он. — Это единственный способ показать этим чертовым идиотам пруссакам, что может сделать толпа, если только захочет, даже вопреки полиции. Они настолько сыты «миром и порядком» в Берлине, что у них не хватит воли, чтобы взять власть, пока ты им не покажешь, как это надо делать.
Это было каким-то новым подходом, и я удивился бы, если бы его одобряло высшее руководство Коммунистической партии. Более того, я очень сомневался в этом. Так или иначе, мой новый знакомый и я скоро стали добрыми друзьями и по меньшей мере раз в неделю встречались у канала или в пивной, где он мне рассказывал, чем занимается «подполье» в Берлине. Эти встречи сделали мои доклады в Вашингтон занятным чтением, но вряд ли повлияли на поведение Гитлера. На самом деле я полагал, что после 1933 года вряд ли существовала какая-то другая столь же бесполезная для Кремля Коммунистическая партия, как немецкая.
После происшедшего в ноябре 1938 года консульство практически утонуло в прошениях о выдаче виз. Неделями вдоль по улице целыми днями стояли длинные очереди, и даже поздними вечерами, когда наши пальцы были не в состоянии удерживать карандаш, у наших дверей оставались сотни просителей, которых приходилось разворачивать. По десять, двенадцать, четырнадцать часов в день они подходили к нашим столам и все с одной и той же историей и с одной и той же просьбой о визе.
Для меня это был совершенно новый и очень горький опыт. Количество виз, которые мы могли выдать, было ограничено законом, и они уже были выданы на десять лет вперед. И совсем не имело значения, насколько остро кто-то нуждался в визе, мы ничего не могли сделать, кроме как спокойно выслушать и твердо ответить.
Это случилось однажды после восьми часов. Уже давно истекло время обычного рабочего дня, и я чувствовал себя очень уставшим. Две молодые пары застенчиво стояли возле моего стола. Как они объяснили, они только что приехали из Бреслау. Молодожены.
— Мы все евреи каким-то боком, и мы решили объединить наши силы и предпринять последнюю попытку выбраться из Германии, пока не стало слишком поздно. Мы уже испробовали все, что могли. Побывали у всех консулов. Пытались перейти чешскую границу, но нас поймали и отослали назад. У нас нет за границей ни друзей, ни родственников, никого, кто бы мог попросить за нас. Вы наш последний шанс. Если вы откажете, нам остается только одно.
И один из парней сделал движение, как будто режет артерии на запястье.
Он развернул на моем столе карту.
— Смотрите сюда, — продолжал он. Это была лоция Тихого океана.
— Сюда, — указал он пальцем. — Здесь находится остров, принадлежащий Соединенным Штатам. Он называется атолл Джонстон. Мы нашли его в книжке по географии. Он необитаем, но мы могли бы туда добраться. Мы никого не будем беспокоить. Мы ни с кем не станем соревноваться за рабочие места. Мы не будем обузой для общества или «паблик чардж», как вы это называете. Но, быть может, нам удастся просто жить. Это все, чего мы хотим — просто жить. — Его голос надломился, и он замолчал.
— Мне очень жаль, — начал я. — Но эти острова закрыты для всех. Они находятся под контролем Военно-морского флота, и мы не выдаем визы для их посещения. Никому не дозволено направляться туда. Никому, в том числе американцам или кому-нибудь еще.
— Но, быть может, вы сумеете попросить, чтобы флот дал нам такое разрешение. Нас всего четверо. Мы можем послать телеграмму. Мы заплатим за нее, — парень порылся в кармане и достал целый рулон рейхсмарок. — У нас есть еще немного денег.
Я покачал головой, но он тут же продолжил:
— Пожалуйста! Вы знаете, что здесь произойдет. Вы знаете, что молодым евреям в Германии не выжить. Нам нужно уехать, иначе нам останется только одно. Мы не дадим убить нас как животных.
Я уже слышал такие же просьбы, по дюжине в день. Все, что они говорили, было правдой. И лишь одну вещь в их положении я не мог понять, но боялся спросить. Все-таки я был вице-консулом иностранного государства и жил в сравнительной безопасности и комфорте. Передо мной стояли двое сильных мужчин, находившихся в полном отчаянии по вине своих жалких «вождей», и единственный способ протеста, о котором они думали, было самоубийство.
— Скажите мне, — решившись, сказал я. — Если у вас, как вы говорите, остался только один способ, то почему бы не взять кого-нибудь с собой? Одного или двух или трех? Возможно, после этого тем остальным, кто стоят за вами, будет легче?
С долгую минуту они стояли и с ужасом смотрели на меня.
— Вы имеете в виду Гитлера? — в страхе прошептала одна из девушек.
Они еще чуть-чуть постояли, глядя на меня, затем повернулись и ушли. Я встал из-за стола, подошел к окну и смотрел на них. Они повернули на Бельвюштрассе и перешли через улицу к Тиргартену. Они уходили медленно, крепко взявшись за руки.
Боюсь, что за прошедшие десять лет я вряд ли когда-нибудь вспоминал эти две молодые пары. За это время в каких-то двух сотнях ярдов от нашего старого консульства самоубийством покончил Гитлер. Война закончилась. Берлин превратился в кучу мусора. Великолепный Тиргартен стал пустыней, с голыми стволами деревьев и обезображенными статуями. Я с радостью покидал город после короткого послевоенного посещения. Меня ждала Азия, парализованная войной и голодом.
Большой четырехмоторный самолет, на котором я летел, снижался в направлении маленького золотисто-белого пятнышка, сверкавшего в великолепии тихоокеанского солнца.
Стюард вышел из кабины пилотов:
— Пристегните ваши ремни и потушите сигареты. Через пять минут мы совершим посадку. Атолл Джонстон.
Я посмотрел на пятнышко внизу и смог заметить лишь деревянную контрольную вышку, несколько сборных железных ангаров, водокачку и две длинных замасленных взлетных полосы. Больше там не было ничего. Лишь солнце и кораллы. Мне вспомнились две пары из Бреслау. Глядя на заброшенный остров, я усомнился в том, что они смогли бы здесь выжить, даже если бы не стали резать себе запястья в Тиргартене.
Глава 13 ВОСТОК ВСТРЕЧАЕТ ЗАПАД
Однажды я коротал вечер за чтением в своей полуподвальной квартире, которую снял в Берлине уже после Мюнхенского кризиса. Квартира была маленькая, сыроватая и темноватая, но в ней было то, что я считал преимуществом — почти настоящий подвал. До тех пор пока, уже после войны, я не увидел, в каком он оказался состоянии, я считал, что он способен служить хорошим убежищем во время воздушных налетов. Теперь же подвал выглядит, как свалка кирпича.
Читая, я услышал, как звенит дверной звонок и как служанка отправилась отпирать дверь. Спустя мгновение целое облако из маленьких плетеных коробок вплыло в комнату и рассыпалось посреди нее. Маленький, кругленький, желтовато-коричневый китаец выбрался из этой кучи.
— Моя, — сказал китаец, указывая на свой раздутый живот, — моя, Янг.
— Я мистер Тейер, — ответил я.
— Вы, хозяин, — исправил меня Янг.
За несколько месяцев до того я оказался на новогоднем приеме в Вене. Все венские приемы всегда были веселыми мероприятиями, но этот — особенно. Это был последний прием перед тем, как Гитлер занял Австрию, и каждому венцу было известно, что это произойдет. Мы начали с традиционной «Летучей мыши» в Опере. Пел Рихард Таубер[155]. Поскольку в нем текла еврейская кровь, спектакль стал для него последним, и публика это тоже знала. И пока он не перепел все свои старые любимые штраусовские арии, толпа не давала ему покинуть сцену.
Полночь близилась, когда мы наконец прибыли в дом генерального консула. Там был Уолтер Дюранти. Пришел Билл Ширер[156], и он выглядел уставшим, после того как закончил передавать в Америку по радио рождественские песни в исполнении детей Вены. Чип и Эвис Болен приехали из Москвы на каникулы. Здесь было очень много и других людей, как это принято в семье Уайли — русские, французы, поляки, австрийцы и, наконец, Фу, китаец-дворецкий семьи Уайли, очень элегантный в своем белом шелковом халате и с подносом, уставленным виски и содовой.
Наверное, было уже часов пять утра, когда Фу подошел ко мне примерно, в десятый раз:
— Виски с содовой, может быть?
Я поблагодарил его и сказал, что мне уже хватит.
— Но вот чего бы я действительно хотел, так это иметь слугу-китайца вроде вас, чтобы он заботился обо мне в Берлине.
— Хочете китайски парень? О'кей, Фу понял.
Когда следующим утром Фу разбудил меня, я уже совершенно забыл о том разговоре.
— Самолета запаздывает, мистер, — предупредил он и добавил, — я нашла китайски парень.
— Что за китайский парень, Фу?
— Ночью вы говорить, вы хочет китайски парень. Этим утром я послать телеграмм Харбин и сказать мой друг Янг, он приехать Берлин.
После того как я оделся, то сразу пошел посоветоваться с четой Уайли.
— И что теперь? Что мне, бедному вице-консулу, делать со слугой-китайцем?
Но Уайли стали говорить мне о том, как хороши китайские слуги и насколько удобно иметь постоянного слугу вместо того, чтобы дрессировать каждый раз нового на новом месте.
— И, кроме всего прочего, у тебя уже есть домочадцы — собака из тайной полиции. Один китаец не слишком сильно увеличит толпу.
В итоге я пустил все на самотек и стал ждать, что произойдет. Время от времени я получал маленькие записки из Вены, которые неизменно завершались фразой: «Всего наилучшего вам от К.К. Фу». Записки информировали меня о том, как продвигается путешествие Янга из Манчжурии.
Поэтому мое удивление не было таким уж большим, когда Янг объявился в моей комнате.
— Может я смотрю дом хозяина? — спросил меня Янг, как только высвободился из вороха коробок.
Я показал ему четырехкомнатную квартиру. По завершении экскурсии мы пришли на кухню, и он спросил меня:
— Сколько кули у хозяина?
— Кули? У меня нет никаких кули. Фу сказал, что вы будете делать все.
— Моя! — недоверчиво ответил он. — Фу говорит, моя делает все? Янг — повар, не кули.
В течение всего этого длинного разговора я пытался понять пиджин-инглиш, на котором говорил Янг, а он, по всей видимости, мало что понимал или совсем не понимал то, что говорил ему я. В конце концов я снял трубку и позвонил в Вену. Уайли были на проводе:
— Янг приехал, — сказал я Джону. — Но, похоже, у нас обнаружилось фундаментальное непонимание в отношении того, что он должен делать.
— Пусть Фу с ним поговорит, — уверенно заключил Джон. — Он все уладит.
Янг и Фу не виделись лет десять, и я понимал, что им многое нужно рассказать друг другу, но по тому, как шел разговор, я усомнился в том, что Янг осознает, как далеко мы находимся от Вены и сколько стоят международные звонки. Наконец, он закончил разговор и передал мне трубку. Уайли был на том конце провода:
— Фу сказал, что надо давать Янгу сигареты.
— Сигареты? Ты хочешь сказать, что это единственное, что его смущает?
— Кажется, — ответил Джон. — Янг попытался купить сигареты на Транссибирской дороге за золотые рубли и решил, что это слишком дорого. Он думает, что его зарплата не покроет счетов на курение.
Быстрый подсчет стоимости телефонного разговора в сравнении с текущей стоимостью табака подсказал мне, что надо соглашаться снабжать Янга любым количеством сигарет, какие он сможет выкурить. Кроме того, у меня никогда не было слуги, который бы не обращался свободно с моими сигаретами в свою пользу. Янг был доволен, Фу ожил, а Джонни и я остались более чем удовлетворены исходом переговоров.
И хотя мое знание пиджин-инглиш не было совершенным, я скоро начал ухватывать содержание того, что Янг мне говорил, и он, в свою очередь, начал кое-что понимать по-немецки, хотя не обошлось без нескольких весьма трудных случаев.
Через несколько недель после приезда Янга я был приглашен на свадьбу в Лондон. Мне показалось это удобным случаем, чтобы отправить Янга в Вену повидать своего старого друга Фу. Я дал ему большой кусок картона, на котором было написано, кто он и куда направляется, отвез его на вокзал и посадил в венский экспресс.
— Поезд прибывает в Вену в восемь, и затем тебе нужно будет увидеть мистера Уайли — американского генерального консула, — объяснил я. Янг уверил меня, что все понял и весело улыбался мне из вагона тронувшегося поезда.
Через несколько дней я вернулся в Берлин, и Янг уже ждал меня дома.
— Как Вена? — спросил я его.
— Вена много хорошо, — ответил он, — но много трудно найти.
Я спросил, какие у него были трудности.
— Пришли восемь часов. Поезд стоп. Янг вышел. Идти увидеть американский генеральный консул. Но не мистер Уайли, — ответил Янг.
— Что ты имеешь в виду? Конечно, генеральный консул в Вене — это мистер Уайли.
— Нет мистер Уайли, — настаивал Янг и начал рыться в карманах своего халата. Он достал визитную карточку. Она была адресована мне, и на ней было написано:
«Был рад помочь вашему парню преодолеть его лингвистические и географические трудности». Это была карточка генерального консула в Мюнхене. Только через какое-то время я узнал, что поезд останавливается в Мюнхене в восемь часов вечера, а в Вене — в восемь часов утра следующего дня. Это была моя ошибка.
До того как ко мне приехал Янг со своими корзинками, у меня служила местная немецкая кухарка, большую часть времени проводившая в стенаниях по поводу оснащения моей кухни. Для нее кастрюли были как дуршлаги, а дуршлаги как кастрюли. Ножи не резали. Ножу для мяса настал «капут». Кофейник был куском ржавого железа. Я купил все вышеперечисленное с пятидесятипроцентной скидкой и сказал ей, что мы будем пользоваться тем, что имеем, пока не приедет Янг. А там ему уже самому предстоит решить, что ему нужно. Я полагал, что Янг побудет у меня достаточное время и небольшие инвестиции в кухонное оборудование будут оправданными. Очевидно, Янг тоже собирался оставаться у меня какое-то время. Через несколько дней после приезда он однажды вечером разговорился и признался, что полюбил «Хозяина». Он сказал, что надеялся найти стабильную работу, потому что любит постоянство. В Харбине его проблема заключалась в том, что хозяева слишком часто менялись.
— Я работая на мистера Пейджа семь лет. Затем он уезжать. Работая мистер Эдвардс шесть лет. Он уезжать. Работая миссис Уильямс десять лет. Она уезжать. Нехорошо так. Янг любить постоянная работа — не меняйся вся время.
Итак, я передал Янгу каталог «Сирс и Робак» с многочисленными цветными иллюстрациями для каждого вида кухонных инструментов, о которых только может мечтать повар.
— Просто выбери, что тебе покажется нужным, и я закажу это.
Прошло два или три дня, и Янг ничего не говорил о новых кастрюлях. Я напомнил ему, что лучше заказать то, в чем он нуждается. Янг задумался довольно надолго. Затем развел руки на добрых три фута и сказал:
— Может, хозяин купит мне большой нож?
Я купил самое большое из того, что смог найти в Берлине и что больше всего напоминало меч, и Янг остался доволен. Большой нож с тех пор сопровождал нас вокруг земного шара на протяжении большей части из десяти лет.
Не сетуя на оснащение кухни и не обзывая его хламом, Янг умел готовить самую лучшую еду, которая когда-нибудь была в моем собственном доме. Его особым блюдом являлся «карри», который он готовил в нескольких разновидностях. Были среди них «десять карри», который состоял из риса и вымоченных в соусе кусочков курицы, окруженных десятью деликатесами начиная с ростков бамбука и кончая арахисовыми орешками. Был и «пятнадцать карри» с пятнадцатью маленькими гарнирами и, наконец, даже экстра-специальный-супер карри — «двадцать пять карри» с двадцатью пятью сортами корешков, ростков, орехов и пряностей, окружавшим куриное мясо и рис.
Еще одним блюдом, с которым меня познакомил Янг, стало его «тысячелетнее яйцо», которое он привез мне в подарок из Харбина в одной из своих маленьких плетеных корзиночек. Яйца хранились в толстой упаковке из сухой глины, в которой они, как принято считать, были приготовлены тысячу лет назад. Однажды, когда гостей рядом не было, Янг в разговоре со мной допустил, что яйцам, может, и не тысяча лет.
— Быть может, лишь две-три сотни лет, — сказал он, подмигнув.
Когда по Берлину поползли слухи о тысячелетних яйцах, все поспешили в мой полуподвал. Но мой Янг был скуповат, и самые изысканные деликатесы готовил только тогда, когда я был один. Единственное исключение мы сделали, когда советник посольства Прентис Гилберт[157] попросил меня лишь дать ему попробовать блюдо:
— Тридцать лет я описывал его вкус на скучнейших званых обедах, и мне просто хочется понять, насколько близко к правде то, что я рассказывал.
На самом деле, на вкус тысячелетнее яйцо было таким же, как и сваренные вкрутую свежеснесенные яйца — и не более того. Прентису Гилберту пришлось признать, что его описание имело с этим вкусом мало общего.
Но была одна проблема в готовке, которая совершенно не трогала Янга. Речь идет о том, как открывать европейские устрицы. Вскоре после приезда он купил несколько устриц для одного званого обеда. Я находился в жилой комнате, где брал урок немецкого языка у одного устрашающего вида бородатого профессора из Берлинского университета. Вдруг до меня донеслась серия звуков с кухни, которые звучали так, словно Янг носился на мотоцикле вокруг китайского туалета. Я попытался не обращать на звуки внимания, но через несколько минут Янг сам заявился к нам в комнату с лицом, покрытым испариной.
— Хозяин, устрицы не открывайся — ошень извиняйся.
— Не глупи, Янг. Конечно, они откроются, если ты знаешь, как это делать. Я покажу тебе.
Я пошел на кухню, взял большой нож и начал колдовать над устрицами сам. Нож сломался, но устрица оставалась закрытой.
— Чертова нацистская сталь, — посетовал я и пошел к машине, чтобы взять ящик с инструментами.
Я выбрал острую отвертку и снова напал на устрицу. Отвертка выскользнула и поранила мне большой палец. Я зажал устрицу клещами и попытался снова.
Число используемых инструментов все росло, а кровь из моего пальца уже забрызгала всю кухню. Янг стоял с невозмутимым видом, скрестив руки на своем толстом животе. В конце концов и его терпение лопнуло, и он ушел в комнату:
— Профессор, вы можете открыть устрицы?
В тот вечер на первую перемену у нас было консоме.
Янг пробыл в Берлине уже около шести месяцев, когда меня направили в Вашингтон. Утром за завтраком я сообщил ему эту новость.
Он помолчал минутку, а затем спросил:
— Хозяин, как мы едем в Америку?
— Мы поедем на корабле, конечно.
Еще одна пауза.
— Большой корабль, хозяин, или маленький корабль?
— Большой корабль, — ответил я. — Это займет всего шесть дней.
И снова Янг задумался, но уже надолго. Затем он недовольно сморщился и промолвил:
— Хозяин, может быть, вы ехать на корабле и посылать Янг на поезде. Может, поезд в Америку дешевле.
Я взял карандаш, большой лист бумаги и попытался объяснить географические сложности, вытекавшие из его предложения. Он, вероятно, никогда не видел карты и, очевидно, не понял ничего из того, что я сказал. Но он понял, что идея с поездом по каким-то причинам неосуществима и с сожалением смирился с мыслью о корабле.
И только когда мы пробыли день в путешествии по морю, я понял, что его беспокоило. Он сказал, что однажды плавал на корабле по Желтому морю и ему очень не понравилось. Каюта Янга находилась в глубине корабля, и когда он не появился в первое же утро нашего морского путешествия, я спустился вниз, чтобы посмотреть, как он там. Янг лежал на своей койке.
— Хозяин, я хотеть вниз, — заныл он. — Пожалуйста, хозяин, дозвольте мне идти вниз.
— Но, Янг, ты и так в самом низу корабля. Если ты пойдешь ниже, то придешь на днище. Поднимись на палубу и подыши свежим воздухом.
— Нет, хозяин. Я хотеть идти вниз, — продолжал завывать он.
Я все-таки вытащил его из койки и помог подняться на палубу.
— Пожалуйста, хозяин, пустите меня вниз, — продолжал он скулить, ковыляя за мной.
Все же мы вышли на кормовую палубу, и Янг озадаченно огляделся кругом. Он посмотрел на море направо, затем налево. Затем он подошел к перилам, посмотрел вперед и затем вниз на бурлящее море.
— Хозяин, — он был почти в слезах, — хозяин, здесь нет места, откуда я могу идти вниз?
Наконец я понял, что он имел в виду.
— Извини, Янг, извини, пожалуйста. Но первое место, где ты сможешь сойти вниз с корабля, будет Нью-Йорк через четыре дня. Сейчас ложись на палубу и привыкай.
Он лег, но так и не привык.
Через несколько дней мы прибыли в Вашингтон. Когда мы ехали на такси с вокзала «Юнион стейшн», Янг растерянно глядел на незнакомые виды. Вдруг он поймал взгляд цветного на тротуаре:
— Смотрите, хозяин, смотрите! — возбужденно закричал он. — Человек весь черный! — И чтобы объяснить мне это, он показал пальцем на свою желтую щеку.
Янг очень быстро завел друзей среди обладателей белых, цветных и желтых лиц в Вашингтоне, и наша кухня вскоре стала общественным центром «Кью-стрит»[158]. Однажды вечером, когда я читал, то услышал странные звуки, шедшие из находившейся в цокольном этаже кухни. Два голоса то взрывались хохотом, то замолкали в полной тишине, пока очередной двухголосый гогот снова не сотрясал кухонную лестницу. Что особенно заинтриговало меня, так это то, что обмена словами не было. Я спустился вниз, чтобы посмотреть, что происходит, и увидел Янга с другим китайцем, сидящими на кухонном столе и писавшими китайские иероглифы на листе бумаги. Когда я появился в дверях, Янг поспешно объяснил:
— Мой друг, он кантонец. Моя маньчжурец. Я не понимая, когда он говоря. Он не понимает меня говоря. Но писать понимать легко.
Так со всей очевидностью проявились все преимущества иероглифической письменности над нашим фонетическим алфавитом.
В Вашингтоне мы оставались недолго и вскоре снова отправились на большом корабле — на этот раз в Гамбург.
Летом 1939 года ежегодный страх перед войной достиг кульминации — на этот раз реальной. Власти Гамбурга начали бурить артезианские колодцы для чрезвычайных обстоятельств. В парках рабочие рыли траншейные убежища. Домовладельцы начали обкладывать окна мешками с песком. Янг, помня об опыте партизанской войны, которую вели в Маньчжурии местные генералы, откровенно и открыто презирал все эти приготовления, просто потому, что знал — война будет другой. Кроме того, у него выработалась весьма определенная неприязнь к немцам. Он снисходительно называл их «дойчии». Но вообще Янг не любил никого из «иностранцев», которыми считал всех кроме маньчжур, американцев и, по некоторым причинам, русских.
— Дойчии, — говорил Янг, — все боятися война. Дойчии очень плохо к жидам. Дойчии очень смеяться над китайцы. Но все равно, дойчии боятися война.
Он упрямо отказывался помогать владельцу моего дома строить бомбоубежище в нашем жилом доме.
— Дойчии боятися баклажан. Янг не боятися баклажан.
Но я сказал ему, что не важно, боится он аэропланов или нет, закон требует, чтобы он помогал строить убежище. На это он очень невежливо пробормотал:
— Все дойчии много чертовы дураки.
Наконец война пришла, и вскоре после ее начала состоялся первый воздушный налет Королевского военно-воздушного флота на Гамбург. Я стоял на балконе своей квартиры в пижаме, наблюдая за сколь впечатляющими, но столь же неэффективными попытками немецких зенитчиков сбить британцев. Послышался топот ног, и появился Янг.
— Янг, я же сказал тебе раз десять, чтобы, когда начинается воздушная тревога, ты спускался вниз в убежище. Лучше идти самому, чем быть арестованным или раненым!
В свете от трассирующих очередей я мог видеть улыбку Янга.
— Хозяин не идти убежище, Янг не идти в убежище, — упрямо ответил он.
— Мне не нужно идти в убежище. Вице-консулы не спускаются в убежища. Но ты должен. Кроме всего прочего, тебя могут ранить.
Но Янг не двигался.
— Янг не идти вниз. Война знакомая Янгу. Если инглиизи убивать много дойчии, то могут убивать Янга тоже.
Британские самолеты пролетели, и огонь прекратился. Только теперь Янг согласился спуститься в свою коморку за кухней. Но когда он спускался, то бормотал:
— Дойчии много чертовы дураки. Никого не сбивать.
Через день или два, когда я заканчивал завтрак, сидя на балконе своей квартиры, я увидел, как Янг в своем синем халате очень живо пересекает улицу. Как правило, Янг никогда не торопится, и я с любопытством наблюдал за ним, пытаясь понять причину спешки. Через несколько секунд полдюжины фрау-домохозяек с той скоростью, какую только позволял развить им их излишний вес, выскочили из-за угла в погоне за Янгом. Но у Янга было большое преимущество, и он проскочил ворота, поднялся по ступенькам и уже вошел в дверь, когда предводительница погони только добралась до нашего дома. Она посмотрела на нашу лестницу, что-то бормоча своим спутницам, затем все развернулись в обратную сторону.
Я вошел в кухню и спросил Янга, что все это значило.
— Ничего, хозяин, ничего. Янг не делать ничего, — и слегка глуповато улыбнулся.
— Почему эти домохозяйки преследовали тебя, Янг?
— Я не знаю, хозяин. Эти хаусфрау много дураки, может быть. — И его лицо расплылось в широченной усмешке. Поскольку было ясно, что мне от него ничего сегодня не добиться, я бросил дальнейшие расспросы.
Вечером, когда я закончил ужинать, шестеро пожилых гамбургских рабочих, одетых в свое лучшее воскресное платье, свежевыбритые, позвонили в дверь моей квартиры и сказали, что желают видеть господина вице-консула. Янг открыл им дверь и стоял за моим креслом, в то время как они выстроились в шеренгу передо мной и вели себя весьма уважительно. Я предложил им сесть, но их немецкая выучка требовала от них сохранять свое положение, и они отказались.
Спикер всей группы объяснил, что они пришли, чтобы со всем уважением просить господина вице-консула наказать своего китайского слугу за то происшествие, которое случилось утром на рынке. Оказалось, что жены шестерых рабочих стояли в очереди вместе с поваром господина вице-консула и вполне естественно стали обсуждать военное положение и даже спросили повара господина вице-консула о том, что он думает на этот счет. Повар, однако, высказался оскорбительно, а когда они выразили ему свой протест, убежал. Они будут благодарны господину вице-консулу, если он обяжет своего повара принести им свои извинения.
Я посмотрел на Янга. Он оскалился от уха до уха, но ничего не сказал. Тогда я понял, что он не скажет ничего, что помогло бы разрешить ситуацию. Вопрос стоял так: либо мы вступаем в конфликт с местным населением, либо пытаемся заставить Янга потерять лицо. Я повернулся к шестерым мужчинам.
Не уверен, сказал я, что иностранцам не позволено выражать свое мнение относительно ситуации на войне или относительно положения в Германии, особенно если их об этом просят. Если же такой запрет существует, то в компетенции городских властей, а не делегации частных лиц информировать меня об этом. Если господам будет угодно, я готов посоветовать им отправить жалобу по надлежащим каналам штатгальтеру. Если он придет к выводу, что факт имел место, он сможет разрешить это дело вместе со мной.
Мужчины выразили свое несогласие, но в мягкой форме, потому что увидели логику моего бюрократического подхода, и, отвесив необходимые поклоны, удалились.
Когда Янг проводил их до дверей, я позвал его.
— Теперь, Янг, расскажи мне очень точно, что случилось этим утром на рынке, или у нас будут неприятности.
— Я не делать ничего, хозяин, ничего, — отвечал Янг, продолжая усмехаться. — Я только стоять в очереди, ожидая купить рыба, и старый толстый хаусфрау спросил меня, как скоро дойчии выиграть война. И все!
— И что же ты ей сказал?
— Я не сказать ничего, хозяин. Я только смеяться и сказать толстая хаусфрау: «Вы думать, дойчии выиграть война может быть? Ха-ха!»
Глава 14 ВОЙНА
Начало войны в 1939 году для гамбургского рыбного рынка означало одно, а для генерального консульства — совсем другое. Все лето туристы из Америки потоком направлялись в Европу для осмотра достопримечательностей или встречи с родственниками. По мере того как проходило лето и кризис того года становился все острее, мы все более откровенно убеждали туристов возвращаться домой, пока не стало слишком поздно. В последние дни августа мы уже встречали каждый корабль с туристами, швартовавшийся в Гамбурге, и пытались предупредить их об опасности ехать куда-то дальше. Но во времена, по-видимости мирные, американцы плохо поддаются внушениям своих консулов.
— Война — это лишь выдумка Чемберлена, — говорили нам одни.
Другие, менее искушенные в политике, лишь повторяли:
— Ерунда.
Но как только 1 сентября началась польская война, они быстро сменили тон. И больше не нужно было ходить на пристань, чтобы отыскать их. Они сами сотнями являлись в консульство.
Вначале лишь просили совета, и немедленно и прямо получали его.
— Отправляйтесь домой, и как можно скорее, — говорили мы.
И даже после этого кое-кто сомневался:
— Все это блеф прожженных европейских политиков. Они пытаются напугать нас. Британцы воевать не будут. Война закончится через десять дней.
Но у нас были причины думать иначе. Британский консул связался с нами и сказал, что Лондон будет просить нас позаботиться о его офисе, как только Англия вступит в войну. На всякий случай он передал нам всю свою наличность и счета, все номенклатуры и ключи и отправился ждать дома.
— Но когда нам объявят официально? — спросили мы у него перед его отъездом.
— Когда вы получите телеграмму из Форин-офиса в Лондоне только с одним словом «Warone»: это будет подтверждением. Вы должны будете принять его при помощи кодового слова «Wallup»! И с этого момента вы становитесь британским консулом тоже.
Это все выглядело очень будничной и простой процедурой, выгодно отличавшейся от нашей собственной. Два года спустя, когда был атакован Перл-Харбор, я сидел в посольстве в Куйбышеве. Мы получили сообщение о нападении и об объявлении войны лишь через несколько часов по радио. Еще через тринадцать дней мы получили из Вашингтона телеграмму на трех страницах с дословным повторением резолюции Конгресса об объявлении войны. Лично я думаю, что у британцев система лучше.
И через два дня после начала польской кампании так ничего и не произошло. Ничего подобного телеграмме из Лондона. Но консульство в Гамбурге гудело, как пчелиный улей. Вместо привычных для нас пятидесяти посетителей в день они приходили тысячами. Снаружи приводились в действие все противовоздушные мероприятия. Немецкие истребители патрулировали небо над нашими головами. Как только им становилось скучно, они принимались пикировать и при этом целились — во всяком случае, так казалось, прямо мне в затылок.
Капитан маленького американского грузового парохода подошел к стойке, за которой на высоком стуле восседал вице-консул Тейер. Что ему делать?
— Выводите ваше судно из Эльбы, и быстро.
Вот сердитый клиент с сильным акцентом подошел ко мне вплотную:
— Консул в Бреслау сообщил, что война начнется в течение двадцати четырех часов, и сказал, что я должен уезжать. Но уже два дня ничего не происходит, и я знаю, что никакой войны не будет. Я хочу получить деньги на обратный билет до Бреслау.
Настолько вежливо, насколько позволяли обстоятельства, я отправил его ко всем чертям.
Пожилая дама с полудюжиной детишек была следующей в очереди:
— Мой муж прислал мне телеграмму из Америки, чтобы я спросила у вас, что мне делать.
— Присоединяйтесь к мужу, — сказал я ей.
Мой коллега передал мне толстую стопку телеграмм из Вашингтона.
— Они все с вопросом о тете Фанни, — прошептал он.
Внезапно перед стойкой появился Янг с подносом еды. Я пробыл на работе почти двадцать часов без какого-либо перерыва, и это оказалось весьма кстати.
К тому времени все поезда были переполнены, а расписание их следования потеряло определенность. И мы организовали караван автобусов до датской границы, чтобы отправить туда всех американских граждан, кто хотел оставить страну.
Пикирующие бомбардировщики над нами вновь начали свой визг. Меня бросило в дрожь.
Оператор телефонной станции прокричал через всю комнату:
— Консульство в Копенгагене хочет знать, сколько американцев из Гамбурга им сегодня ожидать.
Я посмотрел на проверочный список передо мной.
— Всего сто двадцать семь, если только последний автобус вообще сможет проехать.
Подошел маленький смущенный посетитель, подергивая плечами. Я помню, что он был одним из тех, кого я пытался отговорить от высадки на берег неделей раньше.
— Это чертово безобразие, — начал он, — правительство не может оставить нас здесь на мели! За нами должны прислать линкор!
Я предложил ему выйти и арендовать линкор у немцев. Быть может, у них есть лишний.
Другой явился с большой страстной речью о злом Чемберлене:
— Не будет никакой войны, я знаю, что говорю. Чемберлен просто пытается нас испугать, и вы с ним заодно.
Поверх толпы я заметил одного из британских вице-консулов. Он махал мне телеграфным бланком.
На нем было написано «WARONE».
Перекрывая шум толпы передо мной и вой пикирующих бомбардировщиков над головами, я прокричал слова благодарности и приказал клерку поместить на доске объявлений уведомление, что между Англией и Германией началась война.
Толпа возле консульства начала уменьшаться, и скоро стемнело. Мы не могли включить свет, потому что еще не успели повесить черные шторы на окнах. Я пошел в туалет (в нем не было окон) и начал писать черновик телеграфного отчета в Вашингтон.
Зазвенел дверной звонок, но я продолжал писать. Когда я закончил депешу, звонок все еще звенел.
Я подошел к двери и с раздражением открыл.
У дверей стоял немного взъерошенный молодой человек.
— Могу я видеть Генерального консула? — кротко спросил он.
— Черт возьми, нет! — ответил я. — Все ушли домой, кроме меня, и в любом случае консульство закрыто до завтра. Приходите завтра.
— Но мне сказали, что я должен увидеться с Генеральным консулом, как только приеду.
— Понятия не имею, что там вам сказали. Приходите завтра. И все-таки, кто вам сказал увидеть консула?
— Государственный секретарь, сэр, — ответил юноша как-то неуверенно. — Я только что приехал из Вашингтона.
— Что, черт возьми, в Вашингтоне думают о том, что здесь происходит? — взорвался я. — Мы все свое время тратим на попытки отослать всех домой и теперь Государственный департамент начинает посылать сюда людей. Кто вы в таком случае?
— Извините, сэр, но я новый вице-консул.
Я взвыл, наверное, не самым любезным образом, но дал ему войти и сказал, чтобы он подождал, пока я закончу шифровку.
Я направился к сейфу, чтобы достать коды. К этому времени другой вице-консул вернулся в офис, чтобы мне помочь. Он держал спичку, пока я набирал код на сейфе:
— Направо — двадцать пять, налево — тридцать три, — бормотал я себе под нос и попробовал потянуть за ручку. Сейф не открывался.
— Вам надо начать слева, — предложил другой консул. Я попробовал, но сейф оставался запертым.
Новый вице-консул тихонько хихикнул.
Мы зажгли еще спичку и попробовали снова:
— Налево!
— Нет, направо.
Коробок со спичками был почти пуст, когда дверца сейфа, наконец-таки, отворилась. Еще через полчаса телеграмма была зашифрована и отослана.
Я повернулся к новому вице-консулу:
— Где вы остановились? Надеюсь, не в центре города? Британцы наверняка начнут бомбить железнодорожный вокзал в любую минуту. (Мы и не знали, что у британцев даже бомбардировщиков в строю тогда не было, и не будет еще пару лет.)
— Извините, но я остановился в отеле на вокзале. Быть может, мне стоит съехать.
Я отвез его в отель на вокзале, забрал его чемодан и привез к себе домой, чтобы он провел у меня ночь. И он все еще оставался там, когда я уже год как был оттуда переведен.
Посреди ночи зазвонил телефон. Это был клерк с телефонной станции, который сказал, что все посылаемые нами телеграммы будут остановлены цензором. Ни одна из телеграмм не была особенно важной, за исключением пары — в Роттердам и в Копенгаген, сообщавших, что там должны принять несколько сот беженцев-американцев и что они должны отправить их домой как можно скорее. Я связался с телефонисткой и попросил соединить меня с Копенгагеном по телефону. Она попыталась и позвонила мне:
— Извините, но телефонные звонки в Копенгаген запрещены.
— Попробуйте в Роттердам.
— Извините, нельзя звонить в Роттердам.
Брюссель, Амстердам, Гаага — ответ был один и тот же. Неприятно было чувствовать себя совершенно отрезанными от внешнего мира, и я позвонил в посольство в Берлине, чтобы рассказать обо всем. Временный поверенный в делах Александр Кирк ответил по телефону:
— Думаешь, я не знаю! — ответил он. — Я уже шесть часов пытаюсь дозвониться до Вашингтона.
Через какое-то время мне позвонила телефонистка:
— Я думаю, вам стоит знать, что вы можете послать телеграмму в Рим.
Это была идея, и я позвонил на международную телефонную станцию.
Через несколько минут я уже беседовал с заспанным секретарем посольства в Риме. Я попросил его позвонить в Роттердам и Копенгаген и передать мое сообщение. Затем я пошел спать.
Через несколько дней коммуникации были восстановлены, но мы должны были говорить по-немецки. Я был на проводе с консулом в Копенгагене, разговаривая с его секретарем-американкой, которая владела лишь половиной необходимого немецкого словаря. Я тоже знал только половину, но это была другая половина. Однако как-то мы ухитрялись понимать друг друга до той поры, пока я не стал вести вежливый разговор в ожидании информации из нашей справочной.
— Хороши ли, как всегда, лобстеры в Копенгагене? — спросил я.
— Я не лобстер, — зло ответила девушка.
— А я и не говорю, что вы лобстер. Я спрашиваю, хороши ли они в Копенгагене.
— Конечно, я хороша. К чему вы клоните? Я никогда не слышала более наглых замечаний.
— Я спросил, хороши ли лобстеры, черт их побери. В следующий раз, когда я буду у вас, отведу вас их попробовать.
— Попробовать меня?.. — И тут последовала отборная добрая ругань янки. Я уже хотел попытаться найти взаимопонимание еще раз, когда внезапно в разговор вмешался третий голос, свободно говоривший по-английски: «Ради Бога, говорите по-английски!»
Это был цензор.
В момент, когда Британия объявила войну, британский консул, его вице-консул и два секретаря были интернированы в лучшем отеле города. Мне было поручено заботиться о них и об их офисе.
Однажды вечером я отправился в британское консульство, чтобы взять некоторые бумаги, и покидая его, начал, как обычно, запечатывать дверь консульства восковой печатью. Было поздно и почти совсем темно. Я взял воск для печати, кусок ленточки, нашу американскую печать и приступил к работе. Потребовалось немало времени, чтобы понять, что обычный двурукий человек не приспособлен к тому, чтобы закрепить ленточку на вертикальной поверхности при помощи горячего воска. Я обжег себе пальцы. Я сжег ленточку. Весь пол я усыпал восковым порошком. Но ленточка не прикреплялась.
Внезапно я почувствовал на плече чью-то твердую руку. Громадный немецкий полицейский стоял в темноте прямо за мной.
— Немедленно спокойно следуйте за мной и не делайте никаких глупостей. Ничего бессмысленного.
— Но я американский вице-консул и у меня есть полное право находиться здесь. Я просто пытаюсь запечатать эту чертову дверь.
Полицейский твердо стоял на своем, и в конце концов я согласился пойти с ним:
— Но вначале вы должны мне помочь с этой дверью. Я не могу оставить ее незапечатанной. Вот здесь ровно подержите ленточку, пока я не нагрею воск.
Полицейский нагнулся и прижал ленточку большим пальцем. Я разогрел воск спичкой. Спичка сгорела, и я ничего не видел. Я приложил кусочек воска туда, где, по моему мнению, полагалось быть ленточке. Полицейский подпрыгнул, едва удержавшись от ругани.
— Это был мой палец, — сказал он удрученно.
— Простите, — извинился я и попытался снова.
В конце концов, мы закрыли дверь, соединили ленточку, воск и печать воедино, и все было сделано наилучшим образом, или «alles in butter», как говорят немцы.
— Что теперь? — спросил я полицейского, после того как поблагодарил его.
— Вам лучше всего пойти со мной в управление полиции и рассказать вашу историю в гестапо.
В полицейском управлении на Центральном вокзале капитан никак не мог найти телефон гестапо, что дало мне пару прекрасных возможностей для зубоскальства по поводу тайной полиции, которая настолько секретна, что ее никто даже не может отыскать. Но в конце концов мы с этим справились, и капитана послали куда подальше. Сотрудников консульства нельзя задерживать ни при каких обстоятельствах, сказали ему, и кроме всего прочего, американский консул уже всех чертей поднял на ноги, разыскивая своего пропавшего вице-консула.
Только я собрался уходить, как впервые с начала войны прозвучала сирена воздушной тревоги.
Капитан подчеркнуто вежливо предложил всем спуститься в подвал.
— Только не я, — упрямо сказал я.
Капитан озадаченно взглянул на меня:
— Но пожалуйста, герр вице-консул! Все должны спуститься в подвал. Кроме того, у нас очень симпатичный подвал с комнатой для посетителей и несколько бутылок превосходного мозельского вина. Вы же знаете закон! Все должны идти.
— И вы задержите меня снова, если я не пойду, я полагаю? И опять получите нахлобучку за то, что арестовали сотрудника американского консульства?
Капитан недоуменно пожал плечами, когда я отправился на улицу. Последние из пешеходов бежали под крыши. Сирена дико завывала. Самолет жужжал вверху где-то на уровне крыш. Я не собирался смотреть вверх, будучи уверенным, что это британский бомбардировщик и что в этот момент я могу быть разорван на кусочки. Я торопливо шел по пустынным улицам. Я старался не бежать на тот случай, если кто-нибудь признает во мне американского вице-консула и увидит, как он напуган. Притормозила проезжавшая мимо полицейская машина:
— Спуститесь в подвал, — крикнули они и умчались.
В конце концов, запыхавшийся и до полусмерти напуганный, я добрался до консульства. Генеральный консул ждал меня у дверей:
— Не переживай, — сказал он. — Только что позвонили из Центра противовоздушной обороны и сказали, что это была учебная тревога.
В отеле «Атлантик», где жил наш консул и был интернирован британский контингент, жизнь шла скучновато. Но каждый вечер мы собирались в номере нашего генерального консула и слушали передачи Би-би-си, дававшие обзор событий «странной войны». Гестаповцы, охранявшие наших британских друзей, поначалу стеснялись игнорировать приказ доктора Геббельса, запрещавший слушать Би-би-си, но очень скоро нам удалось убедить их, что они не могут оставлять своих британских пленников без присмотра, когда те слушают новости.
Однажды ранним утром спустя две или три недели с начала войны из Берлина последовал звонок с вопросом, кто из персонала британского консульства арестован и помещен в тюрьму. Я ответил, что еще вчера вечером все британцы были на месте и в тюрьму никого не забирали. Но Александр Кирк, а звонил именно он, настаивал на своем и в конце сказал:
— Хорошо, раз они пока не в тюрьме, значит, скоро будут. Немецкое Министерство иностранных дел только что сообщило мне, что они намерены двоих из них взять в заложники за то, что немецкого консула и его секретаря британцы арестовали в Глазго.
Я поспешил в отель и обнаружил всех четырех британцев за плотным английским завтраком. Мои новости слегка их взволновали, и они начали размышлять о том, кого из них немцы выберут. Кроме двух консулов, в состав контингента входили две секретарши, одна из них была плотная тридцатилетняя англичанка, а вторая — восемнадцатилетняя дочь местного английского предпринимателя, которая ни разу не ночевала вне дома, до того самого вечера, когда немцы ее интернировали. Через пару минут после моего прибытия явилась пара немецких полицейских детективов с ордером на отправку в гамбургскую тюрьму младшего из консулов и восемнадцатилетней девушки. Мы напутствовали их добрым словом, а я пообещал позвонить им в течение дня.
Я сумел добраться до тюрьмы во второй половине дня. Тюрьма совсем не выглядела по-домашнему уютной. Пока я сидел в комнате для посетителей, я слышал клацанье железных засовов и позвякивание подкованных сапог о стальные полы коридоров. Через несколько минут ко мне привели юную девушку. Как только она меня увидела, то тут же бросилась мне на шею и разразилась истерическим плачем. С трудом высвободившись, я старался успокоить ее, как только мог. Я передал ей несколько пижам и пакет со всем, чем ее обеспокоенная мать посчитала нужным снабдить свою дочь. Девушке я пообещал, что скоро приду опять навестить ее. Как только секретаршу повели обратно в камеру, я отправился к себе и стал звонить шефу гамбургской полиции:
— Вы могли взять в качестве заложницы любую из двух девушек, — сказал я ему. — Одна из них — крупная и сильная женщина, которой недолгое пребывание в тюрьме вреда не нанесет. А вот другая — это несчастный маленький ребенок, который, возможно, не справится с последствиями пребывания и одной ночи в тюрьме. И вы выбрали именно юную.
Шеф полиции чувствовал себя виноватым и сказал, что все понимает и постарается что-нибудь сделать. Я вернулся в тюремную комнату ожидания как раз в тот момент, когда в нее ввели английского консула, сопровождаемого двумя гестаповскими охранниками. Директор тюрьмы, отставной армейский полковник, предупредил, что мы можем говорить только по-немецки.
Я сказал директору, что сделал заказ на то, чтобы еду для обоих британских граждан привозили из отеля «Атлантик». Я также принес кое-какие мелочи, в которых мог нуждаться консул. И прежде всего я достал из моего портфеля коробочку со снотворными таблетками. Этому немедленно воспротивился директор.
— Я заберу их себе и буду давать консулу по одной каждый вечер.
Консул впал в ярость:
— Что вы, немцы, думаете о нас британцах? Вы полагаете, что раз вы заперли нас в этой вонючей тюрьме, так мы покончим с собой? Еще до того, как закончится война, это вы, а не мы, будете пытаться покончить с жизнью.
Директор слегка растерялся и, в конце концов, согласился с тем, чтобы таблетки находились у консула.
Я решил воспользоваться уступкой тюремщика и продолжил наступать.
— А здесь бутылка шотландского виски. Англичане всегда пьют виски с содовой и с кусочком льда в шесть часов вечера. Я буду присылать лед и воду из отеля, — сказал я директору, — и уверен, что вы будете так любезны, что подадите их консулу в камеру ровно в шесть вечера.
Директор не выглядел довольным моим предложением, но все-таки пообещал проследить за тем, чтобы англичанину подавали его скотч с содовой каждый вечер.
Эта новая уступка вдохновила меня на попытку выяснить, насколько далеко мы можем зайти.
— И еще одна вещь, — продолжил я. — За полчаса до ужина, который накрывается в восемь часов вечера, англичане всегда пьют коктейль — обычно «Мартини». Я принес с собой шей-кер и все, что необходимо смешивать, а из отеля пришлют лед. — Я полез в портфель, достал оттуда бутылки джина и вермута и повернулся к директору:
— Теперь берем четыре части джина и одну часть вермута, наливаем их в шейкер и…
И тут я понял, что достиг предела терпения директора, потому что он буквально взорвался:
— Черт возьми! Я разрешил ему иметь таблетки со снотворным, его виски и содовую. Он даже может иметь джин и вермут, но будь я проклят, если стану еще и коктейли смешивать для моих узников.
Через несколько дней Лондон смягчился и освободил немецкого консула в Глазго, а британский консул и его секретарша с триумфом вернулись обратно в отель «Атлантик».
Глава 15 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕРНУТЬСЯ
После четырех лет в Москве и года в Берлине в Государственном департаменте мне сказали, что в Советский Союз мне не придется возвращаться лет десять. Но через девять месяцев в Гамбург поступила короткая телеграмма, предписывавшая мне вернуться назад в Москву «как можно быстрее». (Государственный департамент всегда требует от тебя отправиться к новому месту службы прежде чем оформлены все необходимые приказы, поэтому каждый раз, когда я приезжал на новое место, мне удивлялись, поскольку не ждали меня так скоро. Наверное, я воспринимаю Департамент слишком серьезно.)
Однако я был намерен взглянуть в последний раз на Запад, прежде чем война сожжет его дотла. Итак, я направился в Лондон в десятидневный отпуск через пока еще нейтральный Брюссель. Я приехал на германскую границу в Экс-ла-Шапель поздно ночью. Мне сообщили, что граница «закрыта на ночь». Пограничники были упрямы и не собирались меня пропускать до тех пор, пока я не стал настаивать, что везу некоторые важные документы. В это время Самнер Уэллс [159] находился с мирной миссией в Берлине. И даже гитлеровские пограничники не хотели, чтобы война продолжалась, если есть возможность ее остановить. Хотя я не делал заявлений о том, что везу предложения о мире, они, вероятно, подумали, что как раз мое немногословие является признанием секретности и срочности моей поездки. Фактически же единственным официальным документом, которым я располагал, был мой паспорт. Как бы то ни было, но земля и небо начали свое движение, чтобы граница открылась перед таинственным курьером. Они осмотрели машину, багаж и, наконец, велосипед, предназначенный для того, чтобы я преодолел на нем одну или две мили до места, где начиналась бельгийская железная дорога. Когда я уже закрепил мой чемодан на багажнике велосипеда и был готов отправиться в темноту ночи, командир пограничников предупредил меня, что со своим последним часовым они не могли поговорить по телефону и он не предупрежден о моем появлении. Поэтому часовой может начать стрелять по мне. Командир предполагал, что я возьму риск на себя. Однако мысль о том, что меня могут застрелить из-за одного лишнего дня отпуска, совсем мне не понравилась и кроме того, международная ситуация и так была напряженной, не хватало только застреленного в ночи американского вице-консула. Я вежливо сообщил ему, что определенно возражаю против того, чтобы продолжать движение на свой страх и риск. Я вновь снял свой чемодан и отправился в станционный отель, где вскоре расположился во вполне приличном номере. Едва я собрался спать, как ко мне явился командир пограничной стражи.
Не буду ли я возражать против того, что меня отвезут на железнодорожном локомотиве, который они смогли для меня снарядить?
Я согласился, что паровоз будет вполне безопасным средством, и уже через час я пересекал границу в кабине персонального поезда. Тем же вечером меня развлекали в лучших ресторанах Лондона как «последнего пассажира» из Германии.
В течение трех дней меня поили и кормили всем городом. Но затем кто-то еще вернулся из Германии, и обо мне позабыли. Случилось и еще кое-что, что ускорило мою подготовку к отъезду в Москву. Из Гамбурга я привез с собой несколько листовок, которые сбрасывали с самолетов Королевского воздушного флота. Лишь немногие из этих листовок попадали в Гамбург, очевидно, по причине неверных представлений о том, где расположен Гамбург. Но вот большой лес, который находился в двадцати милях к северу от города и где я часто охотился по выходным, был буквально завален листовками. Опираясь на сведения о действительном месторасположении Гамбурга, Королевский воздушный флот, в конце концов, исправил тот навигационный огрех, который вызвал столь незначительную ошибку.
По некоторым причинам (возможная скромность Министерства информации или, что еще более вероятно, вполне объяснимое стремление избежать публичной, не совсем уж заслуженной критики качества листовок) их решено было считать «секретными», и британские газеты не смогли получить их копии. В один из моих первых лондонских вечеров, не подозревая о скрытности Министерства информации в этом вопросе, я передал образцы листовок нескольким американским журналистам. Уже следующим утром фотокопия одной из них появилась на первой полосе лондонской газеты. В палате общин был немедленно инициирован запрос и принято решение установить источник утечки.
Я уехал в Москву на следующий день.
Москва не слишком изменилась за те два года, что я отсутствовал. Появились, конечно, новые лица среди дипломатов, и по сравнению с прошлым значительно вырос немецкий контингент. В политическом отношении партийная линия совершила несколько зигзагообразных поворотов, в результате которых немцы стали очень хорошими друзьями, а американцы — очень злыми врагами. Но это означало и то, что немецкому дипломатическому контингенту приходилось вести себя исключительно вежливо по отношению к советским официальным лицам. Теперь они уже не могли проезжать на красный свет, или посылать к черту советских милиционеров, или грубо критиковать пятилетки. Как тоскливо выразился один из немецких дипломатов Гебхардт фон Вальтер[160]: «О господи, где вы добрые старые деньки плохих отношений!»
Наши отношения с русским населением были ограничены, вероятно, как никогда ранее, и даже поездки стали трудными до невозможности. Как только моя обычная жизнь пошла своим чередом, я предпринял попытку выбраться в деревню. Во-первых, я обратился в «Интурист» с просьбой забронировать для меня билет на одном из экскурсионных волжских пароходов, но «Интурист» с сожалением ответил, что все пароходы на ремонте. Тогда я стал просить о посещении одного из конных заводов вблизи Москвы. Завод тоже, как мне объяснили находился на ремонте. Когда я спросил, как вам удалось поставить на ремонт ферму по разведению лошадей, мне ответили, что в этом они не специалисты. Однако, в конце концов, мне сказали, что я могу отправиться на самолете в Ростов-на-Дону и посетить несколько местных хозяйств. Полет на самолете оказался довольно нервным мероприятием, потому что самолет тоже весьма нуждался в ремонте, но после нескольких незапланированных посадок на свекольных полях и прямо в степи мы, наконец, прибыли в Ростов, где меня с большой сердечностью встретила половина местного городского начальства.
Я попросил организовать мне на следующий день поездку в колхоз. Начальство переглянулось между собой в некотором замешательстве, и один из них с сожалением ответил мне, что в Ростовской области нет колхозов, но зато в самом Ростове есть замечательный завод шампанских вин. Я сказал, что не хочу никаких заводов шампанского и я удивлен, что мне не хотят показывать колхозы. Они сказали, что это особый завод шампанского и что каждый культурный человек просто должен увидеть его, поскольку он создан на научной основе и само шампанское очень хорошее. Кроме того, те колхозы, которые достойны моего внимания, находятся за несколько сотен миль отсюда. Я сказал, что убежден в высоком качестве шампанского, но по-прежнему не хочу его дегустировать, и что я удивлен тому, что в Ростовской области нет колхозов. И добавил, что мои московские друзья из американской газеты заинтересуются тем, что в противоположность сообщениям советской прессы в Ростовской области коллективизация не достигла 99,9 процента. В сложившихся обстоятельствах я полагаю, что должен послать им телеграмму и попросить исправить эту довольно серьезную ошибку. Можно ли мне раздобыть телеграфный бланк, чтобы я мог послать сообщения московскому корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс»? Городские начальники разволновались еще больше и спросили, а не хочу ли я прежде всего отправиться в гостиницу и принять ванну. Я сказал, что вначале хочу определиться с маршрутом на завтрашний день. Иначе следующим утром мне придется доставить им много хлопот. Они предположили, что, кажется, в двадцати милях есть один небольшой колхоз, куда бы я мог съездить после посещения завода шампанских вин. Я сообщил, что готов согласиться со всем этим, если мне предоставят автомобиль, который отвезет меня на завод шампанского, останется в моем распоряжении и не будет отправлен в ремонт, как только привезет меня на завод. Они признали логичность моей просьбы и обещали, что я смогу использовать интуристовскую машину весь день.
Следующим утром интуристовский «форд» повез меня на завод шампанского. Я так быстро прошел здание завода, что когда я вышел с другого его конца, сопровождавшие меня люди отставали на сотню ярдов. Во дворе я обнаружил, что «форд» исчез. Я был исполнен негодования, когда меня догнал директор завода и объяснил, что меня ждут в его кабинете на церемонию дегустации. Я сказал, что до обеда вообще не пью и не перестану возмущаться, пока выделенная мне машина не отвезет меня в колхоз. В этот момент появился председатель городского Совета (мэр) и обещал предоставить мне его собственную машину, если только я приду на дегустацию. Он объяснил, что вся местная бюрократия в полном составе, включая председателя областного Совета (губернатора), и весь городской Совет рассчитывали на эту дегустацию, с момента как Москва сообщила о моем предстоящем приезде. Они будут очень огорчены, если их американский друг подведет их в последний момент. И, кроме того, сейчас уже одиннадцать часов, и они уверены, что я могу чуть-чуть сдвинуть свой обычный распорядок ради русско-американских отношений. Но в отношении автомобиля я по-прежнему оставался в большом сомнении и в конце концов, согласился взять ключи от «линкольна» мэра, чтобы никто не смог забрать машину. С этим я положил ключи в карман и присоединился ко всей ростовской элите в зале для дегустации.
Все мероприятие началось с общепринятых здравиц: за Сталина, за Рузвельта, за Халла[161], за Молотова, за Микояна — главу Комиссариата по продовольствию. А кто возглавляет американский Комиссариат по продовольствию? Я подумал, что на этот пост можно назначить Мистера Частная Инициатива, но решил, что просто поразмышляю об этом про себя.
Затем директор завода в длинной речи стал славить советскую промышленность и объяснять, как Сталин решил сделать всех счастливее, дав каждому достаточно шампанского. После него технический директор, старый француз, который сел на мель в послереволюционной России, поднялся и произнес длинную благодарственную речь, в которой сказал, что виноделы Франции должны последовать примеру прогрессивных виноделов Советской России и научиться делать хорошее шампанское за шесть месяцев, вместо того чтобы ждать несколько лет, пока грязная старая буржуазная субстанция не превратится в то, что мы имеем сегодня. Когда старый француз сел на место, он повернулся ко мне и прошептал:
— Вам приходилось слышать когда-нибудь подобную вонючую чепуху?
И тут я понял, что с меня хватит, и объявил, что еду смотреть колхоз. Поднялся общий вопль протеста. Они даже не начали демонстрировать их новое красное шампанское, которое они изобрели благодаря руководству Сталина и Микояна. Я сказал, что пробовал красное шампанское во Франции и кроме того, мой доктор запретил мне его пить вообще. А как насчет шестидесятилетнего бренди «Наполеон», который они смогли произвести за три месяца благодаря прогрессивной советской науке? Я сожалел еще больше, но от шестидесятилетних спиртов мне становится плохо. А не хочу ли я попробовать их безалкогольное шампанское? После этого предложения я состроил такое лицо, что они, наверное, подумали, что мне станет плохо прямо сейчас. В конце концов они бросили это дело и проводили до ожидавшей меня машины. Но только после того, как я со всем удобством разместился на сиденье за водителем, я отдал ему ключи и сказал, что мы можем ехать. Мэр и невысокий человек в знакомом мне синем костюме от ГПУ, которого мне представили как агронома, уселись рядом со мной.
Прежде чем шофер тронулся с места, мэр, «агроном» и шофер вдоволь нашептались между собой. На первом же перекрестке шофер повернул в направлении центра города. Я со всей возможной твердостью указал ему, что в Ростове уже бывал и что он едет в город, вместо того чтобы направляться из города, и что я знаю, что в городском Совете колхозов нет и, пожалуйста, немедленно разворачивайтесь и поезжайте в противоположном направлении. Он, должно быть, впечатлился, пожал плечами, развернулся и направился за город.
Мы ехали уже минут десять, когда «агроном» наклонился вперед и рассерженно что-то прошептал шоферу. Поэтому я не удивился, когда через мгновенье тот чуть не вытащил ручку дросселя из панели. Мотор кашлянул и заглох. Шофер выглядел довольным и сообщил:
— Извините, мотору капут. Надо идти домой.
Я наклонился вперед, нажал на дроссель, предложил ему нажать на стартер и двигаться дальше. Я не был прогрессивным советским шофером, допускаю, но кое-что о буржуазных американских автомобилях я знал. Шофер снова пожал плечами, завел мотор, и мы поехали.
Прошли еще пять минут, и снова «агроном» начал перешептываться с шофером. Мгновенье спустя шофер выключил двигатель, выпрыгнул из машины, поднял капот и начал что-то там дергать. Было очевидно, что если дать ему еще хоть полшанса, то он поломает двигатель. Я перебрался на шоферское место, завел мотор и сказал водителю, что если он поедет с нами, то пусть садится рядом. После этого я c довольно приличной скоростью двинулся дальше по дороге.
На заднем сиденье немедленно начался возмущенный митинг.
— У вас нет прав вести советский автомобиль.
Я сказал им, что мэр лично передал его мне и я не виноват, что шофер либо не компетентен, либо саботажничает. После этого мэр притих, но «агроном» разъярился пуще прежнего.
— У вас нет прав вести машину без лицензии.
Я достал мои водительские права и передал их назад для изучения.
— Вы нарушаете правила дорожного движения, и вас надо арестовать, — сказал он.
Я передал назад свое дипломатическое удостоверение, в котором говорилось, что меня арестовать нельзя.
— Вы похитили мэра, и мы пошлем запрос в Москву, чтобы вас отозвали, когда мы вернемся, — продолжал «агроном».
Я остановил машину и предложил мэру выйти, если он того хочет. Он не захотел, и я поехал дальше.
К этому времени мы уже уехали довольно далеко от города, и во все стороны раскинулись равнины долины Дона. В миле или чуть больше впереди от нас дорога проходила мимо амбаров и изб, которые, очевидно, и были колхозом, поэтому я остановился и вышел из машины. Через пять минут гордый председатель колхоза уже показывал приезжему американцу свои посадки, в то время как «агроном» и мэр подавленно плелись позади. Председатель сказал мне, что они сняли небывалый урожай, что видно по их амбарам и только что убранным полям и что потери урожая совершенно незначительны. Скот в хлевах выглядел гладким и упитанным. Это был, наверное, один из самых преуспевающих колхозов, который я видел за те годы, что провел в России.
— Вы должны гордиться этим, — сказал я, подчеркнуто обращаясь к «агроному», но тот выглядел хмурым и ничего не произнес в ответ.
Когда я собрался в обратную дорогу в город, то предложил снова вести машину, но водитель с озорством в глазах сказал, что сможет довести машину до города. Через полчаса мы с мэром уже сидели в моем номере в гостинице и пили стаканами виски. «Агроном» исчез — без сомнения для того, чтобы отрапортовать о возмутительном поведении американца. Я повернулся к мэру:
— Не вижу смысла в том, что вы хотите предотвратить посещение американцами ваших колхозов. Они в лучшем состоянии, чем были когда-либо. Вам следует показывать и гордиться тем, что вы сумели сделать.
Мэр выглядел беспомощно и вознес руки к небу:
— Мне приказали, чтобы вы не покидали город.
Через два дня, когда я вернулся в Москву, я рассказал в Наркомате по иностранным делам о моих приключениях.
— Но не осуждайте мэра, — добавил я. — Он сделал все что мог.
Если не считать моей поездки в Ростов и пары курьерских набегов на Персию, мы были заперты в Москве вместе с ее маленькими удовольствиями. Одним из них был «роллс-ройс» сэра Стаффорда Криппса. Когда-то он принадлежал одной британской подданной, умершей в Ленинграде, и чтобы распорядиться ее имуществом, сэр Стаффорд Криппс, в то время британский посол, выставил его на продажу. Старший механик американского посольства Стэннард, парень из ВМФ, осмотрел машину и доложил, что она может пригодиться. Вместе мы организовали покупку за пятьдесят долларов и прикупили еще и сломанную пишущую машинку. Сэр Стаффорд выглядел довольным сделкой, и мы были рады тоже.
«Роллсу» было двадцать пять лет. Это был настоящий лимузин, и его каретоподобный кузов был настолько высоко посажен на шасси, что он смотрелся выше всех на дороге. От бампера до бампера его длина составляла около тридцати футов. Но Стэннард настаивал, что двигатель еще способен на многое. Какими бы ни были обстоятельства, Стэннард умел с ними справляться.
И однажды вечером мы с ним вдвоем отправились по единственной хорошей дороге в Москве — Можайскому шоссе, которое вело к моей даче и, совершенно случайно, к даче Сталина тоже.
Старомодный кузов немедленно привлек внимание других автолюбителей, и вскоре мы стали объектом бесчисленных шуток об отсталых капиталистах. В конце концов мы пресытились прогрессивным советским остроумием, и как только обнаружился очередной весельчак, мы предложили ему «небольшую гонку». Надо было начать гонку через километр от того места, где мы находились, а закончить еще через километр — где-то в полумиле до крутого поворота, который делает шоссе перед опасным тоннелем. Русские приняли вызов и согласились на ставку в двадцать рублей. Они с некоторой вальяжностью отправились к месту старта на своем советском «форде», который был хорошей машиной, способной развивать скорость в шестьдесят пять миль в час.
Как только они двинулись, Стэннард и я принялись за работу. Я сел за баранку. Как объяснил Стэннард, это было самое простое. Он взял на себя контроль: подкручивал вентили, подкачивал насосы и следил за рукоятками. «Роллс» начал набирать скорость. Стэннард подкачал насос сильнее, и мы повели машину на более высокой передаче. Спидометр не работал, но я видел, что мы двигались совсем неплохо, пока добирались до линии старта. Русский «форд» ждал нас, но, имея большее стартовое ускорение, скоро оказался впереди.
К этому времени Стэннард весь покрылся потом, работая насосом, крутя ручки и двигая переключателями. И затем он перешел на сверхскоростную передачу. Я держался за огромный руль, как за драгоценную жизнь, пытаясь держать высокий кузов машины ровно. Через несколько мгновений мы уже с ревом мчались по шоссе со скоростью не меньше семидесяти пяти миль в час. Мы обогнали русский «форд» на предельной скорости и пересекли линию финиша в сотне ярдов впереди него.
Но теперь надо было поработать над тем, чтобы сбросить скорость. Я нажал на педаль ножного тормоза что было силы. Стен-нард отпустил ручной тормоз, одновременно откручивая вентили и отключая передачу. С большой неохотой колымага нас послушалась, и через одну или две минуты мы выехали на обочину дороги как раз перед тоннелем. Мы сидели, обессилев от изнеможения, когда опозоренные русские подъехали и стали рядом с нами, передав нам двадцать рублей. И до того, как они уехали, я все-таки смог провести кое-какие сопоставления старомодной британской техники и прогрессивной советской инженерии.
Несмотря на некоторую нервную нагрузку и физические усилия, мы нашли, что такой спорт нам нравится, и еще несколько раз устраивали гонки на шоссе, чтобы заполучить несколько честно заработанных рублей. Но когда однажды вечером советник посольства Уолтер Тарстон[162] увидел нас за этим занятием, то на следующий день позвонил мне и сказал, что не совсем прилично дипломатическому секретарю заниматься гонками на «роллс-ройсе» по любимому шоссе Сталина. И кроме того, все это не выглядит таким уж безопасным занятием.
У старого «роллса» был довольно печальный конец. Когда началась война с Германией, мы поддерживали его в рабочем состоянии на случай спешного отъезда из Москвы. Мы думали установить пару больших канистр с бензином на заднее сиденье и двигаться вместе с караваном посольских машин, пока машина не сломается. По меньшей мере он мог служить как бензовоз, пока будет способен передвигаться. Но мы оставляли Москву на поезде, а «роллс» остался стоять бесхозным на заднем дворе посольства до начала немецких налетов с зажигательными бомбами. Одна из бомбочек скатилась по крыше и попала на заднее сиденье машины. К счастью, она не взорвалась. Но бомба совершенно вывела «роллс» из строя. Мне кто-то позднее сказал, что никель с его радиатора был продан в советский трест по металлолому за семьдесят пять долларов — и это неплохая сделка, учитывая, что мы купили его за пятьдесят у будущего канцлера британского казначейства.
Но и после этого «роллс» не упустил случая принести пользу. Когда в Москве стало совсем туго и весь дипломатический корпус и правительство были эвакуированы в Куйбышев, и когда все оставшиеся американцы собрались в резиденции посла в Спасо-хаусе, то они оказались в крайне стесненном положении с точки зрения сантехники. И наш посольский плотник Лейно, очень интеллигентный и умелый американский финн, выкопал яму под дифференциалом и после некоторой модификации разбомбленного заднего сиденья превратил машину в, вероятно, первый роллс-ройсовский ватерклозет в истории санитарно-технического дела.
Глава 16 В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЙ ХОД
Перед Второй мировой войной самым желанным посетителем американского посольства в Москве был дипломатический курьер из Вашингтона. Он приезжал не в санях, запряженных северными оленями, и не носил белой бороды, но зато появлялся каждый вторник, а не только на Рождество. И он привозил не одни только сверхсекретные инструкции государственного секретаря, но и письма из дома, а также все остальное, что Советы не включали в свой пятилетний план, — от медицинских пластырей до подвесных моторов.
Когда война началась, курьер стал одной из ее первых жертв. «Северный экспресс» из Парижа до советской границы перестал ходить еще до войны[163]. И маршрут курьера изменили, сперва он стал ездить через Скандинавию или Швейцарию, но по мере того, как война набирала ход, его стали направлять все более южным путем, пока курьеру не пришлось пробираться через Центральную Африку и далее на север в Иран. В Тегеране кто-то из посольства встречал его, забирал посылки и вез в Москву. Во время одной из таких поездок в Тегеран я и открыл Джульфу — черный вход в Россию.
До войны обычным путем из Тегерана в Москву была поездка на машине до Казвина и затем через горы Эльбурса до порта Пехлеви[164] на южном берегу Каспийского моря. Там раз в неделю можно было сесть на маленький советский пароход под названием «Боевой», и если не мешала погода, он довозил тебя до Баку. Оттуда до Москвы можно было доехать на русском «Экспрессе». (Русский «Экспресс», или скорый поезд, был в каком-то отношении уникальным явлением. Однажды у меня ушло пять дней на то, чтобы преодолеть на нем шестьсот миль. По моим прикидкам, это составляло пять миль в час, если мои расчеты совпадают с вашими.)
Но существовал и другой путь из Тегерана в Москву, хотя об этом едва ли кто-нибудь слышал. Фактически и я узнал о нем от одного старого немецкого бродяги-путешественника, который однажды, еще до революции, воспользовался им. Этот путь пролегал через южный Кавказ и вообще миновал Каспийское море.
Если у вас есть оформленная виза на пересечение границы таким путем, то вы можете проехать Казвин и держаться западнее — на Тебриз, столицу Курдистана. Из Тебриза малоезженая дорога ведет на север, в деревню Джульфа на персидской стороне Кавказских гор.
У Джульфы две части — персидская и русская[165]. Их разделяет маленькая бурная горная река Аракс. Старый ржавый железный мост служит единственной, пусть и шаткой связью между ними. Его построили еще в царские времена, когда железная дорога — уже давно заброшенная — связывала Тебриз с Тифлисом в русской Грузии. По меньшей мере так обстояло дело до 1940 года. Позднее, когда Персия[166] стала маршрутом поставок в Россию, все вполне могло измениться. Но с тех пор я там больше не бывал — по причинам, которые вы скоро поймете, и в ближайшее время не планирую.
Путь через Джульфу был официально закрыт уже много лет, и я всегда путешествовал через Пехлеви и Баку, и каждый раз давал себе обещание, что это в последний раз. Ведь Каспийское море за последние несколько сотен лет измельчало, и достаточно было паре персидских комаров в него бултыхнуться, чтобы разыгрался первоклассный шторм. И кроме того, «Боевой» был чем угодно, только не роскошным лайнером. Его мореходные качества были не лучше, чем у каноэ, и к тому же он являлся природной средой обитания для тараканов и клопов. А пересечение гор между Казвином и Пехлеви было, как я знал, сплошной нервотрепкой. Дорога там очень узкая, продуваемая сильными ветрами, особенно резкими в ущельях и долинах горных рек.
По ней днем и ночью с ревом и головокружительной скоростью двигался бесконечный поток перегруженных, качавшихся из стороны в сторону грузовиков, водители которых не брезговали курением опиума. Однажды мне довелось провести два дня на самой вершине перевала, пытаясь вызволить американского дипломатического курьера — отставного агента ФБР — из сложной ситуации: он сам заболел дизентерией в острой форме, а у машины сломался задний мост. Но это другая история.
Итак, курьер приехал и передал свои посылки мне, а я попросил советского консула в Тегеране дать мне визу на дорогу через Джульфу. Он отнесся к моей просьбе весьма сочувственно, но, прежде всего, сказал, что граница там закрыта. Но я просил его войти в положение, напоминая о «Боевом» и горной дороге. Я живописал свою аллергию на клопов и горы. Консул, очевидно, являл собой один из самых ярких образчиков человечности, встречающихся в роду бюрократов, потому что выслушал меня с симпатией и, в конце концов, дал мне визу на Джульфу.
Пока он не передумал, я нанял машину и отправился в Тебриз. Мой водитель-мусульманин счел возможным взять с собой одну из своих жен и годовалого младенца.
— Им понравится поездка, — сказал он. Не знаю, насколько поездка понравилась его жене, но в течение всей ночи, которую занял у нас путь от Тегерана до Тебриза, ребенок орал не слабее пожарной сирены.
От Тегерана до Казвина, где главная дорога поворачивает на север к Пехлеви, бесконечная череда грузовиков поднимала ввысь такую пыль, что мы с трудом различали края дороги. В Каз-вине мы покинули главную автостраду и направились в Курдистан. Движение стало заметно слабее, и лишь изредка на дороге нам встречались грузовики или пассажирские автомобили. Было очевидно, что иранцы нечасто ощущают потребность ездить в дикую горную страну курдов.
Тебриз когда-то был самым южным пунктом на железной дороге из Тифлиса[167], и его каменные строения все еще сохраняли странную, затхлую европейскую атмосферу в городе, во всем остальном целиком восточном. Ночь я провел в старой ветхой гостинице, и рано утром мы вдвоем с водителем, но за вычетом матери с ребенком, двинулись прямиком на север к границе. Движение прекратилось совершенно, если не считать редких караванов из ослов или верблюдов и иногда попадавшихся на дороге одиноких аборигенов. К обеду мы достигли подножия Южного Кавказа и, проехав несколько миль по малонаселенным безводным холмам, въехали в наполовину заброшенный жителями пограничный городок Джульфа. Представляю, что когда-то, когда железная дорога функционировала, Джульфа могла быть весьма оживленной небольшой проездной станцией. Но сегодня это даже не конечный пункт. Каменное здание вокзала, выстроенное в западном стиле, было заброшено, окна выбиты. Его окружали саманные дома с плоскими крышами, как везде на Востоке. Когда мы проезжали базар, то заметили, что половина лавок, выстроившихся по обе стороны дороги, была закрыта. Лишь у одной или двух были открыты ставни и только для того, чтобы полусонные лавочники могли спрятаться в их тени. В тусклом освещении лавок за спинами продавцов можно было различить бутылки с шафраном или карри, пару старых покрышек, и конечно, несколько сломанных керосиновых ламп. Мы остановились в центре деревни возле придорожной чайной и спросили, где найти начальника таможни. Хозяин чайной подтвердил, что таковой имеется, но добавил, что поскольку граница давно закрыта, он не представляет, где его искать. Я сел за маленький пыльный столик в тени высокого платана и послал водителя на поиски пропавшего служащего.
В чайной, очевидно, нечасто бывали посетители, потому что им понадобилось с полчаса, чтобы вытащить старый медный самовар и приготовить чашку весьма приятного чая.
Едва я покончил с чаем, как мой шофер вернулся вместе с полусонным, седобородым пожилым господином в форменной фуражке. Он с важностью отдал мне честь, поклонился и объявил, что, несмотря на неурочный час — это было, без сомнения, время его сиесты — он к моим услугам. Я сообщил ему, что хочу перейти границу в Россию. Он заморгал от неожиданности и попросил повторить. Я сказал, что хочу пересечь мост и попасть в советскую Джульфу.
— Пересечь границу? По мосту? Советская Джульфа? Но этого никто не делает, вот уже двадцать лет, как никто не переходил здесь границу. И кроме того, русские не позволят вам.
Я показал ему мой паспорт, и он принялся изучать советскую визу.
— Быть может, в вашем паспорте так и написано — но эти консулы в Тегеране просто ничего не понимают. И зачем вам в советскую Джульфу? Знаете ли вы, что это такое?
Я объяснил, что лишь хочу пройти через Джульфу, и на самом деле пункт моего назначения — Москва.
— Москва! Да хранит тебя Аллах! Джульфа — это плохо, но Москва! — Он покачал головой, соболезнуя непросвещенному иностранцу.
— Американец, — бормотал он сам себе, — и он хочет в советскую Джульфу и в Москву.
Он, по-видимому, считал реку Аракс границей обитаемого мира. А за ней лежал неведомый другой мир — Россия. В конце концов я внушил ему, что независимо от того, сошел ли я с ума или нет, но я пойду через границу.
— Иншалла — на все воля Аллаха! — наконец произнес он. — Если вы должны, я позволю вам — но помните — это все под вашу ответственность.
Мы забрались обратно в машину и проехали на север с милю или две, двигаясь вдоль железнодорожного полотна, пока не подъехали к реке Аракс, где ржавый старый мост на эстакаде держал на себе рельсы, ведущие в Советскую Россию. На южном конце моста стояла маленькая деревянная будка, на которой виднелась выцветшая надпись «Пограничный пост». Внутри нее, положив ружье на живот, дремал персидский солдат. Начальник таможни достал несколько резиновых печатей, которыми украсил мой паспорт, позаимствовав у меня автоматическую ручку, добавил к ним несколько нечитаемых иероглифов и официально провозгласил, что я покинул империю Шаха. Солдат взял мои сумки и дипломатическую почту и выставил на середину эстакады. Таможенник с серьезным видом пожал мне руку и тяжело взобрался в машину, словно он выполнил на редкость трудную дневную работу.
Он посмотрел на меня одно мгновение и затем опустил окно машины, чтобы его было слышно:
— Друг мой, вы действительно уверены, что знаете, что вы делаете? — по-отечески спросил он. Я кивнул утвердительно. Он сочувственно покачал головой, и машина тронулась. Через несколько минут и он сам, и водитель, и машина уже двигались по пустыне к югу и скоро скрылись в облаке мелкой пыли.
Уже смеркалось, когда я наконец ступил на мост. Дул легкий ветерок, и ржавые железные перекладины и балки у меня над головой потрескивали и позванивали. Когда я переступал с одной шпалы на другую, мои ботинки вязли в прогнившем дереве. Между шпалами было видно, как в сорока футах внизу поблескивали речные водовороты. Пролет моста длиной был не больше сотни футов, но казался бесконечным. И только когда я дошел до самого конца моста, я заметил, что к постовой будке прислонилась фигура в драном, грязном желтом бараньем тулупе. Пара черных глаз вперилась в меня из-под длинных замусоленных клочьев шерсти. Когда я подошел к посту вплотную, фигура в тулупе ожила, и в мой живот уперся штык винтовки.
— Стой!
У меня уже имелся кое-какой прежний опыт общения с советскими пограничниками, и я думал, что хорошо знаю все приемы, позволяющие иметь с ними дело. Подход номер один заключался в сердечной широкой улыбке и бодром приветствии «Здравствуй, товарищ». Я объяснил этому доброму человеку, что его правительство дало мне визу — письменное разрешение перейти мост. Пограничник не двинулся с места, и штык тоже. Я достал мой паспорт и сунул ему под нос поверх ружья. Он отвел мою руку острием штыка и прорычал:
— Никто мне не давал никаких приказов о тебе; проваливай ко всем чертям туда, откуда явился.
Подход номер два был строгим:
— Солдат, позвоните командиру заставы и встаньте как следует перед официальным лицом.
Штык лишь глубже проник вглубь моего пальто, и пограничник прорычал:
— Иди к черту.
— Солдат, у меня разрешение от Сталина перейти через этот пост — и в письменной форме!
— Товарищ Сталин не говорил мне об этом, и пока он не скажет, ты не перейдешь пост, на котором стою я. Возвращайся туда, откуда пришел.
К этому времени стало совсем темно, и мой запас приемов по пересечению границы почти иссяк, поэтому я поплелся к деревянной будке на персидской стороне реки и попросил заспанного пограничника позвонить на русскую заставу. Но он сказал мне, что телефон есть только в деревне в двух милях отсюда.
— Ну, тогда мне придется возвращаться и звонить русским, — сказал я и направился обратно в городок. Перс вскочил и загородил мне путь. Персидское ружье начало поигрывать с пуговицей на моем пальто.
— О, нет. Вы покинули Персию и не можете вернуться, если у вас нет новой въездной визы.
— Но смотри, друг мой, русские не дают мне сойти на том конце моста, а ты не даешь сделать то же на этом — что ты хочешь, чтоб я сделал, спрыгнул в реку?
Пограничник засмеялся.
— Иншалла, — было единственное, чем он мне ответил. Он улегся спать, но его ружье все еще было направлено в мою сторону.
Я вернулся на середину моста и сел на кучу моих чемоданов и мешков дипломатической почты. Ветер крепчал, и старые опоры начали трещать и трястись. Внизу, в ущелье, Аракс кружился водоворотами и со свистом проносился над скалами в своем неглубоком ложе. В общем, положение нельзя было назвать хорошим. Бывали случаи, когда пограничники и полицейские превращали мой путь в тупик, но здесь впервые я оказался на дороге, оба конца которой были тупиками. Я пытался найти какой-нибудь новый подход к пограничникам. Учтивость старого перса была результатом древней и, по-видимому, умиравшей цивилизации. Советский пограничник в овечьем тулупе с другой стороны был порождением самой юной и дерзкой системы. Так или иначе, и каждый по-своему, но оба они были одинаково эффективны — и одинаково непостижимы. Похоже, никакого другого выхода кроме как ждать, не было. И если восточный фатализм имеет смысл, то что-то должно было произойти.
Наверное, прошел еще час, когда в двери русской сторожевой будки появился свет и произошла смена караула. Я вскочил на ноги и поспешил к маленькой церемониальной группе. Вероятно, они обменивались паролями, когда я закричал:
— Эй! У меня есть виза на пересечение здесь границы. Бога ради, дайте мне пройти!
Три винтовочных затвора клацнули одновременно и особенно грозный голос — очевидно, не ниже сержантского — прорычал:
— Гражданин, возвращайтесь туда, откуда пришли.
Мне не оставалось ничего другого, кроме как беспомощно проковылять до моих мешков и попытаться забаррикадироваться от ветра, который больше уже не был ни легким, ни теплым.
Мост качался и трещал, а я думал о «Боевом». Так ли уж он плох? Во всяком случае его каюта защищает тебя от ветра — и там есть маленький буфет, где можно выпить стакан водки. Да, там клопы и тараканы, но по крайней мере они составляют тебе компанию и не дают бездельничать. Здесь же, на мосту, одному, озябшему, оголодавшему — абсолютно выброшенному из жизни — «Боевой» стал казаться мне родным до слез.
Я подумал о перевале в горах, о головокружительных пропастях — но они ничуть не хуже, чем тот угрюмый пейзаж, который открывается передо мной каждый раз, когда я гляжу вниз на реку. Еще с час я пролежал, свернувшись калачиком, когда меня потревожил дружеский по тону голос:
— Товарищ, а сигаретки не найдется? — это был новый советский часовой. Когда я давал ему прикурить, на секунду осветилось его юное и не совсем недоброе лицо. Затем он пошел на свой пост у начала моста.
Такой контакт терять было нельзя.
Я позвал:
— Послушай, друг. У меня есть пачка с двадцатью американскими сигаретами. Если ты позвонишь дежурному офицеру.
Он остановился, задумался на мгновенье и пробормотал, что не может оставить свой пост.
— Но я посмотрю, что можно сделать, когда я освобожусь, — добавил он.
Я не очень уж оптимистично смотрел на свое будущее. Вновь расположился между своих мешков и попытался укрыться от ветра. Мост все шатался, гремел и скрипел. Река все свистела и рычала внизу. Над горой Арарат взошла луна, и я думал, что бы стал делать Ной, если бы оказался без визы после Потопа.
Не знаю, как долго я пролежал, дрожа от холода. Наконец кто-то позвал меня:
— Товарищ!
(Это было уже обнадеживающим, потому что, если в России к тебе обращаются «гражданин», жди беды.) Я встал и снова проворно пошел в сторону России. Включился фонарь и осветил меня.
— Ваш паспорт, пожалуйста.
Я достал эту маленькую книжицу из своего кармана и раскрыл, держа перед собой. Ко мне протянулась рука и схватила его.
— Спасибо.
Я быстро решил, что нужно максимально использовать эту вежливость и двинулся вперед, но голос тут же стал каменным:
— Стойте, вернитесь на то место, где вы были.
Я поплелся обратно, думая, что только бы он, черт подери, не стянул мой паспорт и не оставил меня умирать неопознанным на железнодорожной эстакаде.
— Дождетесь, что я расскажу обо всем в Вашингтоне! — добавил я. Было слишком очевидно, что в Вашингтоне вряд ли кто узнает об этом: разве что какой-нибудь почтовый служащий не начнет пересчитывать свои посылки или кадровик не станет проверять наличие вице-консулов. Слышал я о примерах, когда требовались годы, чтобы найти пропавшую почтовую сумку, а уж что касается вице-консулов.
Итак, я заполз обратно в свою нору из мешков с диппочтой и решился смириться с наихудшим. Я защелкнул наручники «секретной» сумки на своем запястье. Когда меня выловят из реки, я в них буду выглядеть получше.
Для зарывшегося в мешках время едва тянулось. Я совсем замерз и жутко хотел есть, когда услышал шаги на мосту. Я вскочил на ноги как раз в тот момент, как отделение русских солдат подошло и выстроилось напротив меня. Четыре солдата взяли мои сумки, двое встали по обе стороны от меня, а молодой офицер вежливо предложил мне следовать за ним. Через несколько минут я уже сидел в кузове грузовика, меж двух блестящих штыков, и вместе с автомобилем трясся по дороге советской Джульфы, другой Джульфы — или скорее, другой половины Джульфы. Я подумал о моем учтивом старом друге из таможни. Казалось, все это было много дней тому назад и в тысячах миль, когда я попрощался с ним. И все, что я смог на самом деле сделать за это время, так это добраться до второй половины города.
Было далеко за полночь, когда мы подъехали к маленькому опрятному зданию в центре городка.
— Отель, — любезно объяснил лейтенант, но что-то в его тоне и в том, как пристально на меня смотрели солдаты, заставляло задуматься.
— Вы можете провести ночь здесь и утренним поездом отправиться в Ереван и Тифлис. Двое моих солдат едут как раз этим путем, и они будут рады сопроводить вас.
Он ввел меня в очень маленькую, но чистую комнату с кушеткой, столом и стулом, но без окна. Я возразил, что вряд ли смогу заснуть без какой-либо вентиляции. После недолгих препирательств на эту тему меня вежливо отвели в другую комнату, которая была так же обставлена, как и первая, но в ней было маленькое круглое плотно зарешеченное окно. Я показал на прутья решетки и спросил:
— Это против взломщиков?
Лейтенант усмехнулся и покинул меня. Я расстелил свой спальный мешок на кушетке, достал туалетные принадлежности и направился к двери. Но передо мной внезапно вырос солдат с ружьем в руках и твердо велел оставаться в моей комнате.
— Посмотри, друг, я только хочу сходить в туалетную комнату. Я целый день был в пути. Я грязный и…
Объявился лейтенант, и я повторил свою скромную просьбу. С галантным видом он провел меня мимо часового, и мы вышли в небольшой и довольно вонючий дворик. За нами шел часовой с ружьем на плече. Я стал осматривать дворик в поисках туалета, но тут лейтенант величественно обвел дворик рукой.
— Где угодно, — сказал он.
Вернувшись в свою комнату, я вызвал метрдотеля. Часовой выглядел озадаченным. И лейтенант недоумевал тоже. Но через пять или десять минут он вернулся с третьим персонажем, аккуратно одетым в накрахмаленный белый халат и с чистым белым полотенцем вокруг пояса.
— Я бы хотел поужинать в главной столовой, — сказал я. — Что-нибудь совсем простое — возможно, омлет и бутылка красного вина. Я умоюсь и буду готов через десять минут.
«Метрдотель» зевнул. Затем он стал кривляться и ежиться.
Я повторил:
— Через десять минут я буду в главной столовой. Это все.
Он отправился к двери и под его белым полотенцем я увидел форменные брюки пограничника из НКВД с лампасами.
В дверях он остановился и повернулся ко мне:
— Как вы думаете, где черт возьми, вы находитесь? — его голос был вежливым и лишь немного озадаченным.
— В отеле Джульфы, конечно.
— Какой к черту отель. Это тюрьма.
Впрочем, НКВД всегда располагало ресурсами — даже в Джульфе. В конце концов мне подали в моей камере превосходный омлет и что еще лучше, принесли бутылку вина. На следующее утро мой гостеприимный лейтенант проводил мена на станцию. Вместе с двумя его солдатами мы совершили весьма приятное путешествие по южному Кавказу. Когда мы проезжали гору Арарат, я спросил солдат, что они будут делать, если Ной высадится из своего ковчега без визы. Они не знали.
В середине дня я уже прогуливался по прелестным улочкам Еревана, без какого-либо сопровождения, если не считать маленького человека в черной кожаной фуражке и синем двубортном костюме — этом символе вездесущей тайной полиции.
Глава 17 ТАТАРЫ В ДОЛГУ НЕ ОСТАЮТСЯ
Нападению Германии на Россию в 1941 году предшествовал бурный обмен телеграммами, и в телеграфном отношении это был, вероятно, наиболее подготовленный удар в истории войн. Несколько месяцев провода между Москвой и западными столицами буквально раскалялись от предположений, когда удар будет нанесен: 1 мая, 15 мая, 23 мая, 15 июня. И при этом за двадцать четыре часа до нападения 22 июня американское посольство все еще располагало полным штатом персонала мирного времени, состоявшим из вице-консулов, служащих визового отдела и жен. Это всегда было источником беспокойства для тех из нас, кто отвечал за кладовые посольства. Каждый лишний рот делал нас менее мобильными — а именно это качество, как мы полагали, будет бесценным в случае войны.
После ожесточенных «партизанских» стычек между женским и холостяцким элементами посольства, последнему все-таки удалось усадить леди в самолеты, взявшие курс на Швецию и Персию, и вечером 21 июня все они уже были за пределами страны. И тогда мы раздавили бутылку шампанского и пошли спать, а когда проснулись, обнаружили, что Россия вступила в войну. В этом положении было мало приятного, но, по меньшей мере, мы находились в боевой готовности.
Однако даже это не было способно решить наших проблем. Конечно, хорошо было уже то, что мы заранее позаботились о достаточных запасах еды и питья в нашем московском подвале. Но, предположим, Москва падет, и нам придется отправиться куда-нибудь в степи? И как мы потащим несколько тонн консервированных продуктов? И конечно, мы не учитывали Пентагон. Как только война началась, на нас обрушился поток офицеров из Вашингтона. Их посылали посмотреть на Красную кавалерию в действии, на Красную артиллерию в действии, на Красные военно-воздушные силы в действии и даже на Красный флот в действии. За четыре года войны, пока День Победы не рассеял дым сражений, лишь некоторые из них смогли побывать на одном или двух тихих участках фронта. Другие только наблюдали за тем, как фронт приближается к ним самим, но подавляющее большинство, хоть это их и бесило, видели войну меньше, чем какой-нибудь русский мужик. Однако все вместе они составляли хорошую компанию, и если и были расстроены бездействием, то их собственной вины во всем этом не было. Но, помимо всего прочего, им нужно было что-то есть, курить и временами пить. Все это только усиливало значимость сохранения наших запасов.
Была еще одна трудность. Даже самые недипломатичные наши сотрудники едва ли могли явиться к русским и сказать: «Смотрите, у нас тут в Москве есть некоторые припасы, и мы хотим перевезти их в безопасное место на востоке, потому что мы думаем, что Москва может пасть и вы, ребята, в последнюю минуту можете забыть обеспечить нас продуктами и транспортом». В первую очередь, конечно, следовало ожидать, что русские не захотят обсуждать возможность эвакуации из Москвы. Во вторую, было бы нетактично говорить им, что они могут забыть о нас и о продовольствии для нас. И в третью очередь, если мы и оставим Москву вместе и если у них самих не будет еды, то они вряд ли будут серьезно озабочены тем, есть ли она у нас.
Как всегда, светлая мысль о том, как нам поступить в этом трудном положении, пришла на ум послу Стейнхардту. Продукты следует снабдить ярлыками «архивы». Он объяснил Советам, что это секретные документы, которые опасно оставлять во фронтовой зоне.
— Не кажется ли вам разумным, — спросил он в Наркомате по иностранным делам, — перевезти эти секретные документы в глубину России, например, в Казань на Волге?
Наркомат с этим согласился, и небольшая команда, состоявшая из первого секретаря Чарли Дикерсона[168], помощника военного атташе Майка Микела[169] и нескольких разных помощников, включая Янга, Миджет и меня самого, вскоре уже находилась на пути в Казань, вместе с вагоном, полным «архивов».
Все шло хорошо до того момента, как коробку с «архивом» не уронили на перроне вокзала в Москве и тоненькая струйка коричневой жидкости, распространяя аромат бренди, не потекла на землю. Мы были смущены, грузчики забавлялись, а мастер, распоряжавшийся багажом, сделал несколько шифрованных пометок о странной форме, которую приняли наши архивы. Я попытался выдать приемлемое объяснение относительно американских архивов, которые бывают разными и нуждаются в сохранении, но моя попытка провалилась так же, как и коробка с бренди.
Через какие-то тридцать часов мы приехали в Казань и нас встретил суетливый товарищ в рубашке с короткими руками, который тут же стал заботиться о нас и нашем грузе. Мы так привыкли к тому, что агенты «Интуриста» всегда берут нас под свою опеку, куда бы мы ни направлялись, что приветливо пожали ему руку и, как Стэнли в Африке, пробормотали:
— «Интурист», мы полагаем?[170]
Но наш гид в летней рубашке ответил иначе:
— Нет, я президент Татарии[171].
Прежде чем покинуть его владения, нам пришлось часто вести с ним дела, в числе которых было одно похищение и несколько чуть ли не бунтов, но нас никогда не покидало ощущение, что он не более чем туристический агент фирмы Томаса Кука[172], а не президент одной из российских республик.
Он был настолько любезен, что предоставил в наше распоряжение большой деревянный дом на Волчьей улице[173], где мы в ленивом безделье провели несколько недель, сторожа «архивы». Казань оказалась довольно милым небольшим провинциальным городом на Волге, и многие из ее жителей еще помнили Американское агентство помощи (ARA), во главе с Гербертом Гувером, положившее конец голоду в период после Первой мировой войны[174]. Но вскоре в Казань начали прибывать беженцы с запада России, и продовольствие, которое выделялось на город, теперь приходилось делить на всевозраставшее население. Несмотря на то, что мы в основном опирались на собственное снабжение, но все-таки получали кое-что со стороны местного Кремля, и очень скоро и на нас стало распространяться негодование местного населения по отношению к понаехавшим. Раз или два в небьющиеся окна нашего вагона бросали камни, и однажды нам, хотя и в несколько размытой форме, дали понять, где татары предпочитают нас видеть — и это место не было Казанью.
Мы были не сильно заняты. Наша связь с Москвой осуществлялась по одной телефонной линии и была очень ненадежной. Единственным источником новостей оставалось радио, но и оно часто прекращало работу из-за перебоев с электричеством. Постепенно стойкость духа обитателей дома на Волчьей улице стала ослабевать.
И тут у моей овчарки Миджет началась течка.
Однажды вечером мы сидели у себя в доме, играли после ужина в шахматы и обсуждали унылые новости с фронта, размышляя над тем, каковы наши шансы выбраться из России живыми, если Москва падет. Перспективы не выглядели хорошими. Из Казани вели два пути, если не считать железной дороги обратно на Москву. Один — южное ответвление Транссибирской магистрали, а другой — река Волга, впадавшая в Каспийское море. Ни один из них не располагал к тому, чтобы им воспользоваться, и мы отправились спать, сойдясь на том, что розовое будущее нам не светит.
Едва я заснул тем вечером, как был разбужен леденящим кровь визгом Чарли Дикерсона, спавшего в нише с другой стороны коридора напротив меня. Когда я подошел к его кровати, он что-то неразборчиво бормотал о том, что на него напали волки, поэтому я сразу подумал, что ему приснился кошмар, и предложил выпить стакан воды.
Новости из Москвы на следующий день лучше не стали. Когда мы слушали вечерний выпуск новостей Би-би-си, наш дух упал еще больше, чем вчера. Столицу сильно бомбили. Немцы находились лишь в ста километрах от нее, и будущее выглядело в целом очень плохо. Мы отправились спать в еще более депрессивном настроении.
Только я задремал, как новый крик послышался из-за двери Чарли Дикерсона. На этот раз он встал с кровати и метался по своей нише, пока я не пришел.
— Это волки, говорю тебе. Черт возьми, я знаю, что это волки. Они пришли прямо ко мне в комнату, обнюхали все вокруг кровати, прежде чем я заснул.
Мы с Майком Микела постарались его успокоить. Наконец нам удалось уложили его обратно в кровать.
Но когда и на третью ночь он повторил свой спектакль, то нашему терпению подошел конец. Однако Дик настаивал:
— Я специально не спал и лежал с фонариком в руке. Как только они направились к моей кровати, я его включил. Их было трое, и они шли прямо на кровать.
Майк и я посмотрели друг на друга и покачали головами. Бедный Чарли, он был рассудительным малым и не должен был свихнуться так быстро.
Но Чарли зло фыркнул на нас:
— Нечего тут стоять и смотреть на меня как на сумасшедшего. Говорю вам, их было здесь трое и здоровых, ростом с хорошую овчарку, во всяком случае они были крупнее Миджет.
Как только прозвучало имя Миджет, под кроватью Чарли раздался скулеж, и Миджет, которую целыми днями преследовали все псы в округе, осторожно выползла на свет лампы.
После этого мы заперли Миджет в кладовку за моей комнатой, и волки больше Чарли не беспокоили.
Незадолго до битвы с волками мы получили новости по радио, что в Москву приезжает миссия по ленд-лизу во главе с лордом Бивербруком и Авереллом Гарриманом[175]. На следующий день некоторым из нас приказали вернуться в Москву, чтобы оказать помощь миссии. Я приехал и был назначен российским секретарем Американской миссии, что означало выполнение функций и местного переводчика, и туристического агента, и гонца по любому поводу. На все уходило не менее двадцати четырех часов в день. И только однажды мне удалось на момент расслабиться, когда я сопровождал группу из Вашингтона в поездке по Москве с целью осмотра «последствий бомбардировок». Москва не сильно пострадала от бомбежки, но общее состояние большинства зданий, нуждавшихся в постоянном присмотре, нередко обманывало наших визитеров. Несколько раз мне приходилось признавать, что обрушившиеся стены, поломанные карнизы и разрытые улицы так выглядят скорее из-за того, что плохо содержатся, чем по причине стороннего вмешательства. Когда мы подошли к одному зданию возле Бородинского моста, которое было разрушено до основания, мне пришлось объяснять, что одно из двух крыльев здания развалилось как раз накануне войны. Другое, я был рад это сообщить, хищнически разрушено исключительно немцами. Иногда трудно сказать, объяснял я, где заканчивается социалистическое строительство и начинаются немецкие бомбардировки.
В конце концов, переговоры завершились, и миссия отправилась домой через Архангельск. Я сопровождал ее на небольшом эсминце «Хэрриер» непосредственно до ожидавшего их в Белом море тяжелого крейсера «Лондон». Той непроглядной темной ночью было страшно холодно, и море мотало «Хэрриер» словно пробку. Три раза мы пытались подойти вплотную к крейсеру, и каждый раз наши тросы рвались. Наконец, британская команда сотворила настоящее чудо и героически переправила пассажиров на борт крейсера. Один лишь лорд Бивербрук злился и отверг предложение перенести его в грузовой корзине.
— Я не хочу, чтобы меня таскали как какое-нибудь чертово виски или содовую, — протестовал он.
Когда последний пассажир был переправлен с одного корабля на другой, винты огромного крейсера заработали на полную мощь, и он быстро двинулся на север навстречу гигантским волнам. Мы на «Хэрриере» вздохнули с облегчением и уже хотели спуститься вниз и окунуться в тепло капитанской кабины, когда громкоговоритель с «Лондона» внезапно загремел над волнами:
— «Лондон» вызывает «Хэрриер». «Лондон» вызывает «Хэрриер». Отлично сработано, «Хэрриер»! Отлично сработано!
Это был один из тех случаев, когда британская сдержанность, действительно, стоит многого. Но бедный «Хэрриер» не мог так славно выполнить свою миссию и не заплатить за это. Когда мы вернулись в Россию, капитан объявил, что мы получили приличного размера пробоину в корпусе возле ватерлинии. Однако мы смогли добраться до небольшого порта (я забыл его название), использовавшегося в чрезвычайных ситуациях, и оттуда нас забрал катер командующего Северным флотом и доставил в Архангельск. На следующий день мы уже были в Москве.
Но там мы оставались недолго. Немецкое наступление не демонстрировало никаких признаков замедления, и по оперативной карте у кабинета военного атташе можно было наблюдать, как с каждым днем они оказывались все ближе. Внешне жители Москвы сохраняли спокойствие, но при ближайшем рассмотрении под этой маской нетрудно было заметить растерянность и беспокойство, овладевших всеми. Мало-помалу одна организация за другой отправлялись на восток. Однажды мне позвонили друзья из балета:
— Мы не хотели тебе говорить, но сегодня вечером мы уезжаем спецпоездом в Куйбышев[176]. Опера, весь состав балета и оркестр уже в поезде, и кажется, что никто не озаботился организацией питания. Нет ли у тебя какой-нибудь еды?
Я сказал им, что ничего не могу дать им из запасов посольства, но у меня самого есть несколько лишних банок, и они могут их взять.
Через два дня посол Стейнхардт собрал у себя в кабинете на совещание сотрудников военного, морского и политического отделов.
— Сколько продержится Москва? — спросил он нас.
Обсуждение этой темы становилось все горячее и длилось уже час, когда его секретарь засунула свой нос в дверь его кабинета:
— Молотов хочет вас видеть через двадцать минут в Кремле, господин посол.
— Ну, я полагаю, что еду за приказом выдвигаться, — сказал Стейнхардт. — Вот только куда они собираются нас отправить?
Я вспомнил свой разговор с друзьями из балета:
— Скорее всего в Куйбышев, — предположил я.
Через час Стейнхардт вернулся.
— Нам дали шесть часов на сборы. Едем в Куйбышев.
Он повернулся ко мне:
— Откуда, черт возьми, ты узнал?
Последующие шесть часов прошли в суете. Мы неделями готовились к отъезду, но все-таки известить каждого и собрать весь персонал посольства с вещами оказалось делом нелегким. К счастью, мы мудро поступили, что эвакуировали жен сотрудников посольства, как только началась война, но когда настало время ехать всем остальным, среди нас все-таки еще оставались несколько незаменимых женщин-секретарей, несколько детей и, упомянем последней, но не из-за того, что она нас отягощала, корреспондентку Эллис-Леон Моутс[177].
Вечером мы все находились в танцевальном зале Спасо-хауса, где однажды весной восемь лет назад весь персонал посольства собрался вместе с послом Буллитом. Это был хмурый вечер. Снаружи шел снег с дождем. Слякотные улицы города практически опустели. Самое примечательное было то, что нигде нельзя было найти милиционеров: это произошло в первый и единственный раз со времени революции 1917 года. (Позднее мы узнали, что все они были отправлены на фронт, чтобы закрыть брешь к северо-западу от города. Они сделали свое дело хорошо, и немецкие дивизии были остановлены в нескольких милях от предместий[178].) Над нашими головами слышались гудение самолетов и разрывы снарядов зенитной артиллерии.
Внутри, в танцевальном зале, семьдесят пять мужчин, женщин и детей стояли или сидели на полу в ожидании последнего приказа на отъезд. Каждый раз, когда снаружи доносился звук орудийного выстрела, Айвэн Итон[179], наш военный атташе, уныло качал головой и объявлял, что так звучат немецкие полевые орудия.
— Даже не стоит пытаться, Чарли, — крикнул мне Айвэн. — Они, должно быть, уже окружили город. Мы вместе с русскими никогда не выберемся из Москвы.
Но я, пока он говорил, собирал дополнительные одеяла, электрические обогреватели и на бегу проводил последние беседы с теми немногими из нас, кто под командой Томми Томпсона[180]и Фредди Рейнхардта[181] должны были остаться здесь.
Наконец пришел последний приказ, и нам сказали, что эвакуационный поезд ждет нас на Казанском вокзале. Через несколько минут длинный караван из машин, двух грузовиков, нагруженных дополнительными припасами, выехал из Спасо-хауса и двинулся по пустынной Москве. На вокзале царил беспорядок. Никто не знал, где находится поезд. Знали только, что на перроне его нет, хотя должен быть. Никто не ведал, сколько пассажиров должно в него сесть и какие распоряжении о питании для нас были отданы.
— Там, конечно, будет вагон-ресторан, — все время повторял Молочков[182], шеф протокола, но его слова звучали не очень убедительно. Выступать в роли сиделки и компаньонки для всего дипломатического корпуса было работой Молочкова. Воздушные налеты становились все сильнее. Часть вокзала была разбомблена прошлой ночью. Наконец кто-то обнаружил поезд — никакого вагона-ресторан в нем не было, но сразу за локомотивом был большой грузовой вагон. Никто не знал, зачем его включили в поезд, но американский контингент и не собирался это выяснять. Как только начальник вокзала повернулся к нам спиной, мы тут же пригнали наши грузовики с припасами на перрон, и через несколько секунд все они уже были в вагоне. Мы посадили на них сверху одного из посольских курьеров с инструкцией запереться изнутри и никому не открывать без моей команды.
Через несколько минут поезд медленно тронулся от станции. В нем находились сотрудники британского, польского, югославского и американского посольств. Другой поезд с остальными членами дипломатического корпуса последовал за нами с интервалом в несколько минут. Я уныло уставился в окно и смотрел на едва различимые силуэты зданий, который проплывали снаружи. Совсем не так я планировал прощаться с Москвой. Но вскоре от моих грустных мыслей меня отвлекли объявлением, что посол Стейнхардт в суматохе потерял свой зонтик. Я попытался сказать послу, что там, куда мы едем, на все обозримое будущее нас, скорее всего, ждет не дождь, а снег. Но Стейнхардт заупрямился. Поэтому мы принялись обыскивать поезд и, в конце концов, нашли зонтик, попавший по вине грузчика в купе сэра Стаффорда Криппса. Криппс, который никогда не отличался большой любовью к премьер-министру Чемберлену, известному любителю зонтиков, был рад избавиться от этого предмета.
От Москвы до Куйбышева было всего пятьсот миль, примерно как от Детройта до Вашингтона. Даже по русским железнодорожным стандартам поездка не должна была занять больше восемнадцати часов. Поэтому мы были слегка разочарованы, когда, проснувшись следующим утром, обнаружили, что находимся все еще лишь в двадцати милях от Кремля. Оказалось, что немцы предприняли тщетную попытку окружить город с юга. К счастью, контратака русского кавалерийского корпуса заставила их повернуть назад как раз в тот момент, когда они достигли железной дороги, ведущей на восток[183]. Орудийный огонь повредил полотно на протяжении сотен ярдов, но после нескольких часов задержки пути были исправлены, и состав вновь тронулся вперед. Череда неожиданных остановок замедлила наше движение настолько, что к полудню мы едва сумели проехать десяток миль. К этому времени дипломатический корпус проголодался, и дипломаты сообщили об этом шефу протокола. Тот любезно улыбнулся и сказал, что постарается что-нибудь сделать. На следующей остановке я подошел к нашему грузовому вагону и взял оттуда несколько банок с тунцом и банку с соленостями. Посол Стейнхард достал банку с сухим спиртом и старый оловянный котелок. Банка со спиртом превратилась в кофейник, и мы наконец смогли накормить по крайней мере американский контингент — дополнительно сварив чашку кофе для посла Криппса.
Но доминирующим фактором, определявшим настроение поезда, вместившего пару сотен голодных британских, польских и югославских дипломатов, оставался разыгравшийся аппетит. У американцев хватало еды для самих себя, но мы понимали, что если мы станем кормить всю компанию, то надолго наших запасов не хватит. Наступила ночь, но шеф протокола Молочков по-прежнему не мог достать никакой еды. На второе утро весь полуголодный дипломатический корпус находился в скверном настроении и уже не мог слышать одни и те же слова несчастного Молочкова о том, что он что-нибудь придумает. В конце концов, он смог смирить обвинения в свой адрес, пообещав, что позвонит со следующей станции и договорится о питании в первом большом городе, который мы будем проезжать. Но на следующей станции мы даже не остановились. Вместо этого поезд встал где-то посреди полупустынной степной равнины. Единственным признаком жизни выглядела маленькая колхозная ферма, видневшаяся на расстоянии в четверть мили от того места, где остановился состав.
Дипломатов обычно принято обвинять в том, что они избалованные, непрактичные типы, но когда они оказываются в течение тридцати шести часов без какой-либо еды, то вы будете удивлены тем, насколько изобретательными они могут быть. Едва поезд остановился, как дипломаты взбесившейся ордой понеслись из дверей вагонов по направлению к ферме. Это выглядело так, словно толпа футболистов рвется к воротам на последней минуте игры. За несколько секунд пара дюжин кур, гусей и уток были захвачены на ферме и утащены в плен отрядами дипломатических советников и первых секретарей. Какой-то поляк и полковник английской армии «Поуп» Хилл[184] обнаружили курятник как раз в тот момент, как кто-то из работников фермы выходил из него с дневной порцией только что снесенных яиц. Лишь только увидев, что его атакуют, он бросил свою корзинку с яйцами и рванул за горизонт что было мочи. Поуп и поляк схватились за ручки корзины и стали тянуть ее каждый в свою сторону. На секунду показалось, будто между союзниками развернется серьезная потасовка, но разумный подход все-таки возобладал, и они согласились разделить корзину пополам.
Чуть позже, когда раздался свисток машиниста, пытавшегося собрать своих пассажиров, толпа всклокоченных налетчиков с голодными глазами стала взбираться обратно в поезд, отягощенная добычей. Она состояла из немалого числа цыплят, гусей и уток, нескольких дюжин картофелин и даже какого-то количества хлеба. Последним поднялся в поезд югославский секретарь Богич[185]. Он весил по меньшей мере триста фунтов и обладал сказочным аппетитом. Когда мы оба служили в Гамбурге, мне случалось видеть, как он тащит на себе целый жареный окорок. На сей раз его руки были пусты, пальто выпачкано в грязи, брюки порваны, и вся одежда была в шипах и колючках. Я спросил, что с ним случилось, и он пробормотал в ответ что-то о соотношении скорости бега курицы и серба с излишним весом. На какой-то момент я подумал, что он совсем падет духом, увидев, сколько еды собрали его коллеги. Довольно долго Богич приходил в себя, но все-таки собрался с силами, чтобы нырнуть в мое купе и взять банку с тунцом, которую я исподтишка сунул ему в карман. И тут же обычная усмешка вернулась к нему, и он поторопился вернуться на свое место, чтобы попировать втихую.
Колхоз на сутки умерил дипломатические аппетиты, а на следующий день — уже третий, как мы покинули Москву — Молочков смог все-таки установить связь с вокзалом по телефону. Когда мы добрались до него, нас ожидало невероятное количество горячего супа.
И это была последняя еда, не считая быстро сокращавшихся резервов из банок с тунцом, которые имели американцы, до того как мы приехали в Куйбышев. Прошло пять дней с тех пор, как мы отправились из Москвы в свое пятисотмильное путешествие со скоростью пять миль в час.
В Куйбышеве удача повернулась к нам лицом, по крайне мере на какое-то время. Молочков объявил, что в «Гранд-отеле» через час нас ждет обед. Это был настоящий банкет: мясо, ветчина, сыр, фрукты, водка и даже икра. Мы объелись до такой степени, что не могли проглотить и одной осетровой икринки. И когда мы вставали из-за стола, я повернулся к Молочкову и спросил, в какое время будет ужин.
— Ужин? Вы что, хотите и ужин?
Я с некоторым пафосом объяснил, что капиталисты имеют глупую привычку есть три раза в день. Молочков позвал управляющего отеля:
— Когда будет готов ужин? — спросил он сурово.
Управляющий отелем чуть не подавился:
— Ужин! Боже мой, да вы съели все рационы, которые у меня были на две недели вперед!
Но мы все-таки как-то справились. В течение нескольких дней мы в основном питались черным хлебом, сахаром и кофе. Нам также удалось купить на свои доллары немного картошки на рынке.
И тут однажды из Казани по Волге в куйбышевский порт приплыла баржа с припасами, которые мы там оставили. Капитан баржи прислал сказать, что у нас только два часа на разгрузку. Лед, плывущий по реке с севера, находится лишь в нескольких милях выше по течению, объяснил он, и ему нужно опередить лед, если он только хочет добраться до Каспийского моря, пока река не замерзла. В те дни в Куйбышеве не было стивидоров, во всяком случае для того, чтобы нанять их частным образом. Мы мобилизовали все посольство, и уже через два часа мы выгрузили на пристань последнюю коробку с «архивами». Это была странная компания рабочих. В ее составе оказались один посол, пара генералов, адмирал и сопутствующая команда из полковников, флотских капитанов, секретарей посольства и журналистов. С тех пор наше меню не отличалось большим разнообразием. Но к тому времени, как наши собственные припасы стали подходить к концу, русские смогли организовать специальный магазин, где мы могли купить практически все необходимое для поддержания жизни.
Глава 18 НА КУЛАЧКАХ С ВЫШИНСКИМ
Вскоре после нашего приезда в Куйбышев посла Стейнхардта пригласил на встречу исполняющий обязанности наркома по иностранным делам Вышинский[186]. Перед отъездом из Москвы Молотов сказал Стейнхардту, что Сталин и он полетят в Куйбышев и встретят дипломатов там. Но когда мы приехали, на месте оказался только Вышинский.
Я сопровождал Стейнхардта в качестве переводчика, и мы нашли Вышинского забившимся в маленькую комнатку в гостинице. На тот момент Наркомат по иностранным делам еще не переехал, и у него не было здесь своего помещения. Вышинский предложил Стейнхардту сесть на единственный в комнате стул, а мы с ним во время делового разговора сидели вдвоем на кровати. Вышинский рассказал нам о поражении немцев на подступах к Москве и объяснил, что из-за этого оставшаяся часть правительства решила пока остаться в Кремле. Но на других фронтах дела шли не так хорошо, и Вышинский выглядел подавленным.
Когда мы поднялись, чтобы уйти, Вышинский повернулся к послу:
— Боюсь, что у меня есть еще несколько плохих новостей.
Стейнхардт остановился, взявшись за дверную ручку.
Вышинский же продолжил низким голосом и абсолютно серьезным тоном:
— Да, должен признать, что мы во всем этом деле допустили одну серьезную стратегическую оплошность. Надеюсь, она не обойдется нам слишком дорого.
— Что за оплошность? — взволнованно прервал его Стейнхардт.
— Ну, видите ли, — продолжил Вышинский, глядя на меня, — по очень большой оплошности мы эвакуировали балет и американских холостяков в один и тот же город.
Так уж получилось, что балет и опера стали настоящим спасением для нас в последующие холодные, хмурые месяцы. По вечерам давали балет «Лебединое озеро», который на следующий вечер сменяла опера «Евгений Онегин». Поскольку больше делать было нечего, любители балета выучили лебединую хореографию в совершенстве.
Утомительная монотонность жизни в Куйбышеве внезапно прекратилась 7 декабря 1941 года. Когда тем воскресным утром радисты настроили свои приемники, им потребовалось совсем немного времени, чтобы распространить новость по всему переполненному дому, где располагалось посольство. И должен сказать, что реакция тех американцев, что находились на берегах Волги, не сильно отличалась от реакции людей с Миссисипи. Вначале мы были слегка ошарашены, потом пришли в себя, поскольку и так пребывали в воюющей стране. До ночи офицеры, находившиеся среди нас, сочиняли телеграммы в военный департамент с прошениями о направлении на службу в войска, в то время как остальные писали срочные запросы с просьбой о зачислении в армию. Сомневаюсь, что дома хоть кто-нибудь читал эти прошения. Во всяком случае, ни на одно не последовало никакого ответа.
Только через несколько дней, 20 декабря 1941 года, если быть точным, с телеграфа нам с безразличным видом принесли радиограмму, которую мы должны были получить еще пару дней назад. Что там они делали все это время, было совершенно непонятно. У меня сохранился ее точный текст, содержавший множество опечаток[187]. Привожу начало телеграммы: «Настоящим вам предписывается проинформировать правительство, при которым вы аккредитованы, что Конгресс Соединенных Штатов 11 декабря объявил, что страна находится в состоянии войны между Соединенными Штатами и Германией.»
Текст подписал Корделл Халл. Несмотря на причудливое написание слов, нам не составило труда понять, что в телеграмме он пытался сообщить нам о нападении на Перл-Харбор. Мы передали это сообщение в Наркоминдел, и Вышинский лишь слегка посетовал на то, что мы информировали его с таким опозданием о событии, о котором он услышал по радио девять дней назад. Мы объяснили, что это едва ли стоит считать нашей ошибкой, поскольку телеграфистам понадобилось семь дней, чтобы получить сообщение по радио и затем еще два дня, чтобы пройти по улице до посольства.
Эта новость с русской точки зрения была настолько хорошей, что Вышинский даже не стал спорить. Фактически все русское население, включая балерин, находилось в столь радостном настроении от сознания того, что мы наконец станем союзниками, что они даже позабыли, что в глубине души мы на самом деле — акулы капитализма. И кроме того, те немногие предметы роскоши, которые мы смогли привезти с собой из Москвы, всегда были искушением, против которого наши давние друзья не могли устоять. Вся балетная труппа, опера и оркестр размещались в одном большом школьном здании на окраине города. У них не было ни мебели, ни кроватей, и им доставалось совсем немного еды. И приглашение на обед в американское «посольство», расположенное в столь же безликом школьном здании, но где имелось некоторое количество продуктов и напитков, игнорировать было просто невозможно.
Дальше больше, тайная полиция, которая обычно следила за всеми контактами, которые американцы могли завязать с русскими, очевидно, была более чем дезорганизована самим переездом из Москвы. Так или иначе, но в течение нескольких месяцев они все пытались акклиматизироваться здесь и не так уж беспокоились о выходящих за обычные рамки действиях дипломатов из стран-союзниц. Фактически, находясь в беспрерывном поиске еды и одеял, они были только рады, когда мы делились с ними подсказками, где можно найти запасы угля или те же спальные принадлежности. Уже давно начальник московского контингента ГПУ[188] в Куйбышеве стал для нас чуть ли не приятелем. Это был молодой и очень крупный парень, которого, кажется, звали майор Смирнов. Мы часто встречались в кафе в «Гранд-отеле», и за рюмкой водки обменивались всякими мелкими хозяйственными сведениями. Когда, наконец, его организация обустроилась и вернулась к прежним порядкам слежки за нами, я стал жаловаться ему на излишнее рвение его сотрудников, но он всегда находил для себя оправдание в том, что это не были его парни и что за все это отвечают какие-то усердные работники куйбышевской тайной полиции. Я никогда не верил тому, что он говорил, и нередко угрожал разрывом дружеских отношений, если он не прекратит преследовать наших молодых атташе, чьи отношения с балетом были вполне естественными с точки зрения морали. Но ничего хорошего из этого не вышло.
Однажды вечером в канун Нового года я пошел на прием в «Гранд-отель» по случаю наступающего 1942-го. Я уже достаточно напраздновался и собрался домой, но сделал ошибку, остановившись в главном зале ресторана, чтобы посмотреть, что там происходит. Большая часть дипломатического корпуса и иностранных корреспондентов была занята тем, что старалась утопить свое разочарование Куйбышевым в бутылках русской водки, которые советское правительство предоставило по такому случаю. В дальнем углу я заметил майора Смирнова и пару его сослуживцев, праздновавших, как и все остальные. Смирнов поймал мой взгляд и жестом предложил к ним присоединиться, но я отрицательно покачал головой и пошел к выходу. Он поспешил за мной и настоял, чтобы я с ним выпил.
— Я уже достаточно выпил сегодня вечером, — сказал я. — И, кроме того, я никогда не общаюсь с ГПУ после полуночи.
Это, похоже, затронуло его самые тонкие чувства, потому что я ощутил, как меня подняли в воздух руки двух держиморд и аккуратно поместили за его стол. Когда меня усадили в кресло напротив, Смирнов заказал графин водки для себя и еще один для меня.
— Ты сможешь пойти домой, как только покончишь с этим графином, — объявил он.
Делать было нечего, и пришлось начать пить. Компаньоны Смирнова, очевидно, употребили уже немало и чувствовали себя неважно. Один из них, что сидел возле меня, тихо дремал, а его голова то поднималась, то падала, как у сони за чайным столом Алисы. Я уже покончил с половиной графина, когда вспомнил, что у меня есть дело к Смирнову.
— Совсем нехорошо пугать всех этих молодых атташе неуклюжей слежкой, — сказал я ему, — но теперь они и за меня взялись. Как старейший присутствующий в России американский дипломат я возмущен. В конце концов, мы теперь союзники, и я обменивался рукопожатием со Сталиным.
— Ну и я тоже, — ответил Смирнов. — И кроме того, за тобой не следят. Я проверил, после того как ты жаловался последний раз, и это оказалось неправдой. Просмотрел весь список, и тебя в нем не было. Я возмущен тем, что меня обвиняют, будто я слежу за одним из моих лучших друзей.
Он протестовал слишком бурно, поэтому я продолжил.
— Хорошо, тогда скажи мне, чем позавчера занималась машина с номерами 67-879?
Соня на соседнем стуле внезапно проснулся и посмотрел на меня:
— Какой номер, повтори? — спросил он заспанным голосом.
Я повторил номер, он вытащил маленький блокнот из кармана и на секунду заглянул в него.
— У тебя чертовски хорошая память, — пробормотал соня и снова уснул.
Смирнов отреагировал недовольным тоном:
— Он пьян. Не знает, что говорит. Я ему завтра устрою.
Но майор понял, что игра закончена, и перестал мне возражать. Еще через две минуты я сделал последний глоток водки из своего графина, пожелал ГПУ счастливого Нового года и нетвердой походкой направился домой.
Жизнь в Куйбышеве не всегда была такой тусклой и унылой, как это можно было ожидать от небольшого перенаселенного провинциального города, где температура редко подымалась выше нуля по Фаренгейту[189], а ветер редко дул слабее двадцати миль в час. И еще одно, новости с фронта стали меняться к лучшему. Когда мы покидали Москву, немецкие армии потоком разливались по степям со скоростью, которую способны были развивать в русской грязи их моторизованные дивизии. Но потом они замедлились: вначале на юге и затем намертво встали под Москвой. В декабре началось русское контрнаступление на Дону.
Мне довелось проехать через всю Центральную Азию в специальном поезде, в котором польский премьер-министр Сикорский[190] и Андрей Вышинский совершали инспекционную поездку по частям новой Польской армии, формировавшейся в России[191]. Это не было веселым путешествием. Новые польские дивизии делились на две категории: те, у которых были лопаты, и те, у кого они отсутствовали. Дивизии с лопатами могли рыть себе землянки и тем самым защищать себя от жестоких ветров, пронизывавших все равнины Центральной Азии. Тем же, у кого лопат не было, приходилось замерзать на поверхности.
В каждом лагере, который мы посетили, мы выгружали огромное количество дров и устраивали большой банкет. Польские офицеры были более чем довольны банкетами, но боялись, как бы это не сказалось на их повседневном рационе. Мы говорили, чтобы они не беспокоились на этот счет. Каждый очередной банкет — от серебряной посуды на столах и обслуживающих его официантов — выглядел так же, как и предыдущий, и было очевидно, что источник у всех один и тот же — багажный вагон нашего поезда.
На каждом банкете было много поводов для произнесения тостов и речей a la Slav. Русские и поляки на протяжении всей их истории нечасто выступали заодно, но если это происходило, то тем неславянам, кто оказывался рядом, было неловко. Основной темой тостов и спичей был предстоящий разгром Германии. И поляки, несмотря на недостаток в обмундировании, пище, укрытии и даже оружии, просили только одного, упрямо и монотонно повторяя свою просьбу: нельзя ли нас отправить на фронт, чтобы присоединиться к борьбе? Каждый раз Вышинский отвечал на их просьбы обещанием, что как только они будут надлежащим образом экипированы, им будет предоставлен шанс проявить себя. Но это едва ли удовлетворяло поляков. Они говорили, что готовы сражаться тем, что у них уже есть. Они даже становились на колени перед Вышинским и молили разрешить им отправляться прямо сейчас. Но Вышинский был упрям и настаивал, что их нельзя послать в битву немедленно с тем оружием, которое они имеют.
Я чувствовал свое бессилие, вспоминая эти частые сцены несколько месяцев спустя. Между правительством Сикорского и Кремлем произошла размолвка, и последний принял решение распустить польские части в России. Чтобы объяснить это решение, Вышинский созвал пресс-конференцию в Москве, во время которой поведал миру, что польские войска расформированы, потому что отказывались сражаться против немцев.
Инспекционная поездка с Сикорским и Вышинским закончилась в Саратове, провинциальном городе в двух сотнях миль к югу от Куйбышева. Из Саратова Сикорский сел на самолет и полетел в Тегеран и далее в Лондон. Все остальные намеревались вернуться обратно в Куйбышев, но как предстояло туда добираться, ни один из нас, похоже, не знал. Выяснилось, что у Вышинского был в Саратове самолет в аэропорту, и поэтому я решил попробовать продолжить наш рейд вместе с ним. Но Вышинский сказал, что самолет полон и что мне предстоит ехать специальным поездом, который вот-вот подойдет. Я же отметил, что на это уйдет по меньшей мере дней пять, а у меня приказ вернуться в Куйбышев немедленно. Но и после этого Вышинский продолжал стоять на своем.
Разговор происходил, когда я стоял у основания лесенки, ведущей в салон самолета, а Вышинский — наверху ступенек, сияя обворожительной улыбкой и говоря мне «нет». Эти «нет» Вышинского позднее станут знаменитыми в ООН, но то «нет» было самым впечатляющим из тех, что он говорил лично мне. Ветер свистел по аэродромному полю, термометр застыл где-то в области минус двадцати по Фаренгейту[192], и перспектива быть брошенным в Саратове превосходила то, что я мог вытерпеть.
Я не могу претендовать на то, что так же красноречив, как некоторые наши переговорщики на Флешинг Мидоус[193], но после того как я в течение четверти часа, дрожа от холода на поле под Саратовом, выступал перед Вышинским, он вдруг подобрел и милостивым жестом пригласил меня подняться на борт. Он даже предложил мне сесть рядом с ним на жесткую металлическую скамейку салона.
Это был военно-транспортный самолет C-47, и на крыше салона находилась турель для пулемета. Впрочем, в нашем самолете пулемет отсутствовал. Так же как не было в нем и обычного пластикового колпака над турелью — лишь одно большое отверстие, в которое, как только мы набрали скорость и взлетели, стал врываться ветер.
Не знаю точно, насколько холодно было в салоне. Зато я знаю, что не смотря на двойные меховые унты, несколько пар меховых варежек и две шубы, я наполовину замерз уже через пятнадцать минут полета. Очевидно, холодно было не только мне, потому что скоро Вышинский порылся в своем портфеле и достал оттуда большую бутылку советского коньяка, которую тут же открыл и передал мне. Я сделал большой глоток. Он последовал моему примеру и передал бутылку остальной компании, в которую входили пара американских офицеров, телохранитель Вышинского и советский фотокорреспондент. Сделав пару кругов, бутылка опустела, и нам снова не оставалось ничего другого, как стучать зубами от холода. Прошло еще четверть часа. Меня трясло с головы до ног, но я заметил, что и моему соседу, комиссару Вышинскому, ничуть не лучше. Внезапно с огорченным вздохом он снова залез в свой портфель и достал оттуда еще одну бутылку бренди. Мы покончили с ней еще быстрее, чем с первой, и затихли в замороженном молчании. На такой высоте алкоголю нужно совсем мало времени, чтобы ударить в голову, но другие части наших тел оставались такими же холодными, как и раньше.
Я сидел, погребенный в моих мехах, уставившись в пол и размышляя о том, как долго я еще выдержу, когда Вышинский вскочил со своего места.
— Коньяка больше нет, — сказал он, — и если мы будем сидеть без дела, то замерзнем. Давайте боксировать.
Без какого-либо дальнейшего предупреждения он заехал мне кулаком в живот. Вышинский не был тем человеком, который заранее телеграфировал об ударах, которые собирался нанести, и следующее, что я помню, был быстрый удар справа по корпусу. Но мех смягчил его силу, и я немедленно ответил нокаутирующим ударом Вышинскому под ребро. Мгновенно все остальные пассажиры последовали нашему примеру, и началась всеобщая потасовка.
Боксерский поединок в шубах на высоте в несколько тысяч футов не мог не получиться изматывающим, и уже скоро все мы запыхались и зашатались, когда самолет накренился и попал в болтанку. От удара Вышинского слева я потерял равновесие и упал на пол. Но и Вышинскому было не легче: нанося свой удар, он не устоял и сам повалился на меня. К этому времени и остальные пассажиры утомились и решили, что из меня получился отличный матрас.
Все, кроме советского фотографа, который увидел, что получается хорошая картинка, повалились на пол. В одно мгновение фотограф со своей камерой взобрался на ящик, щелкнув эту уютную маленькую компанию, сгруппировавшуюся вокруг заместителя наркома по иностранным делам Вышинского. Единственный пассажир, которого не было видно на снимке, — я сам, погребенный под шубами и сапогами остальных.
Наконец мы вернулись в Куйбышев, и где-то через неделю, когда я шел по главной улице города, борясь с ветром и ненастьем, я наткнулся на друга-фотографа, которому погода, похоже, нравилась не больше моего. Я пригласил его пойти выпить в «Гранд-отель», и уже через несколько минут мы расслаблялись за графинчиком водки. Со всей возможной осторожностью я направил разговор на нашу поездку в Саратов и боксерский поединок. После третьей рюмки я как бы невзначай спросил его, как вышло фото. С лукавой усмешкой он полез к себе в карман и достал снимок. Не прошло и секунды, как он уже оказался в моем кармане, а фотограф завопил голосом кровавого убийцы:
— Ты не можешь его взять! Это собственность государства! Я вызову милицию!
Я стал поспешно объяснять, что в моем кармане фото будет в большей безопасности, чем в его, и что если милиция узнает, кто сделал снимок пьяного Вышинского, лежащего на полу самолета, то ему не поздоровится. Бедняга увидел логику в моих рассуждениях и замолк.
Фотография воздушного боксерского матча очень скоро была спрятана среди моих бумаг. И только когда Вышинский начал действовать в ООН, я достал ее и поместил в рамку. Она висит на стене в моем кабинете.
Даже на дипломатической службе назначения на работу в местах, подобных Куйбышеву, не являются постоянными. И вот я получил новое предписание: отправляться в Кабул, столицу Афганистана, где, как сказали мне в Государственном департаменте, я должен открыть новое дипломатическое представительство. Я не мог понять, почему для того, чтобы открыть контору посреди гор Гиндукуша, Департамент выбрал человека, который пребывает в русских степях. Может, потому, размышлял я, что я привык к жизни на природе. Но позже я узнал иную причину. Семь лет назад, когда афганцы через посла Буллита пытались уговорить американцев открыть миссию в Афганистане, я, внимая красноречивым описаниям афганского посла жизни в его стране, по ходу дела сказал Буллиту, что Афганистан мог бы стать забавным назначением. Восемь лет спустя Департамент решил удовлетворить эту просьбу, поскольку единственным человеком, по их данным, который когда-либо предлагал свою кандидатуру, оказался я. И должен добавить, со всем почтением к Департаменту, что это было назначение, о котором я никогда не сожалел.
Мне не нужно было много времени на сборы. Но прежде чем покинуть Куйбышев, я устроил самому себе прощальную вечеринку. У меня было легкое подозрение, что после более чем семи лет в России, даже Государственный департамент вряд ли скоро вновь пошлет меня сюда обратно. Поэтому отъезд следовало отметить.
Чтобы как-то разнообразить меню, состоявшее из консервированных франкфуртских сосисок и черного хлеба, я послал посольского курьера в деревню, снабдив его ящиком водки, золотыми монетами и несколькими мешками сахара, для того чтобы купить поросенка. И он успешно его приобрел. Поросенок был нескольких месяцев от роду и не больше фута в длину. Если посчитать стоимость сахара, водки и золота, то он обошелся примерно в двести долларов.
Вечеринка, как всегда в России, была веселой и длилась несколько дней. Наконец, я избавился от своих гостей и отправился в аэропорт вместе с Миджет, чтобы сесть на самолет в Тегеран.
Управляющий аэропорта настаивал, что собакам в самолете лететь нельзя. К счастью, кто-то прихватил с собой водки, чтобы мы могли согреться во время неизбежного для любого аэропорта ожидания задержанного рейса. Я дал бутылку управляющему, и к тому времени, как началась посадка, он уже не стал бы возражать и против стада коров, захоти я взять его с собой на борт.
Глава 19 АВТОБУС В КАБУЛ
Самое популярное начало гамбита разочарованных третьих секретарей звучит так: «Теперь, когда я стал Поверенным в делах в Польше.» (Поверенный — это дипломат, временно отвечающий за посольство.) Обычно рассказ продолжается описанием жуткого дипломатического кризиса, от которого волосы встают дыбом, и повествованием о том, как третий секретарь отважно доставляет королю ультиматум, дающий тому двадцать четыре часа на размышление. Если же вы вникните в ситуацию поглубже, то, скорее всего, обнаружите, что причина, по который третий секретарь стал поверенным в делах, проистекает из того, что посол с тоски ушел в отставку, советник заболел свинкой, первый секретарь сбежал с посольской стенографисткой, а второй секретарь после обеда отправился на рыбалку.
Теперь, когда я стал поверенным в делах в Афганистане, афганцы не давали мне даже прибыть в страну. Третий секретарь, обоснованно жаловались афганцы, это человек совсем не того уровня, чтобы устанавливать надлежащие дипломатические отношения между двумя странами. Я без излишней убедительности доказывал, что отношусь к третьим секретарям весьма особого типа и что, так или иначе, идет война и когда-нибудь, моя страна назначит настоящего посланника. Афганцы говорили, что, когда это произойдет, они смогут пойти навстречу и дать мне визу. Так что почти шесть месяцев я пробыл в Тегеране в ожидании визы пока, наконец, президент Рузвельт не назвал Корнелиуса ван Эмерта Энгерта посланником[194]. После этого афганцы сказали, что я могу приезжать в Кабул.
Существовало множество всяких дел, которые надо было сделать в Тегеране в эти суматошные дни 1942 года, и пока я ожидал визу, то без дела не сидел. К примеру, там были поляки, которых Сталин в конце концов согласился отпустить из Советского Союза. Первоначально их «транспортировали», как эвфемистично выразились русские, из их родных домов в Польше, когда Красная армия вместе с нацистами приняла участие в Четвертом разделе Польши. Они были по преимуществу теми поляками, которые меньше всего хотели жить при советском режиме и про которых в Кремле думали, что лучше всего им будет жить в Сибири. Когда же нацисты потом взялись за раздел России, в Кремле пришли к заключению, что допустили небольшую ошибку и лучше все-таки дать полякам покинуть Сибирь, пока они не создали каких-нибудь проблем. Практически единственный путь выдворить их пролегал через Персию. Британцы и мы согласились принять их здесь и позаботиться о них до тех пор, пока Польша не будет освобождена.
После нескольких месяцев задержки Кремль сообщил в Тегеран, что первый транспорт с шестью тысячами женщин и детей прибудет в Персию в течение двадцати четырех часов[195]. Британцы планировали послать группу экспертов, чтобы они занялись прибывающими, но сообщение из Кремля слишком запоздало, так что, когда грузовики начали въезжать в Тегеран, никого из этой группы еще не было на месте. Поэтому четыре человека — один из сотрудников американского Красного Креста, местный американский врач, хирург индийской армии и я — образовали комитет, чтобы действовать в этих чрезвычайных обстоятельствах. Иранское правительство великолепно отреагировало на ситуацию и выделило для поляков примитивный, но тем не менее вполне подходящий лагерь на окраине города.
Когда беженцы прибыли в Персию, среди них вовсю свирепствовал тиф, и самой большой нашей заботой было предотвратить его распространение среди персидского населения. Для поляков хватало вакцины, которая имелась в нашем распоряжении, но если бы среди персов началась эпидемия, то мы бы с ней не справились. Самой большой трудностью было то, что сами персы не меньше, чем их правительство, настаивали на том, чтобы соответствующим образом приветствовать этих несчастных людей из Польши. Они толпами шли к лагерю, неся в подарок цветы, фрукты и сладости.
Мы поставили вокруг лагеря персидских полицейских с приказом никого не подпускать. Но персидские охранники не знали, что такое тиф, и не видели ничего зазорного в том, чтобы их соотечественники передавали букеты роз несчастным беженцам. Мы их улещивали, спорили, объясняли, что этого делать нельзя, и полицейские вроде обещали нас слушаться, но как только мы поворачивались к ним спиной, в лагерь вваливалась очередная толпа персов с подарками.
В конце концов я спрятался за деревом возле главных ворот, дожидаясь, когда охранник отправится отдыхать. Через несколько минут подъехала большая машина и вышедший из нее прилично одетый господин направился через ворота. Охранник не только не остановил его, но даже отдал ему честь. Я выскочил вперед и принялся, насколько позволял мой примитивный персидский, отчаянно ругать охранника.
Я не жалел и посетителя. Последний вначале выглядел немного сконфуженным, но затем слегка поклонился и представился как премьер-министр Персии[196]. Я тут же сменил мелодию песни, но не ее слова, и после обмена дипломатическими реверансами премьер-министр признал обоснованность моей позиции, передав в мои руки те розы, что он привез, и вернулся в свой лимузин.
Через несколько дней британская группа собралась и занялась лагерем, а я отправился к своему посланнику Луису Дрейфусу[197] за новым заданием.
Наконец моя виза в Афганистан прибыла, и я начал приготовления к путешествию в Кабул. Столица Афганистана находится в тысяче четырехстах милях на восток от Тегерана. Тысяча четыреста миль — это не шутка. Первые две или три сотни миль проходят через Деште-Лут, великую пустыню Востока в северовосточном углу Персии, между Кабулом и Мешхедом. Оттуда вам надо пересечь границу у Герата. Между Гератом и Кабулом лежат западные отроги Центральноазиатского горного массива, простирающегося от Гималаев на востоке до Гиндукуша на западе. Через Гиндукуш от Герата до Кабула идет дорога, в 1942 году проехать по ней можно было только на джипе. Затем вам приходится объезжать горы с юга, двигаясь на Кандагар, и далее брать направление на север в Кабул. Между Гератом и Кандагаром протекают три больших реки, начинающиеся высоко в горах Гиндукуша и спускающиеся вниз, в персидскую пустыню, где они исчезают в песках. В разные периоды истории через эти реки строили мосты, но обычно весенние паводки разрушают один-два мостовых пролета.
Я запросил в Вашингтоне разрешение воспользоваться армейским бомбардировщиком, полдюжины которых находилось в Тегеране, чтобы долететь до Кабула. ВВС США уверили меня, что им достаточно четырех часов, чтобы забросить меня в Кабул. Но Вашингтон, похоже, не разделял эту идею, потому что ответа на мою телеграмму не последовало. Тогда я решился на риск сухопутного маршрута и телеграфировал в Государственный департамент свою просьбу одолжить мне разведывательную машину, поскольку наши военные власти в Персии сказали мне, что у них есть лишняя.
Но и этот вариант, похоже, не заслуживал положительного отклика, потому что никакого ответа я не получил. Наконец, я послал телеграмму в Вашингтон, что если я не получу возражений в двухдневный срок, то найму автобус-«шевроле» на тридцать пассажирских мест и отправляюсь сам. Цена найма автобуса, как я отметил, равна стоимости полета бомбардировщика и в три раза превышает стоимость разведывательной машины. Но ответа так и не поступило.
В Тегеране мне здорово повезло, и я нашел одного молодого американца Боба Аллена, который свободно говорил по-персидски и имел представление о работе Государственного департамента. Он согласился отправиться со мной в качестве секретаря миссии. Боб вырос в Персии, был сыном миссионера и знал не только язык, но и людей. Кроме того, у него присутствовало чувство юмора, необходимое при назначении вроде того, которое мы получили. В дополнение к Аллену мой штат включал моего китайского повара Янга, с которым мы вместе уже объехали полмира, и овчарку Миджет, которая была со мной уже восемь лет.
Вашингтон обещал доставить все оборудование, форму, пишущие машинки и атрибуты, необходимые для открытия миссии, но в тот момент я был готов отправляться с одним только портфелем секретных шифров, присланным мне в Тегеран. Однако Дрейфус, наш посланник, был так добр, что разрешил мне перерыть его собственный офис на предмет самого необходимого — всего, кроме пишущих машинок, которые даже тогда во всем мире были самым большим дефицитом.
Мы сняли в нашем «шевроле» все скамейки, купили пару бывших в употреблении мягких кресел для меня и Билла и привинтили их к полу. Наш багаж и оборудование мы разместили в конце автобуса, а сверху на него прикрепили несколько сотен галлонов бензина и теперь были готовы к старту.
Примерно в это время в Тегеран прикатил джип из Индии с майором Гордоном Эндерсом[198], объявившим, что он — новый военный атташе кабульской миссии. Он сказал мне также, что все мосты между Кабулом и Тегераном разрушены и что племена в восточной части Персии бунтуют. Но у него, сообщил он вдобавок, есть пулемет, и он будет только рад сопровождать нас в этом путешествии. Гордон большую часть своей жизни провел в невероятных приключениях, начиная с участия в эскадрилье «Лафайет»[199] в годы Первой мировой войны. Потом он стал пилотом Чан-Кайши, принял участие в нескольких экспедициях в Тибет и наконец, стал радиокомментатором в Университете Пердью. Более того, у него был ординарец-пуштун с дико горящими глазами, который мог помочь Янгу сделать наше путешествие возможно более комфортабельным.
Гордон со своим пуштуном оказались как раз тем, что было нам необходимо для успеха путешествия, и мы тронулись уже на следующий день. В последний момент отъезд задержался из-за того, что польская колония, которой я помог, когда они только приехали в Тегеран, настояла на небольшой пирушке «на посошок». Было выпито нескольких ящиков шампанского, произнесено множество тостов и добрых напутствий. В итоге вместо того, чтобы выехать в полдень, мы вырвались из города в пустыню лишь около пяти часов дня.
Вначале Гордон на своем джипе старался держаться миль на десять впереди нас, что, с моей точки зрения, минимизировало для нас полезность его пулемета. Мы едва проехали семьдесят миль от Тегерана, как пара валунов посреди дороги заставила водителя моего автобуса замедлить ход и начать их объезжать. Как только мы приступили к этому маневру, мимо нас противно просвистела ружейная пуля, наглядно продемонстрировав, что двигаться ночью по дорогам Персии во время войны — не самое полезное для здоровья занятие. Когда мы в следующей деревне догнали Гордона, то обнаружили, что пуля проделала в бензобаке две аккуратных дырочки. Однако, пока мы устраивались на ночь в местной чайхане, наш шофер, немного нервный перс, сумел залепить эти дырки чем-то вроде жвачки.
В течение двух дней мы медленно прокладывали себе дорогу через восточную пустыню и, наконец, приехали в Мешхед, где расположились в местной американской миссии. Я совершил визиты вежливости к советскому и британскому консулам, посетил могилу девятого имама[200], и мы двинулись дальше к границе. После эпизода с винтовочной пулей мы передвигались только днем, но мои визиты вежливости в Мешхеде выбили нас из графика, и поэтому мы решили двинуться через границу к Герату, несмотря на темноту. Было около одиннадцати часов вечера, когда наш автобус достиг последнего персидского поста. К этому времени Гордон Эндерс, его пулемет и джип уже давно проехали границу. Лейтенант, начальник поста, с изрядной долей язвительности сообщил нам, что кочевые племена находятся в беспокойном состоянии. Это, как мы поняли, означало, что они чаще обычного спускают курки. Их любимые охотничьи угодья, продолжил лейтенант, это девятимильный участок от его поста и до первого афганского гарнизона на той стороне границы. По его мнению, было бы глупо пытаться пересечь границу ночью. Я согласился с ним и сказал, что мы с радостью примем его любезное приглашение остаться с ним до утра. Со всей восточной учтивостью он ответил, что не приглашает нас провести здесь ночь, потому что племена, без сомнения, знают об автобусе с богатыми американцами, появившемся в их области, а у него всего шесть солдат и нет никакого намерения всю ночь отбиваться от полусотни неутомимых кочевников. В этом случае, предположил я, будет, вероятно, лучше вернуться назад, в ближайший город с гарнизоном. Тот объяснил мне, что и это глупо, потому что до города тридцать пять миль и на нас точно нападут, когда мы и половины пути не проедем.
Я заметил ему, что все, что он говорит, не очень-то нам помогает. Перед нами — рыскающие по округе племена, позади — точно такая же опасность, и вдобавок мы не можем оставаться там, где сейчас находимся. Может, у него найдутся какие-нибудь конструктивные предложения? Единственное, что мог нам предложить лейтенант, так это принять «все необходимые предосторожности» и убраться с его поста как можно быстрее, пока мы не привлекли внимание местных племен. В отсутствие Гордона и его пулемета, наши «необходимые предосторожности» были крайне ограниченными, но мы сделали все возможное. Я зарядил револьвер и передал его Бобу Аллену с инструкцией сидеть рядом с водителем и быть готовым застрелить того, если только он остановится. Я снарядил и свой дробовик и отдал его Янгу, сказав, чтобы он не стрелял, пока я не подам знак. Для себя достал свое охотничье ружье. Между ног я поставил портфель с шифрами вместе с маленькой бутылкой бензина и коробком спичек. Я подумал, что самое меньшее, что я могу сделать, так это сжечь их в случае опасности. Затем мы погасили огни и двинулись к афганской границе.
Дорога через границу очень быстро превратилась в простую колею, но вскоре и она пропала, а путь обозначали лишь пирамидки из камней, расставленные с неправильными интервалами. Почти час мы пробирались по скалистой пустыне, двигаясь на самой низкой передаче. Часто нам казалось, что мы слышим выстрелы в пустыне, окружавшей нас, и пару раз вдали показывались огоньки. Янг стоял на коленях у открытого окна автобуса, направив ствол своего дробовика в темноту. И то и дело принимался возбужденно шептать:
— Смотрите, хозяин, смотрите! Лазбойники идут, лазбойники!
Но ничего конкретного так и не встретилось за то время, что мы добирались до границы между Персией и Афганистаном. Мы сделали довольно долгую остановку, чтобы прочитать надпись на большой каменной колонне, отмечавшей границу, и поехали дальше. До первого афганского поста оставалось четыре или пять миль, и мы думали, что уже проехали половину этого расстояния, как вдруг раздались вопли и крики, и отряд диких всадников вылетел из темноты. Когда они попали в свет фар автобуса, мы смогли различить их свирепые бородатые лица, выглядывавшие из-под плотно скрученных тюрбанов. Спины их низкорослых лошадей покрывали вышитые попоны. Короткие стволы кавалерийских карабинов в руках всадников были угрожающе направлены в нашу сторону. Янг задергался и взволнованно посмотрел на меня:
— Стереляти, хозяин? Должен я стереляти?
Но что-то в этом отряде меня смущало. Их шапки и тюрбаны, их грозные карабины как-то не подходили для неорганизованной банды и мародеров-кочевников. Я спросил Аллена, о чем они кричат.
— Они хотят, чтобы мы остановились, — ответил он с довольно беспомощным видом.
Я решил воспользоваться шансом и попытаться договориться с ними. Я сказал Аллену, чтобы водитель остановился. Но водитель и не думал слушаться. Он помнил мой приказ пристрелить его, если он остановится, а до сих пор он думал только о том, чтобы выполнять приказы. Кроме того, он не разделял моего доверия к носившейся снаружи банде всадников.
Один из них скакал рядом с моим окном. Его карабин просунулся в окно и почти касался моих ребер.
Я закричал что было сил, чтобы Аллен так или иначе остановил автобус. Тогда он спихнул водителя с сиденья и нажал на тормоза сам.
Как только мы остановились, мы прокричали, чтобы один из всадников зашел в дверь автобуса. Дробовик Янга, револьвер Аллена и мое ружье нацелились на дверь, как только один из всадников спрыгнул с коня и зашел в автобус. Он поднялся в автобус и быстро произнес страстную речь. Аллен повернулся ко мне и перевел:
— Он говорит: «Добро пожаловать в Афганистан!» Он — капитан почетного караула, посланного командиром гарнизона встретить вас.
Уже через две минуты мы сидели вокруг костра с нашими новыми друзьями. Трубка мира была зажжена и пошла по кругу. Это был мой первый и последний опыт курения кальяна, но я выжил. Затем мы забрались обратно в автобус. Всадники выстроились перед нами и с достоинством скакали впереди, пока мы не въехали во двор крепости.
Эндерс ждал нас у командира. Он объяснил, что приехал несколько часов назад и сообщил им о нашем прибытии. После этого они организовали почетный караул.
Той ночью я исподтишка вытащил заряды из дробовика Янга на тот случай, если вдруг неожиданно появится еще какой-нибудь почетный караул. Но Янга это уже не беспокоило, и весь остальной путь до Кабула он просидел на коленях у открытого окна с незаряженным дробовиком, прошедшим тренировку в пустыне. Каждый раз, когда он видел движение среди скал и барханов, Янг кричал:
— Смотри, хозяин, лазбойники, лазбойники!
Но никогда не пытался стрелять.
Первая река, которую мы встретили, была Фарахруд. В противоречие с данными докладов, мост стоял на своем месте, хотя одна его секция недавно была смыта, но ее заменили довольно прочным деревянным перекрытием. Мы выгрузили автобус, и за несколько напряженных минут водитель сумел проехать по мосту, ничего не поломав.
Но следующий мост, к которому мы прибыли через день или чуть позже, был совершенно разрушен, и мы разбили лагерь на берегу, где вместе с местными властями стали думать над тем, как пересечь реку. Весенний паводок еще не закончился, и вода в реке Хашруд стояла высоко. Наконец нам удалось найти две баржи подходящего размера, скрепить их вместе так, чтобы передние колеса автобуса были на одной барже, а ведущие — на другой. Затем встал вопрос, как направить баржи. Помогло то, что молодой кочевник прискакал на лошади и предложил переплыть реку, держась за трос. Как только трос будет закреплен на той стороне, мы сможем тянуть за него, подтягивая баржу. Это выглядело не очень надежно, но альтернативы у нас не было, кроме того, чтобы сидеть и ждать, пока через несколько недель не спадет вода. Итак, всадник въехал на лошади в поток, прикрепив трос к своему седлу, и вскоре он уже взбирался по берегу на другой стороне реки в нескольких сотнях ярдов вниз по течению. Через пару часов мы все счастливо переправились через Хашруд.
Последний мост через реку Гильменд находился прямо перед Кандагаром, и на первый взгляд казалось, что преодолеть его будет довольно просто. Но когда мы к нему приблизились, то увидели, что въезды на мост смыты и к нему ведет узкая S-образная тропа по насыпи, к тому же проложенная под углом в сорок пять градусов.
Как мы установили, за мост отвечал старый инженер-венгр. S-образную форму тропы он объяснил тем, что местных трудно приучить работать ровно, кроме того, насыпь тоже недавно была размыта, и у них не хватило времени восстановить ее под более разумным углом. Но тем не менее мы можем попробовать воспользоваться ею.
И снова мы разгрузили автобус, и несчастный водитель получил приказ въехать на насыпь. Она возвышалась над берегом на высоте добрых тридцати футов, и если он соскользнет с уступа, то лететь вниз пришлось бы долго. Водитель хмурил брови, но все-таки сел на водительское место в автобусе, отъехал задом от моста на приличное расстояние и понесся на насыпь. Как только он достиг склона, автобус задрожал, мотор взревел, но инерция дала ему возможность проехать по первому изгибу прежде, чем колеса начали скользить. Еще через мгновение он уже преодолел полпути по последнему изгибу, ведущему к вершине. Но тут машина потеряла тягу, и колеса стали бешено крутиться. Машина медленно сползала к краю насыпи. В этот момент я повернулся к происходящему спиной и отправился в долгую прогулку в пустыню. Но сокрушительного грохота от падения автобуса и водителя на скалистый берег, который я ожидал услышать, не было. Когда я наконец вернулся, автобус расположился на середине пути по склону, его задние колеса вращались в воздухе, а передние стояли на песке насыпи.
Я посмотрел на венгерского инженера:
— И что теперь?
— О, да ничего. Мы закрепим автобус на том месте, где он сейчас находится, а утром я позову местных ребят, чтобы его вытащить. Вы можете остановиться у меня. Я неплохой повар, а в моем саду даже есть душ. И, кроме того, я уже шесть месяцев не видел ни одного европейца, и, если уж совсем честно, я очень надеялся, что шофер не справится.
Мы провели с нашим венгерским другом приятный вечер, и он поведал нам длинную историю своего спасения из рук немцев, русских, итальянцев и разных других народов. Его история вполне могла быть и правдой, но я не мог отделаться от ощущения, что скорее за ней скрывается какое-нибудь убийство, а не чей-то ужасный национализм, принудивший его пуститься в путь в долину реки Гильменд.
Когда я проснулся следующим утром, наш автобус уже стоял на другой стороне моста в полном порядке. Я спросил нашего хозяина-венгра, как ему это удалось.
— О, это просто, — откликнулся он. — Я только позвал местное племя, и они перенесли его на другую сторону.
Остальная часть нашего путешествия прошла довольно гладко. После Кандагара мы опять повернули на север и двинулись той самой дорогой, которой прошел маршем лорд Робертс в 1880 году, прежде чем совершить свое знаменитое освобождение Кандагара[201]. Нашей последней остановкой перед Кабулом стал окруженный стенами городок Мукур. Я наслаждался великолепным ужином на местном постоялом дворе, когда появился слуга и сказал, что меня просят к телефону. После двухнедельного похода через пустыню и горы я меньше всего ожидал, что меня могут вызвать к аппарату. Это означало, что здесь есть телефонная линия, проложенная через весь Афганистан. В каждом из основных городов была единственная общая телефонная линия — наверное, самая длинная линия в современной телефонии.
Звонил афганский шеф протокола из Кабула, относительно мероприятий на следующий день, касавшихся моей встречи. Он объяснил, что из-за отсутствия в Афганистане железной дороги он не сможет встретить меня на перроне вокзала, как это принято во многих странах. Поэтому в Афганистане обычно проводят встречу в пяти милях от города в специально устанавливаемом шатре, где он и будет рад приветствовать меня на следующий день. Одеться надо, как обычно в таких случаях, по полной форме: визитка, брюки в полоску и цилиндр.
Я попытался не выглядеть удивленным и на своем самом отменном французском ответил, что мой сюртук погребен в чемодане под грудой вещей в автобусе и что в путешествии он, без сомнения, очень испачкался и измялся и что в любом случае, на следующий день после того, как я проделал путь в две сотни миль через пустыню, я даже не подумаю облачаться в тесный костюм и надевать шелковый цилиндр.
Шеф протокола предложил, чтобы я последовал примеру британских послов, которые обычно останавливаются в десяти милях от города под пальмами и переодеваются там. Я ответил, что меньше всего собираюсь следовать этому совету, и предположил, что, поскольку идет война, я вполне могу обойтись без парадного облачения и пусть он меня встречает в том, во что я одет — в пробковом шлеме, рубашке хаки и штанах. Мне будет приятно, если он тоже будут одет как обычно. Шеф протокола на безупречном французском ответил, что в Афганистане войны нет. Это нейтральная страна, и ее нельзя заставлять отказываться от обычных для нее порядков только потому, что другие страны не могут жить мирно. И тут связь прервалась, прекратив наш обмен мнениями. Я попытался дозвониться до него сам, но неудачно. (Позже мне сказали, что нашей беседе помешало то, что премьер-министр захотел поговорить со своим шурином в Герате.)
На следующий день в пяти милях от Кабула наш автобус остановили возле огромной палатки, натянутой у обочины дороги. В своей рубашке хаки и пробковом шлеме я был препровожден в палатку и представлен помощнику шефа протокола, который был при полном параде. (Позднее шеф протокола, ставший одним из моих лучших друзей, рассказал, что он умышленно не приехал сам, поскольку побоялся, что я так и не последую его совету).
Нам предложили отведать превосходную дыню и фруктовые соки (Афганистан — строго безалкогольная страна), и затем нас сопроводили на гостевую правительственную виллу, где нам предстояло жить, пока мы не найдем подходящее здание.
Прежде чем расстаться со мной, помощник шефа протокола объяснил, что министр иностранных дел примет меня, как только выкроит время, а до этого я, конечно, в соответствии с дипломатическими правилами должен воздержаться от установления каких-либо контактов с другими иностранцами. А еще он довольно зловеще добавил, что министр иностранных дел очень занят и может пройти некоторое время, прежде чем меня примут.
В конце недели, проведенной в безделье на гостевой вилле, я был очень сердечно принят министром иностранных дел, и мне сказали, что я могу начать заниматься своей работой. Афганцы полагали, что теперь я наконец пойму, что нельзя нарушать правила этикета страны, как бы далеко она ни была расположена.
И они были правы.
Глава 20 ЗА ХАЙБЕРСКИМ ПРОХОДОМ
Афганцы говорят, что племена, заселившие в конечном счете Европу, вышли из Афганистана. Когда началось это движение, неизвестно, но кое-кто из археологов-неафганцев полагает, что они пришли из еще более восточных земель, а в Афганистане задержались, чтобы передохнуть. И если это так, то они приняли великолепное решение. Как курорт Афганистан оставляет далеко позади себя Швейцарию, и даже Калифорнии с Флоридой трудно с ним конкурировать. И не важно, что в стране нет первоклассных отелей или лыжных подъемников, да и железной дороги здесь тоже нет. Но зато здесь есть озера, горы, пустыня, солнце, снег, рыба, игры и, кроме этого, — сами афганцы.
Хотя Афганистан по размеру территории равен Франции, его населяет примерно четырнадцать миллионов человек. Это грубая оценка, по той простой причине, что племена считают дурным тоном пересчитывать их семьи. А если афганцы что-то считают дурным тоном, то с чьей бы то ни было стороны будет очень, очень глупо им противоречить.
Страна располагается между юго-восточными отрогами великого Центрального горного массива, включающего в себя Гималаи, Памир и Гиндукуш, и последний относится к афганской доле Крыши мира. На севере Гиндукуш вторгается в великие северные равнины, где возделывают пшеницу и разводят ягнят на каракуль. Река Амударья разрезает эту равнину и является границей Советского Союза.
На западе и юге горы обрываются пустынями Восточной Персии и Белуджистана. Восточной границей является пресловутая Северо-западная пограничная область Индии, где дорога из Кабула прорывается через Хайберский проход к конечной станции железной дороги в индийском Пешаваре[202]. Столица страны, Кабул, лежит примерно в центре страны, на высоте в семь тысяч футов над уровнем моря.
Треть населения живет на равнинах к северу и к югу от гор и занимается зерноводством и овцеводством, результаты которых и дают афганцам средства к существованию. Еще два миллиона человек — это так называемые кочевники, которые проводят зиму около реки Инд в Индии. С приходом весны они следуют за теплой погодой и поднимаются по склонам гор, как морской прилив, попутно возделывая землю и засеивая пашню. Когда осенью начинает выпадать снег, они пускаются в обратный путь, собирая урожай с полей, которые засеяли весной. К октябрю долины Северо-Западной пограничной провинции покрываются черными точками их шатров, а все проходы переполняются их нескончаемыми верблюжьими караванами. На Рождество кочевники уже оказываются на теплых равнинах Индии, откуда они вышли десять месяцев назад.
Самой колоритной частью населения как раз и являются племена, живущие в горных областях между Кабулом и индийской границей. Высокие, выше шести футов ростом, голубоглазые, темнокожие, с длинными толстыми черными волосами до плеч, со старинным ружьем на плече, они действительно выглядят грозно, именно так, как их описал Киплинг. В хорошие времена они ведут вполне мирную жизнь в своих убогих горных деревнях, но когда что-то идет не так, то ничто не может остановить их, когда они хлынут на равнины, чтобы грабить, похищать и наводить ужас на жителей равнин.
Даже в лучшие времена кабульское правительство избегало направлять экспедиции в области племен. Нередко, когда я просил разрешения отправиться на охоту в какие-нибудь горные районы к востоку от Кабула, мои друзья в правительстве качали головами и отвечали:
— Нет, туда вам нельзя. Это слишком племенное место.
Великий национальный герой современности — Абдуррахман Хан[203] объединил страну в середине прошлого столетия и правил до 1901 года. Абдуррахман вернулся из изгнания в русской Центральной Азии, победил тогдашнего правителя в Кабуле и одновременно объединил племена под своей рукой. Он вел серию войн с британцами, побеждая во всех сражениях, кроме последнего, которое, как всегда, осталось за британцами. Абдуррахман знаменит тем, что стал автором одной из наиболее занимательных автобиографий, которые когда-либо были написаны. В ней он не только описал свои достижения, но и сформулировал правила, которых стоит придерживаться его последователям, чтобы держать в руках неуправляемых подданных. Он также дал советы британским и русским соседям, главный из которых — лучше оставаться друзьями Афганистана, чем быть его врагами. Британцам он отдельно сказал, что, если они будут держать русских в узде в Европе, он позаботится о них в Азии. Но все это было задолго до того, как можно было представить себе Ленина, Сталина и даже Мао Цзэдуна.
Абдуррахман старательно описывал свои племена. Он был особенно расположен к одному конкретному племени, жившему на границе с Кашмиром. Он писал, что они храбры и обычно верны короне, но порой могут начать убивать друг друга.
— И когда у людей входит в привычку убивать друг друга, — писал Абдуррахман, — то тогда неизбежно возникают проблемы. Поэтому он взял несколько полков своих войск и повел в долину, где обитало то племя. Он уничтожил его полностью.
Человеческая природа меняется медленно, и до сих пор племена временами склонны к убийствам. В годы Второй мировой войны немцы специально занимались тем, что засылали своих агентов на племенные территории, надеясь поднять их против британцев. Во время моего пребывания в Кабуле город периодически переполняли слухи о тайных встречах немецких эмиссаров и местных возмутителей спокойствия с такими странными именами, как Факир Ипи и Безумный Мулла. Племена так и не восстали, но я думаю, что Факир и Мулла на немцах неплохо заработали.
Не все племенные территории были закрыты для иностранцев, и иногда, когда мне удавалось развязаться с работой, я отправлялся в горы и проводил несколько дней с кем-то из вождей и пытал свою удачу в охоте на горных козлов или диких кабанов.
Вскоре после моего приезда в Кабул я посетил провинцию Бадахшан на северных склонах Гиндукуша. у меня с собой было достаточно армейских пайков, но мой гостеприимный хозяин, губернатор провинции, настоял, чтобы я остановился в его хорошо укрепленном доме и отведал его кухню. Со мной было несколько приятелей, включая боксера-профессионала, экс-чемпиона Чехословакии, чей аппетит вполне соответствовал его собственному весу в двести пятьдесят фунтов, но наш стол, или, точнее, пол, на котором мы на самом деле ели, всегда оставался полон еды.
Губернатор принимал нас в Дурбар-холле, во внешнем дворе его дома. Внутренний двор, зарезервированный за женской частью его семьи, был абсолютно недостижим для иностранцев. В самом зале не было никакой мебели, если не считать толстых ковров по сторонам и бессчетного количества подушек и матрасов. Когда пришло время поесть, посреди комнаты на полу расстелили клеенку и поставили на нее большущий котел с куриным кебабом. Все едоки расселись в кружок вокруг котла и стали есть, помогая себе руками. Поначалу есть рис при помощи пальцев было мне неудобно, но потом я освоил прием, когда рис скатывают в маленький шарик и забрасывают в рот движением большого пальца.
После первого трудного охотничьего дня я уже был готов отправляться спать, но у моих хозяев, оказывается, были иные намерения. У губернатора было двое сыновей — десяти и двенадцати лет отроду. Младший страдал от катаракты и совершенно ослеп на один глаз и наполовину ничего не видел вторым. Соответственно, он не мог присоединиться к любимому афганскому развлечению — охоте. Но была одна вещь, как он сказал, которой он мог заниматься, и это была игра в шахматы.
Когда я еще молодым сотрудником начал свою службу в ведомстве по иностранным делам, то сразу получил один очень хороший совет, которому действительно следовал: молодой дипломат не должен играть в бридж, покер или в какие-нибудь иные азартные игры. И все потому, что дипломатам более высокого ранга и их женам нередко приходилось искать, чем бы себя занять, а значит, на молодых холостяков, играющих в бридж, был открыт постоянный сезон охоты. И существовал лишь один приемлемый способ защиты от приглашения стать четвертым в игре: заявить, что не умеешь играть.
Однако было одно исключение — шахматы. Очевидно, что у вас немного шансов получить от жены русского посла приглашение сыграть в шахматы. Поэтому я на какое-то время сосредоточился на пешках, королях и королевах и на различных направлениях, по которым они передвигаются. Но вряд ли я посмею утверждать, что достиг каких-то успехов. Фактически, до того, как я приехал в Афганистан, я ни у кого не выиграл ни одной партии и, честно говоря, был несколько этим обескуражен.
Поэтому в том, что юный Абдул Аззиз умел играть в шахматы, я увидел шанс и для себя. Это могло показаться попыткой с моей стороны использовать несправедливо доставшееся преимущество над болезненным афганским ребенком, но учитывая, что среднее число моих побед равнялось нулю, я решил, что это будет честно. Итак, шахматная доска была готова, фигуры расставлены, а мы сами расположились среди гор диванных подушек на полу Дурбар-холла, а губернатор и его приближенные собрались вокруг. Когда мы начали игру, еще только смеркалось, а когда мы закончили партию, было уже далеко за полночь.
С тех пор я не играл в шахматы, и мой средний победный коэффициент по-прежнему находится ниже нуля.
Но на линии огня удача сопутствовала мне больше, и за три дня я настрелял четырех или пятерых козерогов — ни один из них не был впечатляющим трофеем, но зато они послужили небольшой жертвой мощи моего ружья. Когда я наконец засобирался уезжать, то вспомнил о ящике с армейскими пайками, остававшемся в машине, и спросил губернатора, а что, если я напоследок сам накрою прощальный стол. Вначале губернатор отказал мне на том основании, что они как мусульмане не могут есть свинины. Но я заверил его, что в американской армии так много мусульман, что наши пайки учитывают все ограничения, которые требуются по этой причине. В конце концов он согласился «попробовать» одну банку тушенки, объяснив, что его нёбу знаком лишь вкус кебаба, но он верит, что американская тушенка обладает подходящим вкусом. Не знаю, в каком там состоянии находилось его нёбо, но губернатор и его последователи выказали отменную скорость при ознакомлении с новым вкусом, так что, когда я покидал Бадахшан спустя два часа, все пятеро заканчивали с едой, которую в армии США считали порциями на шестьдесят человек.
Местные начальники не всегда были так склонны к сотрудничеству, как мой друг из Бадахшана. Вскоре после моего первого визита я отправился в долину Бамиан, где разбил лагерь на берегах небольшого притока под названием река Калу. Когда я послал известие в ближайшую деревню, что хотел бы нанять несколько местных проводников, чтобы провести меня в горы, мне ответили, что я прежде должен обратится к самому губернатору провинции, находившемуся в городе Бамиан. Итак, я направился в Бамиан, расположился в чайхане и послал записку о том, что прибуду к губернатору в назначенный им час. Ответом было сообщение, что губернатор присутствует на свадьбе и не сможет меня принять в ближайшие несколько дней. Я ответил, что звонил в офис премьер-министра в Кабуле, чтобы спросить, имеет ли бами-анский губернатор право отменять разрешение премьер-министра на охоту в долине Калу. Прежде чем последовал звонок, из губернаторского дворца прибыл курьер с сообщением, что представитель губернатора готов обсудить это дело в отсутствие губернатора, если только я отменю свой звонок премьер-министру. Я согласился, и мы принялись торговаться. Губернаторский представитель объяснял, что единственным возражением губернатора против моей охоты является то, что он лично отвечает за мою безопасность и что горы вокруг Калу кишат смертельными опасностями, угрожающими столь ценному иностранцу, каковым я являюсь.
Я поблагодарил джентльмена за беспокойство губернатора о моей особе и спросил, о каких опасностях идет речь. И охотится ли сам губернатор?
Мне сказали, что, несмотря на то, что сам губернатор не охотится, он знает, что в горах водятся волки, медведи и змеи, которые нападают, как только видят добычу. Я пытался спорить, заявив, что ни разу не видел, как волк на кого-нибудь нападал, и что я все отдам за то, чтобы встретить медведя на расстоянии ружейного выстрела, и что, как хорошо известно афганским экспертам, с которыми я говорил, в Гиндукуше нет ни одной ядовитой змеи. Но моего друга не так-то просто было смутить, и он вежливо ответил, что я, конечно, говорил не с теми людьми. И, кроме того, кому как не губернатору Бамиана знать, что у него где водится.
В конце концов мы нашли компромисс, который был надлежащим образом записан по-персидски и по-английски. Я не помню точного текста, но там было что-то вроде вот этого: «При условии, что его Высокопревосходительство губернатор Бамиана снимет свое запрещение на мою охоту в его провинции, я настоящим снимаю с него всякую ответственность за травмы и раны, которые я могу получить от: а) волков; 2) медведей и 3) змей. (подписано) ЧУТ».
Губернатор принял этот компромисс, и в течение часа после моего возвращения в лагерь он наполнился охотниками и проводниками, сулившими мне наилучшую охоту на горных козлов в Афганистане. На протяжении двух недель я все дни напролет проводил, лазая вверх-вниз по скалам и в иные дни занимаясь ловлей форели в реке Калу, отходя от усталости в предыдущие дни. За все это время я не застрелил ни одного козерога, но и ни разу не упал со скал. Я часто размышлял, а в чем выразится ответственность губернатора, если я сверну себе шею при падении с высоты в тысячу футов. Но, в конце концов, такой вариант не был упомянут в моем списке.
Когда я вернулся в Кабул, я поведал моим афганским друзьям об опасениях губернатора, и они заверили меня, что мой контракт с ним будет помещен в архив на постоянное хранение. На самом деле они были настолько удивлены, что Захир-Шах[204] послал мне письмо, что долина Калу с этого момента переходит из юрисдикции губернатора и на постоянной основе передается мне. Это будет отличное место, где можно спрятаться от атомной войны.
Но взять двухнедельный отпуск в горы удается нечасто, и большинство моих занятий вне рабочего времени были связаны с Кабулом и его ближайшими окрестностями. В самом Кабуле имелся ресторан, который открывался в дни национального праздника — фестиваля, длящегося несколько дней. Там есть кинотеатр, но я не очень люблю фильмы, особенно индийские. Общественная жизнь сосредоточена лишь в пределах размещения дипломатического корпуса, потому что афганским женщинам не разрешают появляться перед иностранцами, а, по всеобщему признанию, мальчишники не так уж хороши, если становятся единственным постоянным способом времяпрепровождения. В результате чаще всего я проводил свое свободное время в прогулках по окружающим горам или охотясь на уток в долине. Однажды я был даже приглашен на королевскую охоту на уток со слона. Слон, последний из подаренных королевой Викторией прапрадеду нынешнего короля Абдуррахману, прославившемуся своей автобиографией, перед самой утиной охотой заболел, и мне уже больше никогда не поступало приглашения стрелять уток со спины слона, хотя должен сказать, что это, наверное, очень весело.
Но вы не можете стрелять уток круглый год даже в Афганистане, и лазанье по горам тоже надоедает. И чтобы развлечься, я приобрел вначале лошадь, а потом сокола, и это имело неоднозначные последствия.
Глава 21 НУР ДЖАХАН — СВЕТ МИРА
Что касается лошадей, то с ними есть одна проблема и она заключается в том, что о них нельзя говорить за обедом, во всяком случае за дипломатическим обедом. Однажды я это испробовал в Москве, и все закончилось попыткой в одиночку научить Красную армию игре в поло. Во второй раз я попробовал примерно так же поступить в Афганистане, но результаты оказались еще более плачевными.
Дело было в британской миссии. Я сидел рядом с британским посланником, сэром Фрэнсисом Уайли, сотрудником Индийской гражданской службы[205]. Разговор шел ни о чем, но живо.
— Думаю купить лошадь, — сказал я между делом, и это было замечание, которое в обычных условиях пропускают мимо ушей.
— Но только не афганскую лошадь, — ответил Уайли. — Они слишком маленькие. А маленькая лошадь — это унизительно для американского представителя.
— А другие здесь разве есть? Я же не могу в военное время послать за тем, чтобы мне нашли ирландскую спортивную.
— Но в Индии у нас есть прекрасные животные — я достану одну для вас.
В этот момент жена персидского посла, сидевшая слева от меня, потребовала, чтобы я сказал ей, как американцы называют нож для масла, и тема лошади угасла. Дела в Центральной Азии бросают легко.
Через две недели британский посланник позвонил мне по телефону:
— Я о лошади. Генерал Уайтсайд[206] из Северо-Западных пограничных войск посылает вам прекрасную молодую кобылу. Я только что получил телеграмму: она покинула Пешавар сегодня со своим сайсом — славным малым.
— Кто славный малый? — спросил я. — Генерал Уайтсайд?
— Нет, мой дорогой, он, конечно, тоже славный малый, но я говорю о сайсе.
— Что такое сайс?
— Сайс, мой дорогой приятель, — это конюх. Хороший человек, сказал о нем Уайтсайд, надежный малый. Он согласился оставаться здесь с вами постоянно.
— К черту этого милого сайса, — заметил я с некоторым сомнением.
— Это совсем недорого для вас, для американцев — около восьми сотен долларов и кое-что сверх того ежемесячно за сайса.
Генерал Уайтсайд выказал себя настоящим знатоком лошадей. Кобыла, посланная мне, в чьих угодно глазах казалась бы призовой лошадью. Ее звали Нур Джахан — Свет мира.
Во время обеденного отдыха я вывел лошадь, чтобы в первый раз проехать верхом. Она гарцевала, вставала на дыбы и лягалась как двухлетка — и не потому, что чего-то хотела или нервничала, но просто была не в духе. Когда мы ехали рысью по дороге из города, она презрительно вскидывала голову, как только мы проезжали мимо маленьких афганских лошадей, тащивших кабульские повозки. Оказавшись в поле, она летела так, что копыта едва касались земли. Определение «упрямая» ей не подходило — в нее временами вселялся черт.
Вернувшись домой, она превратилась в деликатное создание, словно пожилая леди. Янг передал мне кусок сахара, и я чуть подержал его перед ее носом, а затем начал подыматься по ступенькам террасы, ведущим к дверям в жилые комнаты. Без какого-либо промедления она последовала за мной, ступая по каменным ступеням, как балерина. Когда я дал ей сахар, сайс, который всегда был рядом с ней с тех пор, как она была жеребенком, тихо свистнул. Она повернулась и спустилась по ступенькам в направлении конюшни.
Сайс был крупным, высоким пуштуном — именно это северозападное племя на протяжении нескольких столетий определяло весь ход дел на индийско-афганской границе. Ему было чуть больше двадцати лет, но он держался так, словно был умудренным опытом вождем племени.
В течение нескольких месяцев каждое утро я ездил верхом на Нур Джахан. Шел дождь или сияло солнце, в любую погоду Янг вытаскивал меня из кровати, напяливал на меня галифе и помогал сесть в седло, а сайс придерживал Нур Джахан. Затем в сопровождении полудюжины собак и иногда с соколом на моем запястье мы вылетали из ворот в поля, окружавшие Кабул.
Это была идеальная местность для прогулок верхом и соколиной охоты — плоская равнина, с иногда встречавшимися оросительными канавами, через которые можно было перескакивать, обширные пастбища и целая сеть тропинок, которые весной обрамляли кусты диких роз.
На первых порах Нур Джахан, как и мне, вроде бы нравились эти поездки. Она гарцевала и вставала на дыбы, когда я на нее садился, и стремительно бросалась в ворота. Но через несколько недель она вдруг стала вялой, перестала пританцовывать и вставать на дыбы, а через пару дней начала беспокойно метаться в своем стойле. Стало ясно, что Нур Джахан заболела.
Всех слуг охватило волнение. Янг обвинил сайса в том, что в овес попали мыши. Сайс подозревал садовника в том, что он сглазил кобылу. Повар жаловался, что печь неисправна. Мне самому разонравилась еда. Даже собаки стали беспокойными. Казалось, весь дом заболел вместе с Нур Джахан.
Я решил позвать ветеринара-иностранца из Кабула. Он хмуро посмотрел на лошадь и объявил, что ей надо пустить кровь.
Когда Янг услышал предписание ветеринара, он впал в ярость.
— Хозяин, вы не давать доктор брать кровь у лошади. Кровь дает жизнь. Нет крови, нет жизни. Доктор чертов дурак.
Я был склонен согласиться с Янгом, но исключительно из практических соображения, однако поскольку я не был ветеринаром, то едва ли мог не последовать профессиональному совету. Кровопускание у меня всегда ассоциировалось с романами Диккенса и Скотта, но все-таки, кто я такой, чтобы судить. В долинах Гиндукуша я видел, как местные целители прописывали лекарства по книгам, оставленным здесь еще Александром Великим. И ничего, горцы выглядели неплохо.
Итак, я сказал ветеринару, чтобы он приступал, и стал смотреть, что будет. Результаты не вдохновляли. Кобыла слабела на глазах. Ее начало шатать из стороны в сторону. И потом она решила лечь — это смертельно опасно для больной лошади. Сайс старался удержать ее на ногах, а мы прикрепили ремни к стропилам стойла и пропустили их у нее под животом. На какое-то время это ее поддерживало, и она стояла сама, но потом бессильно повисла на веревках.
Чем больше слабела Нур Джахан, тем тяжелее становилась атмосфера в доме, потому что кобыла была всеобщей любимицей — китайцев, афганцев, индийцев и пуштунов. В довершение всего на наш дом обрушились всякие катастрофы, посланные Богом, Аллахом и Митрой.
Первым несчастье произошло с Миджет, которую мы с блеском выдали замуж за любимую овчарку короля Захира. Она собиралась рожать. Однажды она отправилась поплавать в оросительной канаве и пропорола живот разбитой бутылкой. Когда я на руках доставил ее домой от ветеринара, щенки вот-вот должны были появиться на свет. Через два часа она принесла помет из семерых — двое родились мертвыми.
А Нур Джахан в своем стойле все слабела. К этому времени ветеринар уже утверждал, что мы ее потеряли, и предложил ее пристрелить. Но Янг и все остальные в доме гневно отвергли это предложение.
— Он не доктор, — повторял Янг. — Он чертов дурак. Он не делает людям лучше. Он убивает людей. Когда он сюда приходить может снова, мы застрелим его.
И Янг погрозил пальцем в дверь вслед вышедшему ветеринару.
А затем произошло землетрясение.
Я сидел у огня в своей комнате, развлекая журналиста из «Нью-Йорк Таймс». Корреспонденты в те времена обычно добирались до Кабула каждый високосный год, и когда кто-то из них объявлялся, это было нежданным подарком. Обычно журналист оставался на несколько дней и задавал свои привычные вопросы о политической, военной, моральной, экономической обстановке и о ночной клубной жизни в Афганистане. Он даже спрашивал о землетрясениях. Я объяснял, что землетрясения в Афганистане бывают, но это неопасно. Одиночные толчки — вообще пустяк. Повторяющиеся двойные толчки бывают очень редко, и их можно игнорировать. Тройные толчки происходят так редко, что никто не знает, опасны они или нет.
Внезапно комната начала трещать, и картины на стенах скосились на сторону.
— Не придавайте этому значения, — сказал я. — Это легкий тремор.
Корреспондент немного успокоился.
Вдруг еще один толчок потряс комнату.
— А вот это уже необычно, — прокомментировал я, и корреспондент беспокойно заерзал.
С третьим толчком на потолке появилась трещина, и настоящий дождь из штукатурки окатил нас.
На этот раз мне уже ничего не хотелось комментировать. Мы с корреспондентом напряженно застыли на своих стульях и молча смотрели друг на друга.
Внезапно труба камина, казалось, отошла в сторону от стены, и жестокая конвульсия потрясла весь дом.
Трудно сказать точно, сколько нам понадобилось времени, но, наверное, прошло не больше нескольких десятых секунды, как мы выскочили через дверь в сад.
Землетрясение закончилось так же внезапно, как и началось, и мы со всей возможной неспешностью вернулись в дом.
— Напомните мне утром, чтобы я об этом написал заметку, — сказал корреспондент. — Она будет называться «В Афганистане землетрясения не представляют опасности».
Если не считать потолка и трещины в трубе, землетрясение не принесло заметного ущерба — но оно оставило свою метку на духе дома.
Однажды Янг пришел ко мне в полном смятении:
— Хозяин, я знаю, что неправильно — это ваш сокол. Птица в доме всегда к несчастью. Пошлите птицу прочь, пожалуйста.
Я засмеялся и сказал, чтобы он не слишком верил в старые сказки китайских теток.
— Но, хозяин, — настаивал он, — смотрите, что случилось. Лошадь больная, собака, щенки подохли. Теперь землетрясение, и смотрите, что случилось со мной!
Он наклонил голову и показал большой порез на голове.
— Но Янг, сокол не царапал когтями твою голову, ведь так?
— Нет, я ударился головой об окно, но это вина сокола.
Янг особенно не любил сокола. Я думаю, он ненавидел его даже больше, чем ветеринара. Быть может, это из-за того, что Конфуций или другой китайский философ запретил держать птиц в домах. Но я скорее склонен думать, что причиной было то, что сокол наводил в доме беспорядок и оставлял свои «визитки» на каждом предмете мебели в пределах своей досягаемости — а достичь он мог очень многого.
Весь мой дом был на грани мятежа. Болезнь Нур Джахан низвела моральный дух чуть не до полного исчезновения, и я почти потерял контроль над своей командой в составе повара, мальчика-слуги, официанта, конюха, уборщика конюшни, садовника и псаря.
Потом я подумал о Ветеринарной школе Пенсильванского университета. У нас дома ее всегда считали лучшей по лечению лошадей. Я сочинил телеграмму в школу, описав как можно точнее все симптомы, которые появились у Нур Джахан. Я попросил мне ответить как можно скорее и посоветовать, что делать. В те времена телеграммы из Кабула проходили через полдюжины систем связи, и каждая взимала свою немалую плату. Так что телеграмма в Филадельфию стоила мне по доллару за слово. Не помню точно, во сколько мне это обошлось, но, во всяком случае, немногим меньше, чем стоила сама кобыла.
Пока мы все ждали ответа, инициативу взял на себя повар, истовый мусульманин по имени Саади.
Однажды вечером я сидел в зале со своим соколом на моем запястье — это был обязательный ритуал в рамках тренировки молодой птицы. Афганские борзые лежали на своих ковриках перед огнем. Щенки овчарки находились в своих корзинках возле двери. Вошел Янг и объявил, что слуги хотят видеть меня. Я сказал, чтобы он их пустил.
Со всей серьезностью они заполонили комнату, а впереди всех стоял повар. Садовник, сайс, дворник, мальчик-слуга и все остальные выстроились за ним. Они тихо стояли в своей белой форме, напоминавшей пижамы, тюрбаны плотно облегали их головы, черные волосы спускались им до плеч, а ноги были босыми. (В Афганистане считается неуважительным надевать обувь в присутствии начальства.)
Повар нарушил затянувшееся молчание:
— Хозяин, лошадь очень больна. Только одно может спасти ее.
— Что? — спросил я.
— Только Аллах — только Бог спасет лошадь, — ответил он. — Хозяин, разреши мне привести муллу — священника — из мечети. Может быть, он помолится и спасет Нур Джахан!
Афганцы — фанатичные мусульмане и не позволят шутить с их религией. Мой собственный опыт общения с муллами был равен нулю, но я знал, что они действительно очень могущественные люди.
— Но, Саади, — ответил я, — Аллах не хочет спасти мою лошадь. Ведь я неверный.
— Может, вы и неверный, — ответил он, — но мы-то мусульмане, и Нур Джахан наша лошадь тоже!
— Но мулла не захочет войти в мой дом, — возразил я. — Ни один мулла не придет молиться туда, где живет неверный.
— Быть может, хозяин уйдет куда-нибудь, пока я пойду за муллой, — настаивал Саади.
Я все еще сомневался, а одетые в белое афганцы смотрели на меня из темного угла комнаты. Они начали переговариваться между собой.
Янг посмотрел на их напряженные лица и повернулся ко мне:
— Пожалуйста, хозяин.
— Хорошо, — сказал я. — Уйду на час, но не дольше.
Я прошел через сад и вышел на улицу. Я бродил по плохо освещенным переулкам Кабула с соколом на руке и с Миджет у ноги. Это была унылая прогулка, потому что я был привязан к Нур Джахан ничуть не меньше своих слуг, но в отличие от них был настроен более скептически по отношению к могуществу муллы.
В конце концов я вернулся домой и направился в конюшню, где все еще светилась лампа. Возле головы лошади сидел на корточках сайс, его лицо было мокрым от слез. Шею Нур Джахан обвивало ожерелье из синего бисера, и на него был одет медальон. В медальоне, я знал это, была записка, оставленная муллой. Я не собирался открывать его и смотреть, было ли в ней написано, как я предполагал, «смерть лошадям всех неверных» или, как верил Саади, какое-то милостивое прошение к Аллаху.
Когда я заглянул в конюшню на следующее утро, то увидел, что Нур Джахан лучше не стало.
Возвращаясь домой вечером, я испытывал дурные предчувствия. Когда я дошел до ворот, то заметил следы на гравии, будто по дороге тащили что-то тяжелое. Я проследил следы глазами и увидел, что они ведут к дверям конюшни. Закон Корана был соблюден: умерший сегодня должен быть похоронен до заката.
Через одну или две недели из Пенсильванского университета пришла телеграмма. В ней было написано: «У вашей лошади неизлечимый менингит».
Глава 22 СОКОЛ
В библиотеке британской миссии в Кабуле есть книга о тренировке соколов, написанная около ста лет назад. В ней отмечается, что надлежащим образом воспитанный сокол вырабатывает в себе услужливую привязанность к своему хозяину.
Наверное, мой сокол был исключительно независимой птицей — или, возможно, времена, с тех пор как была написана книга, изменились, и соколы теперь уже не такие, какими должны быть. В любом случае до самого, самого конца наши отношения оставались холодными и профессиональными, окрашенными, возможно, лишь легким флером восхищения, которое, как мне представляется, было обоюдным.
Я, вероятно, никогда бы не оказался связанным с этим грустным занятием, если бы не трудности с бензином в Гамбурге в 1939 году, в самом начале войны. Даже обергруппенфюрер — глава Немецкой ассоциации соколиной охоты — не мог достать бензина, чтобы вывезти своих птиц полетать. Но американские вице-консулы могли получить все, что они хотели. Узнав о затруднениях обергруппенфюрера, я обрек себя на то, что все мои оставшиеся уик-энды оказались посвящены соколам. Зима 1939/1940 года оказалась для Гамбурга, пожалуй, одной из самых несчастных в истории города. Холод был очень силен, а уголь жестко лимитирован. Но для соколиной группы все это подходило идеально. Дикие норвежские гуси, реагируя на низкие температуры на севере, спустились южнее, в относительно мягкий климат Шлезвиг-Гольштейна, и сбивались в огромные гогочущие стаи.
Не стану утверждать, что мы подвергли эти стаи децимации. Я часто думал о том, что с луком и стрелами или с пращой мы бы достигли большего. Но однажды мы добыли очень большого гуся, и эта сенсация получила надлежащее освещение в немецких газетах как еще один триумф тевтонской расы. Газеты совсем не уделяли внимания тому, что сокол был родом из Гренландии, а автомобиль — из Детройта. Но смею уверить, что если бы этим занялась геббельсовская пропаганда, то она с легкостью бы обнаружила арийское происхождение и первого, и второго.
Спустя несколько месяцев, когда «странная война» закончилась и бомбардировщики Геринга встретились с истребителями королевских ВВС над Лондоном и Ковентри, я вспомнил те воскресные дни в Шлезвиг-Гольштейне, когда мы посылали своих гренландских истребителей на огромные норвежские гусиные эскадры. Я уверен, что механики королевских ВВС переживали за то, как им трудно поддерживать в порядке их «Спитфайры»[207], их моторы, механизмы управления и пулеметы. Но для дилетанта число проблем, способных возникнуть, когда имеешь дело с соколами, просто невероятно велико.
Слишком энергичный поворот хвоста или резко расправленное крыло может привести к потере ключевого пера, и сокола возвращают на жердочку — присаду, пока не вырастет новое или не срастется поврежденное. Слишком большой глоток воды, лишний проглоченный кусок мяса, легкий сквозняк — и вся его энергетическая система на неделю выходит из строя. Небольшая ошибка в расчетах, когда он пикирует на гуся, и клюв ломается — еще месяц в госпитале. Но в тех редких случаях, когда все управление слушается, мотор поет и пулемет не заклинивает, это зрелище стоит нескольких отмороженных рук и ног.
Когда это произошло впервые — стоял очень холодный день, я помню, и мой фотоаппарат замерз — мы уже не один час топтали замерзшие, заснеженные поля. Мы услышали крик одного из охотников, или егерей, как их называют в Германии, предупреждавший, что на нас летят гуси. К моменту, когда они показались над деревьями, клобучок с головы сокола был уже снят.
Сокол переступал по руке хозяина, его голова резко поворачивалась из стороны в сторону, он возбужденно осматривался вокруг в поисках добычи. И вот через секунду он уже выбрал себе гуся, и тогда с размахом дискобола сокольник запустил птицу в воздух. Еще через мгновение стая заметила хищника и разразилась бешеным стрекотом и гоготаньем. Однако сокол, кажется, не обращал никакого внимания на стаю. Его единственный интерес — это высота. Мощными взмахами крыльев он забирался все выше по крутой спирали, пока не оказался высоко над стаей. К этому времени гуси уже пролетели над нашими головами и ушли довольно далеко вперед. Мы смотрели с земли в полевые бинокли за тем, как сокол стал снижаться и вдруг понесся с невероятной быстротой мимо основной части стаи, нацелившись на вожака. Гогот достиг крещендо. Гуси вкладывали последние крохи своей энергии в безумные усилия спастись. Но гусиная энергия не могла сравниться с соколиной. Сокол несся на предводителя. На какой-то момент он замер в воздухе[208], затем, сложив свои крылья, спикировал прямо на вожака.
Через свои полевые бинокли мы видели, как он сделал ставку, как чуть повернул в сторону перед ударом и как вонзил острые когти под крыло своей жертвы. А потом все превратилось в запутанный комок перьев, повалившийся на замерзшую землю. За несколько футов до земли сокол расправил крылья, извлек свой клюв из гуся и позволил ошеломленной жертве удариться о землю. Сам он при этом мягко спланировал на пушистую гусиную спину. Еще несколько coup de grace[209] его острым клювом избавили гуся от дальнейших страданий.
Это событие было должным образом отпраздновано пивом, пусть и разбавленным водой по случаю войны, гамбургским отделением Reichsjagergruppe fur Falkenrei. Я присутствовал на этом празднике, естественно, попутно создавая досье для суда по денацификации. И в то же самое время я стал завзятым сокольником.
Я стал изучать язык сокольников[210] — целую серию непоследовательностей, так ценимых профессионалами. Я уже подзабыл большинство слов из него, но, если не ошибаюсь, они называют ноги сокола - руками, а руку сокольника - кулаком — это когда на ней сидит сокол. А еще там есть опутенки — ремешки, одеваемые вокруг ноги птицы, и вабило — на самом деле это игрушка из перьев, которую делают из крыльев вороны, накручиваемых вокруг какой-нибудь головки, чтобы привлекать внимание сокола в критические моменты, когда он летит в неправильном направлении. А еще у него есть вольер, где живут соколы. Кэдж — что-то вроде рамы[211], на которой соколов выносят в поле, если только у вас нет внедорожника «шевроле». Раму несут как носилки на своих плечах два человека, которых называют кэджерами, или кэдди[212], и это выражение недавно было заимствовано намного более плебейским и на несколько сот лет более молодым видом спорта, чем соколиная охота. Есть еще сокольническое выражение, означающее, что ваш питомец не приучен опорожняться вне дома. Насколько я знаю, такой штуки, как сокол, приученный к этому, не существует. Птица словно «стреляет» пометом. Если вы проходите слишком близко от кэджа, то сокол может «стрельнуть» и оставить пометку на вашем лучшем твидовом пиджаке. В Германии такая пометка расценивалась как почетный знак, награда короля всех птиц, и вытирать ее считалось неприличным. На Востоке было меньше снобизма и больше гигиены. Когда сокол делает ставку, он пикирует на несколько футов вниз и завершает полет тем, что запускает свой клюв в добычу.
Мои первые недели в Кабуле были до отказа заполнены официальными визитами в обязательном цилиндре, арендными сделками, подрядчиками и канализационными системами. Но постепенно все эти необходимые составляющие дипломатии сошли на нет, и у меня стало понемногу появляться время для серьезного отдыха. Мои разыскания выявили сокольничего королевского двора, который присматривал за соколами короля. Правда, нынешнее поколение королевской семьи больше интересуется теннисом и лыжами, чем спортом родом из четырнадцатого века. Сокольничий Абдулла до психоза страшился любого правительственного служащего, появлявшегося по делу. Поэтому, когда я пришел в королевские афганские конюшни, он встретил меня с радостью. Уже купив лошадь в Индии и собак отовсюду, для меня было совсем нетрудно позаимствовать сокола у моего друга Абдуллы для утренних прогулок.
В долинах Гиндукуша гусей не бывает, но зато много перепелов. Обычный афганский сокол меньше своего гренландского сородича и едет он на правом запястье, а не на левом, как в Европе. Это различие, объяснил Абдулла, происходит от того, что на так называемом цивилизованном Западе всегда оставляли правую руку свободной, чтобы выхватить меч или пистолет — даже на соколиной охоте. На Востоке, где дело и удовольствие все еще решительно отделены одно от другого, такие предосторожности не нужны. В Афганистане, сказал Абдулла, когда мы занимаемся спортом, мы стараемся произвести наилучшее впечатление[213] и наша правая рука, сжатая в кулак, это не угроза, как бывает на войне.
Вскоре я открыл для себя еще и другие отличия между восточными и западными птицами — а может, я просто забыл то, что выучил в Гамбурге. Во всяком случае, я возвращался со своих утренних верховых прогулок с пустой правой рукой чаще, чем хотелось бы, — к неудовольствию Абдуллы, которому, конечно, не улыбалось тратить целые дни на то, чтобы возвратить тех птиц, что я потерял.
Очень может быть, что именно частота моих пусторуких возвращений в конце концов подвигла его предложить мне воспитать своего собственного сокола.
— Начните сначала, — сказал Абдулла. — Это не трудно — мы тренируем одну птицу всего шесть недель.
Поначалу я отнесся к его предложению скептически. Но Абдулла был красноречив:
— Никто не может постичь всей прелести соколиной охоты, пока с его руки не слетит птица, которую он воспитал сам. И, кроме того, еще ни один европеец не натренировал сокола здесь в Афганистане. Вы будете первым.
Вообще-то это должно было послужить мне предупреждением и побудить бросить саму идею. Но Абдулла продолжил завлекать меня.
Я посоветовался с Янгом, который всегда ехидно улыбался, вспоминая тощий чемодан, с которым я приехал когда-то в Гамбург.
— Всякая птица нет удачи, — сказал Янг. — Эти птицы несчастье.
Затем на меня оказал влияние мой учитель персидского языка, который все пытался научить меня писать по-персидски в правильном направлении, то есть справа налево. Он без сомнения полагал, что наличие афганского сокола внесет свой вклад в дело моего преображения. Несколько раз я заставал его секретничающим с Абдуллой. Затем однажды утром тот появился с молодым соколом на запястье:
— Ему только что впервые одели клобучок, и он совсем нетренирован — Абдулла покажет вам, как начать прямо сейчас.
С этого дня изменилась вся моя жизнь. Вначале Абдулла объяснил, что способ обучения сокола заключается в том, чтобы держать его на своем запястье целый день и ежедневно заниматься с ним по полчаса дважды в день — утром и вечером. Я сказал ему, что современная дипломатическая практика неодобрительно относится к внедрению соколов в кабинеты ведомства по иностранным делам и канцелярии миссий, поэтому я и моя птица будем вынуждены разлучаться на время рабочего дня.
— Тогда Вы должны держать его на руке всю ночь, — фыркнул Абдулла.
Выучка соколов на Востоке состоит из серии хорошо проработанных уроков, каждый из которых неразрывно связан с кормлением. Первое, чего нужно добиться, это чтобы птица брала кусочек мяса из ваших рук. И последнее, это приучить ее разрешать вам забирать у нее перепела, которого сокол сбил на землю. Между этими двумя задачами существовали сотни тщательно выверенных градаций, каждая из которых должна была быть доведена до совершенства, прежде чем переходить к следующей. Но во всем этом процессе был один подвох, которого Абдулла мне не объяснил, пока я всерьез не втянулся в дело. Если ваш любимый сокол выполнил, скажем, третий урок (полет по комнате с посадкой к вам на кулак) и по какой-то недоброй случайности совершил неудачную посадку, которая непременно нарушит его тонко сбалансированное душевное равновесие, вам надо будет возвратиться в обучении назад, но не ко второму уроку, а к первому. Это не так уж расстраивает, пока вы не доберетесь до сорокового или пятидесятого урока и тут вдруг видите, что должны снова возвращаться к первому. Это становится чем-то вроде вечной игры в триктрак с соколом вместо шашки.
В проблеме таился и еще одни джокер, который Абдулла осторожно скрывал, пока возвращаться назад не стало уже поздно. Очевидно, на Востоке никто не станет браться за то, чтобы тренировать сокола, пока сначала не натренирует собственные пальцы. Надо выучиться маневрировать своими пальцами, одетыми в толстую кожаную рукавицу, с ловкостью карточного шулера, обладая при этом предвидением прорицателя. Одно только действие по снятию птицы с присада требует изрядных манипуляций. Если птица садится на один из ваших пальцев, а он оказывается не там, где птица думает его найти, на тебя валится сокол со сломанными перьями и выливаются потоки орнитологических оскорблений — и все, ты возвращаешься к первому уроку. А так как мне прежде ни разу не приходилось и колоды карт перетасовать, то все это происходило довольно часто.
Несмотря на все эти гандикапы, прогресс все-таки имел место, хотя и отставал от графика. Баши, как в Кабуле по-персидски называют сокола, после нескольких дней снизошел к тому, что поклевал перепелиную грудку, которую я положил ему на когти. Мне это показалось знаком доверия и счастливым предзнаменованием, потому что птица очень похудела. Фактически, если бы она продолжала меня сторониться, она бы умерла с голода. (Абдулла объяснял, что сердце сокола — его самая большая слабость. Чуть больше еды или чуть меньше — и птица опрокинется на спину и умрет.) В течение нескольких последующих дней сокол стал выказывать мне такую привязанность (или был настолько голоден), что прыжком преодолевал расстояние в фут с присада до моей рукавицы.
Этот маневр несколько раз сопровождался и катастрофическими промахами, которые заканчивались тем, что птица со злостью слетала на пол и ее приходилось возвращать на присад и обхаживать при помощи сырой грудки перепелки (первый урок). Еще через несколько недель — и через несколько возвращений к первому уроку — я смог приманить ее серией звуков, которые Абдулла называл эквивалентом птичьего хрюканья. Для меня они звучали незнакомо и напоминали фырканье.
Каждый вечер по настоянию Абдуллы я сидел у огня, пытаясь сосредоточиться на чтении «Истории Рима» Гиббона или «Золотой ветви» Фрэзера[214], в то время как баши осторожно сидел на моей рукавице, вцепившись в нее когтями и временами поклевывая мою руку, что, я надеюсь, было выражением настоящей привязанности. По ощущениям это напоминало взятие военным доктором крови на анализ. Иногда какая-нибудь из моих молодых собак — тогда их было у меня с дюжину — прыгала на птицу со всем истинным собачьим расположением. В результате приходилось возвращать баши на свой присад на два или три дня, чтобы восстановить свое достоинство, прежде чем снова приступить к первому уроку.
К этому времени я отменил все свои вечерние встречи. Мои друзья, которых баши, вероятно, не развлекал, перестали меня звать к себе. Янг глубоко переживал всю эту изоляцию, потому что его единственной радостью было готовить свое «двадцать пять карри».
Так или иначе, но я продолжал свое дело, подгоняемый Абдуллой.
Прошло уже много больше шести недель, когда Абдулла объявил, что можно начинать дрессировку на открытом воздухе. Для этого я купил длинную бечевку — самую прочную, что можно было приобрести на кабульском базаре во время войны. Один конец был прикреплен к ноге сокола, другой — к столбу. Не успел я снять клобучок с птицы, как он заметил воробья на другой стороне лужайки и налетел на него, как Джи-Ай[215] на стейк. И хотя мне очень понравилось такое проявление усердия, мой энтузиазм тут же угас, как только птица запуталась в телеграфных проводах, и все закончилось тем, что негодующий сокол повис подвешенный за одну ногу. Мы в конце концов спасли его, но его усердие заметно охладело, и Абдулла прописал ему три дня сидеть в темной комнате, прежде чем опять начать с первого урока.
Через несколько недель мы решили наверстать упущенное и вернулись на лужайку. Каждый день с соколом на запястье я должен стоять в одном углу сада, а Янг, строивший что-то вроде презрительной мины, напротив меня в другом. При этом Янг брезгливо держал привязанную бечевкой живую перепелку. По сигналу он бросал перепелку в воздух, а я со всей возможной элегантностью снимал с сокола клобучок, как это предписано восточными манерами, зажимая оперенный колпачок зубами. Затем я бросал сокола в воздух и стоял, затаив дыхание. Первая с небольшим неделя приносила один из двух результатов: (а) либо мое катапультирование настолько удивляло птицу, что она бухалась головой в траву, либо (б), презрев дорогого перепела, сокол высматривал воробья и заканчивал полет высоко на дереве, схватив свою несчастную добычу. С результатом (а) было легко справиться, а результат (б) обычно имел более сложные последствия. В этом случае перепела, стоившего на базаре две рупии, надо было вначале вернуть в клетку для продолжения эксперимента. Операция по возвращению сокола предпринималась после этого. Иногда она продолжалась до ночи, с использованием пожарных лестниц, фонарей и привлечением помощников сокольничих из королевских вольеров. Но временами, когда Абдулла не присматривал за всем этим, несколько сильных рывков за веревку принуждали злую птицу спуститься на землю. На следующий день мы возвращались к первому уроку.
Был в моем репертуаре сокольника еще один вариант. Это произошло лишь однажды, но этого оказалось достаточно, чтобы убедить меня в том, что моя птица не собирается вырабатывать той привязанности, которая прописана в книге. Фактически я чуть было не убил в себе последние еще остававшиеся надежды стать сокольником.
Дело было холодным кабульским вечером. Янг и я нудно подбрасывали перепела для сокола, и наоборот. Как я полагал, веревка птицы была прикреплена в столбу. Потом уже я подумал, что забыл привязать ее или что, быть может, изготовленная во времена повсеместной экономии времен войны веревка просто разорвалась. Но теперь, когда я снова вспоминаю все это, мне кажется, что, может, и Янг, ненавидевший птицу, специально отвязал ее. Так или иначе, Янг выпустил своего перепела, а за ним и я отправил в полет своего сокола, но только для того, чтобы увидеть, как птица бросила презрительный взгляд на перепела стоимостью в две рупии и взмыла над оградой сада. Веревка вилась за ним, как один из шарфов Айседоры Дункан[216].
Моей первой реакцией было, что все это к лучшему. Мое терпение кончалось. Я потратил слишком много сил на все эту соколиную охоту. Но затем я подумал о часах, днях и неделях, которые я потратил, о друзьях, которых потерял. И снова представил себе соблазнявшую меня финальную сцену: однажды Янг подсадит меня на мою гарцующую кобылу, а индиец-сайс будет под уздцы удерживать лошадь. Абдулла посадит мне на руку сокола, моего сокола. Мальчик из конюшни приведет собак из их будок. Садовник широко откроет ворота, и с летящим из-под копыт гравием и кружащимися перьями в воздухе, в окружении лошадей и собак, я выеду на ничего не подозревающие улицы Кабула, направляясь к перепелиным полям. Эта картина всегда вставала перед моим взором, когда баши нарушал правила, описанные в книге. Но теперь предстояло задействовать всех моих домашних. Я поднял на ноги всех — полицию, охотников, курьеров.
Через час ко мне пришел маленький мальчик с новостью, что баши пойман. Но он отказывался говорить, где птица, пока не получил своих пять рупий. Я показал ему монетку, и он озорно усмехнулся:
— Он в саду японской миссии.
Засмеявшись он убежал. Я был готов ко всему, но только не к этому. Мы находились в состоянии войны с Японией с момента моего приезда в Афганистан. И поэтому я тщательно избегал малейших контактов с этими маленькими людьми. А теперь мой сокол свободно улетел в лагерь врага в первый же миг обретенной свободы. Я едва ли в состоянии соотнести это со всем, что пишут в книгах о признательной соколиной любви. Неделями, вопреки накапливавшимся фактам, свидетельствовавшим о противоположном, я убеждал себя, что глаза баши становятся мягче, добрее, сулят надежду на привязанность, когда он смотрит на меня. Но теперь я должен был признать, что все это было изощренным надувательством. Очевидно, что с того момента, как только он попал в мой дом, он ненавидел и презирал меня.
Но времени на дальнейшие сентиментальные сетования и обвинения у меня не было. Я велел своему дворнику принести лестницу и мою одежду сокольника. Даже книга из британской миссии утверждает, что самый преданный сокол не сможет вас узнать, если вы не будете носить при нем одну и ту же одежду. Моя одежда сокольника состояла из потертого твидового пиджака, бриджей для верховой езды и шляпы. Обычно хватало пиджака и бриджей, но что касается шляпы — а ее мне предложил носить Абдулла — то это выходило за рамки привычного. Вообще-то говоря, мое пристрастие к шляпам, по мнению моих друзей, отдавало викторианством, но эта шляпа определенно напоминала о временах Людовика XIV. Она была маленькая, ярко зеленая, с пером из хвоста существа, которое, должно быть, когда-то являлось невероятных размеров фазаном.
Беспристрастные свидетели потом мне рассказывали, что это была живописная процессия — мое перо и я сам, мой дворник в тюрбане и с лестницей, и всех нас сопровождали, пританцовывая, члены объединенного клуба кабульских мальчишек. Дойдя до японской миссии, я забрался на лестницу и затем на пятнадцатифутовый забор. Там, на другой его стороне, я увидел окруженного группой хихикающих японцев моего сокола, мирно сидящего на маленьком сливовом дереве.
Мое положение было глупым. Я не мог просить японцев, пожалуйста, отдайте моего сбежавшего сокола. Даже если бы я это сделал, они, без сомнения, не поняли бы меня. Я не мог взобраться в их дипломатическое святилище, без того чтобы не быть арестованным. Казалось, мне ничего не остается, кроме как подзывать моего подопечного изменщика при помощи того самого варианта хрюканья от Абдуллы. И в то же время я был уверен в надежности моей выдающейся позиции на верхушке пятнадцатифутового забора, находясь в окружении толпы любопытных кабульцев. В сложившихся обстоятельствах было важно соблюсти достоинство, являясь дипломатическим представителем великой державы. Однако шансы на успех моей миссии и на сохранение достоинства были очень малы. Я вытянул руку в рукавице с кусочком красного, свежего мяса и захрюкал. Баши скосил на меня глаз и повернулся к японцам. Японцы захихикали громче. Толпа с другой стороны забора поддерживала меня своими криками. Меня спасло нечто более взрывное, чем хрюканье и проклятия. Уже полчаса я сидел то хрюкая, то ругаясь. Толпа выкрикивала свои советы. Японцы хихикали. Птица продолжала мирно сидеть на сливовом дереве.
Я уже собирался с позором отступить, когда один из японцев сам решил поймать сокола. Он подошел к птице на три фута, когда она подняла хвост и «стрельнула», оставив заметное пятно помета на его лацкане. Японец посмотрел вниз на свой пиджак, потом наверх на меня и затем со всей свирепостью замахнулся на птицу. Было очевидно, что его не воспитали в восточной традиции уважения пятен помета. Сокол еще раз посмотрел на разозленного японца, соскочил со своей ветки и в два взмаха своих крыльев грациозно спланировал мне на запястье.
Хихиканье в японском саду разом прекратилось. А с другой стороны забора раздался гром аплодисментов. Я крепко схватил ремешки-опутенки сокола и спустился вниз по лесенке. Шведский посланник, как раз в тот момент проходивший мимо, на следующий день сказал мне, что подумал, что местные мальчишки играют в Пестрого Дудочника[217], пока не увидел во главе процессии меня. Как бы это ни выглядело, но до дома меня проводила по-настоящему триумфальная процессия.
Чуть погодя после этого эпизода Абдулла объявил о завершении тренировок:
— Теперь все, что мы должны сделать, так это привести его в состояние охотничьей готовности и отправить вас на охоту.
Привести в состояние, как я понял, означало посадить птицу на такую диету, чтобы сокол летел на все что угодно. Сокольники называют это «выдерживанием». Это довольно хитрая процедура, требующая надзора эксперта. Слишком мало выдержки — и птица проигнорирует игру и улетит в горы, откуда она родом. Слишком много выдерживания — и ее нежное сердце остановится. Каждый вечер в течение недели Абдулла приходил и нежно щупал килевую кость птицы, чтобы измерить, насколько она остра — определяя по ней ее крепость и силу.
К этому моменту прошли месяцы, а не недели, с тех пор как я впервые приступил к первому уроку. Наконец Абдулла однажды вечером пришел после осмотра тела птицы улыбаясь:
— Хуб-Фардах. Хорошо — завтра вы возьмете баши в поля.
История о том, как я выучил своего сокола, имела короткое продолжение — и за ним последовали неожиданные брутальные события. У трагедии, случившейся в ту ночь, был только один свидетель, но он может подтвердить правдивость этой истории. И кто угодно в Кабуле расскажет вам, где найти Абдуллу-сокольника.
Я все еще метался возле присада сокола, пытаясь понять, что означают слова Абдуллы «Хуб-Фардах». Они значили, что обучение окончено и что начинается моя профессиональная карьера в качестве полноценного сокольника. Между нами на своем присаде птица чистила свои перышки.
И вдруг она сделалась тихой, и ее яркий желтый глаз зажмурился. Мне показалось, что Абдулла пробормотал слово «сердце». Но прежде чем мы с ним успели обменяться словами, могучий клюв птицы поднялся в сторону деревьев, она издала пронзительный крик, и сокол рухнул с присада — мертвым.
Глава 23 ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД
Одной из наиболее общих черт всех служащих по ведомству иностранных дел является их способность верить, что пост, который они в данный момент занимают, — это центр Вселенной. И проблемы, которыми они занимаются, намного важнее, чем любые другие, где бы и что бы ни происходило. Но все это только до тех пор, пока они данный пост занимают. В Государственном департаменте такое состояние умов называют «локальностью» и к жертвам этой локальности относятся с сочувственным пониманием.
Когда я прибыл в Кабул, война полыхала в Европе, Африке и Азии. Эль-Аламейн, Сталинград, Касабланка и Тегеран постоянно мелькали в заголовках новостей, в то время как я находился в пути к месту службы. Но стоило мне провести в Афганистане месяц, и я уже пребывал в полной уверенности, что в конечном счете будущее зависит от того, что происходит за Хайберским проходом и на Амударье.
Временами проблемы Кабула не казались такими уж важными, но, как я думал, то была лишь иллюзия. Иногда даже Государственный департамент, казалось, не придавал жизненно важного значения внутренней политике Афганистана или не понимал решающей роли Кабульской миссии. Это становилось особенно очевидным, когда после шестимесячной переписки по телеграфу о пишущей машинке Департамент в качестве компромиссного решения посылал мне кулер для воды. Наверное, где-то в самом сердце Вашингтона прямо в отделе снабжения сидел какой-то поклонник Киплинга, вдохновленный Ганга-Дином[218].
Когда местное культурное общество обратилось ко мне с просьбой предоставить так необходимое ему оборудование, чтобы начать театральное движение в Афганистане, я серьезно занялся подготовкой перечня всего, что им было нужно. Вначале я попытался побудить общество сделать такой перечень самостоятельно, но они резонно заметили, что мне это должно быть известно лучше, чем им. В Америке-то театры есть. А у них не было ни одного. Вот единственные предметы, в необходимости которых они были уверены:
Парики, в ассортименте
Шумовые приспособления, в ассортименте
(но особенно для грома и пушечных выстрелов)
Костюмы, в ассортименте
(для обычных пьес в одном действии)
Задники, в ассортименте
Они допускали, что предметы, упомянутые в этом последнем пункте, занимают много места, и, поскольку доставка стоит сейчас очень дорого, возможно, Вашингтону будет достаточно прислать какие-то указания по их изготовлению на месте. Я послал этот список в Вашингтон и особо подчеркнул, что в интересах оказания помощи неразвитым регионам просьбу стоит поместить в список приоритетов. Ответ на мой запрос так и не пришел.
Похожая история приключилась, когда местная радиостанция попросила часы с таким же перезвоном, как у Биг Бена, но только такие, которые будут отбивать часы в соответствии с солнечными часами, а не со средним солнечным временем, к которому мы привыкли. Для того, чтобы понять это, необходимо некоторое объяснение, и к своему запросу в Департамент я приложил короткую историческую справку.
В древности, до нынешнего режима короля Захир-Шаха, страной практически правили муллы — до такой степени, что они сообщали, который сейчас час. Одним из реликтовых остатков их правления является тот факт, что в Афганистане действует солнечное время, а не стандартное, и так было и в момент моего прибытия. (Вы можете не знать разницы между солнечным и стандартным временем, и на самом деле она не так уж и велика, если только вы не собираетесь послушать шестичасовые новости из Нью-Йорка на коротких волнах. В этом случае вы скорее всего обнаружите, что ваши часы отстают на десять или двадцать минут.)
Исстари в Кабуле время определяли по тому, когда в полдень в крепости выстрелит пушка. И это было прерогативой главного муллы — сказать, когда наступит полдень, поэтому во дворе главной мечети установили солнечные часы. Как только солнце поднимается, один из младших мулл садится возле диска и ждет. Когда тень пересекает полуденную отметку, младший мулла поднимается с колен, подбирает руками свои длинные белые одежды и спешит к телефону. У него уходит сравнительно немного времени, чтобы дозвониться до оператора, который благодаря большому опыту может соединить телефон в мечети с телефоном в крепости с минимальной задержкой.
Нередко, когда мулла звонит, дежурный офицер в караульной комнате уже находится у телефона. Если нет, то нужно лишь несколько минут, чтобы поднять его с кровати в штабе и вызвать к телефону. После этого мулла дает ему добро на подготовку полуденной пушки. У часовых в крепости имеется постоянная инструкция находиться недалеко или прямо возле пушки, когда солнце поднимется достаточно высоко; и когда гвардейский офицер появляется, они должны зарядить старую гаубицу порохом, но не стрелять. Затем, когда все готовы, гвардейский офицер дает сигнал, к пороховому заряду подносится фитиль, следует выстрел, и жители Кабула спешно устанавливают свои часы точно на полдень. Я так и не понял, как это у них происходит в облачную погоду.
Но когда нас попросили о большой поставке таблеток ацетилсалициловой кислоты, Департамент отреагировал мгновенно, указав, что мы запросили столько аспирина, что его хватит для того, чтобы все население Афганистана забыло о головной боли на двадцать пять лет.
В промежутках между обеспечением культурных, хронометрических, фармацевтических и других поставок в Афганистан бывали моменты, когда удавалось выскользнуть на несколько дней, чтобы пострелять, порыбачить и даже посокольничать в моей личной долине Калу или в горах вокруг Кабула, если, конечно, племена были спокойны. Была тем не менее там особая гора, всегда привлекавшая мое внимание. Она находилась почти в самом центре Гиндукуша, и если верить карте, ее наивысший пик подымался где-то на 23 тысячи футов[219]. Несколько раз я пытался добраться до нее, но каждый раз то племена беспокоились, то снег был глубоким, то у афганских властей предержащих возникали какие-то иные препятствия. Наконец я все-таки сумел убедить канцелярию премьер-министра, что с условиями все в порядке, и мне дали разрешение при обещании, что я возьму с собой взвод солдат и одного из людей в штатском в качестве моего собственного телохранителя. Солдаты всегда были большим неудобством, потому что они имели привычку воровать всех цыплят и уток в каждой деревне, где они останавливались, и в свою очередь требовали, чтобы я платил большие отступные разоренным жителям деревень, чтобы те согласились провести нас через простреливаемую отовсюду местность. Тем не менее премьер-министр был упрям, а поскольку это, вероятно, был мой последний шанс попытаться добраться до горы, которую я стал называть «Душмани ман» (что в моей версии кабульского персидского означало «Мой враг»), я согласился ехать с сопровождением. Итак, я выехал на военной разведывательной машине, за которой следовал целый грузовик с солдатами.
По пути мы провели один день на маленькой горе, где, как говорили, водились несколько неплохих козерогов, но после двенадцати часов изматывающего лазанья по скалам, единственное, что мы увидели, была стая маленьких горных козочек, которых не стоило и стрелять. Мы спустились вниз на шоссе, где оставили грузовик, солдат, телохранителя, и проехали еще десять или пятнадцать миль до ближайших подходов к «Душмани ман». Мы оставили машину у дороги вместе с большей частью солдат и двинулись к самой высокогорной деревне на склоне.
Было уже темно, когда мы наконец прошли через низкие глинобитные ворота. Старейшины деревни встретили нас. Они уже слышали о нашем прибытии и подготовили большую комнату наверху в одном из глинобитных домов. На верхнюю веранду вела шаткая лестница, откуда можно было войти в комнату, устланную парой ковров. В середине комнаты стояла жаровня для древесного угля, но в ней горел не уголь, а лишь несколько сырых веток, от которых шел густой смолистый дым, собиравшийся в облако под потолком.
Я расстелил в углу свой спальный мешок, вскипятил себе немного чая в маленьком походном чайнике и стал укладываться спать, когда явились старейшины и обратились с просьбой принять их официальные уверения в почтении. В течение получаса я на своем неуверенном персидском обсуждал с ними их проблемы: состояние местной школы, различные болезни, которые заставляют страдать горные племена, виды на урожай и эффективность действий местного губернатора. После этого старейшины встали, вознесли молитву Аллаху за то, чтобы мое пребывание здесь было счастливым, и ушли.
Едва они покинули комнату, как в нее вступили деревенские охотники, которых я собрал, и сели вдоль стены напротив меня. Их было одиннадцать, и выглядели они самой устрашающей толпой, которую я когда-либо встречал. Темные лица охотников были покрыты густыми, черными бородами, оставлявшими свободными только рот и по небольшому участку на каждой щеке, поверх которых блестели их большие голубые глаза. Длинные, спутанные черные волосы достигали плеч. У всех были с собой древние, заряжаемые с дула ружья, которые они прислонили к стене возле себя, как только сели.
Я сказал им, что хотел бы забраться на большую гору следующим утром в поисках горных козлов. Немедленно одиннадцать лохматых голов покачали несомненное «нет». Это слишком опасная гора для жителя долины, объяснили они. И, кроме того, сказали они, указывая на мои домашние тапочки, у меня нет правильной обуви. Я залез в свой рюкзак и достал пару горных ботинок. Они тщательно обследовали их, передавая из рук в руки. В конце концов они согласились, что это подходящие для восхождения ботинки, но, конечно, не такие хорошие, как сандалии, которые носят они.
И все-таки, сказали они, кабулец вроде меня, без сомнения, не сможет подняться на гору. Гора очень крутая, и они не смогут нести меня, даже если я захочу, и, конечно, я недостаточно силен, чтобы идти самому. Я сказал им, что это мое дело и что я поднимался на многие высокие горы и хорошо натренирован. После тридцати минут споров охотники наконец согласились попробовать, но все равно они сомневались, что мне удастся достичь высокого плато, где пасутся козлы.
Я спросил их, кто у них старший охотник, кто организует партию, выбирает маршрут и все такое. Все одиннадцать переглянулись и вполголоса обменялись несколькими словами. Затем один из них повернулся ко мне и объяснил, что в их деревне все равны. У них нет боссов. Я ответил, что обожаю демократию их общинной жизни, но с ней затруднительно организовывать охоту. И после недолгого обмена мнениями я повернулся к тому из них, кто выглядел чуть более сильным, чем остальные, и сказал, что он будет начальником нашего похода, хочет он этого или нет. Вначале тот отказывался, но поскольку остальные вроде были склонны согласиться, после некоторых уговоров он принял на себя эту обязанность. Через десять минут все вопросы были решены. Одна группа из пятерых охотников, включая меня, будет подниматься по основной долине, а две другие по двое в каждой будут забираться вверх по прилегающим долинам и хребтам, чтобы гнать зверей на нас. Мы выходим рано, в три часа утра (а было уже девять вечера), и ждем зари на линии деревьев, за которой путь становился слишком крутым, чтобы идти в темноте.
Охотники встали, закинули ружья за плечи и опять вознесли молитву Аллаху, дабы экспедиция была безопасной и удачной. Когда они проходили через дверь, человек, которого я назначил главным, приостановил их:
— Помните, братья, — предупредил он их, — завтра у нас будет трудная работа. Поэтому держитесь подальше от гарема.
Они согласно зарычали и вышли.
Когда они ушли, я поставил свой будильник и забрался в спальный мешок, чтобы поспать часа четыре.
Когда будильник зазвонил, я влез в свои ботинки, приготовил кофе и сгрыз кусок местной пресной лепешки. Мой телохранитель, похрапывая, спал возле меня. Я потряс его за плечо и сказал, что пора идти. Он посмотрел на меня непонимающим взглядом:
— Мне? Идти в горы? Черт, нет! Я буду ждать вас здесь. Но, пожалуйста, будьте осторожны, потому что, если с вами что-нибудь случится, премьер-министр привяжет меня к стволу пушки и расстреляет.
Выполнив свой долг, он снова завернулся в одеяло и продолжил спать.
Пока я спускался вниз по лестнице, внизу во дворе собирались охотники, и уже через несколько минут мы потянулись по склону в сторону огромной черной массы горы, которая выглядела так, будто готова свалиться на нас прямо с усыпанного звездами неба. Было почти шесть часов, когда наша колонна остановилась у входа в скалистое ущелье, которое круто вело наверх к вершине над нами. Охотники засуетились на несколько минут, собирая хворост и высохшую ежевику. Скоро вспышки пламени озарили их тощие черные лица и их самих, сидевших скрестив ноги вокруг костра.
— Сколько времени до восхода? — спросил меня один из них, зная, что часы есть только у меня.
— Около десяти минут, — ответил я.
Пять минут текли медленно. Можно было услышать только треск хвороста и веток ежевики.
Мой сосед опять посмотрел на меня:
— Вы сказали десять минут, а уже прошло, наверное, тридцать. Ваши часы ходят?
Я сказал ему, что они идут хорошо и что прошло только пять минут. Но охотники мне не поверили и начали обмениваться странными взглядами. Сидя здесь на высоте в пятнадцать тысяч футов над миром, окруженный одинна дцат ью дикими горцами, я признаю, что стал испытывать некое непростое чувство. Но успокоил себя тем, что хотя бы мои часы их не притягивают.
И тут наконец поднялась заря, мы перекинули за спину свои ружья и вошли в ущелье. Небо на заре было чистым, и мне казалось, что день должен быть идеальным, но охотники потянули носами и покачали головами.
— Снег, — пробормотали они.
Два с лишним часа мы карабкались по огромным камням и скалам. Подъем был медленным, но мы не останавливались на отдых и поэтому продвигались довольно хорошо. Уже исчез из виду вход в ущелье, оставшийся далеко внизу, и пик высотой в 23 тысячи футов впереди уже стал заметно ближе. Между ним и нами находилось плоское плато. Когда мы стали осматривать его через свои полевые бинокли, то смогли заметить маленькое стадо горных козлов, медленно двигавшееся к соседнему ущелью. Затем внезапно раздался громкий раскат грома, и через мгновение упали толстые тяжелые комья снега. Вожак охотников повернулся ко мне:
— Не хотите ли вернуться? Снег опасен. И, кроме того, вы не сможете увидеть никакой дичи.
Но мы уже зашли так далеко, и плато с козлами на нем казалось таким близким, что я посмотрел на них и понял, что у меня не хватит решимости повернуть назад. И мы еще целый час шли, поднявшись настолько высоко, что стал чувствоваться недостаток кислорода. Полдюжины шагов — вот и все, что вы можете сделать, а потом нужно остановиться и передохнуть. Пока я стоял, переводя дух, вожак опять повернулся ко мне:
— Хватит? Сейчас вы этого сделать не сможете.
Я предложил остановиться на несколько минут под нависающей скалой и все обсудить. Кто-то сумел найти немного хвороста под снегом, и мы зажгли маленький костерок. Скала давала кое-какую защиту, но снаружи ущелья все превратилось в дикое рычащее облако снега. Пока мы на него смотрели, низкий громыхающий звук возник в ущелье под нами. Через мгновенье он вырос до громоподобного рева. Охотники замерли на своих местах и смотрели друг на друга.
— Лавина, — сказал один из них и, осторожно ступая, вышел из горловины нашего убежища под метущийся снег. Вскоре он вернулся. — Это в пяти сотнях ярдов под нами, — объявил он, — и, похоже, лавина совершенно завалила ущелье.
Я с вопросительным видом повернулся к вожаку.
— Хорошо, — сказал он. — Теперь нам не нужно ничего решать. Мы продолжим идти, пересечем гряду над нами и перейдем в следующее ущелье. Мы сможем спуститься, если и оно тоже не перекрыто лавиной.
Не теряя времени, мы пустились в путь. К этому времени снегу навалило нам до бедер, и прежде чем сделать один шаг, нам приходилось тратить время и силы, чтобы вытащить ногу из снега. Я слышал, что лавины сходят от шума, и каждый раз, как кто-то собирался открыть рот, я оборачивался к нему с пугающим выражением лица.
Еще час мы карабкались, пока не добрались до последней гряды, за которой скрылись козлы. Как сказали мне охотники, перевалив через нее, мы сможем начать спуск вниз. Склон не был очень большим — может, в две сотни ярдов шириной, но он шел под очень крутым углом примерно в сорок пять градусов, а снег теперь доходил до пояса. Каждый шаг давался с трудом, и, чтобы его сделать, нам приходилось брать долгие паузы, чтобы продышаться и запастись кислородом.
Наконец мы прошли склоном, а когда подползли к гребню, предводитель охотников показал мне, что спускаться надо медленно:
— На другой стороне будут козлы, — сказал он. Поэтому последние десять ярдов мы ползли с удвоенной осторожностью. Когда мы вышли на вершину гребня и медленно подняли головы, чтобы осмотреть другой склон, он был пуст, как шкаф матушки Хаббард[220].
Через четыре-пять часов мы уже были внизу у начала подъема к подножию горы. С последними лучами заходящего солнца мы вошли в деревню, откуда начали свой путь. Старейшины и большинство обитателей деревни высыпали нам навстречу с приветствиями. Они, конечно, были разочарованы тем, что мы вернулись без дичи, но столь же очевидно радовались, увидев всех нас целыми и невредимыми. Они тоже слышали гул лавины, и когда мы не появились после полудня, то они решили, что мы попали под нее. Счастливей всех выглядел телохранитель премьер-министра.
— Это был самый ужасный день в моей жизни, — сказал он мне. А я напомнил, что он мог идти с нами.
«Душмани ман» стала моей последней антикозлиной операцией. Через несколько дней после моего возвращения из Вашингтона в Кабул пришла телеграмма с приказом отбыть в Поддон со всей возможной быстротой, чтобы приступить к выполнению обязанностей секретаря Секретариата Европейской консультативной комиссии. Это не звучало как предложение какой-то чересчур представительной работы, к тому же и Пондон после мира и покоя Кабула не казался таким уж привлекательным местом. И все же после восемнадцати месяцев, проведенных далеко за горами, я был готов оказаться поближе к арене действий.
Первой проблемой было получить место в самолете для меня самого. Я направил телеграмму в бюро, ведавшее приоритетностью пассажиров, и послал им копии приказов на мой счет в моем собственном пересказе. Эти приказы, как и инструкции в телеграмме из Государственного департамента, были подписаны «Халл». При передаче содержания телеграмм я переделал подпись так, чтобы она выглядела «Корделл». Приняли ли меня в бюро по приоритетности за близкого друга государственного секретаря, я не знаю, но я получил уведомление, что по моему запросу на полет от Карачи до Лондона (это и была причина всей операции) мне выдано свидетельство о приоритетности номер один.
Следующей моей проблемой было то, как распорядиться всем моим домашним хозяйством. Оно включало в себя Янга и множество разных собак. Щенки Миджет все время были предметом притязаний, но с ее кабульским пометом оказалось труднее всего. С самого моего приезда в Кабул Миджет находилась в центре внимания. Особенно всех заинтриговали трюки, которым ее научили в ГПУ. Каждый из обитателей королевского дворца хотел заполучить ее щенка, но, поскольку кобелей бельгийских овчарок нигде поблизости не обнаружилось, мне в конечном счете пришлось повязать ее со следующей после нее знаменитостью — призовым кобелем немецкой овчарки самого короля. Вязка прошла с большим успехом. Роды Миджет были омрачены несчастным случаем в оросительной канаве, но все-таки пятеро щенков из помета выжили.
Немедленно встал вопрос о том, как распределить щенков. Оказалось, что каждому принцу в королевской семье либо мной, либо королем было обещано по щенку. Через некоторое время по этому поводу поднялась настоящая буря, а страсти накалились настолько, что король Захир поручил своему дяде — военному министру, ставшему теперь премьер-министром, Шах Махмуд-хану разрешить все споры. Для этого меня пригласили на чай в принадлежавший министру огромный дворец Дурбар-холл и предложили взять щенков с собой.
Дополнительной сложностью было то, что Янгу мной уже был обещан тот щенок, что останется у меня. Из пяти щенков четверо были великолепными, черными, рослыми собаками, но пятый получился каким-то жалким маленьким карликом с желтой спинкой и черным животом, с ушами, глуповато падавшими ему на глаза, и длинным тощим хвостом, который, казалось, не имел никакого отношения к остальному телу. Карлик, очевидно, ощущал свою неполноценность и, наверное, поэтому никогда не играл с другими щенками из помета и сам сторонился всех, поджавши хвост.
Лишь только военный министр прислал за мной, я спешно купил на базаре пять собачьих цепочек, посадил щенков и Миджет в машину и вместе с Янгом отправился с визитом. Янга вся эта процедура повергла в уныние, и он не переставал сетовать, что, наверное, судьбе угодно, чтобы карлик достался именно ему. Я ответил, чтобы он не беспокоился и что я уверен, мне удастся устроить все так, что он получит лучшего. Но Янга я не убедил.
Как только мы приехали на территорию дворца, щенки кинулись в ворота. И тут же все пять только что купленных новых цепочек разом оборвались, и пять диких щенков рассыпались во все стороны, а половина афганской армии пустилась за ними в погоню. К несчастью, дворцовая территория использовалась королевским семейством как нечто вроде фермы для молодняка. Породистые павлины, фазаны и всякие другие виды причудливых птиц лениво прогуливались по парку — до тех пор, пока щенки не вырвались на свободу. К тому времени, как щенки были окружены, по меньшей мере один павлин уже расстался с жизнью и несколько других — с хвостами. А на лужайке и возле пруда с лилиями валялись изуродованные фазаны и лебеди.
С помощью солдат мы наконец смогли загнать щенков внутрь ограды и привести их в Дурбар-холл. Я обещал военному министру, что все они будут приучены отправлять естественные надобности вне дома, но после той эскапады, что они устроили в саду, щенки совершенно забыли все свои манеры. Всего несколько минут провели они во дворце, и его великолепным старинным бухарским коврам срочно понадобилась чистка.
Но Шах Махмуд знал толк в спорте и беззаботно попивал чай, пока щенки, за которыми бегала полдюжина лакеев со швабрами, осваивались в комнате.
Наконец, когда все устроилось и Миджет призвала свой выводок к порядку, открылась дверь и королевский чемпион — немецкая полицейская овчарка, отец всего выводка, в хорошем настроении вступил в комнату. Надо знать одну вещь, когда имеете дело с кобелями-отцами: они не пользуются расположением со стороны их жен в период лактации. И пес короля Захира не был исключением. Миджет налетела на него как тигрица и в пять секунд Дурбар-холл превратился в крутящуюся массу собачьих тел. Но Шах Махмуд недаром был военным министром. Несколько хлопков в ладоши, несколько возгласов, и снова кабульский гарнизон поспешил на выручку. Ценой пары ведер воды и нескольких серьезно покусанных рук, обе собаки были наконец отделены друг от друга, и в Дурбар-холле воцарился мир.
К этому времени персидские ковры стали все больше принимать изношенный вид, и военный министр решил ускорить рассмотрение дела. Он сказал мне, что король доверил ему распределить выводок между королем, его кузенами и мной. Прежде чем вынести окончательное решение, он хотел бы узнать мое мнение о том, какая собака самая лучшая. Я указал на карлика с желтой спиной и высказал соображение, что у него, судя по всему, наилучшее перспективы из всех, хотя он и не выглядит предпочтительнее в настоящий момент. Принимая во внимание то, что я на самом деле думал об этой собаке, я полагал, что преуспел в том, чтобы пес достался одному из принцев. Но все мои соображения не учитывали афганской проницательности Шах Махмуда. Он внимательно осмотрел карлика и затем всех остальных.
— Я согласен, — сказал он наконец. — Малыш выглядит многообещающе, и поэтому, я думаю, вы, как хозяин суки, должны забрать именно его. А взамен остальных мы решили дать вам пару щенков-афганцев.
Когда я покидал Дурбар-холл с карликом на поводке, Янг уже ждал меня у машины. Он лишь бросил взгляд на щенка и разразился язвительным смехом.
— Что я вам говорил, — пронудил он, и грустно ссутулившись, сел в машину. Но, в конце концов, все произошло с точностью до наоборот. К тому времени, как я получил приказ на отъезд, карлик успел стать большой, интеллигентной и красивой собакой.
Несколько месяцев спустя, когда я уже был готов покинуть Кабул, я все еще не до конца понимал, что буду делать с оставшейся живностью. Смерть лишила меня сокола и лошади, но на псарне еще оставались несколько овчарок, метисов и помесей терьеров, которые попали ко мне тем или иным путем за время моего пребывания в Афганистане. Я избавился от кого только мог, завещав оставшихся своему преемнику, и забрал с собой только Миджет, ее карликового щенка, превратившегося в гиганта, и двух афганских борзых. Я посадил их всех на грузовик вместе с Янгом и моим багажом и отправил через Хайберский проход в Пешавар.
Тем вечером, когда я был приглашен на прощальный ужин в свою честь, который давал министр двора, у меня начался грипп и лихорадка с температурой в 103 градуса по Фаренгейту[221].
Около полуночи меня завернули в пару одеял из овечьей шкуры, поместили в джип майора Эндерса, и мы пустились в длинный рейд в Индию через горы. Я мало что могу вспомнить об этой поездке, но помню, что, когда мы приехали в Пешавар, от лихорадки у меня не осталось и следа. Эндерс объявил о том, что мы установили рекорд, потратив на это путешествие что-то около шести часов в сравнении с неделями, которые обычно уходили у британской армии, если она ввязывалась в афганскую войну. Но у Эцдерса был джип, а не верблюжьи караваны.
В Пешаваре Янг, четыре собаки и я сам заняли пару купе в скором поезде и после двух дней ужасно пыльной дороги, один из которых пришелся на Рождество, приехали в Карачи.
Каждый, кто бывал в Карачи, знает, что это знойное, диковинное место в любое время года. А мы только что приехали из зимы в Гиндукуше и были одеты соответственно. Когда мы высадились из поезда и собрали воедино все наши силы, у сидевших на перроне были все причины уставиться на нас в изумлении. Возглавлял процессию Янг, одетый в шубу с широким меховым воротником и водрузивший на голову широкую меховую шапку в казацком стиле, которую он приобрел в России. В обоих руках он держал поводки от четырех собак, которые после двух дней в поезде сами тащили его за собой. За Янгом следовали две больших тележки с багажом. Позади шествовал я, одетый, как и Янг, в шубу и большую бобровую шапку.
К моменту, когда мы добрались до консульства, за нашей небольшой процессией следовали многочисленные сопровождающие, включая не меньше трех сотрудников индийской полиции, требовавших объяснить, кто мы такие и кого представляем.
Но в консульстве нас встретили старый друг, Эд Мэйси[222], американский консул, который уверил полицию, что мы вовсе не авангард русской армии. К счастью, Эд был собачником и обещал присмотреть за собачьей частью нашей компании, пока я не найду какого-то способа отправить их в Штаты. На следующее утро я сел на самолет до Лондона, а Янг вскоре последовал за мной морем.
Остальной части нашего домохозяйства повезло меньше. Щенок Миджет подхватил лихорадку через несколько недель после того, как я уехал, и умер. Обоих афганских борзых отправили на псарню в горы на передержку, пока я не найду способа отправить их ко мне домой. Они провели в ожидании целый год, за который сожрали солидную часть моего жалованья, ушедшего на оплату дорогих индийских деликатесов.
А я вернулся в армию, оставшись в Белграде у Тито[223]. На Рождество я отправился в Бари и праздновал Новый год с 15-й воздушной армией ВВС. Это было довольно веселое предприятие, и, я думал, мне представилась хорошая возможность поставить собачий вопрос перед командующим армией, генералом Андерсоном[224]. Я сказал ему, что пытаюсь решить сложную логистическую проблему, частью которой являются зайцы и борзые. Это, похоже, его заинтересовало, и я продолжил свое объяснение рассказом, что очень люблю старый вид спорта — охоту с гончими и что я обнаружил множество зайцев в Сербии, но так произошло, что обе моих борзых находятся в Индии. Генерал Андерсон согласился со мной в том, что охота с гончими — прекрасный спорт, и настоятельно рекомендовал мне собрать зайцев и гончих в одном месте. В этом-то, сказал я, и состоит затруднение. Я сделал несколько осторожных расчетов количества человеко-часов, требуемых для того, чтобы поймать достаточное количество зайцев, чтобы их стоило транспортировать в Индию, и я также рассчитал, сколько человеко-часов мне понадобится, чтобы посадить борзых на самолет в Белград. Генерал Андерсон тщательно проверил мои цифры и согласился, что они выглядят довольно точными. Очевидно, заключил он, легче перевезти гончих к зайцам, чем зайцев к гончим. Более того, добавил он, у него очень много самолетов, возящих материалы в Карачи для фронта в Бирме, и они обычно возвращаются обратно в Италию пустыми.
Решение незамедлительно было признано очевидным.
В течение нескольких минут телеграммы были доставлены на псарню в Индии и другим разным заинтересованным сторонам, и я отправился обратно в Белград. Но я проводил все расчеты без учета семьи Рузвельтов — и Эллиота Рузвельта в частности. Через несколько дней после возвращения в Белград из 15-й армии пришла телеграмма: «Все обещания отменяются. Прочтите историю собаки Рузвельта Блейз в "Старс и Страйпс"»[225]. Я послал телеграмму на псарню и велел им избавиться от афганских борзых любым удобным для них способом.
Но Миджет не повезло еще больше. Почти десять лет она была со мной. Она путешествовала по Европе, Америке и Азии на поездах, кораблях, самолетах, волжских баржах и автобусах Она была частью моего дома даже в большей степени, чем Янг, который состоял в моей организации лишь семь лет. Я сказал Эду Мэйси, чтобы при первом удобном случае он отправил ее в Америку.
Я пробыл в нашем посольстве в Лондоне лишь одну или две недели, когда по официальным каналам пришла телеграмма и ее направили мне, как и всем другим в посольстве обычным порядком. В ней было написано:
«Ваша черная сука отплыла сегодня».
На полях было написано от руки почерком посланника:
«Надеюсь, она носит сари».
Но на этом удача Миджет окончилась. Только через год я узнал, что ее корабль был торпедирован японской подлодкой в шести часах хода от Карачи.
Но все это произойдет в будущем. Когда же я улетал из Карачи, мои домашние питомцы были целы и невредимы.
Путешествие в Лондон, по сравнению с предыдущими переездами, прошло довольно гладко. И, кроме того, у меня был билет Первой степени приоритетности. Лишь в Марракеше случилось одно небольшое происшествие, когда люди из ВВС сообщили мне, что они «потеряли» мое свидетельство о приоритетности. В результате я три дня наслаждался местными видами и ходил по базару под руководством Жозефины Бейкер[226]. Но каждый день я являлся в аэропорт, чтобы узнать, как идет поиск моего свидетельства о приоритетности.
Однажды после полудня я возвращался из аэропорта после очередной безуспешной попытки убедить кого-нибудь из парней в ВВС в том, что моя копия свидетельства о приоритетности — это такой же подлинный документ, что и тот, что они потеряли. Машина для командного состава вот-вот должна была отправиться в отель. На заднем сиденье расположилась пара моложавых подполковников из ВВС, в которых я узнал бедных плебеев, для которых в Вест-Пойнте я когда-то был всемогущим курсантом-первокурсником. Я стал забираться в машину за их спинами, надеясь, что они забыли те случаи, когда я заставлял их драить мои ботинки и чистить мое ружье. И я уже почти влез в машину, когда толстяк капитан выскочил из здания КВТ[227] аэродрома и схватил меня за плечо.
— Сынок, — сказал он, — не устраивай полковникам давку.
Я знал, что бы я ни ответил, будет только хуже. Поэтому я сделал глубокий вдох, посчитал до десяти, ушел в пустыню, посидел на скале и после небольшой тихой медитации пришел к выводу, что надел не тот костюм на такой случай.
В Лондоне я узнал, что Европейская консультативная комиссия под руководством посла Гила Уайнанта[228] собиралась работать над соглашением с русскими о том, как после освобождения союзниками управлять Европой. Я не знаю, сколько времени у Уайнанта заняли подсчеты наших шансов на успех, но через месяц я уже был готов признать, что мы оказались в тупике и надо отходить на заранее подготовленные позиции.
Проблема в том, что у меня не было этих подготовленных позиций. Все два года я с равными интервалами посылал в Государственный департамент просьбы об увольнении. Но Департамент всегда отвечал мне, что они знают лучше и что я более полезен в гражданском, чем в форме цвета хаки. Затем однажды в баре отеля «Клэридж» я встретил бригадира Фитцроя Маклина[229], своего коллегу по московским дням, который теперь возглавлял англо-американскую миссию при Тито. Фитцрой сказал мне, что у него есть кое-какие проблемы с английской частью миссии и что он хочет разделить ее надвое. Почему бы мне не войти в состав этой новой Американской миссии, если ему удастся убедить генерала Билла Донована из Управления стратегических служб (УСС), госсекретаря Стеттиниуса[230] и посла Уайнанта. Он объяснил, что мне только надо будет «чуть-чуть освоить парашютирование».
Существует немало вещей, которые я обещал себе никогда не делать. Однако лишь в отношении одной я был совершенно искренен, и это — парашютирование. У меня голова кружится, даже если я залезаю на табуретку, чтобы вкрутить лампочку. И как я себя почувствую, когда выпаду из двери самолета на высоте в тысячу футов? Но потом я вспомнил капитана из Мар-ракеша. Неужели мне суждено провести остаток жизни, выслушивая от толстых капитанов, что я не должен теснить полковников? И я сказал Маклину, чтобы он приступал и попробовал убедить Донована взять меня, а Стеттиниуса — отпустить.
Стеттиниус согласился отпустить меня на военную службу, и Донован согласился присмотреть за мной. Я знал, что следующее, что мне предложат сделать, так это побывать у психоаналитика. Я слышал, что в УСС процент чокнутых много выше среднего, но мне показалось немного странным, что им приходится еще и нанимать психологов, чтобы отыскать их. Но мне сказали, и довольно твердо, что психоанализ должен определить, подхожу ли я для того, чтобы работать за границей. Я объяснил: уже десять лет, как работаю за границей, и вполне успешно. Но они сказали, что никто не может вступить в УСС без обследования у психоаналитиков. И я все-таки однажды с некоторым беспокойством отправился на обследование в некий весьма внушительный на вид особняк.
Первое, что сделали доктора, так это сказали мне, что на сегодня меня будут звать «Джим». Я сразу запротестовал и отметил, что уже давно известен очень широкому кругу людей под именем «Чарли» и совершенно не вижу необходимости в каком-то ином уменьшительном имени. Но доктора сослались на соображения безопасности и на то, что, как предполагается, здесь никто не знает, кем я являюсь. Затем они попросили меня пройти в дом, сесть за стол и присоединиться к пациентам, играющим в бридж. Я ответил, что в бридж не играю.
— Хорошо. Тогда идите за другой стол и поиграйте в покер. — (Очевидно они полагали, что по своему типу меня нельзя отнести к интеллектуалам.) Я твердо ответил, что в покер не играю тоже. Тогда они предложили шахматы или шашки, но я стоял на своем, как скала.
— Ну, хорошо, — устало закончили они. — Просто идите и смотрите, как играют другие.
Давать непрошенные советы — это и есть суть дипломатии, и я с воодушевлением принял такое предложение.
После игры в бридж мне задали целую серию «разведывательных» вопросов. Первый был: «Когда вы в последний раз мочились в постель?» Я отправил их к черту и сказал, что не могу вспомнить. (Позже один мой приятель сказал мне, что это и был правильный ответ.)
Множество подобных частных тестов заняли остаток дня, а в пять часов всех обследуемых собрали в бывшем танцевальном зале дома. На паркетном полу лежала куча из досок, веревок, зажимов и ткани, которая, как нам сказали, была палаткой.
— Посмотрим, насколько быстро вы сможете собрать палатку, не прибивая ее гвоздями к паркету, — сказал доктор.
В секунду я стянул свой пиджак и стал командовать своими коллегами — жертвами психоанализа:
— Сюда, хватайте эту веревку. Прикрепите эти две доски. Закрепите этот шест. — И меньше чем за две минуты палатка была собрана.
Когда мы вечером покидали тот дом, главный психолог попросил меня зайти к нему в кабинет:
— Джим, — начал он, но я прервал его и сказал, что меня следует называть либо «Тейер», либо «Чарли», если уж ему так хочется фамильярности.
Доктор выглядел раздраженным и начал с начала:
— Смотрите. Вы были пациентом, менее всего настроенным на сотрудничество из тех, кого мы видели за месяц. Вы не играли в бридж. Вы не захотели играть ни в шахматы, ни в покер, ни в шашки. Вы даже не были вежливы, отвечая на вежливые вопросы. Так и быть, это ваше дело. Возможно, вам весь этот наш процесс казался излишним. Но вот чего никто из нас не понимает, так это почему, когда вам предложили собрать эту дурацкую палатку посередине танцзала, вы рьяно взялись за дело и справились за рекордное время?
— Доктор, — ответил я ему, раздуваясь от гордости, — вы забываете, что имеете дело с чемпионом по установке палаток среди бойскаутов восточных штатов Америки 1923 года. То, что я продемонстрировал здесь, — ничто по сравнению в тем, что я совершил в Суортморе[231] двадцать лет назад.
Я так и не узнал, как меня классифицировали по результатам психоаналитических тестов, но могу себе это представить. Тем не менее Билл Донован, наверное, все же пренебрег всем этим, потому что несколькими днями позже я уже получил обмундирование, майорские погоны, новое уменьшительное имя и предписание отправляться в парашютную школу. И уже скоро я прыгал из окон второго этажа, падал в яму для прыжков, внимал беспрерывным лекциям о том, как спрятать парашют, оказавшись за линией фронта.
И вот эта ночь, я сгорбившись сижу на полу британского бомбардировщика, переделанного из гражданского самолета, летящего над северной Англией. Все мои коллеги по обучению уже исчезли в люке в полу бомбардировщика. Самолет заходит на последний круг. Я уже выполнил все предварительные прыжки в дневное время, и ночной прыжок должен стать моей последней проверкой. Каждый предшествовавший прыжок ввергал меня во все большее уныние в отношении парашютного дела, и крепость моего духа стремительно улетучивалась.
Стоявший возле меня в сгущающемся сумраке фюзеляжа выпускающий пристегнул вытяжной трос к моему парашюту и показал его мне.
— Исправен, — сказал он с раздражающим акцентом кокни.
Я подвинулся к краю люка, стараясь не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова.
Выпускающий бормотал какие-то бессмысленные, по-матерински ободряющие слова:
— Взгляни, — предложил он, — как далеко внизу Тайн[232].
Я бы с радостью схватил его за шею и выбросил в люк самого, если бы не был так чертовски занят своими собственными эмоциями.
— По местам, — приказал кокни.
Я спустил ноги в отверстие и стал перемещаться к краю люка.
На стене возле меня замигала красная лампочка.
Оставшийся промежуток времени, по моим ощущениям, стоил трех дней. И при этом его хватило, чтобы довольно подробно оглядеть все мое прошлое. Пятнадцать лет назад правительство взялось за мое обучение. Четыре года я сражался, осваивая военное искусство. Одиннадцать с лишним лет меня натаскивали, как надо выдавать и проверять визы и паспорта, учили международному праву. Я разрушил свое пищеварение, знакомясь с гастрономией на трех континентах. Я испробовал на себе силу дюжины национальных напитков ценой бессчетных тостов — и все за Дядю Сэма. Я проглатывал аблятивы, сослагательные наклонения и словари полудюжины самых разных языков. Я цементировал международные отношения со многими иностранными государствами. И я даже выучил, как надо тренировать соколов, выгуливать собак и учить морских львов играть «В тихую ночь» на губной гармошке, и все ради своей страны. Сантехник, гладильщик, импресарио; я даже выносил мусор из посольства. И к чему все это привело?
Я посмотрел в люк на россыпь голубых огоньков на поле для приземления.
Лампочка возле меня зажглась зеленым светом.
Выпускающий крикнул:
— Пошел!
И я пошел.
Примечания
1
George F. Kennan, Memoirs, 1925–1950 (Boston, 1967), 60; Charles W. Thayer, Bears in the Caviar (Philadelphia, 1951). Другие воспоминания об этом периоде: Charles E. Bohlen, Witness to History (New York, 1973), 14–36; A Question of Trust: the Origins of US-Soviet Diplomatic Relations: Memoirs of Loy W. Henderson, ed. George W. Baer (Stanford, 1986). Интересная интерпретация влияния этого периода на более поздние взгляды Кеннана и других см.: Frank Costigliola, "Unceasing Pressure for Penetration: Gender, Pathology, and Emotion in George Kennan's Formation of the Cold War", The Journal of American History (March 1997), 1309-39.
(обратно)2
О Буллите см.: For the President, Personal and Secret; Correspondence between Franklin D. Roosevelt and William C. Bullitt, ed. Orville H. Bullitt (Boston, 1972); William C. Bullitt papers, Sterling Library Manuscripts and Archives, Yale University.
(обратно)3
* В публикациях на русском языке встречаются два варианта написания этой фамилии (Bohlen) - Болен и Боулен. В данном издании используется вариант Болен, учитывающий немецкое происхождение фамилии. Здесь и далее во Введении примечания переводчика отмечены «звездочкой»*. В основной части книги все примечания принадлежат переводчику и обозначены цифрами.
(обратно)4
* Мэйн-Лайн (Main Line) — аристократический пригород Филадельфии.
(обратно)5
* Вест-Пойнт. Обиходное название Военной академии Соединенных Штатов Америки (United States Military Academy), расположенной в городе Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк.
(обратно)6
Письмо Тейера к Джекобу Биму, 21 мая 1935 г. (Theyer to Jacob Beam, May 21, 1935. Thayer papers).
(обратно)7
Henderson. Question of Trust, 310.
(обратно)8
Письмо Тейера к Джорджу Кеннану, 28 мая 1953 г. (Thayer to George Kennan, May 28, 1953. Thayer papers).
(обратно)9
Дневник Тейера, февраль 1936 г. (Thayer Diary, February 1936, Thayer papers). Об опыте, полученном Тейером в первые шесть месяцев жизни в Москве, см. его письма к матери и другим членам семьи, а также дневники за этот период (Charles W. Thayer papers. Harry S. Truman Library, Independence, MO).
(обратно)10
Письмо Джорджа Кеннана к Уильяму Буллиту, 27 декабря 1933 г. (George Kennan to William Bullitt, December 27, 1933, Bullitt papers).
(обратно)11
Письмо Чарльза Болена к Эвис Тейер, 13 ноября 1934 г. (Charles Bohlen to Avis Thayer, November 13, 1934, in Charles E. Bohlen papers, Library of Congress); «.. доволен каждым…» (William Bullitt to FDR, April 13, 1934, For the President, 83).
(обратно)12
Kennan, Memoirs, 63. О склонности Буллита к игнорированию инструкций см. письмо Болена к матери от 20 апреля 1934 г. и связанное с ним недатированное письмо (Bohlen papers).
(обратно)13
Письмо Джона Уайли к Роберту Келли, 27 сентября 1934 г. (John Wiley to Robert Kelly, September 27, 1934, John Wiley papers, Franklin Delano Roosevelt Library).
(обратно)14
Там же.
(обратно)15
См.: Bohlen, Witness to History, 29: Kennan, Memoirs, George F. Kennan, "Flashbacks", New Yorker, February 25, 1985; Письма Тейера к матери и другим членам семьи на протяжении всего этого периода (Thayer papers).
(обратно)16
Письмо Болена к матери, 15 апреля 1934 г. (Bohlen to his mother, April 15, 1934, Bohlen papers).
(обратно)17
Кеннан о Буллите, см.: Memoirs, 79; письмо Тейера к матери, 7 сентября 1934 г.
(обратно)18
Дневник Эвис Тейер, в собрании Эвис Болен (Avis Bohlen collection, Schlesinger Library, Cambridge, Massachusetts).
(обратно)19
Irena Wiley, Around the Globe in Twenty Years (New York, 1962), 30, Thayer Diaries, in September — February 1935, Thayer papers.
(обратно)20
О разочаровании Буллита в отношении Болена и Тейера см.: Bullitt to Walton Moore, April 25, 1935, May 11, 1935, June 8, 1935, July 15, 1935, August 30, 1935; Walton Moore to Bullitt, June 8, 1935, Box 58, Bullitt papers, Yale University; Дневники Тейера за осень и начало зимы 1935–1936 гг. (Thayer papers).
(обратно)21
Дача находилась недалеко от Москвы, в Немчиновке.
(обратно)22
Charles W. Thayer, Hands Across the Caviar (Philadelphia — New York, 1952).
(обратно)23
См. Thayer diaries, Thayer papers, Robert D. Dean, "The Sexual Inquisition and the Brotherhood," in Imperial Brotherhood: Gender and the Making of Cold War Policy (Amherst, Mass. 2001), 111, 97-112.
(обратно)24
Dean, Imperial Brotherhood, 101. «Уделяйте этому особое внимание!» — так Гувер инструктировал свой персонал при расследовании романа с Ольгой Филипповой.
(обратно)25
О тайных расследованиях под руководством Даллеса и борьбы вокруг назначения Болена см.: Bohlen, Witness to History, 309–336; Dean, Imperial Brotherhood, 112–132.
(обратно)26
March 23, 1953, Thayer Diary; Dean, Imperial Brotherhood, 122.
(обратно)27
См. March 23, 1953, Thayer Diary, Thayer papers; Dean, Imperial Brotherhood, 132–135.
(обратно)28
* С 1963 г. этот аэропорт носит название «Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди».
(обратно)29
Письмо Тейера к Элбриджу Дарброу, 2 апреля 1953.
(обратно)30
* «Руки Китая» (China hands) — так в США в 1940-е годы называли группу дипломатов и экспертов, знавших китайский язык и культуру. Их обвиняли в продвижении интересов китайских коммунистов. Негативное отношение к ним изменилось лишь в 1970-е гг. при президенте Р. Никсоне.
(обратно)31
March 24, 1953. Thayer Diary.
(обратно)32
Тейер в течение длительного времени пытался (в конечном счете, безуспешно) изменить публичную характеристику причин своей отставки: см. обширную переписку с Гленом Вулфом (Glen Wolf), Солом Розенблаттом (Sol Rosenblatt) и различными подразделениями Государственного департамента на протяжении 1953 года, Thayer papers.
(обратно)33
Тейер Кею Баннелу (Thayer to Kay Bunnel, March 30, 1953); Thayer to Dur-brow, April 9, 1953.
(обратно)34
Thayer Diary, переписка.
(обратно)35
Dean, Imperial Brotherhood, 143.
(обратно)36
Thayer to Avis Bohlen, June 4, 1953.
(обратно)37
Thayer to George Kennan, July 27, 1953, Thayer papers; в письмах Тейера и особенно в его дневнике нашли отражение многие моменты его отчаяния после ухода на пенсию. Экземпляр рукописи Officer and Gentleman находится в составе Thayer papers.
(обратно)38
Frank G. Wisner "Notes and Reflections Upon Thayer's Novel", April 1956, Evan Thomas to Thayer, Thayer papers.
(обратно)39
April 1953, Thayer Diary, Thayer papers.
(обратно)40
Henderson Question of Trust, 307. Любовь Тейера к охоте и прогулкам на природе имеет множество подтверждений в его книгах и дневниках.
(обратно)41
* События, связанные с работой первого американского посольства в СССР в 1933–1936 гг., в том числе и роль в них Чарльза У. Тейера, подробно описаны Александром Эткиндом в книге: Эткинд А. Мир мог быть другим. Уильям Буллит в попытках изменить XX век. М.: Время, 2015.
(обратно)42
Об этом см. в официальном глоссарии кадетского сленга на сайте академии: -4-New-Cadets_Class-of-19.pdf
(обратно)43
Нелепые команды, которые отдают вновь прибывшим старшие кадеты, — своего рода традиция «посвящения» в Вест-Пойнте.
(обратно)44
Уильям «Билл» Джозеф Донован (William Joseph Donovan) (1883–1959), директор Управления стратегических служб (УСС) в составе Комитета начальников штабов в 1942–1945 гг.
(обратно)45
Казармы Бист (Beast Barracks) до сих пор служат местом расположения вновь прибывших кадетов, проходящих начальный курс обучения. Кадетов-первогодков поэтому иногда называют «бестиями» (т. е. «зверями», англ. Beast)
(обратно)46
Специальный розыгрыш мяча.
(обратно)47
Одна из специализаций игроков в команде.
(обратно)48
Один из игроков линии защиты.
(обратно)49
Автор пользуется единицами измерения, принятыми в Америке. В книге встречаются следующие единицы: длина: дюйм = 2,54 см; фут = 30,48 см; ярд = 91,44 см; миля = 1,609 км; вес: фунт = 453,592 г; объем жидкостей: пинта = 0,47 л; кварта = 0,95 л; галлон=3,78 л. Соответствие измерения температуры по Фаренгейту и по Цельсию указано в постраничных примечаниях.
(обратно)50
Пони — собирательный термин для обозначения некрупных лошадей разных пород. Для игры в поло обычно выбирают лошадей ростом до 147 см в холке.
(обратно)51
Шах-Махмуд Хан (1890–1959) занимал пост премьер-министра Афганистана в 1946–1953 гг.
(обратно)52
Строительство железной дороги между Кабулом и Дар-уль-Аманом, длиной 7 км, было начато в 1922 г. с немецкой помощью.
(обратно)53
Аманулла-хан (1892–1960), король (падишах) Афганистана в 1919–1929 гг.
(обратно)54
Мелодия, исполняемая на воинских похоронах.
(обратно)55
Кому что нравится (фр.).
(обратно)56
Дуглас Макартур (Douglas MacArthur) (1880–1964) в должности суперинтенданта руководил Академией в Вест-Пойнте в 1919–1922 гг. С 1930 г. — начальник штаба армии США. В годы Второй мировой войны — верховный командущий союзными войсками на Тихом океане, маршал.
(обратно)57
Марк Уэйн Кларк (Mark Wayne Clark) (1896–1984) в 1945 г. — командующий американскими оккупационными войсками в Австрии.
(обратно)58
Альфред Максимилиан Груэнтер (Alfred Maximilian Gruenther) (1899–1983) — зам. командующего американскими оккупационными войсками в Австрии.
(обратно)59
Джон (Джек) Джордж Эрхардт (John George Erhardt) (1889–1951) в 1946 г. возглавил посольство США в Вене.
(обратно)60
Иван Степанович Конев (1897–1973) — маршал Советского Союза, 1945–1945 гг. — командующий Центральной группы войск, верховный комиссар по Австрии.
(обратно)61
Имеется в вицу спа-курорт Баден в 26 км от Вены.
(обратно)62
Алексей Сергеевич Желтов (1904–1991), генерал-полковник, член Военного совета Центральной группы войск и зам. Верховного комиссара СССР в Австрии (1945–1950).
(обратно)63
Гимн Соединенных Штатов Америки.
(обратно)64
Джордж Смит Паттон мл. (George Smith Patton, Jr.) (1885–1945). В 1933 г. — командир 3-го кавалерийского полка. Позднее стал одним из самых известных американских военачальников, соавтором доктрины применения бронетанковых сил.
(обратно)65
Полеты из Германии в Россию в 1922–1936 гг. совершала концессионная компания «Германо-Русское общество воздушных сообщений («Дерулюфт» — Deruluft)». Маршрут 3б («Балтийский экспресс») компании «Дерулюфт» действовал на линии Кёнигсберг-Ленинград. До 1935 г. полеты осуществлялись на устаревших самолетах Fokker III. В Кёнигсберге авиакомпания использовала аэродром «Девау» (ныне аэропорт «Храброво» в Калининграде), а в Ленинграде — Корпусной аэродром (на этом месте в Санкт-Петербурге сейчас находится Парк авиаторов).
(обратно)66
Уильям Максвелл «Макс» Эйткен (William Maxwell "Max" Aitken), (18791964), 1-й барон Бивербрук. Во время Второй мировой войны занимал различные министерские посты в правительстве Великобритании: министра снабжения, министра военного производства. В конце сентября 1941 г. возглавил британскую делегацию на Московской конференции.
(обратно)67
«Пэоли Лоукал» (Paoli Local) — название популярной у пассажиров из Филадельфии пересадочной станции Пенсильванской железной дороги.
(обратно)68
В настоящее время г. Советск Калининградской области России.
(обратно)69
Английская королева Виктория умела, как рассказывают, осадить рассказчика неуместных анекдотов одной спокойной фразой: «Мы не удивлены».
(обратно)70
Уолтер МакЛеннан Ситрин (Walter McLennan Citrine), 1-й барон Ситрин (1887–1983), деятель британского профсоюзного движения, в 1936 г. написал книгу «Я ищу правду в России» о своем пребывании в СССР, получившую широкую известность. См.: Citrine, Walter. I Search for Truth in Russia. London, G. Routledge & sons, 1936.
(обратно)71
Запрещено (нем.).
(обратно)72
Томас Харт Сеймур (Thomas Hart Seymour) (1807–1868).
(обратно)73
Михаил Иванович Калинин (1875–1946) в 1922–1938 гг. был Председателем президиума Центрального исполнительного комитета СССР от РСФСР и в этом качестве являлся формальным главой государства.
(обратно)74
4 июля — национальный праздник США — День независимости.
(обратно)75
Акт Логана (The Logan Act) был принят в США в 1799 г. и продолжает действовать с поправками до сих пор.
(обратно)76
Ангус Айван Уорд (Angus Ivan Ward) (1893–1969). Будучи генеральным консулом США в Мукдене (Шеньян), Уорд и сотрудники консульства 13 месяцев (с октября 1948 г. по 11 декабря 1949 г.) фактически провели под арестом, обвиненные руководством Народно-освободительной армии Китая в шпионаже. Правительство отказалось признавать провозглашенную в Пекине КНР, пока Уорд и его сотрудники не будут освобождены. Дипломаты были депортированы в США в декабре 1949 г. На протяжении всего инцидента Уорд проявлял стойкость и мужество.
(обратно)77
Уильям Генри Чемберлин (William Henry Chamberlin) (1897–1970). Корреспондент бостонской газеты Christian Science Monitor в Москве в 1922–1934 гг. Автор нескольких книг о Советской России.
(обратно)78
Ральф Барнс (Ralph Waldo Barnes) (1899–1940), корреспондент New York Herald Tribune в Москве в 1931–1935 гг. Считалось, что он был первым журналистом, убитым во Второй мировой войне.
(обратно)79
Стэнли Ричардсон (Stanley Richardson), корреспондент Associated Press в Москве, вместе с Дюранти ездил на Украину в 1933 г., после войны работал на радиостанции NBC.
(обратно)80
Юджин Лайонс (Eugene Lyons) (1898–1985), в 1920-е гг. был корреспондентом ТАСС в США, в 1928–1934 гг. — корреспондент United Press International, первый западный журналист, взявший интервью у И. Сталина. Одна из его книг: Assignment in Utopia. New York: Harcourt, Brace, 1937.
(обратно)81
Уильям «Билл» Стоунмэн (William H. Stoneman) (1904–1987), корреспондент Chicago Daily News в Москве в 1928–1935 г.
(обратно)82
Уолтер Дюранти (Walter Duranty) (1884–1957), шеф Московского бюро газеты The New York Times в 1931–1936 гг. Лауреат Пулитцеровской премии за статьи об СССР.
(обратно)83
Трюгве Хальвдан Ли (Trygve Halvdan Lie) (1896–1968), норвежский государственный деятель, в 1946–1952 гг. — первый избранный Генеральный секретарь ООН.
(обратно)84
Анна Стронг (Anna Louise Strong) (1885–1970), левая американская журналистка, основавшая в 1930 г. англоязычную газету The Moscow Daily News и в течение года работавшая ее главным редакторам, а затем одним из основных авторов.
(обратно)85
Лат. Q.E.D. - quod erat demonstrandum, «что и требовалось доказать».
(обратно)86
Уильям Кристиан Буллит-мл. (William Christian Bullitt, Jr.), (1891–1967). Первый посол США в России в 1933–1936 гг. Был назначен 21 ноября 1933 г., вручение верительных грамот состоялось 13 декабря 1933 г.
(обратно)87
Джорд Фрост Кеннан (George Frost Kennan) (1904–2005), в 1933 г. — помощник посла, а в 1934–1938 гг. — первый секретарь, в 1945–1946 гг. — советник посольства, а в 1952 г. — посол США в СССР.
(обратно)88
На верфях Крэмпа (William Cramp & Sons Shipbuilding Company) для России были построены крейсеры «Варяг» (передан в июле 1900 г.) и «Ретвизан» (передан в декабре 1901 г.). См.: / shipyards/2large/inactive/cramp.htm.
(обратно)89
До 1933 г. площадь называлась Каланчевской. Неофициальным названием площади до сих пор является «Площадь трех вокзалов»: Ленинградского (с 1855 по 1923 г. — Николаевский; с 1923 по 1937 г. — Октябрьский), Казанского и Ярославского (до 1870 г. — Троицкий, до 1922 г. — Ярославский, до 1955 г. — Северный).
(обратно)90
Из английского текста не совсем понятно, как первоначально Тейер перевел на русский слово carload. Но, судя по дальнейшему разговору с таможенником, тот понял, что в Москву едут сорок автомобилей.
(обратно)91
Чарльз «Чип» Юстис Болен (Charles Eustis "Chip" Bohlen) (1904–1974). В 1934–1935 гг. — третий секретарь, в 1938–1939 гг. — консул, в 1943–1944 гг. — первый секретарь посольства в Москве. В 1953–1957 гг. — посол США в СССР. На протяжении всей дипломатической карьеры был связан с развитием американо-советских отношений. В 1935 г. женился на сестре Чарльза Тейера — Эвис.
(обратно)92
Эдвард Пейдж-мл. (Edward Page Jr.) (1905–1965), в 1934–1938 гг. — третий секретарь, в 1943 г. — консул посольства в Москве.
(обратно)93
Тересита Бартол (Teresita Bartol) (1911–1986).
(обратно)94
Гровер Алоизиус Уолен (Grover Aloysius Whalen) (1886–1962), знаменитый организатор публичных мероприятий в Нью-Йорке в 1930-1940-е гг., председатель комитета по встрече именитых гостей при мэрии города.
(обратно)95
Канцелярия посольства заняла построенное в 1934 г. по проекту архитектора И.В. Жолтовского жилое здание по адресу: ул. Моховая, 13. Квартал на противоположной стороне улицы, отделявший посольство от Кремля и занятый нежилыми зданиями, по Генеральному плану Москвы подлежал сносу. После сноса квартала (в 1934–1938 гг.) между посольством и Кремлем осталась лишь Манежная площадь.
(обратно)96
С 1936 г. — Народный комиссариат иностранных дел СССР.
(обратно)97
Максим Максимович Литвинов (Валлах) (1876–1951), в 1930–1939 гг. — народный комиссар по иностранным делам/ иностранных дел СССР.
(обратно)98
Роберт Энтони Иден (Robert Anthony Eden) (1897–1977), заместитель министра иностранных дел Великобритании в 1931–1935 гг., при министре лорде Джоне Саймоне (John Allsebrook Simon).
(обратно)99
«А те, которые попытаются напасть на нашу страну, — получат сокрушительный отпор, чтобы впредь не повадно было им совать свое свиное рыло в наш советский огород», — из выступления И.В. Сталина на XVII съезде ВКП(б).
(обратно)100
В оригинале у автора: «Piz is indivisible».
(обратно)101
Ул. Спиридоновка, д.17. По этому адресу в знаменитом особняке З.Г. Морозовой, построенном в 1898 г. по проекту Ф.О. Шехтеля, до сих пор располагается Дом приемов МИД России.
(обратно)102
Джозеф Эдвард Дэвис (Joseph Edward Davies) (1876–1958), посол в СССР в 1936–1938 гг. Написал книгу «Миссия в Москву» (1942), по которой в 1943 г. был снят одноименный фильм. Во время войны этот фильм показывали в СССР.
(обратно)103
Элбридж Дарброу (Elbridge Durbrow) (1903–1997), работал в посольстве в Москве в 1934–1937 гг. в качестве советника по экономическим вопросам.
(обратно)104
Джон Купер Уайли (John Cooper Wiley) (1893–1967), советник и генеральный консул посольства США в Москве в 1934–1936 гг.
(обратно)105
Эльза Максвелл (Elsa Maxwell) (1883–1963) — американская журналистка и писательница, знаменитый организатор приемов и вечеринок для высшего света.
(обратно)106
Ирена Барух Уайли (Irena Baruch Wiley) (1906–1972), скульптор и художник-портретист, жена Джона Уайли. Автор книги «Вокруг света за двадцать лет» (Around the Globe in Twenty Years), изданной в 1962 г.
(обратно)107
Директором Московского зоопарка в 1930–1935 гг. работал Евгений Михайлович Климек. У него были основания осторожничать, поскольку в 1934–1935 гг. несколько научных сотрудников зоопарка репрессировали.
(обратно)108
Национальный марш Соединенных Штатов Америки.
(обратно)109
Речь идет о Владимире Григорьевиче Дурове-Шевченко (1909–1972) — племяннике Анатолия Леонидовича Дурова (брата знаменитого Владимира Леонидовича Дурова), трагически погибшего на охоте в 1928 г. По настоянию семьи он продолжил работу с аттракционом дяди (в том числе с морскими львами) и принял фамилию Дуров. Не будучи изначально дрессировщиком, он впоследствии стал первым народным артистом СССР в династии Дуровых.
(обратно)110
Прием состоялся 1 октября 1941 г. в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.
(обратно)111
Бернард Лоу Монтгомери (Bernard Law Montgomery) (1887–1976), с апреля 1941 г. в звании генерал-лейтенанта британской армии командовал 12-м корпусом в Кенте; Климент Ефремович Ворошилов (1881–1969) в 1934–1940 гг. — народный комиссар обороны. С 1935 г. — маршал Советского Союза. В конце сентября 1941 г. был членом ГКО и представителем Ставки Верховного главного командования; Джордж Кэтлет Маршалл-мл. (George Catlett Marshall, Jr.) (1880–1959), в 1939–1945 гг. — генерал армии США, начальник Генерального штаба.
(обратно)112
Буденный Семен Михайлович (1883–1973), в 1924–1937 гг. — инспектор кавалерии РККА, в 1935 г. ему было присвоено звание маршала Советского Союза.
(обратно)113
Александр Ильич Егоров (1883–1939), в 1931–1937 гг. — начальник штаба РККА, генерального штаба РККА, маршал Советского Союза (1935); Михаил Николаевич Тухачевский (1893–1937), — зам. наркома обороны, маршал Советского Союза (1935); Рафаил Павлович Хмельницкий (1898–1964), — с 1931 г. командир Московской Пролетарской стрелковой дивизии, с декабря 1934 г. — офицер для особо важных поручений при наркоме по военным и морским делам СССР, с января 1935 г. — адъютант наркома обороны СССР.
(обратно)114
Стандартное поле для игры в поло имеет 282 метра в длину и 182 метра в ширину. На противоположных сторонах поля устанавливаются ворота шириной в 7,3 метра, расстояние между ними должно быть не меньше 230 метров. Цель игры — забить мяч в ворота команды противника. На первой тренировке не было ворот
(обратно)115
По правилам время игры делится на четыре периода — чаккера, продолжительностью семь с половиной минут каждый.
(обратно)116
Речь идет об американском футболе и ситуации потери мяча нападающим игроком (fumble).
(обратно)117
Автор использует термин three-quarter breed, не имеющий точного аналога в русской терминологии по селекции лошадей. Речь идет о лошадях от одной матки, и по производителю являющихся либо полу-братьями (от одной матки) или по одному и тому же производителю.
(обратно)118
В России в поло начали играть в 80-е годы XIX века. Это было развлечение аристократии и кавалерийских офицеров. Однако после революции игра была забыта.
(обратно)119
В местечке Мидоубрук, в 20 милях от Нью-Йорка, находится старейший и самый престижный поло-клуб в США.
(обратно)120
Миджет (midget) - англ. малютка.
(обратно)121
Дача Тейера находилась в Немчиновке.
(обратно)122
Сигэнори Того (1884–1950) — японский политик корейского происхождения, в годы Второй мировой войны занимал важные министерские посты, в том числе министра колоний, иностранных дел. Осужден как военный преступник, умер в тюрьме. Посол в СССР в 1938–1940 гг. Был женат на немке Эди де Лаланде. У них была единственная дочь. Внук Того — Кадзухико — на протяжении многих лет отстаивает невиновность отца в военных преступлениях, доказывая, что тот был противником войны. См.: Сигэнори Т. Воспоминания японского дипломата / Того Сигэнори; Вступ. ст., оформл., ред. Славинского Б.Н.; Предисл. Кадзухико Т. М.: Новина, 1996.
(обратно)123
Лев Давидович Троцкий (псевд., имя при рождении: Лейб Давидович Бронштейн,1879–1940), один из руководителей Советского государства, в 1927 г. снят со всех постов, в 1929 г. выслан из СССР.
(обратно)124
International News Service — американское информационное агентство, основанное в 1909 г. Уильямом Рэндальфом Херстом (William Randolph Hearst) и просуществовавшее до 1958 г., когда стало частью агентства United Press International.
(обратно)125
Фридрих-Вернер, граф фон дер Шуленбург (Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg) (1875–1944) — немецкий дипломат, посол Германии в СССР (19341941), был казнен за участие в заговоре против Гитлера.
(обратно)126
Ричард Стаффорд Криппс (Richard Stafford Cripps) (1889–1952) — посол Великобритании в СССР в 1940–1942 гг.
(обратно)127
Автор намекает, что посол Криппс назвал собаку по имени Сталина. Известно, что Черчилль и Рузвельт за глаза между собой называли Сталина «дядюшка Джо». Имя Джо (Joe) в английском — уменьшительное от Джозеф (Joseph), Иосиф.
(обратно)128
Прежде дачу арендовал литовский поэт и посол Литовской Республики в СССР в 1922–1939 гг. Юргис Балтрушайтис (1873–1944).
(обратно)129
«Джулеп» — мятный коктейль.
(обратно)130
Франклин Д. Рузвельт — 32-й президент США, был членом Демократической партии, а 31-й президент Герберт Гувер был республиканцем.
(обратно)131
В сражении в Восточной Пруссии под Танненбергом 26–30 августа 1914 г. в составе 2-й армии генерала А.В. Самсонова принимали участие 4-я, 6-я и 15-я кавалерийские дивизии русской армии.
(обратно)132
Речь идет о так называемой «ближней даче» Сталина в Кунцево.
(обратно)133
Институт Гэллапа, пользовавшийся огромным авторитетом у американцев, скандально ошибся с прогнозом результатов президентских выборов в США в ноябре 1948 г.: Гэллап отдавал победу республиканцу Томасу Дьюи, а победил демократ Гарри Трумэн.
(обратно)134
Вероятно, речь идет о джейранах.
(обратно)135
Лоуренс Адольф Стейнхардт (Laurence Adolph Steinhardt) (1892–1950), посол США в СССР в 1939–1941 гг.
(обратно)136
Послом Монгольской Народной Республики в Советском Союзе в 19371946 гг. был Жамсрангийн Самбу. США установили дипломатические отношения с МНР лишь в 1987 г. В американской дипломатической практике МНР, которую с СССР связывали тесные союзнические отношения, именовали «Внешней Монголией», в отличие от «Внутренней Монголии» в составе Китая.
(обратно)137
Эвелин Уолш Маклин (Evalyn Walsh McLean) (1886–1947), наследница большого состояния и жена Неда Маклина, хозяина газеты «Вашингтон Пост», была последней частной владелицей самого знаменитого бриллианта Нового Света, названного «Алмазом Хоупа», по имени одного из своих прежних владельцев. В настоящее время этот голубой алмаз весом 45,42 карата находится в коллекции Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия.
(обратно)138
Норманн Мэттун Томас (Norman Mattoon Thomas) (1884–1968) шесть раз выдвигался в президенты США от Социалистической партии.
(обратно)139
Лоуренс Тиббетт (Lawrence Tibbett) (1896–1960) — известный американский певец, актер, радиоведущий.
(обратно)140
В оригинале: Sky is the limit!
(обратно)141
Московский государственный камерный театр под руководством А.Я. Таирова. Кто именно помогал в организации вечера в посольстве, неизвестно.
(обратно)142
Зебровая амадина (лат. Taeniopygia guttata) — птица семейства вьюрковых ткачиков, родом из Австралии. С XIX в. разводится в Европе, одна из наиболее популярных ткачиковых птиц. К семейству вьюрковых в России относятся щеглы, клесты, зяблики, снегири. Зебровые амадины и сейчас представлены в Московском зоопарке.
(обратно)143
М.М. Литвинов был женат на писательнице, англичанке Айви Лоу (Ivy Lowe) (1889–1978).
(обратно)144
Лазарь Моисеевич Каганович (1893–1991), член Политбюро в 1930–1957 гг. В 1935 г. был наркомом путей сообщения.
(обратно)145
Николай Иванович Бухарин (1888–1938). Из состава Политбюро был выведен в 1929 г. Оставался членом ЦК ВКП(б), главным редактором газеты «Известия», академиком АН СССР.
(обратно)146
Так у автора. Маршал Советского Союза М.Н. Тухачевский был осужден Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР и расстрелян 12 августа 1937 г. Маршал А.И. Егоров в состав суда не входил. Весной 1935 г. Тухачевский был заместителем наркома обороны. Маршал А.И. Егоров был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР и расстрелян 23 февраля 1939 г. Весной 1935 г. Егоров являлся Начальником штаба РККА. С.М. Буденный — весной 1935 г. инспектор кавалерии РККА. Вместе с Тухачевским, Егоровым, а также К.Е. Ворошиловым и В.К. Блюхером в ноябре 1935 г. получил звание маршала Советского Союза. Был членом судебных коллегий на процессах Тухачевского и Егорова. Умер в 1973 г.
(обратно)147
Карл Бернгардович Радек (наст. имя — Кароль Собельсон) (1885–1939) в то время официальных постов не занимал, работал в газетах «Ивестия» и «Правда». Был осужден в 1937 г. по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». Убит в тюрьме в 1939 г.
(обратно)148
Ольга Васильевна Лепешинская (1916–2008), прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР (1951), лауреат четырех Сталинских премий.
(обратно)149
Хусейн Васиф Чинар (Васыф-бей). (Huseyin Vasif Cinar) (1896–1935). Посол Турции в СССР в 1928–1929 и 1934–1935 гг.
(обратно)150
Имеется в виду Константин Александрович Уманский (1902–1945), в 19391941 гг. поверенный в делах, затем полномочный представитель и, наконец, посол СССР в США.
(обратно)151
По мнению многих исследователей, Штейгер послужил для Михаила Булгакова прототипом барона Майгеля в романе «Мастер и Маргарита».
(обратно)152
Борис Сергеевич Штейгер (1892–1937), уполномоченный Наркомпроса по внешним сношениям. Арестован 17 апреля 1937 г., обвинен в шпионской и диверсионной деятельности. Расстрелян 25 августа 1937 г.
(обратно)153
Александр Комсток Кирк (Alexander Comstock Kirk) (1888–1979), американский дипломат. Работал в посольстве в Москве в 1938–1939 гг. в качестве советника и генерального консула, исполнял обязанности посла в период после отъезда посла Дэвиса и до прибытия посла Стейнхардта. С марта 1939 и до марта 1941 г. — временный поверенный в делах посольства США в Германии и после отзыва в США посла Хью Р. Уилсона был старшим по рангу сотрудником американского посольства.
(обратно)154
Погромы, получившие название «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин», начались 9 и 10 ноября 1938 г.
(обратно)155
Рихард Таубер (Richard Tauber, 1891–1948) — австрийский оперный певец и артист оперетты (тенор), которого называли «австрийским Карузо».
(обратно)156
Уильям (Билл) Лоуренс Ширер (William Lawrence Shirer) (1904–1993), американский журналист и корреспондент. В 1934–1940 гг. работал в Германии и получил широкую известность в США благодаря своим статьям, дневникам и книгам о взлете и падении нацистской Германии.
(обратно)157
Прентис Бэйли Гилберт (Prentiss Bailey Gilbert) (1884–1939), умер в Берлине в результате сердечного приступа.
(обратно)158
Улицы в Вашингтоне, идущие с востока на запад, названы по буквам алфавита (за некоторым исключением), а с севера на юг — имеют порядковые номера.
(обратно)159
Бенжамин Самнер Уэллс (Benjamin Sumner Welles) (1892–1961), американский государственный деятель и дипломат, заместитель государственного секретаря в 1937–1943 гг.
(обратно)160
Гебхардт фон Вальтер (Gebhardt von Walther) (1902–1982), в 1936–1941 гг. — советник посольства Германии в Москве. В 1966–1968 гг. — посол ФРГ в СССР.
(обратно)161
Корделл Халл (Cordell Hull) (1871–1955) — американский государственный деятель. Занимал пост государственного секретаря в течение 11 лет (1933–1944), дольше, чем кто-либо другой. Лауреат Нобелевской премии мира (1946).
(обратно)162
Уолтер Кларенс Тарстон (Walter Clarence Thurston) (1894–1974), советник посольства США в СССР в 1939–1942 гг.
(обратно)163
Поезд «Северный экспресс», или «Норд экспресс» из Парижа в 1936–1939 гг. имел в своем составе вагон, следовавший до советской границы. Поезд шел через Берлин до Варшавы. Движение было остановлено 27 августа 1939 г.
(обратно)164
В настоящее время — Бендер-Энзели. Название Пехлеви носил в 1925–1980 гг.
(обратно)165
Джульфа — город в Нахичеванской автономной республике Азербайджана.
(обратно)166
Восходящее к греческому общепринятое в мире название страны «Персия» использовалось в международной практике до 1935 г., когда шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви настоял на использовании аутентичного названия страны — Иран. В настоящее время — Исламская Республика Иран.
(обратно)167
Участок железной дороги Джульфа-Тифлис был открыт для движения в 1915 г.
(обратно)168
Charles E. Dickerson, Jr. (?-1947), работал в Москве с 1939 г. первым секретарем, консулом. Последнее место службы — генеральный консул в Лиссабоне.
(обратно)169
Joseph Anthony "Mike" Michela (1903–1949). В 1940–1943 гг. работал в посольстве в Москве вначале помощником военного атташе в звании капитана, с октября 1941 г. — военный атташе. В 1943 г. вернулся в Вашингтон в звании подполковника. Умер в Праге в 1949 г. от сердечного приступа.
(обратно)170
Когда американский журналист и исследователь Генри Мортон Стэнли в 1872 г. нашел пропавшего в дебрях Африки шотландского миссионера и путешественника Дэвида Ливингстона, он церемонно обратился к нему: «Доктор Ливингстон, я полагаю?» Фраза стала знаменитой благодаря книгам и фильмам.
(обратно)171
В 1938–1951 гг. Председателем президиума Верховного Совета (президентом — для американцев) Татарской Автономной Советской Социалистической Республики был Галей Афзалетдинович Динмухаметов (1892–1951). Его отличительными чертами были простота и открытость в общении, внимательность к людям, по городу он предпочитал ходить пешком
(обратно)172
Британец Томас Кук — основатель организованного туризма в середине XIX в. и туристической фирмы под своим именем.
(обратно)173
Судя по всему, речь идет об улице Волкова (до 1927 г. улица Вторая гора), находившейся в центре города и застроенной особняками.
(обратно)174
По соглашению с советским правительством, подписанному в 1921 г., АРА (American Relief Administration, ARA) оказывала огромную помощь голодающим и имела право действовать самостоятельно. Это была заслуга Г. Гувера, в 1928 г. избранного президентом США.
(обратно)175
Уильям Аверелл Гарриман (William Averell Harriman) (1891–1986). В сентябре 1941 г. в ранге посла возглавлял делегацию США на Московском совещании СССР, США и Великобритании. В 1941–1943 гг. — специальный представитель президента США в Великобритании и СССР. В 1943–1946 гг. — посол США в СССР. Лорд Бивербрук возглавлял миссию Великобритании.
(обратно)176
В 1935–1991 гг. город Самара назывался Куйбышев.
(обратно)177
Эллис-Леон Моутс (Alice-Leone Moats) (1908–1989), известная американская журналистка. В то время корреспондент журнала Colliers. Автор книги «Свидание вслепую с Марсом», в которой она описала свои впечатления от работы на Дальнем Востоке.
(обратно)178
Из московской милиции была сформирована стрелковая дивизия, а также отдельные отряды и войсковые части, принимавшие участие в обороне Москвы. Касаясь положения дел на фронте, автор здесь и далее приводит весьма приблизительные сведения и неточные оценки, что отражает его личный уровень информированности по этим вопросам.
(обратно)179
Айван Д. Итон (Ivan D. Yeaton) (1895–1979), полковник, военный атташе посольства США в Москве в 1939–1941 гг.
(обратно)180
Льюэллин Э. «Томми» Томпсон-мл. (Llewellyn E. "Tommy" Thompson Jr.) (1904–1972). Второй секретарь посольства США в СССР в 1941–1943 гг. Посол США в СССР в 1957–1962 и 1967–1969 гг.
(обратно)181
Дж. Фредерик «Фредди» Рейнхардт (G. Frederick "Freddy" Reinhardt) (1911–1971). Получил назначение в посольство в Москве в 1940 г.
(обратно)182
Федор Федорович Молочков (1906–1986) — заведущий протокольным отделом НКИД и МИД СССР в 1941–1950, 1955–1969 гг.
(обратно)183
Ни в октябре, ни в ноябре 1941 г. немецкие войска не приближались к железной дороге на участке Москва-Рязань, по которой в основном шли эвакуационные поезда. Задержка в пути, скорее всего, была вызвана колоссальной перегрузкой железной дороги.
(обратно)184
Джордж Александр «Поуп» Хилл (George Alexander 'Pop' Hill) (1892–1968), офицер британской разведки. В 1941–1945 гг. работал в посольстве Великобритании в СССР. Сферой его ответственности было налаживание сотрудничества спецслужб двух стран.
(обратно)185
Поверенный в делах посольства Югославии в СССР.
(обратно)186
Андрей Януарьевич Вышинский (1883–1954) — советский государственный деятель, юрист, дипломат. В 1935–1939 гг. — Генеральный прокурор СССР и в этом качестве был государственным обвинителем на московских процессах 1936–1938 гг. В 1940–1946 гг. — первый заместитель наркома по иностранным делам, в 1949–1953 гг. — министр иностранных дел СССР. В 1953 г. назначен представителем СССР в ООН, умер от сердечного приступа в Нью-Йорке.
(обратно)187
В оригинальном тексте на английском языке было пять орфографических ошибок.
(обратно)188
Главное политическое управление (ГПУ), затем Объединенное главное политическое управление (ОГПУ), затем Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) было ликвидировано в начале 1941 г. при расформировании Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Наследником функций ГПУ-ОГПУ-ГУГБ стал Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ СССР), а в 1943–1953 гг. — МГБ СССР. Автор пользуется привычной для него аббревиатурой ГПУ.
(обратно)189
Минус 18 °C.
(обратно)190
Владислав Сикорский (Wladyslaw Sikorski) (1881–1943) — польский военачальник и политик. С 1939 г. — премьер-министр правительства Польши в изгнании. Погиб в авиакатастрофе.
(обратно)191
После восстановления польско-советских дипломатических отношений в июле 1941 г. на территории СССР началось формирование Польской армии (армии генерала Владислава Андерса). Инспекционная поездка Сикорского продолжалась с 10 по 17 декабря по маршруту: Куйбышев-Бузулук-Тоцкое-Татище-во-Саратов, откуда Сикорский вылетел самолетом в Баку и далее в Тегеран.
(обратно)192
Минус 28 °C.
(обратно)193
То есть в ООН, штаб-квартира которой в 1946–1951 гг. временно находилась в одном из зданий, построенных ко Всемирной выставке 1939/1940 гг. в парке Флешинг Мидоус (Flushing Meadows) в Нью-Йорке.
(обратно)194
Корнелиус ван Эмерт Энгерт (Cornelius Van Hemert Engert) (1887–1985) был назначен Чрезвычайным и полномочным послом в Афганистане 5 мая 1942 г.
(обратно)195
Польские военнослужащие из состава армии Андерса и гражданские лица прибыли в Иран в конце марта 1942 г.
(обратно)196
Мирза Али-хан Сохейли (1896–1958) — премьер-министр Ирана в марте — августе 1942, феврале 1943 — марте 1944 г.
(обратно)197
Луис Гёте Дрейфус-мл. (Louis Goethe Dreyfus Jr.) (1889–1973). Чрезвычайный и полномочный посол США в Иране в 1939–1943 гг. и одновременно Чрезвычайный и полномочный посол США в Афганистане с пребыванием в Тегеране, в 1940–1942 гг.
(обратно)198
Гордон Бенди Эндерс (Enders, Gordon Bandy). Автор двух книг: Foreign devil. New York, Simon & Shuster, 1942; Nowhere else in the world, by Gordon B. Enders with Edward Anthony; with sixty-four photographs. New York, Farrar & Rinehart, 1935.
(обратно)199
Легендарная эскадрилья в составе французской армии, укомплектованная американскими летчиками-добровольцами.
(обратно)200
В Мешхеде находится одна из святынь мусульман-шиитов — гробница (ма-зар) восьмого (из двенадцати) имамов Резы, убитого в 818 г.
(обратно)201
Фредерик Робертс (Frederick Roberts, 1831–1914), британский военачальник. В 1880 г. одержал важную победу под Кандагаром во время второй англоафганской войны, за что получил титул графа Кандагарского.
(обратно)202
В описываемый автором период Индия входила в состав Британской империи и, соответственно, государство Пакистан, граничащее с современным Афганистаном, еще не было образовано. Это произошло только в 1947 г.
(обратно)203
Абдуррахман Хан (ок. 1844–1901) — эмир Афганистана, основатель современного Афганского государства. Во время гражданской войны в Афганистане был изгнан и жил в Самарканде с 1870 по 1880 г. См.: Автобиография Абдуррах-ман-Хана, Эмира Афганистана / Пер. с англ. М. Грулева. 2-е изд. М.: Издательство В. Секачева, 2014.
(обратно)204
Мухаммед Захир-Шах (1914–2007), король (падишах) Афганистана с 8 ноября 1933 г. по 17 июля 1973 г.
(обратно)205
Френсис Вернер Уайли (Francis Verner Wylie) (1891–1970). С 1914 г. служил в Индии на разных уровнях колониальной администрации. В 1941–1945 гг. — посланник Великобритании в Кабуле, в 1945–1947 гг. — последний британский губернатор Объединенных провинций в Индии.
(обратно)206
Судя по всему, имеется в виду капитан Эрнест Уайтсайд Хаддлстон (Ernest Whiteside Huddleston) (1874–1959), который до ухода в отставку в 1934 г. командовал Королевской морской пехотой в Индии. После этого капитан (это звание соответствовало генеральскому) работал в Индийской гражданской службе в качестве инспектора по транспорту и, конечно, близко знал Уайли. Рыцарское звание Уайтсайд получил в 1939 г.
(обратно)207
«Спитфайр» (Spitfire) — один их двух основных типов британских истребителей в «Битве за Британию» во Второй мировой войне. Поставлялся по ленд-лизу также в СССР.
(обратно)208
В терминологии соколиной охоты это называется делать «ставку».
(обратно)209
Фр. coup de grace — удар милосердия, последний смертельный удар.
(обратно)210
Терминология, связанная с дрессировкой, содержанием соколов и соколиной охотой, принятая в России, отличается от английской. Поэтому здесь и ниже в необходимых случаях иногда приводится транслитерация английских терминов на русский язык.
(обратно)211
В русской традиции раму называли «клетки».
(обратно)212
Кэдди — помощник и советчик игрока в гольф.
(обратно)213
Игра слов. В английском языке выражение «put your best foot forward» — дословно «выставь лучшую ногу вперед» — означает «произвести благоприятное впечатление». У автора: «put your best fist forward» — дословно «выставь вперед кулак».
(обратно)214
Имеются в виду классические работы Эдварда Гиббона «История упадка и разрушения Римской Империи» и Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь. Исследование магии и религии».
(обратно)215
G.I., амер. англ. — солдат армии США.
(обратно)216
Айседоора Дункан (Isadora Duncan, урожд. Dora Angela Duncan) (18771927) — американская танцовщица. Жена поэта Сергея Есенина в 1922–1924 гг. Погибла от удушения своим собственным шарфом, намотавшимся на ось автомобиля.
(обратно)217
Пестрый Дудочник, или Гамельнский крысолов — сказочный персонаж, уводивший за собой детей звуками своей волшебной флейты.
(обратно)218
Ганга-Дин — герой одноименной поэмы Р. Киплинга, индиец-водонос, жертвующий жизнью за британского солдата. Поэма стала сюжетом знаменитого голливудского фильма (1939). Сюжет связан с Хайберским проходом.
(обратно)219
Около 7 тыс. метров.
(обратно)220
Матушка Хаббард (Mother Hubbard) — персонаж детской песенки.
(обратно)221
39,4 °C.
(обратно)222
Кларенс Эдвард (Эд) Мэйси (Clarence Edward Macy) (1886–1984), американский консул в Карачи в 1938–1943 гг.
(обратно)223
Иосип Броз Тито (1892–1980), руководитель Компартии Югославии, создатель и командующий Народно-освободительной армии Югославии, маршал (1943), а с 1953 г. — президент страны.
(обратно)224
Командущим 15-й воздушной армией со штаб-квартирой в Бари (Италия) в период с января 1944 г. по май 1945 г. был генерал-майор Натан Ф. Твайнинг (Nathan F. Twining).
(обратно)225
17 января 1945 г. на первых полосах ряда американских газет появились статьи о том, что сын президента Франклина Д. Рузвельта, полковник Эллиот Рузвельт, воспользовался служебным положением и отправил в США свою собаку Блейз на военном самолете. Мало того, что 60-килограммовый мастиф занял три места в самолете, так он еще и летел по билету с наивысшей категорией приоритетности, недоступной многим заслуженным военным.
(обратно)226
Жозефина Бейкер (Josephine Baker) (1906–1975) — эпатажная американо-французская темнокожая актриса, особенно популярная во Франции. Служила во французской армии, помогала Сопротивлению, стала кавалером ордена Почетного легиона.
(обратно)227
КВТ — Контроль на воздушном транспорте (ATC — Air Transport Control).
(обратно)228
Джон Гилберт «Гил» Уайнант (Вайнант) (англ. John Gilbert Winant); 18891947. В 1941–1946 гг. — посол США в Великобритании. Европейская консультативная комиссия (ЕКК), в которой Уайнант представлял Великобританию, была создана по решению Московской конференции 1943 г.
(обратно)229
Фитцрой Хью Ройл Маклин (Fitzroy Hew Royle Maclean), баронет (19111996). В 1937–1939 гг. работал в посольстве Великобритании в Москве. С 1943 г. возглавлял британо-американскую миссию в Югославии при Й.Б. Тито. Автор многих книг. Кавалер многих орденов, в том числе советского ордена М. Кутузова. В годы войны находился в звании бригадира.
(обратно)230
Эдвард Рейли Стеттиниус-мл. (Edward Reilly Stettinius, Jr). (1900–1949), государственный секретарь США с 1 декабря 1944 г. до 27 июля 1945 г.
(обратно)231
Суортмор-колледж (Swarthmore College) — престижное учебное заведение, расположенное в 11 милях от Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
(обратно)232
Река Тайн (Tyne) на северо-востоке Англии.
(обратно)





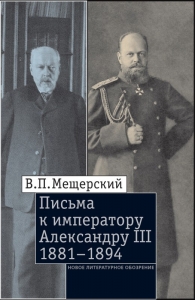

Комментарии к книге «Медведи в икре», Чарльз Уиллер Тейер
Всего 0 комментариев